Сост. Е. Э. Печуро ЗАСТУПНИЦА: АДВОКАТ С. В. КАЛЛИСТРАТОВА (1907–1989)
От составителя:
Публикуемые ниже постатейные замечания С. В. Каллистратовой, адресованные в комиссии по подготовке проекта Конституции СССР 1977 г. и проекта Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик (так и не принятого до распада СССР), а также рукопись ранее не публиковавшейся статьи «Право на защиту» затрагивают вопросы, встававшие перед многими юристами. Однако никто из них не решался так смело и бескомпромиссно сформулировать свои критические замечания. Естественно, Каллистратова не могла рассчитывать на то, что к ее мнению прислушаются. Сам статус отлученной от адвокатуры правозащитницы закрывал для нее возможность какой-либо публикации, но она полагала своим гражданским долгом хотя бы неофициально, но все же публично участвовать в обсуждении проблем, важнейших для лишенного подлинного правосознания советского общества.
Такое обсуждение уже началось на международном уровне: в том же 1977 г. в Вене состоялась официальная встреча стран — участниц Хельсинкских соглашений, где западные дипломаты настойчиво требовали от советской стороны выполнения гуманитарных условий Соглашений. Уже работали и первые общественные группы «Содействия выполнению Хельсинкских Соглашений» (с 1976 г. — в СССР и Польше, с 1977 г. — в Чехословакии), превратившиеся потом в международное движение.
Советским властям пришлось в конце концов уступить, и в Конституцию 1977 г. (статьи 50–52 и 54–56) была включена часть пунктов «гуманитарной корзины»: свобода слова, печати, собраний, митингов и демонстраций, свобода совести, неприкосновенность личности и жилища, тайны телефонных разговоров и переписки. Не были, однако, включены в Конституцию пункты о свободе получения и передачи информации, о свободе передвижения. А записанное не было обеспечено гарантиями.
Вера в то, что «рукописи не горят» и что когда-нибудь идеи Софьи Васильевны окажутся востребованными, оправдались. В этом легко может убедиться любой читатель, ознакомившись, например, с тем, что она писала в 1988 г. о презумпции невиновности, и с текстом ст. 49 Конституции Российской Федерации 1993 г.
«Замечания к проекту Уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» были посмертно опубликованы в сокращенном варианте с комментарием Б. А. Золотухина в журнале «Странник» (1991. Вып. 1). Редакция сделала примечание: «Считаем, что полный текст «Замечаний» должен быть опубликован в массовом издании юридического профиля…». Мы публикуем текст полностью, считая, что работа С. В. Каллистратовой — прекрасный образец для наших законодателей и что многие ее идеи все еще не реализованы. Это же можно сказать и о статье Софьи Васильевны, посвященной праву на защиту. Достаточно сравнить ее содержание с текстами законопроектов об адвокатуре и с действующими нормами Уголовно-процессуального кодекса и Конституции.
Поиск С. В. Каллистратовой в той области юриспруденции, которая до сих пор остается не до конца свободной от наследия тоталитаризма и пренебрежения к праву, заслуживает публикации не только как документ эпохи «развитого социализма», но и как живой источник демократических идей, все еще ждущих своего воплощения в правовом государстве.
Е. Печуро Реквием по ушедшей эпохе ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Сказали мне: согрей пустыню
Используй жар своей души,
Дыши! И я дышу и стыну.
Н. ГригорьеваВ книге о Софье Васильевне Каллистратовой — юристе, адвокате, правозащитнице, замечательном человеке — собраны воспоминания ее соратников по правозащитному движению, биография, написанная дочерью на основе документов, семейных преданий, бесед со многими людьми, воспоминания внука, запечатлевшего живые черты бабушки и записавшего ее своеобразные устные миниатюрные новеллы, а также судебные речи, тексты выступлений и письма С. В. Каллистратовой.
* * *
Жизненной задачей Софьи Васильевны было защищать слабых. Но, вставая на защиту отдельного человека, она тем самым отстаивала интересы всего общества. Для этого нужны были не только знания и умение, нужно было мужество. Защищать общество от беззакония властей — значит противостоять этим властям. И всегда открыто, один на один — в судах, средствах массовой информации, в публичных выступлениях.
Требуя от суда и прокурора неуклонного следования закону, Софья Васильевна противостояла не только предвзятости властей, но и сложившемуся в обществе мнению, будто жестокость наказания — главное средство борьбы с преступностью. Она хорошо знала: жестокость наказания и содержания под стражей, увеличение сроков заключения порождают ожесточение наказанных к окружающим, к самому обществу.
Сейчас многое, некогда сказанное или написанное Софьей Васильевной, кажется само собой разумеющимся, но она была из первопроходцев, благодаря которым часть этих «само собой разумеющихся» понятий и истин вошла в наше сознание и даже стала законами. Юристы, включая и тех, что состояли в Московской коллегии адвокатов, высоко ценили ее профессионализм, советовались с ней по трудным делам. В лагерях среди зэков шла молва о московской защитнице, которая выслушает и поймет, ободрит душевным словом, а подчас и передачей, собранной на деньги из собственного тощего кошелька (Софья Васильевна не брала гонораров сверх официальной небольшой платы, вносимой в юридическую консультацию).
Конечно, Каллистратова была не единственным адвокатом, боровшимся за подлинное правосудие. Но таких были считанные единицы. И нет ничего удивительного в том, что многие ее коллеги, боясь подвергнуться репрессиям, потерять право на профессиональную деятельность, подчас уступали давлению властей или просто отказывались от ведения «опасных дел».
* * *
В декабре 1989 г. один за другим ушли из жизни два наиболее ярких представителя правозащитного движения, составившего эпоху в истории нашей страны. Ушли, оставив нам пример преодоления прошлого, не только всеобщего, но и собственного, личного прошлого. Об Андрее Дмитриевиче Сахарове написано уже немало, в значительной мере опубликовано его литературное наследие. От Софьи Васильевны сохранилась едва ли сотня принадлежащих ее перу страниц да несколько фонограмм публичных выступлений. Своих защитительных речей она не писала, а в наших судах стенографирование процессов велось только в экстраординарных случаях, поэтому читателю и представлена лишь малая толика материалов, отражающих ее обширную адвокатскую и правозащитную деятельность. Вечно озабоченная судьбами людей, она мало задумывалась о судьбе своих речей, а была блестящим оратором, человеком устного слова, обращенного к сидящим перед ней слушателям, покорявшего их яркостью, эмоциональной насыщенностью, безупречной логикой.
Вместе с Андреем Дмитриевичем и Софьей Васильевной ушла та эпоха, когда людей, несмотря ни на какие преследования, тесно сплачивала нравственная потребность защищать право на свободную мысль и свободное высказывание. Не случайно первыми формами правозащитного движения стали очень близкие друг другу по целям издание информационного бюллетеня «Хроника текущих событий» и организация «Инициативной группы защиты прав человека» (1969 г.). Им предшествовал почти десятилетний период второй половины хрущевского первых лет брежневского правления, когда общественная мысль только начинала осваивать социальное пространство, опознавая и называя его черты. Конец этого безгласного периода ознаменовало известное дело А. Синявского и Ю. Даниэля (1966 г.). В ходе «подписантской кампании» в защиту осужденных писателей было собрано свыше тысячи подписей по всей стране. Примерно в то же время объединилась и группа людей, «скидывавшихся» для оказания помощи политзаключенным и их семьям, — будущий Фонд помощи политзаключенным. Позднее, в 1970 г., возник Комитет защиты прав человека, который впервые сформулировал некоторые юридические идеи правозащитного движения, прежде выдвигавшиеся А. Есениным-Вольпиным, В. Чалидзе, Э. Орловским и немногими другими. Но по-прежнему в основных центрах движения — «Хронике», «Инициативной группе», а затем (1977 г.) Московской и других Хельсинкских группах, в Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях — основным цементирующим началом оставались не политически осознанные, а нравственно воспринимаемые императивы.
Сформировавшееся таким образом движение было не только спонтанным, но и естественно полицентричным: каждый находил в нем наиболее близкую себе сферу деятельности, все вновь включавшиеся в него яркие личности становились своеобразными центрами притяжения. Монолиту советского общества с его предельной идеологизированностью противопоставила себя хотя и немногочисленная, но многообразная (и в силу этого открытая) среда.
Несомненно, понятие «права человека» несло в себе прежде всего большой нравственный заряд. Но вместе с этим оно являлось непременной составной частью совокупности определений, характеризующих правовое гражданское общество, то есть формировало понятие политическое. Неадекватное своей сути, самосознание движения заключало его в замкнутый круг. А когда время высветило эту неадекватность, она была понята лишь теми немногими, кто обладал способностью критически оценить самих себя. И прежде всего это относится к Андрею Дмитриевичу и Софье Васильевне, ставшим воплощением лучшего, что было в движении, наиболее плодотворного — способности к саморазвитию. А ведь многим диссидентам оказалось трудно найти свое место в политической борьбе второй половины 80-х гг. И неизбежное (и необходимое) на прежнем этапе отсутствие единой организации и политической платформы породило растерянность и… ностальгию.
Когда в условиях объявленной сверху гласности обществу понадобились подлинно независимые средства информации, «Экспресс-Хроника», «Гласность» и другие газеты и журналы, созданные диссидентами, конечно, сыграли немалую роль в освобождении его от немоты. Но далеко не все правозащитники поняли тогда необходимость перехода к политическим формам деятельности, некоторые даже осудили А. Д. Сахарова, С. А. Ковалева за «уход» в парламентскую борьбу, за «сотрудничество» с властями. Это означало отсутствие внепарламентской поддержки со стороны прежних соратников.
Восьмидесятилетняя, тяжело больная Софья Васильевна уже физически не могла делать то, что делали Сахаров и его соратники. Но на последней вспышке сил она пыталась передать людям накопленный ею и ее друзьями опыт правозащитной деятельности. Не для того, как она говорила, чтобы поделиться воспоминаниями, а чтобы помочь уяснить дорогу в будущее: защита прав человека — задача непреходящая. Она-то, мудрая, юрист-профессионал высокого класса, всегда понимала, что именно здесь соединяются задачи нравственные и политические и что только их соединение является основой жизнеспособного общества.
Человек большой души и терпимости, она никого не корила за непонимание таких простых (непростых, оказывается) истин. Не осуждала тех, кто не поспевал за новыми требованиями жизни, и любовно сохраняла круг прежних друзей, не потеряв ни одного из них до конца своих дней. Больше того, за оставшиеся ей три года она сумела приобрести новых друзей, людей самых разных возрастов — от прошедшего долгий путь ГУЛАГа писателя О. В. Волкова до молоденькой журналистки Наташеньки Геворкян.
В жизнь семьи Сахаровых Софья Васильевна вошла в 70-х гг. Она беззаветно любила их обоих, но в последние годы, когда, с головой погрузившись в свою новую (особенно после горьковской ссылки) жизнь, они не всегда успевали вовремя позвонить ей, а она не всегда была в состоянии сама их навестить и — в этом сказывалась особенность ее характера — не решалась вторгаться в их новую среду. Впрочем, зная общественный темперамент Софьи Васильевны, ценя ее знания и интеллект, Андрей Дмитриевич позаботился подключить ее к деятельности тех новых организаций, которым она могла быть наиболее полезна, — «Мемориала», Московской трибуны, Фонда Сороса.
* * *
Общение Софьи Васильевны с людьми отличалось редкой чертой: если вокруг нее собиралось несколько человек (а в дни ее рождения в доме бывали чуть не все московские диссиденты да непременно и сколько-то приезжих), она старалась так построить разговор, чтобы в нем могли участвовать все присутствующие (утраченное искусство!). И вдобавок стремилась уделить внимание каждому в отдельности. А на следующий день, перебирая в памяти вчерашнее, мучалась, не забыла ли кого, не обделила ли вниманием.
Что уж и говорить о ее беседах с людьми один на один! В каждом она умела видеть неповторимую личность, обращалась именно к этому, а не к какому-то отвлеченному человеку. И это было не только результатом полученного ею воспитания, но и следствием присущего ей мировосприятия и способа мышления, ее способности видеть явление в его единичности и единственности и при этом мгновенно схватывать, абстрагировать и формализовать то всеобщее, что скрывается в каждом единичном.
Еще одно свойство Софьи Васильевны — самообладание. Мне неоднократно доводилось сопровождать ее на «беседы» и допросы в КГБ и прокуратуру. В одну из таких поездок, сидя с ней в такси, я спросила: «А если вам предложат подать заявление на выезд?» (в это время ее единственная дочь и внучка находились с родственным визитом в Париже). Ответ был мгновенным: «Я такого заявления не напишу ни при каких обстоятельствах». Нужно было знать глубокую внутреннюю связь ее с дочерью, необыкновенную взаимную их любовь и то, что нашим властям ничего не стоило перекрыть дочери дорогу обратно, оторвать от оставшейся в СССР больной старой матери, сыновей и внуков, чтобы понять, каких долгих и тяжких размышлений стоил Софье Васильевне этот короткий и решительный ответ. И чтобы пресечь дальнейший разговор на эту тему, она тут же спросила: «Вы слышали последнее присловье — КГБ пошел по бабам? Вот и я в их числе!» Кстати, этим же присловьем она закончила «беседу» в КГБ, получив «предупреждение об антиобщественном поведении», за чем чаще всего следовал арест.
На допросы в прокуратуру (когда было открыто дело о Хельсинкской группе) Софья Васильевна независимо от погоды ездила тепло одетой, готовая к тому, что прямо с допроса ее могут увезти в следственный изолятор. Ей ли, адвокату, было не знать, как это случалось… А дорогой на очередной допрос Софья Васильевна рассказывала анекдоты, избегая таким образом любого разговора, затрагивающего ее внутреннее состояние. Собранная и внутренне и внешне, она нуждалась в провожатых не только физически (подогнать такси к дому, прокуратуре или КГБ, а если станет ей плохо, — помощь получить надо от своих, а не от тех), — нужны были свидетели, которые увидят, если ее увезут, или, не дождавшись, поймут, что она арестована. Но все это — в подтексте нашего присутствия и никак не в словах. Всегда казалось (а может быть, и на самом деле было так?) — гораздо более она волнуется, когда узнает, что на допрос или «беседу» вызвали кого-то из друзей. Щадя ее, о таких событиях мы рассказывали ей постфактум.
* * *
Все дальше в историческое время отодвигается эпоха правозащитного движения. Развеяло по свету, разбросало по жизни многих его участников. Прошли годы после ухода от нас Софьи Васильевны Каллистратовой, в чьей личности воплотилось все светлое, что было в той эпохе. Эта книга — дань памяти тех, кто был рядом и кто помнит, она для тех, кто не должен забыть.
М. А. Каллистратова Софья Васильевна Каллистратова человек и правозащитница
Хвала человеку, который шел по жизни, всегда готовый оказать помощь, не зная страха, и которому были чужды вражда и ненависть.
Альберт ЭйнштейнЯ никогда не встречала более удивительного человека, чем моя мать. Жить с ней рядом — было огромным счастьем.
Софья Васильевна мало заботилась о том, что смогут узнать потомки о ее жизни, работе, мыслях, мировоззрении. В последние ее годы, когда кто-нибудь из ее друзей или почитателей заговаривал о том, что она должна написать воспоминания, предлагал свою помощь в организации магнитофонных записей, она с легкой иронией, но непреклонно отвергала эти предложения. «Я не писатель», — говорила она. Никогда не хранила она каких-либо вещей, архивов, даже книг, хотя всю жизнь много читала, любила и прекрасно знала литературу. Для нее всегда бульшим удовольствием было отдать любимую книгу хорошему человеку, чем держать ее у себя на полке. Осталось всего несколько адвокатских досье, несколько рукописей, пара пачек писем, да одна пленка с записями ее выступлений в последний год жизни.
Адвокатура была ее призванием (еще в школе, когда ей было двенадцать лет, ее прозвали «Сонька-адвокат») не только по уменью защищать, но и по инстинктивному, всегда естественно у нее возникавшему стремлению помочь каждому, кто нуждался в защите, поддержке. Прирожденный оратор, чуждый демагогии, Софья Васильевна свое красноречие всегда направляла на конкретные дела. Ее стихия — живая речь, и рассказчицей она была превосходной, знала многих замечательных людей и всегда говорила о них очень доброжелательно, с мягким юмором. Если же кто-нибудь терял ее доверие, она просто переставала общаться с этим человеком, вспоминать о нем и лишь при крайней необходимости сухо, сурово и лаконично объясняла, в чем дело. Ее рассказы о судебных процессах, людях, событиях звучали обычно только «к слову», рассказывать «по заказу», особенно о себе, не любила, а слушать умела не хуже, чем рассказывать.
И те, кто хотел справедливого суда, быстро оценили ее как «своего» адвоката. Борис Черных, проведший не один год в лагерях, на презентации журнала «Странник» в Доме литераторов в 1991 г. так говорил о Софье Васильевне:
«Издревле велось на Руси: женщина выходит в первый ряд и показывает чудеса добродетели. Там, где мужчинам надо погибать, а женщинам — быть сестрами милосердия, получается наоборот: погибают женщины, а уж какие братья милосердия из нас, мужчин?!
Как странно было воочию увидеть почти девятнадцатый век — в том, что я слышал о ней, в записях ее речей, которые мы читали в лагере. Поражало не только гражданское мужество, но и высокая культура, которую, как я боялся, пресекла революция 1917 г. Когда ходишь по дворику небольшого лагеря, где согнаны люди десятков национальностей со всей державы, и слышишь имя легендарное (а о Софье Каллистратовой рассказывались именно легенды), то начинает играть внутренняя музыка: жива страна, жива традиция, жива культура».
К сожалению и к стыду нашему, около нее не оказалось биографа. Семья наша всегда была многодетной (у Софьи Васильевны трое внуков и шесть правнуков), все много и увлеченно работали, всем всегда было некогда… Здесь я записала то, что знаю из рассказов моей матери, ее братьев, сестры и племянницы, из воспоминаний доныне здравствующих ее школьной подруги Татьяны Сергеевны Хромых и двоюродной сестры, Лидии Александровны Поповой. При описании последних лет жизни матери я использовала «Хронику текущих событий» и адвокатские досье по делам правозащитников.
Детские годы
Родилась Софья Васильевна 6 (19) сентября 1907 г. в селе Александровка Льговской волости Рыльского уезда Курской губернии. Ее отец Василий Акимович Каллистратов (1866–1937?), потомственный сельский священник, закончил духовную семинарию, потом некоторое время учительствовал, а после женитьбы принял сан и получил свой приход. Он был очень умный, добрый и глубоко верующий человек, с философским складом ума. Прихожане его любили, на его проповеди специально приезжали люди из соседних сел.
Мать — Зиновия Федоровна, урожденная Курдюмова (1876–1963), тоже из семьи священника, была полной противоположностью своему мужу. Веселая, энергичная, общительная, любительница принарядиться, она была атеисткой, семью мужа (очень религиозную) недолюбливала. Несмотря на незаконченное образование (четыре класса епархиального училища), она была очень начитанной, прекрасно знала русскую классику, помнила наизусть много стихов, любила и зарубежную литературу, особенно приключенческую. (Хорошо помню, как, когда я была маленькая, она рассказывала мне, с продолжениями в течение многих вечеров, увлекательные истории, в которых, как я поняла впоследствии, причудливо сплетались воедино Жюль Верн, Шахразада, Стивенсон, Купер; а когда приходила пора засыпать, она пела мне на собственные мотивы всего «Демона» или отрывки из «Цыган».)
Приход в Александровке считался богатым: на горке напротив церкви (за которой простирался огромный церковный сад) стоял большой дом священника, с фруктовым садом, огородами и дворовыми службами. В хозяйстве были две лошади, две коровы. В доме была прислуга: кучер, кухарка, няня для младших детей. Зиновия Федоровна занималась воспитанием детей (от которого полностью отстранила мужа), рукоделием, чтением. Весь уклад жизни был сугубо светский — в доме было много книг, выписывались журнал «Нива» с приложениями, детские журналы, дочек учили музыке, французскому языку. Софья Васильевна рассказывала, как по праздникам ее родители, а иногда и старшие сестры, уезжали в гости к Остапцу — управляющему имением князей Барятинских — в «экономию», где собиралась местная интеллигенция — врач, фельдшер, агроном, учитель, их дети — семинаристы и студенты. А для младших детей самым ярким воспоминанием были поездки в гости к любимой «тетечке Марусе» — одной из двух сестер Зиновии Федоровны, мужья которых, тоже священники, имели приходы в той же волости. Ехали в Ивакино, за пятьдесят километров, на линейке, запряженной парой лошадей: родители, няня с самым маленьким на руках и старшие дети — по бокам, на сиденьях, а малыши как-то умещались посредине. Все принаряженные, по дороге пели песни. По приезде Василий Акимович вел службу в Ивакинской церкви, а Отец Александр (муж тетечки) ему сослужал. Через несколько дней, прихватив с собой еще пару тетечкиных дочек, так же, с песнями, возвращались в Александровку.
Детей в семье Каллистратовых было семеро. Четверо старше Софьи Васильевны Наталья, Надежда, Федор и Дмитрий — и двое младше — Миша и Ванечка. Трое старших детей учились в гимназии в Курске — там им и их двоюродным сестрам родители снимали на зиму квартиру. Соня верховодила в компании младших. Вместе с Димой, который прекрасно рисовал, она «издавала» детский юмористический журнал — в нашей семье долго хранились два номера, в школьных тетрадках, с рассказами, стихами собственного сочинения, рисунками, карикатурами. Сильным характером Софья Васильевна отличалась с детства. Она рассказывала мне, как в пятилетнем возрасте в полной темноте выходила одна в сад — было очень страшно, но хотелось доказать, что храбрая. А уже в школе, на спор с подружками, поздно вечером ходила через кладбище — с той же целью.
Жизнь в семье была сложной. Зиновия Федоровна любила командовать, но при этом отличалась крайней бесхозяйственностью. Кроме того, она постоянно попрекала мужа тем, что из-за него она не получила образования, что он ее обманул — обещал работать учителем, а сам стал священником. Дети, несмотря на распри родителей, были удивительно дружными. Характер они унаследовали отцовский, но под влиянием матери все росли атеистами. Четверо братьев и сестер Софьи Васильевны, а также одна из двоюродных сестер — хирург Лидия Александровна Попова — были очень близки моей семье. Все они оказались одаренными и обладали прекрасными свойствами русской интеллигенции чеховских времен: добротой, бессребренничеством и стремлением приносить пользу своим трудом. Все они (кроме Дмитрия Васильевича, который погиб в Германии в 1945 г.) прожили долгую жизнь. Отношения между ними были редкостные, я никогда не видела ни одной ссоры (думаю, их и не было), не слышала ни одного грубого, да и просто недоброжелательного слова. Всегда, до глубокой старости, они называли друг друга и мать только ласково, уменьшительными именами — мамуся, Таличка, Сонюрочка, Федарик, Димуся, Мишелик — и заботливо поддерживали друг друга…
В 1915 г. Василий Акимович получил приход в Рыльске, старинном русском городе с богатым историческим прошлым. В XVIII в. Рыльск стал значительным купеческим центром на юго-западе России. Ко времени переезда туда Каллистратовых город, оказавшись в стороне от железной дороги Курск-Киев, утратил былое торговое значение, однако сохранил свой облик и культурные традиции. В Рыльске, где проживало менее двадцати тысяч человек, было тринадцать церквей (в том числе огромный Успенский собор, построенный в честь победы России над Турцией); почти вплотную к городу, на высоком берегу Сейма живописно раскинулся Свято-Николаевский монастырь. В городе до сих пор сохранились великолепные двухэтажные торговые ряды, особняки купцов Шелеховых, Филимоновых, Латышевых, красивые общественные здания. Сохранилось и несколько зданий, построенных в XVII в., например дом, в котором останавливался, возвращаясь после победы над шведами под Полтавой, Петр I.
Служил Василий Акимович в Покровском соборе — единственной в Рыльске церкви, не разрушенной при советской власти, — в самом центре города. Вскоре Каллистратовы купили неподалеку двухэтажный каменный дом с маленьким садиком (дом тоже сохранился), и вся семья переехала из Александровки в город.
Революцию Зиновия Федоровна и старшие дети приняли восторженно. Наталья Васильевна, которая к этому времени стала сельской учительницей, после Февраля «металась» между эсерами и меньшевиками. Весной 1917 г. она уехала в Москву — поступать на Высшие женские курсы, и уже там, после октябрьского переворота, вступила в РСДРП(б). Федор Васильевич с энтузиазмом включился в перестройку гимназии в единую трудовую школу, участвовал в организации в Рыльске комсомольской ячейки. Весной 1919 г. он был делегирован на Всероссийский съезд комсомола, слышал выступление Ленина и с юношеской безоглядностью решил бороться за выполнение его призывов. В шестнадцать лет стал добровольцем — бойцом 225-го стрелкового Балаковского полка 25-й («Чапаевской») дивизии. После гражданской войны он окончил Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию («Тимирязевку»). Софья Васильевна часто шутила, что старший брат с детства хотел стать агрономом, потому что ему очень нравилось, как лихо агроном из «экономии» на тройке разъезжает.
Соня в 1917 г. сдала экзамены в Шелеховскую гимназию, носившую имя земляка рыльчан, известного мореплавателя Г. И. Шелехова (при этом чуть не провалилась по закону Божьему, — лишь из уважения к Василию Акимовичу его коллега поставил ей проходной балл), но учиться она начала уже в единой трудовой школе. Несколько утрируя, она так вспоминала о принятом тогда в начальных классах «предметном» методе обучения: «Если на уроке грамматики «проходили», как пишется слово «утка», то на следующем уроке, биологии, как утка живет и размножается, на уроке географии — где обитает, и т. д.». Порядки в школе тоже были своеобразные: прямо на уроке ученики жарили наловленных утром пескарей (очень хотелось кушать!).
Однако в целом школа была очень хорошей, так как в ней сохранился коллектив преподавателей гимназии. В мои школьные годы мама не раз рассказывала о прекрасном учителе Александре Николаевиче Выходцеве, чьи уроки математики она очень любила, о преподавателе истории и латыни Михаиле Ивановиче Архангельском, о преподавателе литературы Евгении Николаевиче Глебове, о сестрах Литке — Зинаиде Васильевне и Марте Васильевне, которые учили их французскому и немецкому языкам, о директоре школы Михаиле Ивановиче Тимонове (после Отечественной войны он 10 лет отсидел в лагерях). Но были и «шкрабы» (школьные работники), у которых учиться было нечему. Среди выпускников этой школы оказалось немало известных людей, например, физик академик Г. В. Курдюмов, заслуженная артистка РСФСР К. И. Тарасова, одноклассник Софьи Васильевны профессор истории В. В. Мавродин.
Когда Соне было двенадцать лет, семья Каллистратовых распалась. Василий Акимович отказался сложить с себя сан, и Зиновия Федоровна отреклась от мужа-священника. Старшая дочь порвала отношения с отцом еще в 1917 г. С 1919 г. она взяла мать, младших братьев и Соню на свое иждивение. Отец стал жить отдельно, у своих прихожан, дети навещали его, но их пути разошлись окончательно. Пример старших оказал влияние и на Соню. В четырнадцать лет она хотела вступить в комсомол, но времена уже изменились и ее, как поповскую дочку, не приняли. Впоследствии, в 1929 г., отца арестовали, но через некоторое время, когда уже вся семья уехала из Рыльска, выпустили. В 1930 г. он приезжал в Москву — повидать детей, потом его в Рыльске несколько раз навещал младший сын Миша, но в 1937 г. Василия Акимовича арестовали снова, и дальнейшая его судьба неизвестна. Софья Васильевна перед войной несколько раз посылала своей школьной подруге в Рыльск письма с просьбой узнать что-нибудь об отце, но никто ничего о нем не знал. В анкетах все дети писали: «…с 1917 г. семья порвала с отцом».
Гражданскую войну мать с младшими детьми, оставшимися с ней, пережили очень тяжело. В Рыльске много раз менялась власть. Явного предпочтения семья не отдавала никому: ни белым, ни красным. Софья Васильевна, как всегда с юмором, рассказывала мне: «Когда в дом врывались белые и требовали еды, кухарка Аннушка начинала бесконечно долго резать, ощипывать и жарить гуся. В это время белых выбивали красные, они с тем же требованием врывались в дом, и Аннушка довольно охотно кормила их уже готовым гусем». Но скоро всех гусей съели, Аннушка ушла, все вещи распродали, наступал голод. В 1922 г. умер младший брат — шестилетний Ванечка (а на год раньше в Крыму от тифа скончалась одна из старших сестер — любимица всей семьи Надя).
Жизнь Сони в эти годы в Рыльске ее школьная подруга описывает так: «Дом был большой, высокий, красиво обложен красным и белым кирпичом, но обстановка в доме была очень скудная. Я помню только две комнаты: в одной стояли две узкие железные кровати, покрытые чем-то вроде серых одеял; через нее входили в «зал» — большую угловую комнату с четырьмя окнами. Единственной обстановкой в ней был беккеровский рояль с круглым стулом перед ним. Около рояля стоял большой фикус в кадке, а у печки — кресло, очень старое, в котором сидела Зиновия Федоровна и слушала, как я пела, а Соня аккомпанировала… Соня любила играть «Шумку» Шуберта… Мы все тогда скудно жили, но куском хлеба скорее я делилась с Соней. Когда приходили в «Сокол» на гимнастику, я всегда разламывала свой ломоть пополам. А хлеб какой был — наполовину с викой, с торчащими костюльками от овса… Носили мы что попало, летом сами шили туфли из белого льняного полотна, на веревочной подошве. Соня летом ходила в одном платье, сшитом из настоящего мешка, — вырез «каре», расшитый крестом красными нитками, и по бедрам пояс. В школу в старших классах ходила в черной юбке и косоворотке и подстрижена была под мальчика. В последнем классе начала курить. Первую «самокрутку» для нее свернул ее одноклассник Виктор, ее первая детская любовь, которого она называла «буденовец со стальными глазами». Он был комсомольцем, переростком, учился плохо. Ходил для пущей важности в буденовке и говорил лишь о мировой революции. (Потом стал чекистом, несколько раз заезжал ко мне в гости, в Ленинград, вел себя как чванливый барин, а в конце 50-х спился)… Соня в школе всегда была лидером, особенно в старших классах. Бралась за любую общественную работу, всегда вызывалась делать доклады на политические темы. Она была совершенно бесстрашная». (Из личных писем Т. С. Хромых ко мне).
На фотографии выпускного класса Соня своей стрижкой и косовороткой разительно выделяется среди других рыльских девочек — в белых платьях, с длинными волосами, сережками в ушах.
Уже после смерти Софьи Васильевны Михаил Львович Левин, друг моего покойного мужа Юрия Михайловича Широкова, пересказал мне один разговор с ней о ее детстве. В конце 70-х гг. он зашел к нам на улицу Удальцова, где моя мама часто бывала. Меня дома не было, они втроем пили кофе на кухне, и разговор зашел о страхе. Миша Левин рассказывал о своем аресте в 1944 г., о допросах на Лубянке, о тюрьме, о том, как было страшно и как ему удавалось этот страх преодолевать. Юра говорил об альпинизме, критических ситуациях на восхождениях, чувстве беспомощности, когда рядом погибает друг. А Софья Васильевна рассказала примерно следующее: «Лет двенадцати я в каком-то сборнике историй из жизни выдающихся людей, в разделе «Военные», прочитала про французского маршала Анри Тюренна (XVII в.). Во время боя, когда над головой летели ядра, он, собираясь продвинуться вперед, в самое пекло, уговаривал себя, чтобы прогнать страх, такими словами: «Дрожишь, скелет?! Ты бы еще не так дрожал, если бы знал, куда я тебя сейчас поведу!» Я тогда выписала эту цитату в свою девчоночью тетрадь для афоризмов и с тех пор, когда становится страшно, всегда повторяю себе: «Дрожишь, скелет?!»»
Б. Золотухин Ее имя стало символом честной и бесстрашной адвокатуры
Вся ее жизнь — подвиг во имя торжества закона.
Петр Григоренко. Из обращения к адвокатам мира. 1982 г.Долгие годы в нашей стране власти насаждали пренебрежительное отношение к профессии адвоката. В полицейском государстве, каким сделал страну Сталин, установленный им порядок требовал своих героев. В герои производились чекисты и сотрудники уголовного розыска — «непримиримые борцы» со шпионами, диверсантами, вредителями и спекулянтами, а в 60-80-е гг. — и с «идеологическими диверсантами» — немногочисленными смельчаками, отважившимися бросить открытый вызов лжи, лицемерию и насилию тоталитарного режима. На страницах газет и журналов слово «адвокат» можно было чаще всего встретить в пренебрежительных словосочетаниях «непрошенный адвокат» или «адвокат империализма». В те годы всерьез обсуждался вопрос, может ли настоящий советский адвокат защищать разоблаченного классового врага. Делалось все, чтобы признать адвокатуру профессией третьего сорта, внушить адвокатам комплекс их социальной неполноценности в социалистическом правосудии. Власти готовы были терпеть адвокатуру в уголовных делах, но в политических процессах ей отводилась чисто декоративная роль. Участие адвоката должно было демонстрировать внешнюю правовую благопристойность, служить процессуальной ширмой явного беззакония. Сегодня нельзя без стыда вспоминать о незавидной участи адвокатов конца 30-х гг. В накаленной атмосфере этих процессов, в обстановке умело разжигаемой ненависти к «врагам народа» талантливые защитники едва отваживались на жалкие слова, на обращенные к судьям покорные просьбы сохранить жизнь их подзащитным, в невиновности которых у них, высоко профессиональных юристов, не могло быть и тени сомнения. Адвокаты понимали, что за иную позицию им пришлось бы заплатить годами ГУЛАГа, а то и жизнью.
Только после ХХ съезда КПСС впервые возникла возможность реальной защиты в политических процессах. Реальной не потому, что в условиях продолжавшегося всесилия КГБ она могла привести к оправданию заведомо невиновного, а потому, что адвокат получил возможность потребовать оправдания, рискуя всего лишь потерей права на профессиональную деятельность, но не свободы или жизни. Но и в эти годы страх, накопившийся за десятилетия, ставший почти генетическим, все еще владел большинством адвокатов. В этих условиях кто-то должен был спасти честь адвокатуры, сделать первый и самый трудный шаг. Одной из первых совершила этот шаг Софья Васильевна Каллистратова.
С. В. Каллистратова вступила в Московскую областную коллегию адвокатов в 1943 г., будучи уже опытным юристом. Но во всем блеске ее дарование раскрылось только в адвокатуре. Человек горячей души, просвещенного ума, прирожденный судебный оратор, защитник не только по профессии, но и по призванию, она скоро стала любимицей коллегии, а затем и непререкаемым авторитетом в вопросах профессиональной чести. Политические процессы 60-70-х гг. принесли ей мировую славу.
Все, кому посчастливилось знать С. В. Каллистратову, слышать ее защитительные речи, оказывались во власти безграничного обаяния ее личности. Ее судебные выступления подкупали глубиной мысли, несокрушимой логикой, ярким темпераментом, богатством и выразительностью языка. Но было еще одно важнейшее качество, выделявшее Софью Васильевну из небольшого круга самых выдающихся защитников, — недосягаемая высота нравственной позиции. Именно то, что она была человеком высочайшей морали, привело ее в правозащитное движение и сделало другом таких людей, как А. Д. Сахаров и П. Г. Григоренко.
Конец 60-х-начало 70-х гг. ознаменовались полным отказом от идей ХХ съезда КПСС и принесли серию политических процессов. Те, кто решился говорить правду, объявлялись клеветниками и попадали в тюрьму. Многие из них стали подзащитными С. В. Каллистратовой. Она защищала Виктора Хаустова и Ивана Яхимовича, Вадима Делоне и Наталью Горбаневскую, генерала Петра Григоренко.
Судебные процессы над правозащитниками отражали открытый конфликт между тоталитарным государством, стремившимся задушить первые ростки свободомыслия, и нарождавшимся гражданским обществом, возвысившим свой голос после десятилетий вынужденной немоты. Особое значение сделанного Софьей Васильевной состоит в том, что она одна из первых осознала значение в этом конфликте адвокатуры как полномочной представительницы общества. Поэтому каждая ее речь в политическом процессе становилась крупным явлением общественной жизни, превращалась в документ «самиздата», делалась доступной множеству людей, возрождала в людях почти задушенное правосознание. В лишенной воздуха правды атмосфере политических процессов, в залах, где царили ложь и лицемерие, бесчестным прокурорам и судьям противостояла С. В. Каллистратова — воплощенная совесть.
С. В. Каллистратова была не только адвокатом, но и единомышленником правозащитников, разделяла их убеждения и надежды. Конфликт между противными истинному правосудию правилами и совестью неизменно решался ею в пользу совести. Сегодня, по прошествии многих лет, стали известны такие поступки адвоката, за которые она немедленно подверглась бы суровым преследованиям, знай о них в ту пору режиссеры судебных фарсов.
В 70-х гг., когда суды над диссидентами породили волну общественного возмущения во всем мире, в нашей стране была запущена машина карательной психиатрии — одно из самых циничных нарушений прав человека. Угодливые психиатры по указке свыше поспешно объявляли душевнобольными здоровых людей, невменяемыми признавали тех, чья беспокойная совесть не могла мириться с торжествующим цинизмом. Так, суд отправил в спецпсихбольницу генерала П. Г. Григоренко, выступившего в защиту крымских татар. Фундаментально обоснованные С. В. Каллистратовой возражения против выводов психиатров были отвергнуты казенной экспертизой, и ей оставался единственный путь — предать заключения психиатров гласности и добиться независимой экспертизы. Психиатр С. Глузман подготовил независимое экспертное заключение, и с помощью А. Д. Сахарова правда о суде над Григоренко стала известна всему миру.
В конце 1970 г. так называемые компетентные органы лишили С. В. Каллистратову возможности участвовать в политических процессах. Заведующий юридической консультацией, где она работала, сообщил, что получил приказ начальства больше не выдавать ей ордеров на защиту по политическим делам. На протест Софьи Васильевны председатель Московской городской коллегии адвокатов глава «независимой» адвокатской корпорации — с обезоруживающей улыбкой ответил: «А вы, Софья Васильевна, пожалуйтесь на меня».
Вынужденная оставить любимое дело, Софья Васильевна — правозащитник не только по профессии, но и по велению совести — легально вступила в Московскую группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Это был открытый и бесстрашный вызов властям…
Товарищи по профессии всегда восхищались талантом и мужеством Софьи Васильевны. Мы сознавали, что нам выпало счастье жить и работать рядом с великим адвокатом нашего времени, чье имя останется в одном ряду с такими корифеями отечественной адвокатуры, как Александров и Спасович, Карабчевский и Урусов. Ее имя стало символом честности и бесстрашия адвокатуры. Ее жизнь — свидетельство того, что силам зла, несмотря ни на что, не удалось убить демократические традиции российской адвокатуры.
Проводить С. В. Каллистратову в последний путь пришли сотни людей, среди которых было немало прежних узников совести, товарищей по профессии, друзей. В прощальном слове А. Д. Сахаров сказал: «У нас большое горе сейчас, мы осиротели…»
Москва
В 1925 г. Наталья Васильевна, ставшая женой чапаевского комбрига (начдива после смерти Чапаева) Ивана Семеновича Кутякова и работавшая в то время в Наркомпросе под началом Н. К. Крупской (о которой она всегда вспоминала с искренним уважением), «выписала» Соню к себе. Соня одна отправилась в неблизкий путь. По приезде в Москву она писала своей школьной подруге: «Меня, между прочим, всю дорогу от Курска до Москвы веселые ребята-спутники дразнили «Мам-Миша» за то, что я все время о них беспокоюсь». Средний брат — Дима — в это время, по путевке комсомола, уже учился в Москве, в Высшем техническом училище. В 1929 г. мать и Миша тоже переехали в Москву.
Москва сначала показалась девушке из глубокой провинции чужой и неуютной. Она пишет: «Иногда удивительно живо вспоминается Рыльск. В такие минуты кажется, что стоит сделать пять-шесть шагов, чтобы очутиться в Рыльске, на его пустынных улицах, и увидеть всех рыльских… Тянет оказаться в бору или в лесу, на Сейме в лодке. А здесь все камень, и Москва-река, как деланная, в каменных берегах, покрытая слоем нефти. Бульвары и цветники на улицах и площадях хотя необычайно красивы, но кажутся тоже искусственными, деланными, не настоящими». Ее живо волнуют рыльские новости: «Мне очень интересно было узнать, как у вас в школе дела: насчет учкома, уклонов и т. д. Работает ли драмкружок и работаешь ли ты в нем? Пиши все про «комсу» и юнсекцию, про свою жизнь, про все-все…»
Но осваивается она в Москве довольно быстро, появляются новые знакомые, новые интересы. Уже в следующих письмах она пишет: «Ты была права, я слишком скоро ко всему привыкаю и для меня Москва уже явление обыкновенное. <…> Теперь, когда я живу в другой обстановке и знаю, что всерьез и надолго, все рыльское мне кажется маленьким и немножко смешным (не вс, конечно, и не все — ко многим из Рыльска я сохранила искреннее уважение). <…> И знаешь, Тома, теперь я твердо убеждена, что жизнь везде одинакова. Москва — это тот же Рыльск, только в крупном размере. Здесь всего больше, и людей больше, поэтому легче выбрать что-нибудь хорошее. <…> И здесь есть такие же типы, как наши «второступенки» — ограниченные, мещанистые. <…> В одной квартире с нами живут девчата, кончившие II ст<упень> и учащиеся. Ну и что же? Целыми днями висят на телефонной трубке и перехихикиваются с разными Колями, Люсями, Максами, Ванями и т. д. Ничего не читают, за исключением романов (вроде Вербицкой), и на мое удивление отвечают: «А что же читать?» Здесь ли это спрашивать? Здесь столько книг, столько библиотек, читален всем доступных! Здесь есть справочные библиотеки, где, ознакомившись с каждым читателем отдельно, опытные люди могут дать целую систему для чтения! Одной из моих соседок родители дают возможность ехать в Берлин для изучения языков, а она отказывается только потому, что втюрилась в одного типа и не хочет с ним расставаться. Ведь это же безумие! А есть, конечно, и хорошие, выдающиеся люди. И театры здесь есть отвратительные, а есть и дивные. И вот именно благодаря тому, что здесь всего и всех много, можно выбрать хорошие книги, хорошие театры, хороших знакомых и друзей, в общем, хорошую жизнь. <…> за меня ты не беспокойся, я не пропаду, и «тоска» у меня так же быстро проходит, как и приходит. И это тоска беспричинная, признак проклятой интеллигентщины, от которой я всеми силами хочу избавиться».
Видно, что вопрос «мещанства» и «интеллигентщины» ее очень волнует, так как дальше она пишет: «Тома, меня теперь, когда я далеко и когда мне В. Евлинов совершенно безразличен, очень интересует вопрос: неужели он серьезно считал меня «мещанкой»? Если у вас хорошие отношения, и это тебе нетрудно спроси, не от моего, конечно, имени <…> Один тип здесь собирается учить меня разбираться в новой поэзии. Он сам дивно декламирует, и в его исполнении новые стихи — как музыка. Я свое рифмоплетство бросила и думаю, что больше никогда не начну. Довольно, подурачилась и хватит».
Соня полностью разделяет коммунистический энтузиазм старших братьев и сестры. Вот как она описывает своей подруге посещение мавзолея: «Громадное впечатление производит вид Ленина. Стоишь как зачарованный и глаз не можешь оторвать от дорогого лица, а мысли в голове несутся, несутся. А по обе стороны гроба стоят часовые красноармейцы и не шелохнутся, как статуи. А стоять не позволяют: «Проходите, проходите…», и течет, течет народная волна, и чувствуешь, что у всех одни мысли».
Осенью 1925 г. Софья Васильевна поступила в Московский университет на факультет советского права. На вступительных экзаменах она блестяще сдала математику, но физику не знала совсем. Помня ее прекрасный ответ на предыдущем экзамене, профессор был очень удивлен отсутствием знаний по физике. Он предложил ей нарисовать схему электрического звонка, но Соня сказала, что рисовать вообще не умеет. Тогда профессор, подумав, спросил, может ли она обещать, что никогда не будет заниматься физикой. Получив утвердительный ответ, он поставил ей «уд».
Началась студенческая жизнь. В Рыльск отправляется очередное письмо: «Я вполне довольна своей настоящей жизнью, хотя не могу сказать, чтобы мне было особенно весело. Мне просто хорошо. Ведь исполнилась моя самая заветная мечта — я учусь. Есть надежда, что исполнится и другая, еще заветней. Здесь много работы, и работать может всякий, кто хочет и умеет. Я надеюсь, что полутора-двумя годами работы заслужу звание комсомолки. Это был бы для меня самый счастливый день в жизни, и тогда бы уже я не сказала, что я «никому не нужна». Я сейчас как ребенок с новой игрушкою ношусь с мыслью, что я студентка. Учиться, конечно, придется очень и очень серьезно. Но я не боюсь работы! Сил хватит. Запускать не буду и с первых же месяцев начну сдавать зачеты. <…> Завтра пойду на демонстрацию. Самой лучшей части праздника увидеть не придется, т. к. на открытие не удалось достать билетов. Но конечно, и та часть, в которой я буду участвовать, будет грандиозна. Сейчас в Москве делегация австрийской молодежи, и это придаст еще более торжественный характер празднеству. Ты спрашиваешь, есть ли у меня подруги? Нет, ни одной. Знакомых много — друга нет! И большинства своих знакомых я не знаю ни имени, ни фамилии. А знакомых у меня тьма. Ты знаешь, как я быстро всегда знакомлюсь. За завтрашний день, я уверена, еще десятка два будет. На наш факультет очень мало поступило лиц в моем возрасте — все дяди и тети солидные! Много партийцев. Младше меня нет. А странно мне иной раз самой, что я вузовка! Дима раз в шутку сказал: «И какой там дурак вас, таких малышей, принимает!» А пожалуй, и правда. Я частенько себя чувствую совсем девчонкой. <…> У меня есть билет на профсоюзный спортивный праздник. Он будет продолжаться целую неделю. Вот уж насмотрюсь всякого спорта! Я не буду записываться ни в какую организацию, т. к. вуз дает все. У нас есть все кружки, начиная от спортивного и кончая студкоровским. <…> Но я буду работать только в 2-3-х, т. к. перегружаться нельзя, а быть членом на бумаге нет ни смысла, ни охоты».
Соня поселилась в комнате сестры на улице Воровского (теперь снова Поварской), в доме 18, в 17-й квартире, о которой и сейчас с теплом вспоминают многие друзья Софьи Васильевны. Это огромная, «генеральская» квартира в пятиэтажном доходном доме, построенном в начале века, с высоченными потолками, эркерами, лепниной, с отдельным туалетом для прислуги. Самые большие комнаты после революции были перегорожены пополам, часть двустворчатых дверей, образовывавших анфиладу комнат, была заколочена, прорублены новые двери, превращена в жилую комнату темная кладовка — всего получилось одиннадцать комнат. Проживавших в них временами было более тридцати человек (состав жильцов часто менялся), в основном молодежь, учащиеся. Мебели почти не было. В комнате сестер Каллистратовых стояли три железные койки, настланные досками, и несколько старинных предметов — резные стулья, кресло, зеркало и стол — все из особняка Бутеневых, соседнего двухэтажного дома, носившего тот же номер. Этот очень красивый особняк снесли при строительстве Нового Арбата.
Жильцы квартиры в 20-е гг. образовали коммуну, еду готовили по очереди на всех в тридцатиметровой кухне на керосинках и примусах. Соня вместе со своей приятельницей Томочкой Рихтер выпускала стенгазету под названием «17-я дыбом». Жили бедно, голодно, но весело. Мама вспоминала, как трудно было решить вопрос, на что использовать последние пять копеек — на булочку или трамвайный билет. Если появлялись деньги — покупали билеты в театры: Художественный, Мейерхольда, Вахтангова. По контрамаркам ходили в Политехнический на выступления Маяковского. Всего раннего Маяковского мама с той поры знала наизусть. Незадолго до смерти, в больнице, ночью, не в силах заснуть от болей, она прочитала мне тихонько «Облако в штанах» — от начала и до конца.
Дожить до стипендии помогали старшая сестра Наталья и средний брат Дмитрий. Он в это время женился на Татьяне Борисовне Мальцман, много лет прожившей в Англии, куда эмигрировал ее отец — революционер, соратник Н. Э. Баумана. Мама дружила с этой молодой и очень веселой семьей. Помню, когда я только научилась читать, в 1936 г., мама подарила мне книгу С. Мстиславского «Грач — птица весенняя» и показала в ней место, где упоминался Борис Самойлович Мальцман; я очень гордилась таким «знаменитым» родственником.
Дом на Воровского был открытый, приходило много друзей Федора Васильевича и И. С. Кутякова — чапаевцев. В семье жила легенда о том, что в 1925 г. несколько раз приходил С. М. Буденный и даже как-то раз стоял на голове — по случаю проигранного пари.
У Т. С. Хромых сохранилось еще одно письмо из Москвы в Рыльск, которое хорошо передает атмосферу тех лет и характер Софьи Васильевны:
«22 июля 1926 г. Милая Томочка! Вчера была в ЦТТИ и пишу тебе результаты своих «разузнаваний». Самый главный вопрос еще вообще не выяснен: переводят в Ленинград или нет? Сейчас этого никто не может сказать, должно выясниться в скором времени. Во всяком случае прием будет в Москве.
Предупреждаю тебя заранее, что сегодняшнее письмо будет очень нескладное, так как у меня болит голова. Пишу только деловое, необходимое. Лечь спать неудобно, — сидит один товарищ, сослуживец сестры. Только что кончили с ним длинный разговор на тему: класс, партия и т. д.
Ну, к делу. Для поступления в ЦТТИ, как сказано в правилах приема, требуется образование за 9-летку, «наличие сценических и вокальных данных» (те и другие у тебя есть) и «общее художественное развитие». Последнее мне объяснили так: «Один ничего не смыслит — ни в искусстве, ни в пении, ни в музыке, а другой слышал, видел и сам играл». Вот, так что это тоже не страшно. Прием заявлений до 20 августа, а с 20-го испытания. Общежития и стипендии есть, хотя очень и очень мало. Но раз есть, значит и надежда есть. Вот, Томочка, жду твоих бумаг и заявления с приложением всех справок, рекомендаций, удостоверений и отзывов (анкета такая же, как и для вуза). Мой совет — действуй на два фронта. Что-нибудь удастся. Если переведут в Ленинград, то тоже, пожалуй, не беда. Только вот с твоим здоровьем и туберкулезной наследственностью скверно в Ленинграде жить. Если тебя допустят до испытаний и в Воронеже и в ЦТТИ, то, пожалуй, придется голову поломать. Если бы монеты хватало, то можно было бы, конечно, съездить в Воронеж, а в случае неудачи к 20-му приехать в Москву. Но ведь двух бесплатных билетов у тебя не будет. Ну да это будем еще решать, а сейчас лишь бы допустили.
Тома, ты в прошлом письме пишешь о том, что хоть бы я посоветовала тебе, что читать. Что же я могу тебе посоветовать? Ведь здесь может советовать только спец. Я могу сказать только одно. Надо читать газеты. И читать не как-нибудь, а регулярно, ежедневно, определенную одну газету. На мой взгляд, лучшая — «Правда». А насчет книг посоветуйся с кем-нибудь хотя бы из преподавателей. <…>
Ну, вот, пожалуй, и все, что можно пока написать. Жду бумаг. Как дела с Рабисом?
Парень ушел, ложусь спать с громадным удовольствием.
Да, возможно, что с 1 августа я уеду в дом отдыха под Москву (Дима определенно уезжает в пятницу). Так что тебе, пожалуй, Москва совсем чужой покажется. Ну, да все равно крыша будет, приедешь ко мне (это верст 20–40), или я заявлюсь в Москву на денек, а к 1 сентября совсем явлюсь. Спать, спать, спать… Всего. Соня».
Но Рыльск еще по-прежнему дорог Соне. Вот отрывки из следующих писем: «Ты напрасно думаешь, что мне не интересны твои «длинные» письма. Я всегда читаю их с удовольствием и частенько жду и подсчитываю дни, когда должно прийти твое письмо. Вот именно интересно письмо, когда в нем описаны факты и подробности. А чего стоят мои, если многие из них — сплошные рассуждения! <…> Что-то вдруг сильно затосковала по музыке, мне безумно хочется самой играть. Дело в том, что у нас в клубе есть рояль, и до 3-х часов клуб всегда пустует — одна сторожиха. Я могла бы там играть, но дело за нотами. Покупать их немыслимо — они дороги, а наши финансы и на дешевку слабы. Томочка, милая, пришли мне из Рыльска мои ноты <…> из толстой тетради: «На заре ты меня не буди», «Серенаду» и «Испанский марш». <…> Тома, пришли карточку, где ты с Галею снята. Я снимусь, когда будут деньги».
В разгаре нэп. Девочки из Рыльска пытаются получить от своей, теперь столичной, подружки информацию о московских модах. Но здесь Соня плохой советчик, хотя очень старается. «Трудную ты мне задала задачу, Томочка, своей просьбой. Конечно, мне ничего не стоит пройтись по магазинам. Но выбрать, выбрать!!! Разве могу я положиться на свой вкус! Я попробую взяться за это дело, похожу, приценюсь, посмотрю и приблизительный фасон. Но ты в первом же письме напиши поскорее, в какую цену тебе выбрать: ведь здесь есть от 3–5 и до 100 рублей тапочки. Моду здесь уловить трудно. Сейчас зимние театры еще закрыты, а в летних по случаю холода все одеты так, что посмотреть платья негде. А в витринах их не разберешь. Но в общем платья носят уже немного шире и в скором времени, по всей вероятности, перейдут к широким. Одной особенностью всех одеяний являются необыкновенно узенькие пояса, не шире 2–3 пальцев. Вот, например, я опишу тебе платье, которое купила Таля в магазине, где моду предугадывают чуть ли не на год. Полотняное, цвет — желтовато-розовый, довольно яркий; фасон простой, в схеме его можно представить так… [здесь в письме следует довольно беспомощный рисунок] Но украшает платье и делает его почти роскошным дивная мережка, которой расшито платье. Пояс завязывается где угодно: сзади, с боков или спереди. По описанию оно совсем простое, но производит впечатление нарядного. Вообще яркие цвета еще носят, но не пестрые. А в общем, я не присматривалась. Постараюсь, посмотрю, тогда напишу. Журнал модный мне вряд ли попадется. Стоит он дорого, а среди моих знакомых никто такими вещами не занимается. Между прочим, маленькая подробность: сейчас в Москве все, кто только следит за модой, носят цветные чулки (от кремового до ярко-зеленого, розового и т. д. цвета) и имеют цветные шелковые носовые платки тоже самых разнообразных цветов. При этом мужчины носят платки в боковом наружном кармане, так, что уголок виден, и обязательно одного цвета с галстуком. Ну а наша студбратва, конечно, такими делами не занимается».
В 1927 г. Софья Васильевна вышла замуж за Александра Дмитриевича Мокринского — чудесного сибиряка. Об этом замужестве мама рассказывала очень весело. Осенним днем они шли по Тверской, и в витрине одного магазина она увидела шляпку, которая ей очень понравилась. Мокринский радостно заявил, что он эту шляпку ей подарит, но Соня ответила, что это неприлично, так как шляпки дарят только женам. «Ну так давай поженимся», — предложил Мокринский. Они зашли в ближайший загс и через десять минут вышли оттуда мужем и женой, — эта процедура в те годы была предельно упрощена. На студенческие каникулы Соня ездила в Сибирь, ходила с ним в тайгу на охоту. Через два года они так же просто, за десять минут, развелись, оставшись большими друзьями. В это время Софья Васильевна была уже прочно связана с Москвой, а он не мог жить без Сибири. Уже после войны он заезжал несколько раз к нам, будучи в Москве по делам; жил он в Красноярском крае, имел пятерых детей, странную для меня профессию «землеустроитель» и совершенно покорил меня своим веселым и шумным нравом, а также удивительной способностью перемножать мгновенно в уме трехзначные числа. На мои детские расспросы о том, почему она развелась с таким замечательным человеком, мама шутливо отвечала, что поссорилась с ним из-за кроликов: Мокринский считал, что для решения продовольственной проблемы в стране все должны разводить кроликов, а она заниматься этим не хотела.
Первого мая 1930 г. в колонне демонстрантов, собиравшихся на улице Воровского, Софья Васильевна познакомилась с высоченным французом. Звали его Альбер Александр (настоящее имя было Шарль Фрешар, а первое конспиративное), а мама звала его по фамилии — Александром, так как с детства любила это имя (и отчество у меня сумела записать — Александровна). Александр с 1930 по 1932 г. был слушателем Международной ленинской школы коммунистов, которая размещалась на улице Воровского, дом 25 (где теперь Музей А. М. Горького). В эти годы там училась большая группа французов, в том числе Вальдек Роше. Все они прибыли в Москву нелегально и жили под псевдонимами.
Шарль-Александр переехал из общежития в ту же самую коммуналку под номером 17 и прекрасно вписался в дружную и шумную ее атмосферу. До конца жизни мой отец с нежностью вспоминал «Федю, Нату, Диму, Мишу». В 1981 г. он, уже тяжело больной, рассказал мне (в доме для престарелых в Кламси — в отдельной, хорошо обставленной комнате, конечно, с отдельным туалетом и ванной, телефоном и балконом, выходящим в тенистый сад), что это была очень плохая школа: «Нас учили стрелять из пулемета «Максим» и разрабатывать пятилетние планы. Все это нам было совершенно не нужно. Вернувшись через три года на родину, все слушатели обнаружили, что очень отстали от европейского рабочего движения». Шарль не знал русского языка и на мой вопрос о том, как можно было, прожив почти три года в Москве, не выучить русский, простодушно ответил: «А зачем? Со мною рядом всегда была Соня».
Действительно, Софья Васильевна очень быстро восстановила французский, который она учила в школе, и проблемы общения не было. Шарль рассказывал, что перед выпускным собранием он целый день учил с Соней заключительную фразу своего выступления: «Да здравствует мировая революция!» Но на трибуне умудрился произнести: «До свидания, мировая революция!» Тогда это как-то обошлось. Мой отец был сыном лесника из северо-восточной Франции, из Вогезов. В первую мировую был в армии артиллеристом, там вступил в компартию. Когда в 1920 г. его часть направили в Россию, в Архангельск, он вместе с товарищами дезертировал, говорил — «вся часть разбежалась».
В 1932 г., оставив маму и меня, он вернулся во Францию. Оба они были убеждены, что скоро будет мировая революция и они встретятся. До 1939 г. часто писал, присылал посылки. Мама рассказывала, что, когда в 1934 г. он прислал мне меховую шубку и дивную говорящую куклу, в чем-то розовом, с огромными ресницами и натуральной челкой, пошлина оказалась больше стоимости присланного. Сестра отговаривала получать, но мама посылку выкупила. Кукла пережила даже войну.
С 1939 г. письма приходить перестали. Компартия во Франции была запрещена, отца, как мы впоследствии узнали, арестовали, потом он бежал, был участником Сопротивления, узником Дахау, чудом остался жив. Когда я подросла, после войны мне мама объяснила, что во всех документах я должна писать: «мать в браке не состояла, отца не знаю». С тем я и поступила в МГУ. Отца увидела в первый раз в сентябре 1966 г. Он, как оказалось, после войны много раз писал, но мы писем не получали. В 1960 г. маму в Москве отыскала его приятельница, товарищ по партии — Франсуаза Флажолет, и переписка возобновилась. И вот уже будучи пенсионером, не предупредив нас, он приехал как индивидуальный турист в Москву и прямо с вокзала, с чемоданчиком, перевязанным ремешком, неожиданно явился на улицу Воровского, позвонил в знакомую дверь и сразу бросился нас обнимать. Потом он приезжал много раз, и всегда были нескончаемые политические дебаты до утра между советской правозащитницей Софьей Каллистратовой и французским коммунистом, боготворившим Советский Союз. Он ругал «буржуазную» Францию, но от предложения переселиться в Москву отказался категорически. Их отношения с мамой, несмотря на споры, были трогательными, что видно по их светлым лицам на фотографиях 60-70-х гг.
Закончив университет, Софья Васильевна год работала стажером в Управлении уголовного розыска и милиции Мосгорисполкома, а с 1931 г. — юрисконсультом, сначала в Московском областном комитете профсоюза сельскохозяйственных рабочих, а затем в Юридической консультации ВЦСПС. Там в это время был довольно яркий коллектив сотрудников и очень живая, всегда среди людей и для людей работа (советы, подготовка заявлений, жалоб, выступления в судах по трудовым, жилищным, гражданским, уголовным делам). С начала 1933 г. она стала по совместительству преподавать на курсах и в школах профсоюзов читала лекции по трудовому законодательству. Работала очень много, я ее видела редко — меня воспитывала бабушка. Время от времени меня отвозили «пожить» в Горки Ленинские к Федору Васильевичу, дочка которого, моя двоюродная сестра Римма, была на два года старше меня.
Однако я хорошо помню, что уже в те годы само слово мама у меня всегда ассоциировалось с чем-то праздничным. Помню новогоднюю елку в конце 1935 г. (тогда только что был снят запрет на елки). Мама учила меня делать игрушки — выдувать через две дырочки содержимое яичек, рисовать на них мордочки и приклеивать им юбочки из ленточек, делать китайские фонарики из бумаги, каких-то зверушек из проволоки, обмотанной синелькой, цепочки из цветных обложек журналов, конфетных оберток. Мы с бабушкой и мамой жили тогда втроем в очень просторной, почти пустой комнате, и когда посредине поставили огромную, под потолок, елку, украсили ее — это было восхитительно! Я вышла во двор и объявила во всеуслышание: «У нас елка, идите к нам на елку!» и вернулась, ведя за собой человек пятнадцать детишек — и подружек, и почти совсем незнакомых. Мама сначала опешила от такого неожиданного нашествия, но потом все было прекрасно. Всем нашлись какие-то конфеты (наверно, сняли с елки), мама прыгала с нами в хороводе, мы что-то хором пели, и моя популярность во дворе после этого сильно возросла.
Помню из этих же лет, как мама подарила мне на день рождения мягкую пушистую игрушку — зайчика — и спросила, как я его назову. Я решительно назвала любимое имя советских детей — «Сталин». Она меня долго отговаривала, объясняя, что для зайчика такое имя не подходит.
В последнее лето жизни мамы я наконец расспросила ее, как шло изменение ее мировоззрения — от восторженного революционного к критическому и далее открыто оппозиционному к нашей системе. Вот что она рассказала. Первые серьезные сомнения в справедливости и законности всего происходящего возникли у нее осенью 1932 г. (ей было двадцать пять лет), когда у нее в профсоюзной юридической консультации стали появляться жертвы «закона от седьмого-восьмого» (указ от 7 августа 1932 г.). По этому указу даже за совсем мелкие «хищения государственной и колхозной собственности» с колхозного поля полагалось до 10 лет лагерей. Особенно возмутило ее, что это закон применялся к подросткам начиная с двенадцати лет. После 1 декабря 1934 г. — убийства Кирова ее вера в коммунистические идеалы и партийных вождей начала быстро улетучиваться. Ранней весной 1935 г., когда в Ленинграде уже шли массовые аресты, она всю ночь проговорила о том, что происходит, с Конкордией Владимировной Комаровой — партийкой с большим дореволюционным стажем, подругой Натальи Васильевны. Разойдясь утром, они обе (как ей потом призналась и К. Комарова) со страхом думали о возможных последствиях этого разговора, в котором они высказались вполне откровенно и до конца о репрессиях.
В 1936 г. начались аресты среди близких знакомых. (Хорошо помню, как тогда с тумбочки исчезла фотография красивого мужчины с волевым лицом — я уже знала, что это мой отец.) Арестовали соседку по квартире — Томочку Рихтер (мама поддерживала оставшуюся одинокой Елену Николаевну Рихтер, пережившую свою дочь на двадцать лет). Затем арестовали Глеба Крамаренко — мужа самой близкой из двоюродных сестер — Лиды Поповой. Сама Лида, когда ее стали принуждать к публичному осуждению мужа, «врага народа», выложила на стол партбилет и сумела избежать ареста лишь потому, что в ту же ночь, взяв за руку шестилетнего сына, без всяких вещей уехала из дома в глухую провинцию. Арестовали коллегу и соавтора мамы Л. Майданника, а уже набранную книжку учебник по трудовому праву — рассыпали. Младший брат узнал, что в Рыльске вторично арестован отец. Арестовали и тут же расстреляли первого мужа Натальи Васильевны — И. С. Кутякова. Самой Наталье Васильевне повезло: в сентябре 1936 г. ее направили директором школы в Монголию, и она до 1939 г. прожила в Улан-Баторе. Мама говорила, что не понимает, как судьба уберегла ее и братьев. Ареста ждали каждый день.
Мама вспоминала, как один знакомый, встретив ее на улице уже после 1956 г., рассказал, что ему выбили на Лубянке пять зубов за то, что он отказался «вспомнить», чей это номер телефона Б-3-50-48 с инициалами С.К. в его записной книжке. Мама очень удивилась: «Чего здесь было скрывать? Ведь они сами легко могли узнать, что это мой телефон». Он ответил: «Ну как же ты не понимаешь, им важно было, чтобы я сказал, чей это номер, чтобы я назвал твое имя».
В 1939 г. Софья Васильевна полностью перешла на преподавательскую работу в Коминтерновский учебный комбинат. Причины перехода были материальные: трудно было содержать дочку и мать, которая никогда не получала пенсию. Но уволиться с работы в то время было сложно, ее не отпускали. Пришлось воспользоваться знанием законов. 2 сентября начинались занятия в комбинате, и вот 1 сентября 1939 г. в трудовой книжке Каллистратовой появилась запись: «Уволена из консультации на основании постановления СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 27 декабря 1938 года за опоздание на работу на 55 минут». Смысл этого опоздания понятен, если учесть, что Софья Васильевна всегда была предельно точным и обязательным человеком. А через несколько месяцев был введен новый порядок, по которому за опоздание больше чем на двадцать минут уже полагался срок от 1 до 3 лет.
Война
В конце июня 1941 г. занятия в Коминтерновском комбинате прекратились, всех преподавателей уволили. Софья Васильевна снова пошла работать юрисконсультом, в ЦК Союза станкоинструментальной промышленности. Я и моя двоюродная сестра Римма уже 8 июля были эвакуированы из Москвы с детьми сотрудников Музея Ленина, в библиотеке которого работала жена старшего брата Софьи Васильевны. Отправляли нас налегке, в полной уверенности, что к сентябрю вернемся. Привезли на Урал, в город Шадринск, где мы, «маменькины дочки», оказались в тяжелых условиях «деткомбината». Помню какое-то здание, похожее на барак, узкие койки, на которых спали по трое, быстро появившееся «право сильного». Через месяц к нам приехала Риммина мама, ожидавшая в то время второго ребенка, и забрала нас «на квартиру» — в порядке уплотнения.
Софья Васильевна оставалась в Москве, тушила зажигалки на крыше своего дома. Однажды, при близком попадании фугасной бомбы, ее контузило. Но об этом мы узнали потом от Натальи Васильевны, а мама только рассказывала, какое величественное и жуткое зрелище представляло собой московское небо в лучах прожекторов и отблесках разрывов. После контузии она решила ехать к нам. Сохранилось письмо ее невестки из Шадринска, в котором обсуждается возможность приезда Софьи Васильевны:
«1 сентября 1941 г. <…> Первое: работа и прописка. Работа по специальности или преподавательская маловероятна. На физический труд ты не годишься ни здесь на каком-либо заводе, ни в совхозе, где многие москвичи живут, надо сказать, не жалуясь. Случайный возможный канцелярский труд даст заработок не более 150–180 рублей в месяц. Прописаться здесь разрешается лишь после устройства на работу. Допустим, что при твоей энергии ты это препятствие преодолеешь, поскольку здесь твоя дочь и я (живущие, кстати, на чужой площади). Или, допустим, ты будешь иметь разрешение на выезд из Москвы в Шадринск. Тогда в отношении прописки все будет прекрасно. <…>
Город грязный, полудеревня. Трудный для многих по климату. Много больных малярией… Население несимпатичное. Это типы мелкособственнические, ноющие о том, что они на краю гибели и завтра умрут, а на самом деле имеющие все необходимое для приличной жизни: свой дом, большой или малый огород, корову, гусочек, курочек и т. д. Война их абсолютно не касается, а к горю многих и многих, потерявших во фронтовой полосе не только имущество, но и семью, они относятся абсолютно бесстрастно и используют все это, чтобы продавать молоко не по 1 р. 50 коп, а по 2.50, масло по 16–20 р. за фунт, мед по 20 р. кило <…> Нас, москвичей, они считают какими-то паразитами, весьма неудобоприемлемыми для их заплесневелой жизни. Конечно, те, которые работают, совсем иного склада, но их меньше здесь, чем этих зловредных домовладельцев.
Бытовая экономика. Жизнь дешевле, чем во многих других близких и более далеких местах. Очень сложно с топливом. Не работая, совсем не получишь, а через организацию, где работаешь, может быть. Для меня сейчас это самый волнующий вопрос<…> Теперь можешь думать. Леля».
21 октября ЦК Союза, где работала Софья Васильевна, эвакуировали из Москвы, ей дали разрешение на выезд в Шадринск. Хорошо помню вечер приезда мамы, ее рассказы о панике в Москве 16–17 октября, о том, как в воздухе носился черный пепел — во всех учреждениях сжигали документацию. И работу и прописку она в Шадринске получила на следующий же день: устроилась юрисконсультом на эвакуированный из Прилук завод противопожарного оборудования, перепрофилированный в минометный. Но юридических дел было немного, и она стала к станку, освоив специальность токаря-операционника, делала какую-то деталь к минометам. Работала полную смену. Станок был с левой резьбой, и она долго запоминала: «от-вернуть» — от себя, «при-вернуть» — к себе. Автоматизм сохранился на всю жизнь, и с правой резьбой у нее всегда потом бывали трудности, приходилось соображать «от противного». Благодаря станку получала рабочую карточку, спасавшую нас.
Успевала заниматься и правовой помощью. Она уже тогда любила с юмором рассказывать нам о юридических казусах. Помню одно дело: инженера завода привлекли к ответственности за прогул одного дня. В приказе на отпуск было написано «по 2 февраля», он вышел на работу 3-го. Заводоуправление считало, что он должен был быть на работе 2-го. Софья Васильевна написала письмо в Ташкент известному языковеду Льву Владимировичу Щербе с просьбой в качестве эксперта разъяснить употребление предлога «по». Ответ был: «Предлог «по», как правило, означает включение последующей даты или предмета в действие, но в выражениях «сыт по горло» или «влюблен по уши» нельзя утверждать, что горло или уши участвуют в действии». Однако оправданию инженера такое разъяснение помогло.
Жили мы, «выкуированные», как нас называли, «на квартире», в маленькой (метров восемь) проходной комнате, почти все пространство которой занимал огромный дощатый топчан. Спали на нем впятером — я, Риммочка, обе мамы и бабушка, которая вскоре тоже к нам приехала. Печка выходила топкой в нашу комнату, а зеркалом в хозяйскую, запроходную. Нас она грела слабо, внешние углы комнаты промерзали, к утру покрывались инеем. Когда температура в комнате опускалась почти до нуля, а дров не было, мама несколько раз ночью брала из богатой горкомовской поленницы (наш флигель был во дворе Шадринского горкома партии) по 2–3 полена, — хоть немного подтопить. Потом покаянно об этом вспоминала — говорила: «Бог простит». Был такой случай, когда хозяйка, стремясь сохранить тепло, раньше времени закрыла непрогоревшую печку и мы все угорели. И бабушку, и двоих девчонок, потерявших сознание, на улицу вытаскивала Соня.
Мы все очень тяжело болели. Мама всегда была на ногах, всех спасала. Но не всех удалось спасти, пришлось ей в январе 1942 г. похоронить невестку и ее новорожденную дочку. Помню, как вьюжной ночью в декабре 1942 г. у Риммочки был тяжелейший приступ аппендицита (потом узнали, что прободение). Мы с мамой бежали через весь город в дом хирурга военного госпиталя. Он сказал, что не спал уже почти двое суток и физически не может сейчас оперировать. Не знаю, какими словами мама его уговаривала, но он махнул рукой — везите в госпиталь, через час приду. Чудом мама нашла грузовик, на руках вынесла из дому Риммочку, забралась в кузов. Хирург сказал потом: «Еще час, и было бы уже поздно».
Жили голодно. Мама ездила с санками в далекие деревни — менять нашу одежонку на картошку, возила на санках и меня на перевязки в госпиталь (я после тяжелой болезни зимой 41/42 гг. к весне не могла самостоятельно ходить). И при этом никогда не жаловалась на трудности, никогда не повышала на нас с сестрой голоса, всегда дарила нам улыбки и радость общения. Вечерами, перед горящей печкой или просто в темноте читала нам Блоковскую «Незнакомку», «Сукиного сына» Есенина, почти полностью «Четки» Ахматовой. Эти стихи, вместе с незабываемыми интонациями ее голоса, навсегда врезались в мою память. А какие чудные шанежки с картошкой пекла она, когда ее старший брат сумел как-то нам переправить мешочек с мукой. А шитье нам костюмов из Бог знает как уцелевшей «московской» занавески — к новогоднему балу, который так и не состоялся… И сосенка, украшенная какими-то бумажками (елки в округе не росли), стояла под Новый год на тумбочке около топчана. Все это, может быть, самые светлые воспоминания моего детства.
Софья Васильевна с юности была театралкой. В Шадринске весной 1941 г. гастролировал Челябинский областной театр, да так и застрял там на всю войну: его здание в Челябинске занял какой-то из эвакуированных московских театров. Впервые за историю маленького городка, где до войны было около пятнадцати тысяч жителей, два сезона работал настоящий театр, с двумя заслуженными артистами. Премьеры в городке были еженедельными, так что играли «под суфлера», но с полной самоотдачей. Репертуар был в основном классический: ставили Островского, Чехова, Горького, даже Шекспира — зал всегда был полон. И вот с весны 1942 г. и до отъезда почти каждое воскресенье мама водила нас в театр.
В феврале 1943 г. Софья Васильевна получила наконец от сестры вызов в Москву. Бабушку к тому времени забрал в Свердловск младший брат Софьи Васильевны. Ехали в товарном вагоне, забитом людьми, где можно было только сидеть впритирку, на узких досках, положенных поперек вагона. Риммочка упала в обморок. Соня испугалась, что она нас не довезет, договорилась с проводником «международного» вагона, и за весь взятый нами провиант (помню, было три буханки хлеба, банка топленого масла, еще что-то) он пустил нас в закрытый на ключ тамбур, на полу которого, без еды, мы все-таки добрались до Москвы. Поселились сначала в Царицыно — у отца Риммочки. Оттуда слушали залпы первого салюта — в ознаменование освобождения Орла и Белгорода — и ужасно испугались, увидев зарево над Москвой, — подумали, что снова бомбежка.
Адвокатура
В июле 1943 г. сбылась мечта Софьи Васильевны — она стала адвокатом. Ее приняли в Московскую областную коллегию, работала она в Кунцевской юридической консультации, много ездила по всей области. Работу свою она всегда очень любила. В 80-х гг. ее племянница Римма, юрист-теоретик, как-то обсуждая плачевное состояние законности в стране (беседа касалась «Факультета ненужных вещей» Ю. Домбровского), спросила ее: «Почему ты не отговорила меня в 1947 г. от поступления в юридический институт?» Софья Васильевна ответила: «Я считала, что юристом быть хорошо, все-таки можно помочь многим людям».
Одним из наставников Софьи Васильевны в первые годы ее адвокатуры был Владимир Николаевич Кобро — старый русский интеллигент, гуманист, широко образованный человек, имевший большую юридическую библиотеку. Думаю, что В. Н. Кобро оказал большое влияние на ее правовое мировоззрение, — ведь в университете ее учили совсем другому, «по Вышинскому». В нашем доме остался подарок В. Н. Кобро Софье Васильевне — в массивном переплете, с прекрасными иллюстрациями книга А. Ф. Кони «Отцы и дети судебной реформы», выпущенная издательством Сытина в 1914 г. к пятидесятилетию обнародования судебных уставов. Том этот всегда стоял на видном месте в комнате Софьи Васильевны, она делала из него выписки, часто просматривала для подкрепления своих мыслей о месте адвокатуры в обществе и задачах защиты. Без преувеличения могу сказать, что знаменитые юристы прошлого — А. Ф. Кони, Ф. Н. Плевако, В. Д. Спасович, А. М. Бобрищев-Пушкин — были образцами для Софьи Васильевны. Они восхищали ее не только своими талантами, эрудицией, логикой, ораторским искусством, — ей была близка их гражданская позиция, высокие нравственные идеалы. Ей был близок их призыв «к справедливости, слагающейся из примирения начал общежительности и свободного самоопределения воли», «к отказу от тех карательных мер, которые бесчеловечны» (А. Ф. Кони).
Особенно высоко ценила она Ф. Н. Плевако, который всегда отстаивал равенство всех перед законом, защищал бедных и обездоленных, стремился к утверждению человечности, добра, сострадания, свято верил в высокое назначение человека. Она на память цитировала мне и моим друзьям большие выдержки из его судебных речей, любила рассказывать о неординарных случаях из его судебной практики. Знаменательно, что в 1997 г. Гильдия российских адвокатов посмертно наградила С. В. Каллистратову Золотой медалью им. Ф. Н. Плевако «за вклад в развитие адвокатуры и повышение престижа адвокатской деятельности».
Софья Васильевна быстро заслужила уважение и любовь своих коллег (так же, как и популярность у правонарушителей Кунцевского района). С 1944 г. она регулярно получает официальные благодарности за высокое качество защиты и за общественную работу (чтение лекций, юридическая помощь на предприятиях и т. д.). Вот пример характеристики (из заключения комиссии, обследовавшей работу консультации в 1949 г.): «…имеет большой опыт работы и большие познания в самых разных областях права. Быстро ориентируется в сложных правовых вопросах, легко воспринимает суть дела. Для Каллистратовой С. В. характерна исключительная целеустремленность и направленность ее судебных выступлений, уменье выявить в каждом деле основание для правовой позиции и четко поставить и развить все существенные вопросы, возникающие при рассмотрении судебных дел.
Стиль и метод работы Каллистратовой С. В. представляются наилучшими, в максимальной степени ведущими к скорейшему и правильному разрешению дел, наиболее полезными как для ее доверителей и подзащитных, так и для суда, рассматривающего эти дела. Бумаги, составленные С. В. Каллистратовой, отличаются простотой и ясностью стиля и свидетельствуют об уменье их автора найти наиболее точные выражения для изложения своей позиции. Обладает грамотной, культурной речью.
С. В. Каллистратова является наиболее квалифицированным адвокатом в Кунцевской консультации и одним из выдающихся адвокатов коллегии».
Она всегда отстаивала в суде свои правовые убеждения, смело возражала прокурорам, никогда не позволяя себе пустых деклараций, голословной критики — сказанное всегда было четко аргументировано ссылками на законы. Она вообще считала себя законопослушным человеком и не раз повторяла в кругу друзей, что какими бы плохими наши законы ни были, жизнь была бы вполне сносной, если бы они все исполнялись. Из-за корректности даже самых резких ее высказываний прокурорам и судьям было весьма трудно предъявлять к ней претензии, хотя досаждала она им часто. В протоколе заседания Президиума Московской областной коллегии адвокатов от 5 июня 1961 г. записано: «За время работы в МОКА несколько раз привлекалась к дисциплинарной ответственности по частным определениям судов, которые Президиумом МОКА оставлялись без наложения взысканий, поскольку факты, в них изложенные, не подтверждались».
Основное место в практике Софьи Васильевны занимали уголовные дела, хотя были и гражданские, часто весьма сложные. Крупных хозяйственных дел, по которым проходили воротилы большого бизнеса, она не вела. Эти люди обращались совсем к другим адвокатам. Очень много было среди ее клиентов малолетних преступников. Преступник для нее был прежде всего человеком несчастной судьбы, защита его была защитой человека, попавшего в беду. Помню, как она начинала в судебном заседании допрос пятнадцатилетнего воришки: «Какие книжки ты читал?» — Выяснялось, что никаких. «Ты был когда-нибудь в театре?» — Нет, в театре он тоже никогда в жизни не был…
Она всегда старалась показать, что в преступлении, совершенном ребенком, подростком, виноваты прежде всего его окружение, все условия его жизни, и умела высветить все хорошие стороны любого своего подзащитного, особенно несовершеннолетнего.
Я видела, как много мама работала над своими делами, по каждому из которых было объемистое досье, каждое она знала от корки до корки. Когда вела дела о хищениях на производстве, то основательно знакомилась с технологией этого производства, не жалела времени на поиск и привлечение компетентных экспертов в сложных случаях. Ее любимая ученица М. А. Каплан вспоминала, как Софья Васильевна учила ее всегда сразу же читать протокол судебного заседания и писать на него замечания, если не все было отражено. Учила максимально использовать свидания с подзащитным, с недоумением поминая тех коллег, которые могли этим пренебречь. Она никогда не составляла ни одного документа, не давала ни одного совета без точной ссылки на законодательство. Пришедшего на консультацию посетителя она внимательно выслушивала, объясняла, что и на основании какого закона надо делать, а потом неизменно говорила: «Подождите, надо все-таки проверить», — и шла к полке со справочниками и кодексами, за «свежестью» которых тщательно следила. Конечно, все оказывалось правильным, ибо профессиональная память у нее была безупречная, но она не могла себе позволить и малейшей неточности.
В Матросскую тишину, в Бутырку, в Лефортово (следственный изолятор КГБ) Софья Васильевна всегда отправлялась с полным портфелем (тут она постоянно нарушала закон) и начинала беседу с подзащитным с того, что вынимала бутерброды и кормила его. Это были или передачи от родственников, или самою ею купленные продукты и папиросы, и надо сказать, что конвоиры обычно смотрели на эти нарушения сквозь пальцы. Особенно она заботилась о несовершеннолетних: покупала им фрукты, шоколад и не отступалась от защиты даже тогда, когда родственники считали дальнейшие хлопоты бесполезными. Очень гордилась тем, что в одиннадцати случаях из пятнадцати ей удалось добиться отмены смертных приговоров своим подзащитным — смертную казнь она всегда считала неприемлемым средством борьбы с преступностью.
Глубоко интересовали Софью Васильевну вопросы места и роли адвоката в обществе. После 1953 г. жалкое, приниженное положение, отводившееся адвокатуре «школой Вышинского», начало понемногу меняться. В 1958 г. появилась наконец в Уголовно-процессуальном кодексе 201-я статья, допускавшая адвоката к предварительному следствию хотя бы на последней его стадии, перед передачей дела в суд; вышло несколько монографий о защите в советском уголовном процессе, были переизданы судебные речи известных русских юристов. Софья Васильевна размышляет о необходимости изменений в процессуальном, уголовном, исправительно-трудовом законодательстве, об изменении форм участия адвокатов в уголовном следствии и, конечно, прежде всего об отмене смертной казни. Она обсуждает это с друзьями, в семье, много читает, делает выписки. В конце 60-х гг. она часто обсуждала эти проблемы с Валерием Чалидзе. Однако времени для оформления этих соображений у нее не хватало. Лишь в последние годы жизни ей удалось публично высказаться по некоторым из этих вопросов.
Много внимания в эти годы Софья Васильевна уделяла семье. Она была прирожденным педагогом, необычайно любящей и заботливой матерью, теткой, бабушкой, а затем и прабабушкой. Ее любили и уважали все мои товарищи, приятели моих детей, дети ее друзей. Она оказывала им юридическую помощь, давала житейские советы, многие из них стали друзьями Софьи Васильевны на всю жизнь. Дети и молодежь всегда тянулись к ней, ценя ее уважительное обращение к человеку любого, даже самого младшего возраста, неизменную доброжелательность, умение высказывать свое мнение ненавязчиво, но настолько весомо, что к нему трудно было не прислушаться. Она никогда не «читала морали», умела «наставлять на путь истинный» другим способом: задушевными беседами, с помощью мягкой иронии, увлекательных параллелей. Эти черты Софьи Васильевны, как и ее хлебосольное гостеприимство, привлекали к ней и взрослых людей, но с детьми отношения были особые. В семье она никогда не прибегала к наказаниям и прямым запретам. В восьмом классе я увлеклась туризмом, бегала по концертам, вечеринкам, стала пропускать уроки, дневник запестрел двойками. Мама долго терпела, а потом как-то спокойно и даже ласково сказала: «Маригуля, если ты не хочешь учиться, можно найти другие способы существования, но получать двойки стыдно. Так что решай — или надо уходить из школы, или учись нормально». И этого замечания оказалось достаточно…
Мама любила и прекрасно умела устраивать детские праздники. Послевоенные дни рождения — мои и Риммочкины, были незабываемы. Угощение готовилось простое, но вкусное и обильное. Мама знала массу игр — и смешных, вроде «фантов», «чепухи», «мнений», и азартных, как «гоп-доп», и интеллектуальных, с карандашом и бумагой, — «художник», «эрудит», «буриме», в которых надо было проявлять остроумие и изобретательность. Ставили шарады, выпускали шуточные стенгазеты, писали плакаты. Она веселилась вместе с нами, а иногда просто читала нам стихи, которые в школе «не проходили». Позже так же весело и шумно праздновались дни рождения ее внуков, и если я иногда малодушно пыталась «зажать» очередной праздник, мама всегда возражала: «Ну как же, тебе же всегда устраивали дни рождения, и им надо обязательно…» Потом бывали и другие праздники — в начале 70-х гг. в ее комнате, куда набивалось по 30–40 старшеклассников, товарищей ее старших внуков, пели свои песни Юлий Ким и Александр Галич. А в конце 80-х Софья Васильевна звонила Юлию Черсановичу с просьбой оставить билеты на его концерт для ее младшей внучки и старших правнуков.
Во всех моих делах мама была прекрасным товарищем. После войны друг ее брата, погибшего в Германии, подарил мне трофейный фотоаппарат-лейку. Фотографировала я с удовольствием, а печатать карточки не любила. И она взялась мне помогать. Начинали вдвоем, потом я уставала, ложилась спать, а мама печатала всю ночь, и утром мы вместе рассматривали накатанные ею на зеркало и на окно отпечатки. Потом она печатала мои альпинистские фотографии, фотографии моих детей. Большинство из них пропали при обысках в 1980–1982 гг.: вместе с «крамольными» портретами ее друзей — Сахарова, Григоренко, Меймана, Лавута, Великановой и многих других, кого я снимала на днях рождения Софьи Васильевны, — зачем-то забрали и семейные фотографии несколько альбомов, да так и не вернули.
Все мои увлечения она воспринимала очень мужественно. Можно себе представить, что она переживала, когда единственная, горячо любимая дочь занялась альпинизмом. Многие мои близкие друзья, которых она хорошо знала, погибли в горах. Почти каждый сезон уносил несколько жизней. Некоторым из друзей во избежание тягостных уговоров и запретов приходилось обманывать родителей, говорить, что едут якобы в дом отдыха. Но я никогда не слышала от мамы ни одного упрека, ни слова о том, что я должна бросить альпинизм. Провожала она меня всегда с улыбкой, спокойно, только говорила: «Маргуся, будь осторожна, береги себя».
Когда у Софьи Васильевны появились внуки, она восприняла их как своих детей. Они ее так и звали — мама Соня, а потом уже просто Соня, Сонечка. Меня она старалась максимально освободить от хозяйственных забот, считая, что я должна учиться в аспирантуре. Пришлось искать няню. Няни у Софьи Васильевны (так же, как и соседи по квартире) всегда были замечательные и очень ее любили. Это было удивительное свойство Софьи Васильевны — умение легко уживаться практически со всеми окружающими ее людьми и объединять их, сохраняя при этом высокие нравственные требования и принципиальность. В нашей огромной коммуналке кто только не жил: артисты, рабочие, инженеры, продавец, дипломат, милиционер, старушки-пенсионерки. Состав часто менялся, одни получали квартиры, другие умирали; в последние годы все комнаты, кроме нашей, были заселены «лимитчиками». Встречались среди жильцов и любители выпить, и законченные алкоголики, и весьма неуравновешенные люди, но в квартире никогда не было скандалов, вражды, характерной для коммуналок. У матери для каждой соседки и соседа находилось доброе слово, каждому она готова была помочь. Когда она выходила на огромную кухню, там сразу воцарялась доброжелательность, часто звучал веселый смех. И даже когда мама перестала там жить (с 1980 г. она поселилась у меня на улице Удальцова, а к себе на Воровского ездила только в выходные дни, а в последние годы только на свой день рождения), в квартире сохранялась традиция взаимоуважения и взаимопомощи. Самой любимой няней, которая прожила у нас дольше всех, была Танечка Пахомова — круглая сирота, приехавшая из деревни в Москву в семнадцать лет, быстрая, на все руки мастерица, но с очень сложным характером. Софья Васильевна и для нее стала тоже вроде матери заботилась о ней, была поверенной в ее сердечных делах, уговорила пойти учиться в вечернюю школу, помогала ей по математике.
Еще в 1951 г. старшая сестра мамы получила большой садовый участок двенадцать соток в Строгино. Две сестры и два брата — все вместе вырастили там чудесный сад: около тридцати яблонь, груши, сливы, вишни (в 80-х все эти сады пошли «под бульдозер», теперь там стоят шестнадцатиэтажные дома). Когда родились внуки, на участке построили домик (до этого все жили в застекленной «беседке»), и Софья Васильевна проводила там каждое лето. Она любила цветы, умело ухаживала за ними. Гости приезжали часто, и ни один не уезжал от нее без букета по сезону — весной были тюльпаны, нарциссы, сирень, летом — пионы, флоксы, белые лилии, розы, жасмин, осенью — астры, георгины. Очень любила она и анютины глазки, незабудки, маргаритки, метиолы, резеду, говорила, что они напоминают ей детство, сад в Александровке.
При этом она продолжала много работать, оставалась основной кормилицей семьи и мне еще помогала. Без нее обе мои диссертации не были бы защищены. В 1959 г. я окончила аспирантуру, работала уже по совершенно другой теме и, хотя был собран весь материал, написаны статьи, за диссертацию приняться никак не могла. И вот мама предложила: «Приезжай по вечерам на Воровского, я тебе помогу». Я ехала со службы домой, кормила детей, укладывала их спать и отправлялась к маме. К моему приезду она уже сидела за машинкой, в которую была заложена бумага. Я снимала пальто, начинала ей диктовать. В полночь я уезжала. За эти два с половиной часа удавалось напечатать четыре-пять страниц. Графики чертила и формулы вставляла я на работе. В общем, через полтора месяца рукопись была готова. И хотя в физике мама, как она всегда утверждала, «абсолютно ничего не понимала», напечатанный ею текст получился гораздо лучше, чем то, что я ей диктовала.
В 1960 г. в связи с расширением границ Москвы Софью Васильевну перевели в Московскую городскую коллегию, но работала она пока по-прежнему в Рабочем поселке (филиал Кунцевской консультации). И в это время произошла одна из самых крупных неприятностей в ее жизни. Мать ее клиента, Т. Г. Определенная, написала на нее донос, утверждая, что Каллистратова потребовала от нее взятку для передачи судье как гарантию того, что по приговору не будет конфискации имущества. Определенная написала, что передала деньги в консультации в Рабочем поселке, а ее сестра, стоявшая в коридоре около приоткрытой двери, все это видела, слышала и может подтвердить. Как позже призналась следователю доносительница, один юрист посоветовал ей такой ход для пересмотра дела «по вновь открывшимся обстоятельствам» в надежде избежать конфискации автомашины «Волга». Для мамы все это было как гром среди ясного неба, и как раз в тот день, когда я защищала диссертацию, в январе 1961 г. Мама заказала банкет в подвальчике Дома архитекторов (тогда это не возбранялось). Гостей набралось много. И вот, когда она, после защиты, усаживала моих коллег, друзей и членов Ученого совета в машины и в институтский автобус, чтобы ехать на улицу Щусева, к ней подошли двое в штатском и предъявили ордер на арест. Я всего этого не видела и ничего не знала. Только на следующий день мама рассказала мне в лицах: «Я им говорю какой арест? Мне некогда, у меня сейчас банкет, вот тут профессора, академики», а они отвечают: «Ничего не можем сделать, вот ордер на арест, вот машина, садитесь». И все-таки я их уговорила: «Ну зачем я вам сейчас? Я к вам завтра утром сама приду»».
Почему они ей поверили? Наверное, потому, что, как оказалось, тремя часами раньше они приходили к ней на Воровского с обыском, чтобы описать адвокатское имущество. В квартиру их впустили соседи, дверь в комнату была открыта (в ней вообще отсутствовал замок, так как красть там было нечего, да и вообще маме были близки слова из песни Булата Окуджавы: «Не закрывайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта»).
Они вошли и увидели старый платяной шкаф, стол, канцелярский шкаф с книгами, несколько колченогих кушеток — больше ничего. Порылись в большом чемодане, принадлежащем няне, извлекли оттуда два чернобурых хвоста (единственное, что они сочли возможным включить в опись имущества). Очевидно, следователь решил, что все ценности уже припрятаны и арест ничего не изменит, поэтому ее отпустили, взяв подписку о невыезде. Банкет удался на славу! Мама сумела создать в маленьком зале обстановку невероятного веселья. Профессора и академики танцевали, пели вместе с молодежью. Что у нее при этом творилось на душе?..
Началось следствие. Мама тогда только что оправилась от тяжелой болезни, на следующий день после моей защиты должна была ехать в санаторий. Билет сдали, путевка пропала. Следователь долго уговаривал маму: «Лучше признайтесь, а то подниму еще пятьдесят ваших дел, найду еще десяток клиентов, которые покажут, что вы брали деньги, и срок будет больше». Он «поднял» около шестидесяти дел и был сам весьма удивлен, так как ни один человек не сказал про Софью Васильевну ничего плохого, были лишь слова восхищения и благодарности. Однако свидетельница была названа, и 22 февраля 1961 г. прокурор предъявил маме обвинение по статьям 17 и 174 УК соучастие и посредничество во взятке. Выручил маму заведующий консультацией — Леонид Максимович Попов. Узнав, на чем строится обвинение, он сразу заявил: «Чепуха, ничего она не могла слышать: дверь в консультации или наглухо закрыта, или настежь распахнута!» Мама очень удивлялась тогда, как она могла это забыть! Провели следственный эксперимент: дверь действительно была перекошена и не держалась полуоткрытой. В апреле дело было прекращено, двухмесячный «вынужденный простой» оплачен, доброе имя Софьи Васильевны восстановлено.
Работать Софье Васильевне стало легче: ее перевели во 2-ю юридическую консультацию на Арбатской площади, рядом с улицей Воровского, и не надо было в любую слякоть ехать в Рабочий поселок. Софья Васильевна быстро вошла в число лучших адвокатов Московской городской коллегии, каждый год получала благодарности Президиума МГКА, премии, несколько ее речей стенографировали. В 1965 г. в журнале «Советская юстиция» появился посвященный ей очерк Ю. Лурье «Призвание». Последнюю в своей жизни официальную благодарность и почетную грамоту Моссовета Софья Васильевна получила к своему шестидесятилетию в сентябре 1967 г., по-видимому, по инерции, так как ее требование оправдательного приговора для ее первого подзащитного диссидента Виктора Хаустова в феврале 1967 г. вызвало в адвокатуре настороженность.
Среди телеграмм, полученных Софьей Васильевной к шестидесятилетию, есть и такая: «Сердечно поздравляем вас славным юбилеем, желаем здоровья и дальнейшей блистательной адвокатской деятельности. По поручению Президиума МГКА Апраксин, Яковенко». Ее авторы еще не понимали, как много неприятностей им принесет эта деятельность.
Вхождение Софьи Васильевны в правозащитное движение 60-70-х гг. было естественным и органичным. Она была к этому подготовлена высокой общей и правовой культурой и врожденным, инстинктивным стремлением всегда активно выступать в защиту незаконно обиженных. Надо сказать, что до марта 1953 г. я не слышала от мамы прямых возмущений репрессиями 1937 г., хотя статья 58–10 в семье, конечно, упоминалась. Воспитание нашего с двоюродной сестрой мировоззрения шло в основном через литературу. В доме было довольно много книг, «не выдававшихся» в библиотеках. Мама водила нас на концерты Вертинского, поклонницей которого была еще до его эмиграции. И дома напевала нам то, что в конце 40-х он в Москве не пел:
И никто не додумался просто стать на колени И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране Даже светлые подвиги — это только ступени В бесконечные пропасти, к недоступной весне…Эту песню, написанную Вертинским на гибель юнкеров, она очень любила и знала целиком.
С 1945 г. на наших детских праздниках регулярно стал бывать Зоря (Исидор Абрамович) Грингольц — сын Ланны Александровны, маминой близкой приятельницы еще по юридической консультации ВЦСПС, и его друзья — Коля Шебалин и Женя Альперович. Очень образованные юноши, на несколько лет старше нас с Риммой, они имели прекрасные домашние библиотеки, много читали и сами писали «аполитичные» стихи — лирические, юмористические, философские. Мы под руководством мамы перепечатывали эти стихи на машинке, переплетали в нескольких экземплярах. Это было наше первое освоение техники «самиздата». Так же перепечатывали и стихи Гумилева, Цветаевой, Саши Черного, Пастернака. Перед прекращением «дела о взятке» в апреле 1961 г. на улице Воровского был повторный обыск, уже в присутствии мамы. Она почувствовала себя не очень уютно, когда следователь стал рассматривать эти самодельные книжечки стихов, а потом вытащил из бельевого шкафа машинописный том Бунина (в книжный шкаф он не помещался по габаритам) и спросил: «А это что?» — «Да не помню. Кажется, Куприн», — небрежно бросила мама. И с каким облегчением вздохнула, когда книжка была откинута в строну — это, к счастью, было другое ведомство, и следователь искал драгоценности, а не «самиздат».
Никогда в доме не было одобрения «официоза», и в нас мама старалась воспитать уважительное отношение к человеку и общечеловеческим ценностям, которые растаптывались в нашей стране. Мама осуждала ждановское постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград» (она очень любила и Ахматову и Зощенко), и мы возмущались (в пределах своей комнаты, конечно) постановлением об опере Мурадели (благодаря Коле Шебалину мы хорошо знали музыку Шостаковича и Прокофьева, Мясковского, Шапорина, Шебалина, и она нам нравилась) и уже многое понимали во время разгромной сессии ВАСХНИЛ в 1948 г. Однако в девятом классе под влиянием руководителя туристского кружка я вступила в комсомол. Мама никак не реагировала. Прямых вопросов о справедливости нашего строя и честности наших вождей я ей не задавала, только косвенные, и она как-то умела, не уходя от разговора, не ставить точек над i, хотя ее мировоззрение к этому времени, конечно, сложилось уже полностью. Когда в 1950-х гг. (я уже училась в университете) началась борьба с ППЗ (преклонением перед Западом), дома рассказывались довольно безобидные анекдоты про «профессора Однокамушкина» (Эйнштейна) и о законе сохранения («сколько у Ломоносова прибудет, столько у Лавуазье убудет»), но к «борьбе с космополитизмом» отношение было серьезное. Мама говорила нам, чту она думает о «несчастном случае» с Михоэлсом (она любила этого актера и водила нас на его концерты). Письмо вождя «Саниной и Венжеру» (предложившим расформировать МТС и продать тракторы колхозам и совхозам) она обсуждала со мной вполне откровенно, особенно после того, как А. С. Санину, нашего лучшего лектора по политэкономии капитализма, изгнали из МГУ. О сфабрикованности «дела врачей» мама при нас горячо говорила со своей невесткой Татьяной Борисовной Мальцман.
И смерть вождя, и арест Берии, и доклад Хрущева на ХХ съезде в семье встретили с облегчением и надеждами. До открытых протестов было еще очень далеко, но дом начал потихоньку наполняться «самиздатом». Помню толстые машинописные тома романа Хемингуэя «По ком звонит колокол», опущенные в советском издании главы из «Хулио Хуренито» Эренбурга; потом появился Артур Лондон, Авторханов, Джилас. Не знаю, обсуждала ли Софья Васильевна со своими знакомыми (а в круг ее общения в те годы входили почти исключительно адвокаты, родственники, мои и Риммины друзья) удушение венгерской «контрреволюции», арест Овалова, Орлова и Щедрина, кровавое подавление Новочеркасской забастовки, шельмование Бориса Пастернака, дело Бродского, но дома эти темы звучали постоянно. В 1964 г. в доме появился и «тамиздат»: из командировки в ФРГ я привезла маме в подарок «Доктора Живаго».
В 1962 г. я развелась с мужем и переехала с двумя сыновьями к маме. В этом же году Зиновия Федоровна, которой уже шел восемьдесят шестой год, сломала ногу, тяжело заболела и вскоре умерла. Жили мы очень тесно, письменный стол Софьи Васильевны, который впервые в жизни появился у нее после моего переезда к мужу, был отдан внукам. Затем возникли проблемы с моим младшим сыном Димой, врачи настаивали, чтобы мы поместили его в стационар, утверждали, что он не сможет учиться в обычной школе. Я уже купила кооперативную квартиру, когда при очередном обследовании Софья Васильевна отказалась оставить его в больнице, объяснив, что обещала забрать его к себе домой и не может нарушить обещание, — иначе он никогда не будет ей верить. Сын жил с ней, с трудом учился, плохо контактируя и с учителями, и с одноклассниками. Пришлось нанять гувернера (целевого аспиранта, которому Софья Васильевна еще и редактировала статьи по психологии!). Понимая, какая нагрузка для учителей такой ребенок, она приложила максимум усилий, чтобы создать для него и в классе, и в школе доброжелательную обстановку, организовывала помощь ребятам из неблагополучных семей, обеспечивала юридическими консультациями весь педагогический коллектив, устраивала вечера и праздники для школьников, приглашала к себе домой одноклассников внука и играла с ними. В течение четырех лет, до переезда сына ко мне, она читала ученикам лекции по праву. Мне посчастливилось присутствовать на одной такой лекции-уроке. Слушали ее ребята, затаив дыхание. Она начала с вопроса: «Как вы считаете, драться можно или нет?» Ребята замялись, какой-то паинька поднял руку: «Нет, нельзя». «Можно, — сказала Софья Васильевна. — А иногда даже необходимо, но надо знать, с кем можно драться, из-за чего, где и как». После этого ребятам был преподан урок благородства, честности, мужества и отваги. Говорилось не только о том, что нельзя бить девочек, маленьких, впятером одного и т. д., не только о том, в каких случаях (когда нет другого выхода), необходимо применить силу, но и о «технике» драки (не бить ниже пояса, не бить лежачего, никогда не идти на драку с ножом и т. д.). И все это с живыми примерами, с разъяснениями, с какого возраста и за что подросток несет уголовную ответственность…
Софья Васильевна победила — окончил Дима и школу, и университет, и диссертацию защитил, и четырех правнуков ей подарил.
Конечно, помогло и то, что в 91-й школе были прекрасные учителя. Особенно теплые отношения связывали Софью Васильевну с Александрой Александровной Кирюшкиной и Татьяной Григорьевной Пильщиковой. В школьной библиотеке подрабатывал старый интеллигентный переплетчик, и Софья Васильевна купила у него оснастку для внука — старинный пресс, резак. Дима с увлечением начал переплетать весь «самиздат», появлявшийся (и частично перепечатывавшийся) в доме после 1967 г. уже сплошным потоком: Булгаков, Замятин, Набоков, Кестлер, Евгения Гинзбург, Надежда Мандельштам, Солженицын, Максимов.
Политические процессы
Детонатором взрыва демократического движения 60-70-х гг. послужили арест Даниэля и Синявского осенью 1965 г. и дикая газетная кампания, сопровождавшая позорное судилище над ними в феврале 1966 г. Арест писателей вызвал невиданное с 20-х гг. событие — политическую демонстрацию на Пушкинской площади 5 декабря 1965 г. Друзья Синявского и Даниэля просили Софью Васильевну принять участие в защите обвиняемых, но у нее не было «допуска» к ведению дел по 70-й статье, по которой их судили. Глубокое впечатление произвело на нее то, что впервые в советском политическом процессе обвиняемые не признали себя виновными. И с какой горечью говорила она об их защитниках, которые, нарушая адвокатскую этику, не решились ставить вопрос об оправдании и лишь просили о смягчении наказания.
Арест Даниэля и Синявского вызвал цепную реакцию: судят Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашкову, составивших и передавших на Запад Белую книгу в их защиту; затем судят Кузнецова и Бурмистровича за распространение произведений Даниэля и Синявского; затем Хаустова, Буковского, Кушева, Габая и демонстрации против процесса над Гинзбургом; потом Григоренко — за протест против судов над Хаустовым и Буковским (конечно, Григоренко судят не только за это); потом Борисова — за протест против заключения в спецпсихбольницу Григоренко и т. д. Одновременно потянулся и длинный ряд внесудебных репрессий — исключения из партии, комсомола, увольнения с работы людей, подписавших коллективные письма в ЦК КПСС в защиту арестованных по политическим мотивам и с протестами против ресталинизации. Вскоре власти сочли неудобным применять одиозную 70-ю (бывшую 58-ю) статью для обвинения всех участников нараставшего движения, действующих открыто, и вышел Указ о введении в УК РСФСР статей 190-1 190-3, более либеральных, для ведения дел по которым у адвокатов поначалу не требовали «допуска».
Первым политическим делом Софьи Васильевны было дело рабочего Виктора Хаустова, обвинявшегося в организации 22 января 1967 г. на площади Пушкина демонстрации протеста против ареста Гинзбурга и в злостном хулиганстве. Приговором от 16 февраля 1967 г. он был осужден на три года по статье 190-3 и на два года по статье 206 с отбыванием заключения в колонии строгого режима. В своей защитительной речи Софья Васильевна настаивала на оправдании Хаустова по статье 190-3 (убедительно доказывая, что время и место демонстрации специально были выбраны так, что общественный порядок и работа транспорта не нарушались), а также требовала переквалификации ст. 206 (неповиновение властям) на ст. 191-1 (сопротивление дружиннику) и применения наказания, не связанного с лишением свободы. Верховный суд РСФСР частично прислушался к ее аргументам: статья 206 была заменена, и хотя срок остался прежним — три года, но уже в колонии общего режима. По тем временам это была победа. Позиция Софьи Васильевны и ее защита произвели большое впечатление на друзей Хаустова: они нашли своего защитника. Это был первый случай за многие годы советской власти, когда адвокат имел мужество по политическому делу, не оспаривая самого факта действия, оспаривать его уголовную наказуемость и требовать оправдательного приговора. Кстати, Софья Васильевна, единственная из адвокатов, направила в Президиум МГКА протест против исключения из коллегии Б. А. Золотухина, который, год спустя, требовал оправдательного приговора для Гинзбурга.
Во время процесса по делу Хаустова Софья Васильевна познакомилась и подружилась с Петром Григоренко, Владимиром Буковским, Валерием Чалидзе, Павлом Литвиновым, Ларисой Богораз. Вскоре она стала своим человеком в кругу таких беззаветных правозащитников, как А. Д. Сахаров и Е. Г. Боннэр, Ю. Ф. Орлов, Александр Гинзбург, Татьяна Великанова, Людмила Алексеева, Андрей Твердохлебов, Григорий Подъяпольский, Анатолий Якобсон, Сергей Ковалев, Наум Мейман, Виктор Некипелов, Евгения Печуро, Мальва Ланда, Раиса Лерт, Александр Лавут, Илья Бурмистрович, — всех перечислить здесь невозможно.
Жизнь мамы сильно изменилась. Хотя младший внук оставался с ней и хлопот с ним было много, но все-таки после моего отселения ей стало легче: впервые в жизни у нее появилась отдельная комната, которая по вечерам стала наполняться новыми друзьями. До этого она практически все свободное время отдавала мне и внукам, в доме всегда были мои друзья и лишь изредка приходили ее знакомые — в основном коллеги — поиграть в преферанс. Надо сказать, что мама была азартным игроком и карточных игр знала много, но позволить себе это маленькое удовольствие могла только тогда, когда я с детьми по воскресеньям или на школьных каникулах уезжала в походы. После процесса Хаустова ей уже стало не до преферанса — аресты продолжались, и теперь к ней обращались не просто попавшие в беду люди, а друзья и единомышленники. Дело не ограничивалось юридическими советами, были и споры, и песни, и стихи — это было общение близких по духу людей. С этой поры начали праздноваться на Воровского дни рождения уже не детей и внуков, а самой Софьи Васильевны, и набивалось в этот день в ее комнату человек по пятьдесят.
Родные — Наталья Васильевна, Федор Васильевич, Римма — очень боялись за маму, иногда пытались отговаривать ее от этой дружбы. И хотя они все как и раньше заботились друг о друге, прежней откровенности у нее с родственниками не стало, и в дни рождений они к ней не приходили. Рассказывала она о своих новых друзьях и их борьбе только мне, уже подросшим внукам и моему второму мужу, с которым у нее установились редкостные по искренности, взаимопониманию и взаимоуважению отношения. Перестали бывать у нее и многие адвокаты, раньше заходившие «на огонек» по дороге из консультации.
Летом 1968 г. Софья Васильевна по просьбе П. Г. Григоренко вместе с еще тремя московскими адвокатами (Л. М. Поповым, Ю. Б. Поздеевым и В. Б. Роммом) выезжает в Ташкент для защиты группы активистов крымскотатарского движения: Ахмета Малаева, Ибраима Абибуллаева, Энвера Абдулгазиева, Редвана Сеферова, Идриса Закерьяева, Халила Салетдинова и Эшрефа Ахтемова. Они обвинялись в проведении митингов в городе Чирчике, распространении документов, содержащих «заведомо ложные измышления», в сборе денежных средств для «различных незаконных действий». Это было начало резкого усиления репрессий против крымских татар, которые после выхода Указа Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 г., снявшего с них обвинение в предательстве, активизировали борьбу за возвращение на родину. Дело было сфабриковано не очень тщательно. Московские адвокаты в судебном заседании камня на камне не оставили от обвинительного заключения, составленного печально известным следователем по особо важным делам при прокуроре Узбекской ССР Б. И. Березовским.
В досье Софьи Васильевны сохранилась запись: «Основная позиция по делу: «Мероприятия» или «движение» крымско-татарского народа за возвращение в Крым носят массовый характер. Обращения с письмами, заявлениями, просьбами в правительственные и партийные органы, направление в эти органы делегаций и отдельных представителей осуществляются в рамках конституционных прав и не могут быть признаны преступными. Для признания Абибуллаева, Ахтемова, Абдулгазиева и других виновными в совершении уголовного преступления надо установить их конкретную индивидуальную вину, доказать, что ими совершены действия, прямо предусмотренные Уголовным кодексом. Таких доказательств нет, таких уголовно наказуемых действий Абибуллаев, Ахтемов, Абдулгазиев не совершили. Поэтому дело надо прекратить за отсутствием состава преступления».
Дружная позиция высокопрофессиональной защиты привела к необычайно мягкому приговору — все обвиняемые получили или очень небольшие сроки или условное наказание и были отпущены из-под стражи в зале суда. Судья Сергеев за этот слишком мягкий приговор был уволен с работы. Софья Васильевна подала кассационную жалобу, добиваясь полного оправдания, но этого уже, конечно, не произошло.
В октябре 1968 г. Софья Васильевна вместе с Д. И. Каминской, Ю. Б. Поздеевым и Н. А. Монаховым участвует в процессе по делу о демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 г., когда семь человек — лингвист Константин Бабицкий, филолог Лариса Богораз, поэтесса Наталья Горбаневская, поэт Вадим Делоне, рабочий Владимир Дремлюга, физик Павел Литвинов и искусствовед Виктор Файнберг — в двенадцать часов дня сели на парапет у Лобного места и одновременно развернули плакаты: «За нашу и вашу свободу», «Руки прочь от ЧССР», «Позор оккупантам», «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия». В ту же минуту раздались свистки (в ГБ знали об их намерении!), на них налетели люди в штатском, вырвали плакаты, избили и арестовали.
Софья Васильевна защищала Вадима Делоне. Она сделала подробнейшую запись всего судебного заседания, четко сформулировала позицию, которой придерживалась и при последующих защитах по статьям 190-1 и 190-3 и которую тщетно пыталась довести до понимания судей: в законе не предусмотрена уголовная ответственность за убеждения, но только за преступные действия, прямо предусмотренные уголовным законом и при наличии обязательных признаков. Такая безупречная правовая позиция давала возможность, не вступая с судом в споры по существу правдивости или ложности высказываний подзащитных, настаивать на их оправдании.
Кроме того, Софья Васильевна, как всегда, вела кропотливую работу и в период следствия, и на суде. Она организует литературную экспертизу стихов Вадима, заявляет ряд ходатайств. При перекрестном допросе в судебном заседании она доказывает суду, что пять «свидетелей» обвинения (каждый из которых утверждал, что оказался на Красной площади случайно и с остальными не знаком) служат в одной и той же воинской части — 1164. Защищала его Софья Васильевна, не просто выполняя профессиональный долг. С каким восхищением этими людьми, «вышедшими на площадь» (семь человек из трехсот миллионов!), она рассказывала мне о процессе, о том, как они держались на суде. Как Татьяна Великанова, мать троих детей, на вопрос, почему она, зная, куда идет ее муж, Константин Бабицкий, не удерживала его, ответила: «Я считала это непорядочным». О том, с каким достоинством Вадим сказал в своем последнем слове: «Я призываю суд не к снисхождению, а к сдержанности».
Все адвокаты требовали оправдания обвиняемых. Но приговор был предрешен заранее. Делоне получил срок 2 года и 10 месяцев.
Когда в конце лета 1971 г., на следующий день после возвращения из Тюменского лагеря, Вадим пришел к Софье Васильевне, наголо остриженный, с погрубевшим лицом, с какой-то сбивчивой речью, пересыпаемой лагерным жаргоном, как он был не похож на того восторженного мальчика, которого я видела на Воровского весной 1968 г. с Ирой Белогородской (они только что поженились и были удивительно красивы — какими бывают лишь влюбленные). Тогда он рассказывал о преследованиях Толи Марченко, одновременно помогая нам простегивать детский спальный мешок из верблюжьей шерсти (привезенной еще в 1939 г. из Монголии Натальей Васильевной и десятки лет прослужившей, будучи набитой в наволочку, подушкой для мамы).
Большинство маминых друзей, попавших в лагеря в более зрелом возрасте, возвращались такими же, как и были. Но в Вадиме, арестованном в девятнадцать лет, что-то надорвалось; это, наверное, и привело его к самоубийству во Франции, куда он вынужден был эмигрировать вскоре после освобождения.
При выходе адвокатов из здания суда их встретили с цветами друзья осужденных. Как рассказывал Юлий Ким, очень красивые цветы были куплены заранее и лежали в машине у входа в суд. Когда же пошли за ними, то оказалось, что машина кем-то вскрыта и цветов нет. Срочно «скинулись», успели съездить на рынок и купить новые. Через несколько дней большая компания (в том числе Петр Якир с женой и дочерью Ирой, Виктор Красин) пришла к нам на улицу Удальцова, где была в тот вечер Софья Васильевна. И Юлик Ким прямо с порога объявил: «Адвокатский вальс, посвященный защитникам демонстрантов, — только что сочинил». «Ой, правое русское слово, луч света в кромешной ночи…». Его просили повторить, и он пел «вальс» снова. Потом пел другие песни — знаменитую «Погоню», «Мороз трещал, как пулемет» — и вдруг сказал: «А можно я еще раз «вальс» спою, уж очень хорошо у меня получилось»…
Кассационные жалобы адвокатов, рассматривавшиеся в конце ноября в Верховном суде РСФСР, конечно, не были удовлетворены. Через двадцать лет, летом 1989 г. Николай Андреевич Монахов, защищавший в том процессе Владимира Дремлюгу, подал Генеральному прокурору СССР надзорную жалобу на приговор. 19 сентября 1990 г. он принес на улицу Воровского, где по традиции в день рождения Софьи Васильевны, уже без нее, собрались ее друзья, только что полученный им ответ (отправленный из прокуратуры лишь спустя три месяца после вынесения постановления):
«По протесту Прокуратуры РСФСР приговор Московского городского суда от 11 октября 1968 года по делу Богораз-Брухман, Делоне, Дремлюги, Бабицкого, Литвинова постановлением Президиума Верховного суда СССР от 6 июня 1990 года отменен, а дело в отношении всех подсудимых прекращено за отсутствием состава преступления.
Прокурор Управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности, ст. советник юстиции А. Н. Пахмутов. 19 июня 1990 года».
Это решение лишь подтвердило то, что всегда утверждала Софья Васильевна: «Все правозащитники 60-80-х гг. были осуждены незаконно».
В конце октября 1968 г. Софья Васильевна второй раз едет в Ташкент вместе с адвокатами Ю. А. Сарри и Л. М. Поповым участвовать в процессе над пятью активистами крымско-татарского движения — Идрисом Касимовым, Шевкетом Сейтаблаевым, Люманом Умаровым, Леннарой Гусейновой и Юсуфом Расиновым. Обвинение стандартное — «распространение заведомо ложных измышлений» по статье 194-1 УК УзССР (аналог статьи 190-1 УК РСФСР). На этот раз следователем был Ю. А. Воробьев, тот самый, который потом вел следствие по делу самой Каллистратовой.
Софья Васильевна, как всегда, делает подробную запись судебного заседания, и уже 31 октября информация о процессе появляется в «Хронике текущих событий». В адвокатском досье есть дословная запись показаний одного из подсудимых о том, почему он подписал обращение к деятелям культуры: «У меня до сих пор перед глазами тот день, когда нас высылали. Отец был на фронте. Мы только что получили извещение о его гибели. Нас было шесть братьев и одна сестра, мне, старшему, одиннадцать лет. Полураздетыми, без вещей нас запихали в грузовик, сестренка была в одном чулочке… Через год в живых я остался один. Вот этими руками я вырыл шесть могил в песке…» А затем, в том же досье цитата, определяющая позицию защиты: «Критика отдельных мероприятий, действий отдельных представителей власти не порочит строй, а укрепляет строй (ст. 125 Конституции СССР)». Приговор, как и на предыдущем Ташкентском процессе, был достаточно мягким, подзащитные Софьи Васильевны И. Касимов и Ш. Сейтаблаев были приговорены к одному году лишения свободы и освобождены в зале суда.
В начале января 1969 г. Софья Васильевна выезжает в Гулистан, где на активиста крымско-татарского движения С. Сейтмерова было заведено уголовное дело по обвинению в хулиганстве, угрозе убийства, мошенничестве при сборе денег. При допросе свидетелей в судебном заседании Софье Васильевне удается доказать несостоятельность улик, доказать алиби подзащитного. Обвинение рассыпается, судья вынужден отправить дело на доследование, в ходе которого дело прекращают. Листая толстое досье по этому делу, с подробными записями показаний двенадцати свидетелей, планом расположения домов на улице, где происходила драка, производственными характеристиками обвиняемого, я нашла свою телеграмму в Гулистан: «Доехали хорошо, все здоровы, работай спокойно, крепко целую. Марго». И вспомнила, что перед отъездом мама беспокоилась не о том, как опять полетит в Узбекистан (хотя она себя очень плохо чувствовала — обострилась язва желудка), а о том, как я с сыновьями Димой и Сережей поеду в Карпаты на школьные каникулы кататься на лыжах.
Участники крымско-татарского движения снова обращаются к ней за защитой, когда в Узбекистане организуют еще один (самый крупный) процесс по делу десяти активистов. В мае 1969 г. она вылетает в Ташкент вместе с Н. А. Монаховым и молодым адвокатом Н. С. Сафоновым. Но дело откладывают. В начале июля к Софье Васильевне обращаются с просьбой о выезде в Крым для защиты татар, вернувшихся после Указа от 5 сентября 1967 г. на родину и обвинявшихся в нарушении паспортного режима. Но она больна, и вместо нее в Крым едет Сафонов, а в Ташкент, где почти одновременно начинает слушаться «дело десяти», вместо нее отправляется В. А. Заславский. И тут же приходит из Латвии извещение об окончании следствия по делу И. А. Яхимовича, защищать которого она согласилась еще весной по просьбе П. Г. Григоренко.
Преодолевая недомогание, Софья Васильевна 4 июля едет в Ригу. И. А. Яхимович, выпускник Латвийского университета, филолог, преподаватель (партийный активист!), работавший последние восемь лет перед арестом председателем колхоза «Яуна гварде» (и вытащивший этот колхоз из отстающих во вполне благополучные), обвинялся по статье 190-прим в распространении письма П. М. Литвинова и Л. И. Богораз «К мировой общественности» (по поводу суда над А. Гинзбургом и другими) и в составлении двух «клеветнических» писем в ЦК КПСС. В деле — заключения двух психиатрических экспертиз: первой амбулаторной, поставившей диагноз «шизофрения, параноидный синдром», и последующей стационарной: «паранояльное развитие психопатической личности… Следует считать невменяемым. Нуждается в прохождении принудительного лечения в больнице специального режима».
Софья Васильевна заявляет ходатайства: во-первых, о приобщении к делу материалов, положительно характеризующих подзащитного, характеристик из районных, советских и партийных организаций, почетных грамот, статей И. Яхимовича в местной печати; во-вторых — о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы; в-третьих — о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления. В этом ходатайстве она пишет:
«Ст.190-1 (183-1 УК ЛатвССР) в своей диспозиции содержит такой необходимый признак, как заведомая ложность измышлений. Другими словами, закон устанавливает уголовную ответственность для лиц, которые субъективно сознают ложность распространяемой ими информации и умышленно эту заведомо ложную информацию распространяют. С другой стороны, из текста закона вытекает, что в уголовном порядке (по ст.190-1) карается не всякая заведомо ложная информация, а лишь порочащая советский государственный и общественный строй. Защита имеет основания утверждать, что ни одного из этих двух признаков в деяниях, вменявшихся Яхимовичу по постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, нет, так как:
а) Во всех трех документах, перечисленных в указанном постановлении содержится не изложение каких-либо сведений о фактах, а изложение оценочных суждений о фактах. Такие оценочные суждения, основанные на внутреннем убеждении человека, могут быть объективно правильными или неправильными, полезными или вредными, но не могут быть субъективно для данного человека заведомо ложными. В силу этого, если такие оценочные суждения являются ошибочными, неправильными, вредными, общественно опасными, то их распространение может и должно влечь за собой самое суровое общественное осуждение с применением всех мер общественного воздействия. Но в уголовном порядке распространение таких суждений преследоваться не может, так как отсутствует субъективная сторона преступления.
б) Понятие советского государственного и общественного строя достаточно четко определено в Конституции СССР. Во всех трех документах, распространение которых вменяется Яхимовичу по упомянутому постановлению, высказываются суждения об отдельных учреждениях и должностных лицах, об отдельных актах правительства, а не о советском государственном строе, который для Яхимовича, как видно из всех его высказываний и показаний, священен и неприкосновенен.
Таким образом, и в этой части отсутствует необходимый элемент состава преступления, и речь может идти лишь о мерах общественного воздействия, а не об уголовной ответственности».
Обоснование ходатайства о судебно-психиатрической экспертизе потребовало от Софьи Васильевны большой дополнительной работы. К лету 1969 г. «репрессивная психиатрия» стала привычным инструментом в руках власть предержащих (достаточно напомнить заключения в «психушки» в 60-е гг. В. Буковского, П. Г. Григоренко, А. Есенина-Вольпина, Н. Горбаневской, В. Тарсиса, В. Кузнецова). Но Софья Васильевна до сих пор имела дело с судебной психиатрией лишь по уголовным делам (в которых заключения о психическом заболевании служили обычно гуманным целям). Понимая, что оспаривание выводов экспертизы требует высокого уровня компетентности, она тщательно изучает и классическую и новейшую литературу по психиатрии, делает выписки из постановлений Пленумов Верховного суда о порядке рассмотрения дел, экспертизы по которым противоречивы, консультируется у нескольких психиатров Следователь удовлетворил лишь одно ходатайство Софьи Васильевны — о приобщении к делу восьми документов по представленному ею списку. 27 августа начинается суд. В начале процесса Софья Васильевна заявляет еще шесть ходатайств, в том числе о вызове экспертов и о доставке «невменяемого» подсудимого в судебное заседание. Суд удовлетворяет эти ходатайства. (В информации Софьи Васильевны в «Хронике текущих событий» отмечено: «Председательствующий на процессе судья Лотко провел все двухдневное заседание с полным соблюдением процессуальных норм и уважением права на защиту. На суде Иван Яхимович вызвал симпатии всех присутствующих, не исключая прокурора и конвойных солдат».) Софье Васильевне удается убедить суд в необходимости повторной стационарной экспертизы, — дело откладывается.
Софья Васильевна всегда стремилась использовать судебную трибуну, чтобы донести до людей правду, ее правовая позиция всегда отличалась принципиальностью. Но при этом, как истинный защитник, она прежде всего заботилась о судьбе своих подзащитных и не только не подталкивала их к декларации своих убеждений во время суда, но, наоборот, старалась удержать их от этого. В этом отношении характерно письмо, которое она в марте 1970 г., будучи в больнице, написала Яхимовичу накануне повторного слушания его дела:
«Иван Антонович! Адвокату, который придет к Вам с этим письмом, Вы можете доверить свою судьбу (так же, как и мне), то есть можете быть уверенным в том, что все, что можно с правовой стороны сделать по делу, — будет сделано квалифицированно и в соответствии с Вашей позицией.
Очень рекомендую Вам, независимо от того, что Вы не признаете себя ни виновным, ни невменяемым, — устно (если Вас доставят в суд) или письменно (то есть заявлением на имя суда, отправленным через администрацию следственного изолятора) сообщить суду следующее (примерно):
«Считаю себя здоровым. Не имел умысла клеветать на наш государственный и общественный строй. Но, если суд решит эти основные вопросы иначе, то прошу передать меня на попечение моей жены, так как, считая себя обязанным работать (хотя бы и кочегаром) и содержать своих трех дочерей, я даю слово, что не буду писать и распространять никаких писем и статей политического, экономического и философского содержания.
Я трудоспособен, физически здоров, и содержать меня в больнице явно нет оснований».
При этом я очень рекомендую Вам (ни устно, ни письменно) не развивать и не высказывать своих убеждений. Ни пафоса, ни патетики, ни даже эрудиции — в данной ситуации, ей-Богу, не требуется. Желаю Вам всего доброго. Жму руку.
С. Каллистратова».
Дело Яхимовича закончилось лучше, чем можно было ожидать. Экспертиза в Институте им. Сербского хотя и признала его невменяемым, но с оговоркой, что принудительное лечение может быть проведено в больнице общего типа. В определении Верховного суда ЛатвССР эта формулировка была повторена, и, проведя некоторое время в рижской республиканской психиатрической больнице, Яхимович был выписан оттуда под расписку жены.
Софья Васильевна продолжает вести и «обыкновенные» уголовные дела, но смыслом ее жизни становится юридическая помощь диссидентам, гражданскую позицию которых она полностью разделяет. А обыски и аресты продолжаются: в феврале 1969 г. арестовали Илью Габая и Мустафу Джемелева, в мае в Ташкенте арестовывают П. Г. Григоренко, в декабре — Н. Горбаневскую — издателя «Хроники текущих событий». В мае 1969 г. пятнадцать человек (многие из которых Татьяна Великанова, Наталья Горбаневская, Сергей Ковалев, Александр Лавут, Григорий Подъяпольский, Татьяна Ходорович, Анатолий Якобсон, — так же, как и члены их семей, стали к этому времени уже близкими друзьями Софьи Васильевны) создают «Инициативную группу защиты прав человека в СССР». Группа направляет открытое письмо в ООН о судебных преследованиях борцов за права человека, об использовании психиатрии в репрессивных целях. Софья Васильевна участвует в составлении письма, но вступить в группу отказывается, понимая, что подпись под таким письмом будет означать для нее конец адвокатской деятельности. Она считает, что не имеет на это права, так как в качестве адвоката она в данный момент принесет больше пользы правозащитному движению. Это решение далось ей нелегко. Помню, как она, словно оправдываясь перед собой, делилась со мной своими сомнениями: «Конечно, все приговоры предрешены, но все-таки кто-то должен их защищать? Уже то, что я в тюрьму на свидание могу пойти, о близких им рассказать, о всех новостях, получить информацию об их здоровье, о ходе следствия — ведь это так необходимо!» Впоследствии, исходя из тех же мотивов, Софья Васильевна использовала все свое влияние и красноречие для того, чтобы убедить Александра Викторовича Недоступа, врача, лечившего и буквально спасавшего в своей клинике диссидентов, не подписывать правозащитные письма.
В конце декабря 1969 г. она вылетела в Ташкент участвовать в окончании следствия по делу разжалованного генерала Григоренко. «Дело» содержало более 6000 страниц! С Петром Григорьевичем и его семьей Софью Васильевну связывали очень близкие отношения. Она вспоминала, как, увидев ее на свидании, Петр Григорьевич (уже более полугода не имевший никаких сведений «с воли») на глазах у обомлевших и не сразу спохватившихся конвоиров бросился обнимать ее. Софья Васильевна понимала, что просто осудить его по статье 190-1 властям недостаточно, что они постараются упрятать его подальше — в спецпсихбольницу, без срока, без возможности общения, с принудительным «лечением» убийственными дозами лекарств, подавляющих всякую волю к сопротивлению. И она тщательно готовилась к его защите — читала и перечитывала литературу по психиатрии, консультировалась с Ю. Л. Фрейдиным, наводила справки о возможных кандидатурах (для участия в повторной экспертизе) психиатров, сохранивших врачебную честь и достоинство. В Ташкенте она подает следователю Березовскому, стиль и методы работы которого ей уже хорошо известны, обстоятельное ходатайство на пятнадцати листах — требуя направления дела для окончания следствия в Москву (где проживали почти все из ста свидетелей по делу и где были изъяты все инкриминируемые Григоренко «клеветнические» документы), привлечения дополнительных материалов, изъятия из дела многих материалов, не имеющих никакого отношения к Григоренко. Главную часть ходатайства занимает мотивированное требование проведения новой судебно-психиатрической экспертизы (так как выводы двух имеющихся экспертиз противоречат друг другу) с включением в число экспертов главного психиатра Советской Армии Н. Н. Тимофеева, профессоров Э. Я. Штеренберга и Л. П. Рахлина. Но Березовский ходатайство отклоняет.
[Н.Н. Мейман, С. В. Каллистратова, П.Г. и З. М. Григоренко, Н. А. Великанова, о. Сергей Желудков, А. Д. Сахаров; на переднем плане Г. О. Алтунян, А. П. Подрабинек]
В начале февраля 1970 г. Софья Васильевна приехала на суд и в судебном заседании узнала, что уже после завершения ею защиты в предварительном следствии по ст. 190-1 УК РСФСР следователь вынес постановление о привлечении Григоренко к ответственности кроме того еще и по 70-й статье! Это было беспрецедентно. Софья Васильевна говорила, что следователь Березовский, а затем и судья Ташкентского горсуда Романова нарушили все процессуальные нормы, какие только можно было нарушить. Но к защите Софью Васильевну все-таки допускают, взяв подписку о неразглашении материалов дела. Все ходатайства защиты в судебном заседании также были отклонены, адвокату даже не разрешили свидания с заключенным. Единственное, что судья по ходатайству адвоката вынуждена была сделать, — вызвать в суд экспертов, давших взаимоисключающие заключения о вменяемости Григоренко. Из-за этого суд отложили.
27 февраля Софья Васильевна снова прилетела в Ташкент. Но и повторное слушание (на котором профессор Детенгоф, давший ранее заключение о том, что «П. Г. Григоренко признаков психического заболевания не проявляет», вдруг полностью соглашается с диагнозом Морозова и Лунца) было похоже на спектакль. Дело, состоящее из двадцати одного тома, было заслушано за два дня. Доставить Григоренко в суд судья отказалась. В зал заседаний никого не пустили. Определение суда — в спецпсихбольницу — было предрешено заранее. Защитительную речь Софьи Васильевны никто не слушал. «Я выступала перед пустыми стульями», — рассказывала она.
Мать тяжело переживала полную невозможность добиться хоть какого-то соблюдения законности, зная, что ее жалоба в Верховный суд будет отклонена. И она сделала единственное, что могла, — все материалы судебно-медицинских экспертиз и ответы эксперта на ее вопросы в судебном заседании, прокомментированные ею с участием Ю. Л. Фрейдина, передала в надежные руки для того, чтобы Петра Григорьевича могли защищать другими способами.
Благодаря бесстрашному двадцатипятилетнему киевскому психиатру С. Ф. Глузману, проведшему на основании этих материалов и работ самого Григоренко заочную экспертизу и передавшему через Виктора Некрасова свое заключение Андрею Дмитриевичу Сахарову, всему миру стали известны подробности того, как здорового человека объявили сумасшедшим… Копию своей жалобы Софья Васильевна также приносит Сахарову, и на ее основе в мае 1970 г. они составляют жалобу в порядке надзора на имя Генерального прокурора Руденко за подписью М. А. Леонтовича, А. Д. Сахарова, В. Ф. Турчина и В. Н. Чалидзе. Эта жалоба также была широко распространена в «самиздате» и за рубежом. В ней были обнародованы все процессуальные нарушения, допущенные следствием и судом. Очевидно, что без бурной реакции на Западе Петру Григорьевичу пришлось бы оставаться в психбольнице до 1986 г. Думаю, что источник этой информации было легко обнаружить, сравнив ее текст с текстом жалобы Софьи Васильевны (копия последней и поныне хранится в 1-м отделе Президиума МГКА, но получить ее оттуда мне не удалось), да Бог миловал…
В июле 1970 г. началось слушание дела Горбаневской, которое пустили по накатанной схеме: заключение Лунца о ее невменяемости (при наличии уже одной экспертизы, признавшей Наташу здоровой), многочисленные процессуальные нарушения (так, в обвинительном заключении вообще не было конкретизировано, в чем обвиняется Горбаневская, а лишь была приведена формулировка статьи 190-1 «изготовление и распространение заведомо ложной» и т. д.), отказ доставить обвиняемую в судебное заседание, отклонение всех ходатайств адвоката и т. п.
Софья Васильевна сражается в суде с экспертом Лунцем (который заявляет, что для ответа на письменные вопросы защиты ему требуется целый рабочий день, а потом, под нажимом судьи, составляет эти ответы в совершенно общей форме за час), подробно рассматривает все находящиеся в деле документы, уличает во лжи свидетелей обвинения, безуспешно пытается доказать талантливость Горбаневской как поэта и переводчика, приобщить к делу восторженный отзыв Арсения Тарковского о переводах Горбаневской, написанный по просьбе Софьи Васильевны и до сих пор хранящийся в ее досье (другие поэты, в том числе Евтушенко, не откликнулись на аналогичную просьбу).
После одиннадцати часов судебного заседания Софья Васильевна просит перенести ее речь на следующий день. Следует отказ (по-видимому, судья имел строгое указание закончить слушание в тот же день). Определение суда такое же, как в Ташкенте, — бессрочная спецпсихбольница. Все, что может сделать Софья Васильевна, — показать Наташе в тюрьме фотографии Ясика и Оси (эти фотографии сыновей Горбаневской тоже сохранились в досье) и отдать все материалы процесса в «Хронику текущих событий», которая продолжает выходить, несмотря на арест Горбаневской.
Софья Васильевна очень плохо себя чувствует, берет отпуск, едет в санаторий, но в сентябре 1970 г. снова готова к борьбе. К этому времени властям уже порядочно надоели адвокаты, требующие оправдания невиновных и мешающие вершить «правосудие». До сих пор (после изгнания из коллегии Б. А. Золотухина летом 1968 г.) адвокатов не трогали, но найти защитников по «политическим» статьям тем не менее было нелегко. Теперь же начинаются репрессии против тех немногих, кто решается на это: в январе 1970 г. суд выносит частное определение в адрес Дины Исааковны Каминской, защищавшей Илью Габая, и Президиум МГКА объявляет ей выговор за то, что она «заняла по делу неправильную позицию, проявила политическую незрелость». Исключают из адвокатуры Н. А. Монахова, заводят персональное дело на Н. С. Сафонова (весной 1971 г. под угрозой исключения он вынужден подать заявление об уходе по собственному желанию). Софья Васильевна, единственная из адвокатов, пытается бороться против исключения Монахова и Сафонова, пишет протесты, выступает на собраниях. Об этих событиях в нашей семье никто не знает, даже я, хотя мама доверяла мне полностью и, например, о том, кто издает «Хронику» после ареста Горбаневской, я знала сразу. Очевидно, она боялась, что родные, беспокоясь за нее, начнут ее уговаривать «завязать».
Но исключать Софью Васильевну, пожалуй, наиболее строптивую из всех «защитников правозащитников», Президиум МГКА не решается, может быть, не желая открытой борьбы с ней на общем собрании (острота и сила ее аргументации были хорошо известны), а может, из опасения широкой огласки на Западе, что было бы неизбежно. Они предпринимают обходный маневр заведующий консультацией просто отказывается выдать ей ордер на очередную защиту по статье 190-1: «А вы на меня пожалуйтесь…» Кому было можно (но совершенно бесполезно) жаловаться, Софья Васильевна знала: «лучшему «другу» диссидентов — Юрию Владимировичу». Я тогда высказывала маме сомнения в том, что персональные судьбы адвокатов рассматриваются лично Ю. В. Андроповым. Только в 1993 г., прочитав публикацию под рубрикой «Рассекречено», я убедилась, что она, как всегда, была права. Вот отрывки из этих документов:
«Совершенно секретно
Ст-102/10с от 17.VII.1970 г.
Выписка из протокола 102 10с Секретариата ЦК
Записка КГБ при Совете Министров СССР от 10 июля 1970 г. 1878-А
Поручить Московскому горкому КПСС рассмотреть вопросы, поставленные в записке КГБ при Совмине СССР.
Секретарь ЦК».И далее сама «записка»:
«Секретно
ЦК КПСС
10 июля 1970 г. 1878-А
Коллегия по уголовным делам Московского городского суда 7 июля 1970 г. рассмотрела дело по обвинению Горбаневской Н. Е., 1936 г. р., до ареста занимавшейся частными переводами, в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190-1 и 191 УК РСФСР <…>
Комитетом госбезопасности через оперативные возможности до общественности Запада доведена оперативно выгодная для нас информация в связи с судебным процессом и происшедшим инцидентом у здания суда.
Одновременно Комитет госбезопасности сообщает о неправильном поведении в судебном процессе адвоката Каллистратовой С. В., которая встала на путь отрицания состава преступления в действиях Горбаневской. Более того, явно клеветнические материалы, порочащие советский государственный и общественный строй, изготовленные подсудимой, Каллистратова в своем выступлении на судебном заседании квалифицировала как «оценочные», выражающие убеждения Горбаневской. Не случайно по окончании процесса Якир, Алексеева и их единомышленники встретили Каллистратову как «героя» с цветами.
Такое поведение адвоката в судебном процессе не является единичным. По имеющимся у нас данным, аналогичные позиции занимает группа московских адвокатов (Каминская Д. И., Монахов Н. А., Поздеев Ю. Б., Ромм В. Б.) <…> Нередко они действуют по прямому сговору с антиобщественными элементами, информируя их о материалах предварительного следствия и совместно вырабатывая линию поведения подсудимых и свидетелей в процессе следствия и суда.
Председатель Комитета госбезопасности Андропов».Вопрос был быстро «рассмотрен»:
«Секретно
ЦК КПСС
на СТ-102/10с
Московским городским комитетом партии проведено совещание руководителей административных органов города, на котором обсуждены задачи и выработаны меры по выполнению Постановления Секретариата ЦК КПСС от 17 июля с.г. <…>
Председателю Президиума коллегии адвокатов т. Апраксину К. Н. и заведующим юридическими консультациями поручено принять меры по улучшению воспитательной работы в коллективах и повышению персональной ответственности адвокатов за выступления в суде.
Принято к сведению заявление т. Апраксина К. Н. о том, что адвокаты Каминская, Каллистратова, Поздеев и Ромм впредь не будут допущены к участию в процессах по делам о преступлениях, предусмотренных ст.190-1 УК РСФСР. Адвокат Монахов за аморальное поведение из коллегии адвокатов исключен.
О принятых мерах сообщено в Комитет государственной безопасности СССР.
Секретарь МГК КПСС В. Павлов».Весною 1971 г. Софья Васильевна тяжело заболела. Обострения хронических болезней она переносила своеобразно: энергично, без устали работала, всем приветливо улыбалась, ни на что не жаловалась (хотя мы знали, что боли из-за язвы желудка и холецистита мучали ее регулярно), а потом «вдруг» сваливалась, не в силах поднять голову от подушки, и «скорая помощь» увозила ее в больницу. Еще в 1961 г. старший брат устроил ее в клинику 1-го мединститута, с тех пор ее обычно туда и отвозили.
В марте я как-то пришла к ней в клинику и услышала: «Знаешь, ко мне два врача приходили, совсем незнакомые. Такие молодые, симпатичные, с цветами. Долго расспрашивали обо всех моих судебных процессах, просили всегда к ним обращаться, если заболею». Эти два врача — рентгенолог Леонард Борисович Терновский и его жена Людмила Николаевна, а позднее и их друг кардиолог Александр Викторович Недоступ стали близкими друзьями всей нашей семьи. Вслед за ними в кругу друзей Софьи Васильевны появились Имма Эльханоновна Софиева и Юрий Львович Фрейдин. Я думаю, что только благодаря этим пятерым замечательным врачам (которые взяли под свою опеку не только мою маму, но и многих других правозащитников и членов их семей) ей были дарованы последние шестнадцать лет жизни.
Александр Викторович, «рыцарь без страха и упрека», как звала его за глаза Софья Васильевна, в самые трудные для правозащитного движения годы лечил, а иногда и выводил из-под удара многих диссидентов. Одна, а то и две койки в его отделении факультетской клиники на Пироговке постоянно были заняты правозащитниками. Лежали там и Лариса Богораз, и Петр Якир, и Виктор Красин, и Гуля Романова. Лечил он Сергея Желудкова; поддерживал здоровье Георгия Владимова в пору его изгнания из Союза писателей и чуть ли не ежедневных обысков и допросов в КГБ; лечил после ареста Саши Лавута его маму; долгие годы лечил Лидию Корнеевну Чуковскую, — всех не перечислишь. Обстановка в отделении Недоступа была почти домашней: на тумбочке около мамы лежал «самиздат», около нее был всегда кто-то из ее друзей.
Отношение этих врачей к маме было трогательным. Леонард Борисович и его жена Людмила («Леонарды», как называла их Софья Васильевна) установили над ней заботливый патронаж. В случае необходимости немедленно звонили Александру Викторовичу. Помню, мама, как всегда с юмором, говорила мне по телефону с улицы Воровского: «За меня не волнуйся и сегодня не приезжай: приходил Сашенька [Недоступ], принес цветы, померил давление, внимательно прослушал, выписал лекарства, сходил за ними в аптеку, проследил, чтобы я правильно все приняла, сказал «спасибо» и ушел… Так что у меня все в порядке». Только ему удавалось заставить Софью Васильевну лечь в больницу, когда она уже серьезно заболевала, но еще могла (как ей казалось) стоять на ногах. В таких случаях Александр Викторович бывал непреклонен и категоричен, и мама его слушалась. А если случалось, что из-за отсутствия места он не мог ее немедленно госпитализировать, на помощь приходила Имма Эльханоновна, которая тоже в своей больнице имела «диссидентскую» койку. Для мамы, стеснявшейся кого-нибудь обеспокоить, протестовавшей даже против вызова районного терапевта («не так уж плохо я себя чувствую»), врачи, единомышленники, друзья, не ожидающие просьб о помощи, были спасением.
Конечно, такая направленность в выборе больных не оставалась незамеченной бдительными органами. Тем более, что и контингент посетителей, приходивших в больницу проведать своих друзей, был особый: за многими из них велась слежка. В отделение Недоступа приходил зимой 1978 г. Григоренко прощаться с мамой перед поездкой в гости к сыну в США. Петр Григорьевич был веселый, а мама вдруг заплакала. Мы перепугались — слезы были ей несвойственны. «Ведь мы навсегда прощаемся, — сказала ему мама, — вернуться вам не дадут…» Я тогда исщелкала на них целую пленку, — такие у них были лица, что хотелось снимать и снимать. Осталось лишь три фотографии, случайно, у друзей. Все остальные и пленку забрали при обысках у Софьи Васильевны.
У Недоступа и Софиевой были неприятности: «сверху» поступали указания строго контролировать, кого они лечат. Обошлось все, наверное, потому, что их начальники были порядочными людьми, да и понимали к тому же, что достойной замены этим первоклассным врачам нет.
Софья Васильевна тяжело переживала, что ее лишили возможности защищать друзей и единомышленников в суде в то время, когда это было так необходимо: обыски, увольнения с работы, аресты продолжались. Осужденные по статье 190-1, освободившись после трехлетнего срока, снова включались в правозащитную деятельность. И их начинают судить уже по 70-й статье за «антисоветскую агитацию и пропаганду». Дине Исааковне Каминской не разрешают принять дело Буковского — по 70-й статье нужен допуск. В Москве остается всего несколько адвокатов, которые берутся защищать «политических», — В. Я. Швейский, Ю. Б. Поздеев, Е. С. Шальман, С. Л. Ария, Ю. Я. Сарри, Б. Ф. Абушахмин. Но судьи штампуют обвинительные приговоры. Руководство МГКА под давлением горкома партии принимает меры к тому, чтобы обуздать тех, кто пытается добиваться оправдательных приговоров по этим делам. В бумагах Софьи Васильевны сохранилась запись ответов семнадцати адвокатов, которых она безуспешно пыталась привлечь к защите по очередному диссидентскому делу «по статье 70-й»: «П.Ю.Б. — «занят в большом процессе»; Р.В.Б. — «не берусь за этот процесс», Швейский В. Я. — «согласен, но Склярский (зам. председателя МГКА) не дает разрешения, говорит: «Никого из московских адвокатов не пущу»; Б.С.М. — «нет допуска»; З.Б.Е. — «нет»; Б.К.П. — «занят»; Гавин В. П. — «нет допуска»; Дубровская С. А. — «согласна» (Склярский — не разрешаю!); Коган М. И. — «нет допуска»; К.С.С. — «нет допуска»; П.А.И. — «занят»; С.В.Ф. — «отказываюсь»; А.С.Л. — «по 70-й нет»; Г.М.А. — «отказываюсь»; Е.И.Ф. — «нет практики в этих делах»; Ш.Б.С. — «нет»; С.И.И. — «мне с вами нет смысла встречаться, я вам отказываю»». Это был список самых квалифицированных и смелых. Больше уже не к кому было обращаться.
Коллеги по адвокатуре, особенно те, кто бывал вместе с нею в процессах, всегда уважали и по-человечески любили ее. С. Л. Ария писал о ней в 1991 г.:
«Софья Васильевна — адвокат от Бога. Слушать ее было — одно удовольствие. Ее речи, как постройки античности, «без шва», красивы и монументальны. Особенно нас сплотила работа по так называемым спецделам. Защищая «диссидентов», «инакомыслящих», мы сами были вынуждены публично произносить «антисоветские» речи. Защита по таким делам ставила перед нами не только нравственные вопросы (быть рядом с подзащитным, поддержать его словом), но и тактические проблемы. С одной стороны, нужно было найти необходимые для защиты слова, а с другой — опасались, как бы за те слова самих не взяли за шиворот. Чуть ли не по каждому делу собирали адвокатский консилиум. Советы Софьи Васильевны на таких совещаниях всегда были самыми ценными. Именно ей принадлежала идея обратиться к речам известного русского адвоката, профессора Санкт-Петербургского университета В. Спасовича, который защищал народовольцев. Поразились еще тогда: все, что мы «изобретали», давно применял В. Спасович. И еще: убийственное совпадение тональности политических процессов XIX в. и века нынешнего.
Я убежден, что Софья Васильевна Каллистратова принадлежит не только истории советской адвокатуры, но и истории России. Она — совесть правозащитного движения» (Советская юстиция. 8. Апр.).
Но тогда, с начала 70-х гг., общение коллег с Софьей Васильевной почти полностью прекратилось. Ее ученица, прекрасный человек, прекрасный адвокат Марина Абрамовна Каплан честно говорила потом: «Да, я боялась». Шальман, который дольше других поддерживал с ней дружеские отношения, тоже говорил: «Я боялся». Они боялись за свои семьи, работу, — в те годы просто подойти к ней «поболтать» считалось опасным.
Софья Васильевна понимала, что выступать в суде по статье 190-1 ей больше не дадут, но уходить из адвокатуры и открыто присоединиться к своим друзьям она пока не решалась. Может быть, еще на что-то надеялась, может быть, тоже боялась — за меня и мою семью. Кроме того, она искренне любила свою работу и расстаться с адвокатурой ей было тяжело. Наверное, играло роль и то, что она привыкла считать себя главой семьи, помогающей всем не только морально, но и материально, и становиться пенсионеркой ей не хотелось. Жила она теперь одна, — у меня родилась дочка, я не работала и смогла забрать Диму к себе, а старший ее внук, Сергей, уехал учиться в Томск. Она часто приезжала ко мне, как всегда, чтобы помочь, хотя я старалась ее ничем не обременять. Когда Гале исполнился год и мне надо было выходить на работу, я нашла вполне подходящую няню, но мы с ней не сошлись в цене. И вдруг няня позвонила и сообщила, что согласна на мои условия. Лишь спустя несколько лет обнаружилось: мама договорилась с няней, что будет доплачивать ей ежемесячно сколько надо, но при условии, чтобы я об этом не знала.
Софья Васильевна продолжает выступать в судах по уголовным и гражданским делам, но работает не так интенсивно, как прежде. Основной смысл ее жизни теперь — помощь правозащитникам, дружбой с которыми она гордится, перед гражданской позицией которых она преклоняется. Ей импонировала прежде всего бесстрашность их действий: без псевдонимов, без тайных явок, практически без конспирации, они бросали открытый вызов всей репрессивной системе. И отсутствие экстремизма, который всегда был чужд Софье Васильевне. Они близки ей и потому, что они защитники — защитники Прав Человека. Она бывает «на Чкалова» — у Сахарова, который, столкнувшись на практике (стоя перед закрытыми для него и его друзей дверями «открытых судебных заседаний») с нравами, царящими в советском правосудии, охотно пользуется ее консультациями по уголовному, процессуальному и исправительно-трудовому законодательству. Она всегда смеялась, рассказывая о первом «юридическом» вопросе Андрея Дмитриевича, обращенном к ней: «А после вынесения приговора осужденных можно бить в милиции?», и удивлялась тому, как быстро его полная наивность в этой, совершенно новой для него, области сменилась четкими и вполне компетентными представлениями о нашей пенитенциарной системе, борьбе с которой он отдал столько сил. Она сразу оценила и яркую личность Елены Георгиевны, и гармоничность их отношений.
Демократическое движение привлекало Софью Васильевну также тем, что в нем не было никакой «партийной» структуры, никаких «вождей», и оно объединяло (может быть, это важнее всего) ярких и неповторимых людей. Каждый их них, очень разных и непохожих, мог в его рядах оставаться самим собой, со своей позицией, с личной, а не коллективной ответственностью за свою деятельность. Но при этом они трогательно заботились друг о друге, о семьях осужденных. У большинства были хорошие семьи, которые целиком участвовали в движении. Не только семья Сахаровых, но и семьи Григоренко, Подъяпольских, Ходоровичей, Некипеловых, Подрабинеков, Терновских и многие другие состояли из единомышленников. Анатолий Марченко и Лариса Богораз, Александр Гинзбург и Ирина Жолковская, Константин Бабицкий и Татьяна Великанова, Александр Лавут и Сима Мостинская, Сергей Ковалев и Людмила Бойцова, Ваня Ковалев и Таня Осипова, Юлий Ким и Ира Якир, которых мне посчастливилось встречать у мамы, полностью поддерживали друг друга в противостоянии властям. Многие женщины — Наталья Горбаневская, Людмила Алексеева, Мальва Ланда — сразу бесстрашно шли в первых рядах. Другие — выходили вперед после ареста или гибели мужей. Софья Васильевна по-матерински любила многих из них и порой с горечью говорила о судьбе, уготованной им в этой сверхнеравной борьбе, о беспощадных ударах, наносимых им КГБ при полном равнодушии, а то и поддержке, большинства советской интеллигенции. «На тысячу академиков и член-корреспондентов, на весь на образованный культурный легион нашлась лишь только горсточка больных интеллигентов — вслух высказать, что думает здоровый миллион», — напевала она пронзительно-точные слова любимого Юлика Кима.
А в комнате на улице Воровского было всегда людно, сюда шли и с бедой и радостью, и за советом и просто за сочувствием. И сама комната Софьи Васильевны начала, в основном стараниями друзей, приобретать тот вид, который запомнился многим, бывавшим там в 70-80-е гг., и который запечатлен в документальном фильме Свердловской киностудии «Блаженны изгнанные». В тон к ярко-синим с серебряным накатом стенам в один из ее дней рождения на окна повесили белые с нежным синим узором занавески. На люстре под высоким потолком заплавали причудливые рыбки, собственноручно вырезанные Аликом Гинзбургом и подвешенные им на совершенно невидимых ниточках. Брат ее, Федор Васильевич привез уютное старое кресло, в котором мама всегда сидела, когда собирались гости. Я купила ей новую тахту — старую, приобретенную еще Наталией Васильевной в 1939 г., торжественно вынесли на свалку. Еще в один день рождения кто-то подарил очень красивые накидки на эту тахту и на кресло, а потом появился торшер, несколько новых книжных полок. А главное, из-за стекол и старых и новых полок на нас смотрели десятки фотографий тех, кто в лагерях, кто в ссылке, кто уехал, кто погиб, и на всех фотографиях такие прекрасные, светлые лица…
Весной 1972 г. Софья Васильевна была занята в Военном трибунале, в очень скучном хозяйственном деле. Незначительное дело тянулось больше двух месяцев. Адвокаты других четырех обвиняемых под благовидными предлогами из дела вышли (оно оказалось очень «невыгодным»), уговорили своих подзащитных отказаться от их услуг. Но Софья Васильевна терпеливо участвует в процессе до конца, хоть и считает, что ей там делать нечего, — адвокатская этика не позволяет ей «сбежать». В это время к ней обратился Александр Исаевич Солженицын с просьбой вести его бракоразводный процесс. Софье Васильевне очень хотелось помочь ему, она видела, какие искусственные препятствия чинит суд, но бросить начатое дело она не может и уговаривает взяться за этот процесс Т. Г. Кузнецову, которая, отлично понимая всю опасность попасть в число «неблагонадежных», мужественно доводит его до конца.
К этому времени кроме диссидентов в кругу знакомых и клиентов Софьи Васильевны появились и «отказники». После «самолетного» дела (о попытке угона в Израиль самолета Э. Кузнецовым, М. Дымшицем и их товарищами) в Ленинграде и Кишиневе организуются «околосамолетные» дела — подсудимых обвиняют в создании сионистских организаций, в измене Родине, приговаривают к длительным срокам заключения. Власти всеми силами пытаются сдержать еврейскую эмиграцию. Один из способов — призыв в армию юношей, подавших заявления на выезд. В августе 1972 г. Софья Васильевна защищала Г. Я. Шапиро и М. Х. Нашпица, обвиняемых по ст. 198-1 — «уклонение от военных сборов». Их дела были похожи, как два близнеца, — оба подсудимых с высшим образованием, оба «отказники», оба уволены с работы, оба еще в 1971 г. отказались от советского гражданства (в письмах на имя Подгорного, оставшихся, естественно, без ответа), оба имели извещения (на иврите) о том, что приняты в гражданство государства Израиль, оба направили письма в Министерство обороны с просьбой освободить их от воинской повинности. Различие лишь в том, что Шапиро был обручен с американской гражданкой (в Америке брак уже зарегистрирован, в СССР подана заявка на регистрацию) и его судьбой интересовались американцы. Может, поэтому Софье Васильевне и выдали ордера на эти дела. В ее досье — письмо, написанное по-английски Я. Д. Фушбергом (американским юристом, находившимся в Москве), который, во-первых, сообщает, что зам. председателя МГКА И. И. Склярский (тот самый, который запретил допускать Каллистратову к политическим делам) «высказал ему восхищение высокой квалификацией Софьи Васильевны», а во-вторых, предполагает, что «призыв Шапиро на военные сборы имеет дискриминационные цели, подобные тем, к которым прибегали в США по отношению к студентам, протестовавшим против войны во Вьетнаме».
Позиция следователей и судей в отношении Шапиро и Нашпица (их дела слушаются в разных районах) формируется явно одним режиссером: «указа о лишении их советского гражданства — нет, официальных документов о принятии в израильское гражданство — нет, значит они советские граждане и, уклоняясь от сборов, нарушили свой священный долг и закон». При этом отклоняются ходатайства защиты об официальном переводе извещений с иврита, о приобщении к делу неофициальных переводов этих документов, об истребовании документов о гражданстве через посольство Нидерландов. Позиция Софьи Васильевны, как всегда, проста и четко юридически обоснована:
«Независимо от доказанности фактов, образующих объективную сторону состава преступления, защита считает, что в действиях, вменяемых Шапиро, отсутствует субъективная сторона состава преступления, а следовательно и состав преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198-1 УК РСФСР, так как: а) Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым умыслом, то есть субъект сознает, что он нарушает закон об учебных сборах военнообязанных и желает его нарушить, уклоняясь от прохождения учебного сбора. б) Добросовестное заблуждение, в силу которого человек считает, что он не обязан проходить учебного сбора, может свидетельствовать лишь о неосторожной вине. в) Имея на руках документ о приеме его в гражданство государства Израиль и не получая ответа на свои заявления в Президиум Верховного Совета СССР, Шапиро имел субъективные основания считать себя человеком с двойным гражданством. г) Вопрос о прохождении военной службы в рядах Советской Армии лиц с двойным гражданством (если второе гражданство получено в капиталистической стране) нашим законом не урегулирован, и в силу этого Шапиро считал, что, являясь лицом с двойным гражданством, он не может проходить службу в Советской Армии.
Изложенное дает основание защите просить о прекращении дела в отношении Шапиро за отсутствием у него прямого умысла на совершение действий, караемых по ч. 1 ст. 198-1 УК РСФСР».
Судьи аргументами защиты пренебрегли, оба были признаны виновными и получили по одному году исправтрудработ.
В январе 1973 г. Софья Васильевна проводит еще одно дело, связанное с политикой препятствования выезду в Израиль, на этот раз гражданское — о лишении родительских прав известного физика-теоретика А. Я. Темкина. Его четырнадцатилетняя дочь Марина, которая фактически воспитывалась отцом, получила вместе с ним после развода родителей разрешение на выезд в Израиль. Мать девочки вместе с представителями РОНО и школы обвиняли Темкина в антиобщественном и аморальном поведении, в том, что отец прививает дочери антисоветские взгляды, развращает ее (учит ивриту!) и отравляет ее ядом сионизма. Милиция, по просьбе матери, увозит Марину от отца, насильно затолкав ее в машину. Врач-психиатр, учитывая категорический отказ Марины жить с матерью и ее настойчивое желание уехать с отцом, предлагает определить Марину в интернат. Софья Васильевна (конечно, она готова понять мать, не желающую потерять дочь) с ужасом рассказывает о той яростной злобе, с которой и мать, и сотрудники РОНО и школы, и сам судья обрушились на Марину и ее отца (уже изгнанного к тому времени с работы), мечтавших лишь об одном — уехать из этого искаженного мира, что удалось им значительно позже.
1973 г. был заметной вехой в правозащитном движении. Благодаря активности «Инициативной группы защиты прав человека», «Комитета прав человека» и ряда других групп, а также открытым обращениям в ООН А. Д. Сахарова (в защиту Андрея Амальрика, Юрия Шихановича, Леонида Плюща и многих других) на Западе началась широкая поддержка движения и одновременно — травля Сахарова и других диссидентов в советской прессе. В феврале из статьи Чаковского в «Литературной газете» массовый читатель узнал о «так называемой «декларации» советского ученого Сахарова». В июле 1973 г. в той же «Литературной газете» появляется злобная заметка «Поставщик клеветы», а затем во всех центральных газетах публикуются осуждающие Андрея Дмитриевича письма академиков, писателей, композиторов, художников, врачей, кинорежиссеров, артистов. Конечно, многим из них «выкручивали руки», добиваясь подписей. Директор моего института, академик А. М. Обухов в 1982 г., при каком-то весьма абстрактном, без всяких намеков, высказывании Софьи Васильевны (они были знакомы с 50-х гг., с большим уважением относились друг к другу и иногда общались на Звенигородской станции института, где мама после уничтожения нашего сада в Строгино жила со мной почти каждое лето) о том, что коллективные письма бывают разные, — неожиданно покраснел и почти выкрикнул сквозь зубы: «Я тогда ничего не мог сделать!»
Сам Андрей Дмитриевич, с большой признательностью ответивший тем немногим, кто имел смелость открыто вступиться за него, — Л. К. Чуковской, А. И. Солженицыну, В. Ф. Турчину, А. А. Галичу, — без осуждения писал об авторах этих писем: «Кампания в газетах, в которую вовлечены сотни людей, в том числе многие честные и умные, очень огорчает меня, как еще одно проявление жестокого насилия над совестью в нашей стране».
Эта газетная кампания вызвала широкий резонанс в мировой печати. Эффект, как и после процесса над Синявским и Даниэлем, опять получился обратный теперь миллионы людей и на Западе и в нашей стране узнали не только об Андрее Сахарове, но и о масштабах диссидентского движения.
Вскоре КГБ, не прекращая арестов, начинает применять новую тактику борьбы с активными диссидентами — «выдворение» их за границу. Первым, еще в ноябре 1972 г. уехал инициатор организации Комитета прав человека Валерий Чалидзе. Ему, очевидно, была предложена альтернатива — отъезд либо арест. Тогда это было еще непривычно, многие из друзей Чалидзе осуждали его. Софья Васильевна отнеслась к его решению уехать как-то по-другому, не обсуждая с ним моральную сторону проблемы выбора. «Валерий, — обеспокоенно спрашивала она, когда он пришел прощаться, — ну как вы там будете жить, на какие средства существовать, кому вы там нужны?» «Ну, на рваный пиджак я себе и там всегда заработаю», — отвечал он, истинно княжеским жестом демонстрируя сильно потертый локоть. Выехал он в США с женой и только что родившейся дочкой по приглашению прочитать курс лекций, но уже через две недели вышел Указ о лишении его советского гражданства. Дело он себе действительно нашел — организовал издательство «Хроника-пресс», которое опубликовало все выпуски «Хроники текущих событий», все документы Московской и других Хельсинкских групп, все открытые письма, которые невозможно было собрать здесь, так как они регулярно отбирались при обысках. Благодаря его издательству не только многократно расширился круг людей, получавших правдивую информацию о нарушении прав человека в СССР и о правозащитном движении, но и были сохранены бесценные для историков свидетельства того времени.
Обыски, допросы, аресты идут и среди близких друзей Софьи Васильевны. В 1974 г. арестовывают Сергея Ковалева, в 1975-м — Андрея Твердохлебова. И в 1975 г. Софья Васильевна, лишенная возможности защищать их в суде, отступает от своей позиции чисто юридической помощи движению. В «День Владимира Буковского»- 29 марта (в четвертую годовщину его последнего ареста, которую он встречает во Владимирской тюрьме) она, как и многие правозащитники, пишет открытое письмо в защиту Буковского, которое распространяется в «самиздате»: «…В деле Владимира Буковского поражает несоответствие между вменяемыми ему по приговору действиями и суровостью назначенного ему наказания.
Не имея доступа к материалам дела, я не могу с правовых позиций спорить против приговора.
Но, зная Владимира Буковского лично как человека абсолютно бескорыстного, преданного Родине, человека души и обостренной совести, — я хочу присоединить свой голос к тем, кто сегодня борется за освобождение Буковского от дальнейшего отбывания физически непосильного для него наказания».
В июле 1975 г. Софья Васильевна проводит свое последнее дело в суде: защищает Толю Малкина, обвиняемого по ст.80 в уклонении от призыва. Его исключили с третьего курса института после просьбы о выдаче характеристики для ОВИРа и сразу же вручили повестку из военкомата. Малкин до этого подавал заявления и в райвоенкомат, и в Президиум Верховного Совета, и в КГБ, и министру обороны, в которых обосновывал невозможность принятия им как гражданином Израиля воинской присяги. Софья Васильевна, учитывая свой предыдущий опыт, тщательно изучает всю литературу о двойном гражданстве. В защитительной речи она цитирует ряд конвенций о гражданстве, ратифицированных Советским Союзом, ссылается на курс международного права профессора Чхиквадзе, на монографию профессора Лисовского. Ей удается убедить даже прокурора, который признает, что Малкин имеет двойное гражданство. Но суд дает максимальный срок — три года. А вскоре после окончания дела Софью Васильевну вызывают в Президиум МГКА и показывают заявление матери Малкина с нелепыми обвинениями в ее адрес: «Она ссылалась на двойное гражданство сына, в то время как он советский гражданин… Она оскорбляла закон, заявляя, что в нем есть «пробелы»… Ссылалась не на законы, а на какие-то монографии, проповедуя свободу эмиграции из страны… Она ничем не помогла сыну, а только усугубила его положение» и т. д. Пришлось Софье Васильевне писать подробную объяснительную записку. Правда, Президиум, рассмотрев дисциплинарное дело, вынужден был признать, что «никаких нарушений при защите адвокат не допустил…»
Кажется, это дело было последней каплей, — Софья Васильевна теряет всякие остатки надежды на то, что может хоть чего-нибудь добиться в суде по делам, специально фабрикуемым для подавления инакомыслия, и решает уйти из адвокатуры. Она все-таки подает кассационную и надзорную жалобы, а затем редактирует запись всего процесса Малкина и своей речи, которую вскоре публикуют в Израиле. В начале зимы ей передают красочное извещение на иврите, скрепленное большой печатью, — о том, что в ее честь в Израиле посажено десять деревьев (в честь Царапкина, представителя СССР в ООН, голосовавшего в 1947 г. за создание Израильского государства, была посажена целая аллея!). Извещение это впоследствии отберут при обыске.
Софья Васильевна переписывается с Малкиным, как и со многими другими заключенными, дает ему советы по поводу регистрации его брака с невестой. В декабре она получает от него письмо: «Дорогая Софья Васильевна!..Я стараюсь следовать Вашим мудрым советам, и пока все хорошо. Я постепенно привыкаю к этой жизни, и время летит быстро, чувствую я себя хорошо, настроение на «5». Дина писала мне, что вы тяжело болели. Желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов в том благородном деле, которым Вы занимаетесь. С нетерпением жду письма. Крепко Вас обнимаю. Толя».
Но со здоровьем совсем плохо: тяжелый гипотериоз, учащаются сердечные приступы. Ей трудно ездить на городском транспорте. Как всегда шутит: «У меня, как у всех москвичей, есть три персональные машины — такси, «скорая помощь» и «воронок»». До «воронка», слава Богу, не дошло. И вот 23 марта 1976 г. Софья Васильевна передает в Президиум МГКА заявление: «В связи с тем, что резко ухудшившееся в последний месяц состояние здоровья лишает меня возможности обеспечить прежний уровень качества работы и полноценно обеспечить интересы клиентов по порученным мне делам, — прошу отчислить меня из коллегии адвокатов с 1 апреля 1976 г.
Я по состоянию здоровья не могу явиться на заседание Президиума и поэтому прошу решить вопрос о моем отчислении в мое отсутствие.
Благодарю всех членов Президиума и коллег за неизменно хорошее ко мне отношение и выражаю искреннее сожаление о том, что обстоятельства вынуждают меня расстаться с любимой профессией и с коллективом МГКА».
Уже после этого она получает из Мосгорсуда отказы на свои жалобы по делу Малкина. 26 апреля она отправляет надзорную жалобу Председателю Верховного Суда РСФСР, копию посылает Толе с припиской: «На этом мое официальное участие в Вашем деле заканчивается, так как я уже отчислена из коллегии адвокатов по состоянию здоровья».
Софья Васильевна очень грустила без адвокатуры: «Мне бы надо было еще год поработать, дотянуть до семидесяти лет». Как-то, зайдя навестить ее, адвокат Р. рассказала о своем последнем уголовном деле. С каким горьким интересом мама расспрашивала о всех подробностях процесса, о позиции защиты — прямо по глазам ее было видно: «Эх, мне бы сейчас это дело, уж я бы защищала».
Правозащитник
Первого августа 1975 г. тридцать пять стран — участниц Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе подписали «Заключительный акт», который подтверждал «уважение прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, религии и убеждений», провозглашенное еще в 1948 г. во Всеобщей декларации прав человека. Конечно, подписание нашей страной «Заключительного акта» было лицемерием, но все-таки давало надежды, что будут соблюдаться хоть какие-то элементарные права человека. Надежды оказались напрасными.
12 мая 1976 г. по инициативе Юрия Федоровича Орлова в Москве организуется «Общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений». Среди активных членов Московской группы «Хельсинки», как ее стали называть, Людмила Алексеева, Елена Боннэр, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Анатолий Щаранский, Виталий Рубин. В январе 1977 г. Софья Васильевна включается в работу группы в качестве члена-консультанта созданной при группе Комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях, а летом становится полноправным членом группы. Начиная с документа 24 — «О продолжении дискриминации крымских татар» — она не только подписывает почти все документы группы (а их было около двухсот), но является соавтором и составителем большинства из них.
Сестра и брат Софьи Васильевны, давно пенсионеры, были очень рады, когда и она вышла на пенсию, надеясь, что «теперь-то Сонюрка угомонится» — страх, что «младшую сестренку» арестуют, не оставлял их. Не тут-то было. Лишь постепенно, из рассказов знакомых, слушавших «голоса», они стали понимать масштаб ее деятельности. Брат сокрушался: «Такая умная женщина, и донкихотствует, ведь плетью обуха не перешибешь!» На каком-то семейном торжестве мама бросила вскользь: «Ну, все обо мне вы после моей смерти узнаете». Им не довелось дожить до того времени, а я, действительно, о многих деталях узнала, только когда ее уже не стало: из рассказов Евгении Эммануиловны Печуро, из чалидзовских сборников «Хроники текущих событий», привезенных Леонардом Терновским из Америки, из выпусков «Хроники защиты прав человека в СССР» и ряда документов, ксерокопии которых мне любезно передала Галина Сергеевна Дозмарова, узнав, что я пишу биографию мамы. Узнала я, например, что открыто выступать против репрессий мама начала, еще будучи в адвокатуре. Это и письмо в защиту Буковского, и ряд коллективных писем правозащитников: требование пересмотра дела Сергея Ковалева, письмо в защиту Мустафы Джемилева и т. п. Теперь, когда столько ее друзей были уже арестованы, наступила ее очередь выходить в первые ряды диссидентского движения.
Документы Хельсинкской группы не дублировали, а дополняли «Хронику текущих событий», были авторскими («Хроника», за исключением отдельных номеров, выходила анонимно) и через корреспондентов западных информационных агентств направлялись непосредственно в правительства и парламенты стран, подписавших «Заключительный акт»; факты нарушений прав человека подтверждались в них документально (в приложениях) и регулярно сопровождались аналитическими обзорами и статистическими данными. Все это требовало огромной, кропотливой работы.
Трудно даже перечислить полностью все сферы деятельности Московской Хельсинкской группы. Выпускаются документы по фактам судебных, внесудебных и психиатрических репрессий против отдельных правозащитников, по фактам массовых дискриминаций по политическим мотивам (лишение права на труд и жилье). Собираются по всей стране и документируются сведения об условиях содержания в лагерях, о состоянии здоровья заключенных, о нарушениях прав политзаключенных на творческий труд и медицинское обслуживание, о положении бывших политзаключенных. Составляются документы о противодействии эмиграции: национальной (еврейской, немецкой, украинской), а также по политическим, экономическим, семейным, религиозным и другим причинам. Документируются нарушения прав национальных меньшинств, инвалидов, верующих, колхозников. Анализируется противозаконность существования спецсудов, нарушения социально-экономических прав и социального обеспечения. Выпускаются документы о свободных профсоюзах и других рабочих организациях, о клеветнических публикациях в советской прессе, о репрессиях против независимых издательств, о сознательных нарушениях в сфере почтовой и телеграфной связи. Выпускаются специальные документы, посвященные отдельным событиям: Белградскому совещанию по Хельсинкским соглашениям, Олимпийским играм в Москве, Дню политзаключенных, 30-летию Всеобщей декларации прав человека, 10-летию Пражской весны, введению войск в Афганистан. Иногда документы выпускались совместно с другими правозащитными группами — Христианским комитетом защиты прав верующих, Международной амнистией, Еврейским движением за свободу выезда в Израиль и др. Мама получала много писем (в основном, естественно, с оказиями).
Власти быстро «оценили» размах и дерзость новой инициативы и начали действовать против группы «Хельсинки» по двум направлениям: через ТАСС дискредитировать ее как провокационную, антикоммунистическую и антисоветскую, оплачиваемую ЦРУ; через КГБ — запугивать демонстративной слежкой, обысками, допросами и, наконец, — арестами. В январе 1977 г. проходят обыски у Орлова, Гинзбурга, Алексеевой, в апреле — у членов рабочей группы по психиатрии: Вячеслава Бахмина, Ирины Каплун, Александра Подрабинека, а также у его отца и брата. Обыски похожи на грабежи: изымаются не только все материалы и документы группы, но и художественная литература, письма, пишущие машинки, деньги. Иногда что-нибудь и подбрасывается: валюта, оружие, наркотики. Угрожают: А. Германова (сына Мальвы Ланды), например, предупреждают, что уволят его из МГУ, «если он не повлияет на мать».
К моменту вступления в группу Софьи Васильевны уже были арестованы А. Гинзбург, Ю. Орлов, А. Щаранский, обвиненный в шпионаже. В нее входят новые члены — Владимир Слепак, Наум Мейман, Виктор Некипелов, Татьяна Осипова, а после ареста Слепака — Иван Ковалев, затем Юрий Ярым-Агаев. Часть работы сбор материала, составление и распечатку текстов — теперь приходится выполнять конспиративно, иначе документы будут изъяты КГБ до их выхода в свет. С усмешкой мама показывает мне как-то вечером из окон эркера две машины (каждая с двумя антеннами), стоящие на противоположной стороне улицы Воровского: «Это наши — как только ко мне кто-нибудь приходит, они тут как тут, даже номеров не меняют». Однажды мамин гость сказал: «Вот справа ваша, а слева — моя. А я их обману. Я выйду, а вы посмотрите, что будет». Мы смотрели из окна, как он пошел к Арбатской площади прогулочным шагом, машина на почтительном расстоянии ехала следом. На перекрестке он резко ускорил шаг и свернул в сторону центра, а там нет левого поворота. Машина взревела, прыжком оказалась у перекрестка, тормознула, оставляя на асфальте черные следы, из нее повыскакивали люди и побежали за гостем. Догнали или нет, не знаю, — он мог и на телеграф зайти, и в Скатертный переулок. В другой раз сестра, входя с улицы, обеспокоенно сообщила: «Двое стоят в подъезде». «Да ты не бойся, — уговаривает ее мама, — таких старых, как я, не арестовывают». Хотя она знала, что уже арестованы член Литовской группы Хельсинки Владлас Лапенис — 1906 г. рождения и член Украинской группы, семидесятидвухлетняя Оксана Мешко.
Настоящей поддержки в семье мама не имела: я была кроме работы занята своей новой семьей, дочкой, серьезно болевшей; к маме забегала часто, очень любила всех ее друзей, но мало вникала в их дела. Ее внуки рано женились и съехали к женам. Казалось, мама могла теперь жить спокойно, но она была полностью поглощена делами группы и работала в свои семьдесят лет неустанно. Только сейчас, держа в руках все сборники Московской Хельсинкской группы, я вижу, какой колоссальный объем работы выполняли шесть-семь человек.
Каждое лето Софья Васильевна по-прежнему проводила на участке в Строгино, где на ее попечении кроме моей дочки теперь паслись и старшие правнуки Софьи Васильевны — Данечка, Руся и Кузя (Саша). Сюда часто наезжали Терновские, бывали Таня Осипова, Слава Бахмин, Иван Ковалев. По вечерам с дорожки между садовыми участками, где шестилетняя Галочка бегает с компанией таких же дошкольников, вдруг раздается ее звонкий голосок: «Группа «Хельсинки», за мной!» Мы хохочем, Наталья Васильевна в ужасе.
Соседи уже знают, кто такая Каллистратова, быстро распространяется слух, что рядом живет адвокат, который бесплатно всем помогает. И вот на участок тянется вереница пенсионеров — в законе непросто разобраться, многие не знают о своих правах и получают пенсию меньше, чем полагается. В любой обстановке, посреди хозяйственных забот, когда кто-нибудь спрашивал, как доказать стаж, как исчислить пенсию, мама вытирала руки, брала лист бумаги и легко, без черновика, писала заявление — лаконично и убедительно, давала адреса, куда жаловаться при отказе. Потом и в Москве это продолжалось приходили за советом и помощью соседи и по улице Воровского, и по улице Удальцова. Только когда (уже в 80-х гг.) появилась возможность повысить пенсию ей самой, она вдруг усомнилась: «Нет, не буду я писать, мне не положено — ведь я наработала необходимый стаж уже после оформления пенсии». Пришлось ее уговаривать. Она написала-таки заявление, добавили ей к 120 рублям еще 11 рублей 31 копейку, и она была очень довольна.
Летом 1977 г. в стране началось «всенародное обсуждение» проекта новой Конституции. Многие правозащитники использовали эту возможность для изложения своих взглядов. Софья Васильевна тоже отправила в «Известия» большую рукопись с критикой проекта и рядом добавлений к нему. Основной порок законопроекта она видит в наличии 6-й статьи, провозглашающей КПСС «руководящей и направляющей силой советского общества», обращает внимание на противоречие со статьей 2-й, утверждающей, что вся власть в СССР принадлежит народу. Всего полгода не дожила она до отмены 6-й статьи (через тринадцать лет после ее замечаний!).
22 октября 1977 г. я пришла с работы домой и увидела, что мама как-то странно лежит на диване. «Со мной что-то случилось, — сказала она, поймала утром такси, чтобы ехать к тебе, села и молчу, как дура, адреса сказать не могу, еле-еле в конце концов выговорила». Доехав, она еще пошла в детский сад (в нашем же доме) к Гале, на родительское собрание, потом в квартиру зашел Петр Егидес советоваться насчет журнала «Поиски». Маме опять стало трудно говорить. Я позвонила Недоступу, который приказал: «Немедленно в больницу». Оказалось нарушение мозгового кровообращения, онемели правая рука и нога. На следующий день я получила из реанимационного отделения записку, написанную страшно изменившимся, дрожащим почерком: «Маригуля, не волнуйся, я чувствую себя уже лучше». Спихнув Галку на пятидневку, я поселилась на несколько дней у мамы в палате. Не только двигаться, но и говорить она почти не могла, но улыбалась все так же. Через два месяца двигательная система и речь восстановились полностью, только слабость в правой руке осталась. И вот, в конце декабря я уже вижу на ее столе рукопись очередного документа — 28, о голодовке Петра Винса.
Домой к маме приходили знакомые и незнакомые — адрес был опубликован, дверь не запиралась. Рассказала она мне однажды об очень неприятном случае. Пришел какой-то мужчина с горящими глазами и, не представившись, стал требовать от нее адрес Андрея Дмитриевича. Она пыталась выяснить, в чем дело, но ему нужен был только Сахаров. Направить к Андрею Дмитриевичу явно больного человека мама, конечно, не могла. И когда он с угрожающим криком «Так вы не хотите дать мне адрес!» стал приближаться к маме, она вдруг спросила у него: «Вам, наверное, нужны деньги?» — и тут же протянула ему из сумки двадцать пять рублей. Он как-то сразу обмяк, взял деньги и, не говоря больше ни слова, вышел. Я долго потом пыталась понять, почему она, вместо того, чтобы закричать, позвать на помощь (квартира-то коммунальная, были в ней люди) решила дать ему денег. «Сама не знаю, — отвечала мама, — так мне показалось». Ее находчивость в трудные минуты всегда меня поражала.
В конце ноября 1978 г. Софья Васильевна, только что выйдя из больницы (где провела полтора месяца из-за холецистита и воспаления желчного пузыря), перевезла к себе, на Воровского заболевшую раком восьмидесятидвухлетнюю Наталью Васильевну, которая, правда, держалась с редким мужеством — в этом не уступала младшей сестре. Никто не слышал от нее ни жалобы, ни стона, и до последних дней она себя обслуживала. Новый, 1979 г. мы встречали на Воровского все вместе — со всеми детьми и внуками. Наталья Васильевна сидела во главе стола, со строгой осанкой бывшей институтки (она всю жизнь переживала, что мы — Соня, я, дети — «горбимся»). В огромной прихожей нашей коммуналки, украшенной гирляндами, были веселые танцы, прыгали ребятишки. А в два часа ночи начался потоп. Из-за небывалых для Москвы сорокаградусных морозов лопнули трубы отопления. Вода лилась и в квартиру, и в шахту лифта, и на лестницу. К утру вся лестничная клетка была в сталактитах и сталагмитах. Спуститься можно было только с ледорубом. Мы с мамой начали разрабатывать план эвакуации, но Наталья Васильевна решительно сказала, что никуда не поедет, можно потеплее одеться и включить рефлектор (слава Богу, электричество работало). Так мы, промучавшись несколько дней, дождались, пока восстановили отопление и скололи лед. А в феврале Наталья Васильевна умерла.
Софья Васильевна писала своей двоюродной сестре Лиде Поповой: «4 мая 1979 г. Дорогая Лидочка! Получила твое письмо, грустное и заботливое… В праздничные дни ездили с Марго и Галочкой, с Таней — женой Димы, и самым младшим моим правнуком в сад… Там без Наточки сиротливо и пусто. Она так мечтала (еще за несколько дней до конца) поехать в свой любимый сад, посадить морковку. Вот мы и съездили. Морковку посадили… Сама я твоему совету насчет санатория не последую. Только со своими родными и друзьями рядом еще можно жить. Пока я чувствую себя вполне сносно, а уж если разболеюсь, то для меня на Пироговке найдется койка. Там не хуже, чем в санатории, и буду со своими, а не с какими-то чужими тетками. Желаю тебе бодрости и сил. Мы еще нужны своим взрослым детям, и надо крепиться. Крепко тебя целую. Соня».
Настроение у Софьи Васильевны не блестящее: аресты следуют за арестами; вынуждают к отъезду за границу Татьяну Ходорович и Людмилу Алексееву; в конце октября арестовывают Татьяну Великанову, на следующий день священника Глеба Якунина. Софья Васильевна пишет в открытом письме в защиту Великановой: «Я не только знаю об этой деятельности, но в меру своих сил и способностей делаю то же самое. Убеждена, что вся правозащитная деятельность Великановой, как и моя, является легальной, открытой и не содержащей в себе никакого криминала. Я заявляю, что готова вместе с Т. М. Великановой и наряду с ней отвечать перед любым гласным и открытым судом».
А в ноябре 1979-го она снова на своей «любимой» Пироговке — на этот раз с тяжелейшей пневмонией. Уже в больнице она узнает, что 4 декабря арестованы Валерий Абрамкин и Виктор Сорокин — члены редакции журнала «Поиски», 7 декабря — Виктор Некипелов. Здесь же она редактирует и подписывает Хельсинкские документы об этих арестах. Под Новый год начинается война в Афганистане. Сразу после выписки Софьи Васильевны с ее участием составляются документы: 118 — о преследованиях верующих, 119 — о вторжении в Афганистан, 120 — о разгроме журнала «Поиски».
КГБ надеется окончательно расправиться с инакомыслием и наносит решительный удар: 8 января 1980 г. выходит указ о лишении Андрея Дмитриевича Сахарова всех наград и званий трижды героя, а 22 января его увозят в Горький. Кроме Хельсинкского документа 121 в защиту Сахарова, вышедшего 29 января, семь человек — С. Каллистратова, В. Бахмин, И. Ковалев, А. Лавут, Т. Осипова, А. Романова, — посылают письмо в комиссию ООН по правам человека. «Мы надеемся, что позорная акция советских властей по отношению к А. Д. Сахарову, равно как и общая кампания по подавлению правозащитного движения в целом <…> получат должную оценку», — пишут они. К лету на свободе лишь трое из них: в феврале арестовывают Бахмина, в апреле — Терновского и Лавута, в мае — Осипову. В июне после многочисленных обысков и допросов уезжает на Запад Ярым-Агаев. В Московской Хельсинкской группе остаются четверо — Е. Боннэр, С. Каллистратова, Н. Мейман, И. Ковалев.
Летом в нашу семью приходит горе — на Памире внезапно умирает мой муж, Юрий Широков. Мастер спорта по альпинизму, последние годы он не ходил на восхождения, но каждое лето ездил в горы — в качестве главного судьи всесоюзных соревнований по альпинизму. «Не волнуйтесь, — уговаривал он нас, — я же внизу, под горой буду сидеть». Но «внизу» — это на высоте почти пяти километров, и сердце не выдержало. Мама, даже не обсуждая со мной этого вопроса, как само собой разумеющееся, переселяется ко мне на улицу Удальцова, чтобы девятилетняя Галя, привыкшая днем быть с отцом (как физик-теоретик он работал в основном дома), не оставалась одна. Для себя она резервирует субботы и воскресенья, которые проводит на Воровского. Да иногда — когда Елена Георгиевна приезжает из Горького — звонит мне на работу: «Приходи пораньше, сегодня я еду на Чкалова». Переживает, что тратит много денег на такси, но ни на метро, ни на троллейбусе она ездить давно уже не в силах: тут же начинается приступ стенокардии.
19 сентября — очередной день рождения. Очень грустный. Накануне, 16-го, арестовали Ирину Гривнину. Народу, как всегда, много, но в основном не правозащитники, а их жены, сестры, матери, дети. Рассматриваем подаренную год назад Библию, где под словами «Нашей земной Заступнице — Софье Васильевне Каллистратовой с Верой, Надеждой и Любовью» — около двадцати подписей тех, кто отправился отбывать долгие сроки в Пермских и Мордовских лагерях, или в ссылке, или покинул страну. Оставшиеся ясно видят, что их ждет, но продолжают дело, ставшее долгом жизни.
Вскоре Софья Васильевна пишет открытое письмо в защиту Тани Осиповой:
«На 11/Х1-1980 г. я вызвана на допрос к ст. следователю по особо важным делам КГБ СССР Губинскому Александру Георгиевичу в качестве свидетеля по делу Татьяны Осиповой.
Я знаю Осипову как честного, правдивого, бескорыстного и очень скромного человека, как активного правозащитника. Одна из основных черт характера Тани Осиповой — доброта, стремление поспешить на помощь человеку, попавшему в беду. Она нетерпима к произволу, злу и насилию.
Я, так же, как и Осипова, являюсь членом Московской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. Эта группа ставит своей целью сбор и распространение правдивой информации о случаях нарушений прав человека в СССР, действует легально, открыто. Наши действия не преследуют политических целей и полностью укладываются в рамки норм, установленных советской Конституцией, Международным пактом о гражданских и политических правах (ратифицированным СССР) и Заключительным Актом Хельсинкского совещания.
Все документы Группы, подписанные Осиповой <…> подписаны также и мною. Вместе с Татьяной Осиповой и наряду с ней я готова отвечать перед любым гласным открытым судом.
Поэтому я не могу и не хочу быть «свидетелем» по делу Осиповой и ни на какие вопросы следователя отвечать не буду».
В конце года я получила из Франции от брата известие, что безнадежно болен отец и надо приехать. Первый раз я была у него в 1967 г. — мне дали разрешение на выезд благодаря хлопотам отца в ЦК КПСС через секретаря компартии Франции Вальдека Роше. Мне тогда позвонили с Новой площади и любезно сказали: «Вы хотите поехать к отцу? Пожалуйста, приходите в ОВИР за паспортом». В 1971 г. ОВИР отказал мне в разрешении пригласить к себе брата и невестку, и было ясно, что сейчас обращаться в ЦК бесполезно. К тому же я хотела поехать с дочкой, так как после смерти мужа боялась расстаться с ней даже на два дня и всюду — в отпуск, в экспедиции — таскала ее с собой. Мама предложила мне идти по проторенному пути и написала от моего имени письмо в Международный отдел ЦК КПСС, используя всю необходимую аргументацию: дочь ветерана французской компартии и т. д. и т. п. Но никакого ответа не последовало, по-видимому, было более существенно то, что я дочь советской диссидентки. Тем временем состояние здоровья отца быстро ухудшалось. В начале 1981 г. в Москве проходил очередной съезд КПСС. Из газет мы узнали, что французскую делегацию возглавляет Гастон Плиссонье, с которым отец был хорошо знаком. Иногда маме просто хотелось «чуть-чуть похулиганить», как она сама говорила, и проверить, насколько успешно можно действовать на власти, используя привычные им, в сущности холуйские, методы. По ее совету я позвонила брату и продиктовала ему телеграмму из Парижа на съезд КПСС, в адрес Плиссонье, с просьбой помочь мне с дочкой навестить больного отца. Сработало сразу — опять мне любезно позвонили, и в начале апреля мы с Галей уехали.
А 17 апреля следователь КГБ Капаев произвел у Софьи Васильевны обыск. Рассказывали мне об этом обыске родители Игоря Огурцова, оказавшиеся в этот день на Воровского вместе с С. А. Желудковым. Держалась мама во время обыска абсолютно спокойно и слегка иронично. Ее замечания о неправомерности изъятия ряда вещей — книг, фотографий, репродукций с весьма абстрактных картин Михаила Зотова, — сделанные вполне корректно, без оскорбления личного достоинства следователя, были, конечно, отвергнуты. К счастью, уцелела висевшая на стене (и сейчас висит!) картина Иосифа Киблицкого «Дача старых большевиков». Эта картина была подарена автором Петру Григорьевичу Григоренко. Уезжая в 1978 г. с женой и сыном в Америку, он оставил ключи от квартиры и доверенность на имущество Юле Бабицкой. После лишения Григоренко гражданства квартиру пришлось освобождать, и все вещи раздарили друзьям. Когда Юля привезла Софье Васильевне ее «долю» (разрозненные остатки двух чудесных сервизов и симпатичную шубку искусственного меха, с плеча «генеральши»), она спросила: «Юля, а где «Дача большевиков»?» — «Я ее забыла… Она осталась на стене…» — «Как же вы могли! Ведь это самое интересное, что там было!» И Юля предприняла героические усилия (квартира была уже опечатана): ей удалось уговорить кого-то в жэке, квартиру вскрыли и картину взяли. На ней изображен угол дома с терраской и сад, и всюду — на деревьях, на крылечке, на фонарях, в клюве у птички — развешаны плакатики с цитатами и фразами из большевистского лексикона. А сбоку от картины висел гипсовый барельеф (кто автор — не знаю) с нагрудным портретом осла в пиджаке. Хороший такой осел, с огромными густыми бровями и в орденах вылитый Брежнев. А в правом уголочке барельефа в лучах солнца маленькое изображение Сталина — слегка шаржированное. И надпись: «Каждый осел мечтает об ордене». Капаев сказал: «Что ж это у вас такие картины висят, придется забрать». Но картину им, наверное, не хотелось тащить — она большая, примерно метр на полтора. Они и взяли только барельеф. После их ухода Софья Васильевна, перечитывая протокол обыска, увидела в списке отобранных вещей запись: «Портрет Сталина». На следующем обыске она сказала: «Слушайте, ну что вы пишете? Забрали у меня изображение осла, а в протоколе — «портрет Сталина»». Следователь В. Н. Капаев посмотрел и ахнул: «О, господи, как же так получилось? Но ведь вы мне, наверное, свой экземпляр не дадите исправить?» — «Нет, — засмеялась Софья Васильевна, — конечно, не дам». Но при одном из последующих обысков они этот протокол все-таки отобрали.
Через неделю маму вызвали на допрос — в качестве свидетеля по делу Феликса Сереброва. Она отказалась отвечать на вопросы. В «Хронике текущих событий» опубликована ее запись внепротокольной беседы с Капаевым 22 апреля:
«С.В. — За что арестовали Кувакина?
К. — Он ярый антисоветчик.
С.В. — Что же вы — объединили Сереброва, Гривнину и Кувакина в одно дело?
К. — Как объединили, так и разъединим: все в наших руках. Мне очень жаль Гривнину.
С.В. — Только одну?
К. — У нее маленькая дочь.
С.В. — В последнее время говорят: «КГБ пошел по бабам».
К. — Так некого больше брать.
С.В. — Ну а если так жалеете, — отпустите; сами же говорите: все в ваших руках.
К. — Не могу — служба».
Вскоре Софью Васильевну еще раз вызвали в КГБ и вынесли ей письменное «предупреждение по Указу»: «Из материалов Вашего обыска нам стало известно, что Вы составляете, размножаете и распространяете политически вредные документы…» По-видимому, с учетом того, что я с дочерью в это время была во Франции, сотрудник КГБ начал выяснять, не хотела бы она «покинуть страну». В ее мягком по звучанию «не-ет» была такая категоричность, что больше ей этого не предлагали…
Приближалось 21 мая — шестидесятилетний юбилей Андрея Дмитриевича, который он встречал в Горьком, в изоляции от всех друзей. Придумывали разные способы его поздравить. И было решено издать сборник. Александр Бабенышев, Евгения Эммануиловна Печуро и Раиса Борисовна Лерт взялись за его составление. Две статьи — о письмах Сахарову и о юридических аспектах его ссылки — написала в сборник Софья Васильевна. В день рождения в Горьком Елена Георгиевна вручила Андрею Дмитриевичу рукопись сборника, в том же 1981 г. А. Бабенышев опубликовал его в США.
По возвращении из Франции я с дочерью уехала в экспедицию. В нашем саду летом жить было уже практически нельзя — рядом выросли корпуса нового Строгино, в том числе огромное общежитие для «лимитчиков». Молодые ребята, оторванные от своих семей, одинокие в чужом городе, находили себе приют на наших участках: ночевали в домах (замок мама сняла, чтобы не ломали дверь), собирали урожай. Жители похозяйственней выкапывали кусты и деревья для своих дач. На ближайших к забору участках уже заработали бульдозеры. Софья Васильевна только повторяла: «Хорошо, что Наточка не дожила до этого…» Она все лето в Москве и интенсивно работает, хотя это кажется уже невозможным: в августе арестовывают Ивана Ковалева. У мамы еще хватает юмора: «И вот вам результат — трое негритят», — цитирует она смешную песенку нашего детства. И трое оставшихся на свободе членов Московской Хельсинкской группы выпускают очередной документ: об Анатолии Марченко (арестованном еще в марте), которому дают дикий срок — десять лет лагерей плюс пять лет ссылки.
В сентябре у мамы снова обыск — за ней приезжают на Удальцова, везут в Строгино, быстро понимают, что там искать нечего, и едут на улицу Воровского, где добирают остатки: все письма от заключенных. В тот же день проводится обыск у Гули Романовой.
В ноябре Андрей Дмитриевич объявляет первую голодовку. Софья Васильевна, услышав об его намерении, умоляет Елену Георгиевну отговорить мужа. «Вы плохо знаете Андрея, — отвечает та. — Никто не может его отговорить, если он решил что-нибудь. Все, что я могу, — это присоединиться к нему». И она присоединилась. Софья Васильевна голодовок никогда не одобряла, хотя отдавала должное мужеству голодающих. Она очень переживала за Сахаровых, говорила: «Подношу кусок ко рту — и думаю, как же им сейчас тяжело».
22 декабря вышел Хельсинкский документ 190: «О преследованиях русского общественного фонда помощи политзаключенным». А через два дня — двойной обыск: и у меня, и у мамы. Проводила его Московская прокуратура уже по делу самой Софьи Васильевны. Незадолго до этого прокуратура проводила обыск в нашем же подъезде, этажом ниже, у Петра Егидеса и Тамары Самсоновой, по делу о журнале «Поиски». На лестнице слышались крики: «Фашисты! Что вы делаете!» После их ухода в квартире был полный разгром — все вытащено, расшвырено: они вспороли большого синего слона, любимца маленькой внучки, чтобы посмотреть, не спрятано ли в нем чего-нибудь; скидывали с антресолей на пол научные рукописи хозяев (их так и не защищенные докторские диссертации по философии). У меня в квартире обыск провели очень аккуратно, так же, как и у мамы. Мама шутила: «Стало даже чище — они всю пыль стерли и оставшиеся бумажки ровными стопочками сложили». Я тоже старалась вести себя спокойно — возмутилась только, когда они стиральную машину хотели осмотреть. Сказала им, что все рукописи и книги на полках, а в стиральную машину лазать нечего и на антресоли тоже — там только спортивное снаряжение. Послушались, не полезли.
Обыска на улице Удальцова мы не ожидали. Около восьми утра — мама еще спала, а я помогала Гале собираться в школу — в квартиру (дверь, как обычно, была незапертой) вошли несколько мужчин. Мама оделась; половина из пришедших, во главе с хорошо знакомым Софье Васильевне следователем городской прокуратуры Ю. А. Воробьевым, увезли ее проводить обыск на Воровского, а следователь Титов с двумя понятыми занялись моей квартирой. Как скоро стало очевидно, следователь и «понятые» были очень близко знакомы — разговаривали на «ты», обсуждали какие-то свои проблемы. Дамочка-понятая стала ко мне вплотную и не отходила ни на шаг — и в кухню за мной, и в туалет. Галя смотрела на все это с ужасом: она уже знала о распоротом слоне своей подружки Насти и очень испугалась за свои игрушки. Кое-как выпроводив ее в школу, я попросила: «Начните, пожалуйста, с комнаты девочки, чтобы к ее возвращению из школы все было кончено и она не видела, как роются в ее вещах». Они выполнили мою просьбу, тщательно все осмотрели, но оставили игрушки (и все остальное) в полном порядке. А я мучительно думала, что делать дальше. Ничего особенного в квартире не было — мама все Хельсинкские материалы держала на Воровского. Но «самиздатом» во второй комнате были заполнены две полки — у мамы к тому времени все уже позабирали, а у меня кое-что осталось (хранила для детей), и очень жалко было, что все это пропадет. Вспомнила детскую книжку, из тех которыми нас пичкали в начальной школе, про обыск у Владимира Ильича и на всякий случай проводила следователя в третью комнату — кабинет моего мужа. Этот кабинет со времени его гибели оставался почти в нетронутом виде, и там не было абсолютно ничего интересного для следователя, только большая научная библиотека, рукописи по теоретической физике да художественная литература.
И тут мне помогли неожиданно ворвавшиеся в так и не запертую входную дверь мои внуки Руся и Кузя — четырех и трех лет от роду. Они жили на той же площадке. Моя невестка, не подозревавшая, что идет обыск, поехала с новорожденным третьим сыном к своей матери, а старших, как всегда, отправила «к Соне». Свою дверь она захлопнула и уехала на лифте, поэтому девать детей было уже некуда. Ребята были очень бойкие, вернее, буйные, они тут же облепили незнакомую «тетю», начали к ней приставать: «Почитай нам, поиграй с нами». Поддавшись их напору, дамочка уселась с ними в средней комнате (за мной она к этому времени ходить уже перестала). Хватило ее минут на тридцать, после чего она попросила меня их утихомирить и пошла в кабинет к своим коллегам, которые мучались с содержанием огромного, во всю стену до потолка, книжного шкафа. И даже дверь за собой плотно закрыла, чтобы не так сильно мешали крики и визги детей. А я осталась играть с мальчишками и прикидывать, куда девать «самиздат», — уж очень обидно было все отдавать. Вспомнила другую книжку своего детства — про Таню-революционерку, которая, увидев из окна приближающегося жандарма, бросила типографский шрифт отца в кувшин с молоком.
Дамочка несколько раз заходила, просила, чтобы дети вели себя потише, а потом велела освободить эту комнату для осмотра (в комнате на полу уже лото было развернуто, игрушки разбросаны — типичный детский разгром). «Они» к тому времени видно поняли, что ничего для них интересного в доме нет, начали звонить по телефону, что-то обсуждать. А я схватила большую сумку и стала в нее с «самиздатовских» полок все подряд кидать. Сверху прикрыла каким-то зайцем или мишкой, отнесла в Галину комнату и вывалила все за пианино. Потом вернулась, загрузила в сумку почти все оставшееся, взяла за руки мальчишек — и опять все за пианино вместе с сумкой засунула. Ну, конечно, кое-что спрятать не успела. В основном переплетенные Димой — отцом Руси и Кузи — стихи: ксерокопию стихов Гумилева, перепечатки Хармса, Цветаевой, Горбаневской, какие-то малопристойные частушки про Брежнева. Следователь начал радостно все это хватать и запихивать в мешок. Попыталась я возражать: «Ну как же Гумилев мог в 1913 г. порочить наш советский строй? Почему вы его стихи у меня забираете?» — «А это перепечатка с зарубежного издания. Через кого вы из-за границы книги получаете?» Забрали еще две пишущие машинки, все до одной записные книжки — мои и мужа, письма моего отца на французском языке. Когда они ушли, я стала ревизовать — что же за пианино уцелело. Там оказались и Солженицын, и Евгения Гинзбург, и Авторханов, и Зиновьев, и несколько номеров «Хроники», и многое другое, о чем я даже не помнила (в точности, как любила повторять Софья Васильевна, когда какая-нибудь книжка или бумажка терялись: «Ничего, при обыске найдется»).
Мама не осудила меня за эти «игры», хотя мое поведение было совсем не в ее стиле: она предпочитала открытость действий и никогда не пыталась при обысках «хитрить». Смеялись мы с ней до слез, когда я ей рассказывала про участие в обыске ее правнуков. Особенно она радовалась, что за пианино спасся первый том романа «В круге первом», напечатанный на машинке, с автографом: «Софье Васильевне Каллистратовой и Дине Исааковне Каминской, восхищаясь их мужеством и чувством времени». Второй том — с точно такой же надписью — был отдан Каминской, так как двух экземпляров, для обеих, у Александра Исаевича в то время не было. Так же был спасен и том «Августа четырнадцатого», прекрасно «изданный» (в четырех экземплярах) и подаренный маме Сергеем Александровичем Тиме, с богатыми иллюстрациями, перефотографированными им из газет и журналов времен первой мировой войны.
Под следствием
Но вообще-то было не до смеха. Галя стала пугаться при каждом звонке в дверь, боялась спать одна в комнате. А главное — начались изнурительные допросы Софьи Васильевны в прокуратуре, уже по ее собственному делу 49129/65-81. Меня мама отказывалась брать в «сопровождающие». На Лубянку ее возил на такси до своего ареста Ваня Ковалев, а в прокуратуру в основном Евгения Эммануиловна Печуро. Как-то раз допрос совпал с обыском у Евгении Эммануиловны. Тогда маму повез Федор Федорович Кизелов, который после ареста Леонарда Терновского отчасти заменил его, опекая Софью Васильевну при поездках на улицу Воровского. Иногда ее сопровождала Людмила Терновская.
Конечно, эти допросы, а их было пять или шесть, были очень тяжелы для Софьи Васильевны. Продолжались они порой по четыре-пять часов, а ведь ей было уже семьдесят четыре года. Возвратившись домой, она долго отлеживалась, а потом подробно и в весьма юмористических тонах рассказывала, как проходил допрос. Наверное, она старалась нас успокоить. По ее словам, обращались с ней в прокуратуре всегда очень вежливо и даже предупредительно. Помогали снять пальто, говорили: «Софья Васильевна, садитесь, пожалуйста. Вам из форточки не дует?» и т. п. А потом начинали предъявлять стандартные штампованные обвинения в «клеветнических измышлениях», «передаче антисоветской литературы за границу», в «пособничестве ЦРУ».
Софья Васильевна всегда твердо соблюдала три заповеди (часто их повторяла, давая юридические советы): «Ничего не бойся. Ни в каком виде не сотрудничай. Не говори неправды». Она объясняла: «Если будете врать, то (кроме того, что это просто неприятно) они все равно на чем-нибудь поймают, они ведь профессионалы». А говорить правду, особенно когда речь шла не только о ней самой, называть чьи-нибудь имена, она, конечно, не могла. Поэтому она неуклонно выдерживала единственную возможную для нее линию поведения: «Никаких показаний я давать не буду». Следователь задавал ей очередной вопрос, и она спокойно и четко отвечала: «На этот вопрос я отвечать отказываюсь». Но вопросы она все слушала очень внимательно, ведь по ним можно было судить и о том, насколько хорошо следователь осведомлен о деятельности ее и друзей, о намерениях следствия. «Не под протокол» она довольно свободно разговаривала, но в дискуссии никогда не углублялась. Когда следователь пытался обсуждать с ней какие-нибудь философские вопросы, она вполне доброжелательно отвечала: «Приходите ко мне домой, я вас напою чаем, и мы об этом побеседуем, а сюда вы меня вызвали на допрос, так давайте вести допрос». Однажды Воробьев попытался увещевать ее: «Софья Васильевна, ну почему вы отказываетесь отвечать на совершенно очевидные вопросы? Ну вот если я вас спрошу, были ли вы знакомы с римским императором, вы же можете мне сказать, что не были знакомы?» Она рассмеялась: «Конечно, я не была с ним знакома, но если вы мне зададите этот вопрос «под протокол», то я вам отвечу: «На этот вопрос я отвечать отказываюсь»».
Был ли у нее страх перед арестом, тогда вполне реальным? Наверное, был. Но ни передо мной, ни перед другими она никогда его не проявляла. Помню только один ее разговор со мной на эту тему: «Ну, посадить они меня — не посадят, но сослать могут далеко. Жить, конечно, везде можно, только вот без теплого туалета будет трудновато… И тебя срывать с работы не хочется». Во всяком случае, работала она по-прежнему. 18 января 1982 г. она вместе с М. Подъяпольской, Б. Альтшулером, Г. Владимовым и Ю. Шихановичем пишет открытое обращение к Президенту АН СССР Александрову о тяжелом состоянии здоровья Сахарова и о необходимости защиты его прав Президиумом Академии наук. После каждого допроса Софья Васильевна передает свои записи в «Хронику текущих событий». Информация о том, что ей грозит арест, начинает широко распространяться. В конце февраля появляется открытое письмо Сахарова в ее защиту. Публикуются протестующие статьи в «Русской мысли» и в «Новом русском слове», сообщают об этом и «радиоголоса».
Может быть, благодаря огласке власти не захотели доводить дело до суда: следователь вдруг предложил Софье Васильевне написать просьбу о приостановлении дела по состоянию здоровья и приложить соответствующие справки. Она отказалась, хотя здоровье было — хуже некуда. В конце апреля 1982 г. она снова на полтора месяца попадает в больницу, на этот раз кладут ее к Имме Софиевой, снова с тяжелой двусторонней пневмонией. Летом, несмотря на подписку о невыезде, она решается ехать со мной и с Галей под Звенигород. Следователю она отправляет по почте заявление с адресом, по которому ее можно найти. Лето прошло спокойно, за исключением того, что я взялась за восстановление на новом садовом участке вывезенного из Строгино дома и все время моталась из Звенигорода на 63-й километр Казанской дороги, оставляя маму с Галкой и очень волнуясь за обеих. Вопрос о том, брать или не брать вместо Строгино новый участок, решался в семье долго. Сыновьям моим — бродягам по характеру (они своих детей чуть ли не с грудного возраста таскали по лесам и речкам, и дом им вполне заменяла палатка) было не до участка. Мама меня жалела, но в конце концов сказала: «Надо брать. Мы же тебе дом построили, и тебе надо детям что-то оставить…» Я надеялась, что мама еще сумеет там пожить, что цветы посадим… Но Софья Васильевна побывала на «шестьдесят третьем» всего два раза. Жить так далеко от Москвы без телефона и удобного транспорта ей было уже не под силу, да и благоустроить там все до конца я не сумела.
В начале сентября 1982 г. Софью Васильевну вызвали в городскую прокуратуру и предъявили обвинение по статье 190-1. 10 сентября она поехала туда снова — выполнять 201-ю статью (т. е. заканчивать предварительное следствие): вместе с адвокатом знакомиться с делом, свидетельствуя об этом своей подписью. Однако Воробьев, извинившись, сказал, что окончание следствия откладывается на пару недель. Далее должен был следовать суд. Разгром Московской Хельсинкской группы был завершен (с Украинской и другими республиканскими группами к этому времени тоже расправились). И все-таки выпуск последнего, 191-го, Документа о самороспуске группы был для Софьи Васильевны очень трудным решением. Она понимала, что привлечение новых людей (а готовые на этот шаг были) невозможно, так как они были бы обречены на арест на следующий же день после объявления о вступлении в группу. Но тем не менее добровольное признание готовности «сложить оружие», да еще в тот момент, когда ей грозил суд, казалось ей отступлением. Она несколько раз вслух размышляла о всех «за» и «против». Но никакая работа уже была невозможна. И оставшиеся члены группы, обеспокоенные прежде всего ее, а не своей судьбой, уговорили ее «хлопнуть дверью», публично объявив о роспуске группы. Сомнения Софьи Васильевны были обоснованны: по-видимому, властям именно это и было нужно, так как в начале октября ей сообщили о приостановке ее дела «по состоянию здоровья», хотя ответы на запросы в районную поликлинику о ее здоровье (об этом мы узнали от участкового врача) были в прокуратуре еще весной.
Полностью подавить инакомыслие в стране было, конечно, невозможно, но справиться с открытыми выступлениями правозащитников КГБ сумело. Практически все «легализовавшиеся» группы были уничтожены, даже Фонд помощи политзаключенным (он продолжал действовать анонимно). Перестала выходить «Хроника текущих событий», а затем заменивший ее «Бюллетень В». Информация о правозащитниках появлялась в основном за рубежом, например, в журнале «Вести из СССР», выходившем в Мюнхене. Смерть Брежнева ничего не изменила. Приход к власти Андропова (а затем и Черненко) не сулил никаких надежд. Объявленная в декабре 1982 г. амнистия в честь 60-летия СССР не касалась статей, по которым были осуждены узники совести. Тех, у кого кончались сроки, но кто явно не желал «перевоспитываться», в 1982–1983 гг., не выпуская из лагерей, вновь судили и давали им новые сроки. Открытое противостояние продолжал по существу только Сахаров, но с мая 1984 г., после ссылки в Горький Елены Георгиевны, они оказались полностью отрезанными от мира.
На семидесятипятилетний юбилей у Софьи Васильевны было больше писем и телеграмм, чем гостей. Поздравления были из Горького, Ташкента, Джезказгана, Чувашии, Потьмы, из Читинской, Кокчетавской, Томской, Омской, Пермской областей, из Хабаровского края, Якутской АССР. Вместо названий улиц на большинстве обратных адресов — номера «учреждений». Вся география ГУЛАГа. И еще — от близких друзей из Америки, Франции, Германии. Были теплые, поддерживающие телеграммы и из Москвы: «Поздравляю доблестную защитницу беззащитных со славным юбилеем. Будьте спокойны и радостны, ничто не пропадает. Чуковская». Мама помогала своими советами Лидии Корнеевне в деле о выселении ее с дачи в Переделкино, где ее силами был организован музей К. И. Чуковского, и любила рассказывать о начале их знакомства. Она принесла Лидии Корнеевне «на подпись» какое-то открытое письмо.
— Я это подписывать не буду, — сказала Лидия Корнеевна.
— Почему? — удивилась мама.
— Потому что письмо неграмотно написано: «Изменить меру пресечения». Пресечения чего? Кто это написал?
— Я, — призналась мама. — Но это же юридический термин!
Софья Васильевна занимается хозяйством, пестует внучку и правнуков, по-прежнему охотно консультирует, ведет переписку с заключенными — и друзьями и незнакомыми, узнавшими ее адрес в лагерях. Она теперь почти не ездит на улицу Воровского — там поселяется старший внук. На Удальцова частые гости Евгения Эммануиловна Печуро, Раиса Борисовна Лерт и ее приятельница, филолог Елена Марковна Евнина. Семья Самсоновых-Егидесов эмигрировала, но в нашем же подъезде обнаруживается еще одна очень близкая по духу семья — Томашпольские-Степановы. Практически это весь круг ее общения. Власти довольны, считают, что семидесятисемилетняя «старуха» уже перестала быть «общественно опасным лицом», и в августе 1984 г. прокуратура прекращает ее дело. Но узнала она об этом лишь спустя четыре года.
Весной 1983 г. умер старший брат Софьи Васильевны. Она осталась главой большого семейного клана: дочка, племянница, трое внуков (и две невестки, которые очень любят ее), пятеро правнуков. Как-то раз она прикидывала: «Если мне суждено жить, как Феде, до восьмидесяти, значит до 1987 г.; если, как Нате, до восьмидесяти двух, — то до 1989-го…» Летом я с Галей уехала в экспедицию, Софья Васильевна жила во Фрязино, у Нины Некипеловой, так как одна она уже оставаться не могла: участились сердечные приступы. Федора Федоровича Кизелова, который последнее время много помогал ей, в Москве не было. Он — в «бегах»: случайно узнав о предстоящем аресте, сел на поезд и уехал на восток. Зато, правда, вернулись из лагерей некоторые друзья. В апреле вернулся Терновский, затем Иосиф Дядькин, Слава Бахмин, Илья Бурмистрович, Семен Глузман, Саша Подрабинек. Но это только малая часть; остальные — кто в лагерях, кто в ссылках. Вернувшиеся — за «101-м километром», в Москве бывают редко.
В 1984 г. мама снова в клинике «у Недоступа» — с тяжелейшим приступом желчно-каменной болезни. Двенадцать дней она почти не вставала с постели, лежала с капельницей. Ее готовили к операции, перевели в хирургическое отделение, где не было абсолютно никакой возможности курить. Пробыла она там недолго (операцию делать не решились из-за плохого сердца), но когда я пришла в терапию, куда ее снова перевели, то вдруг услышала: «Я никогда не думала, что смогу бросить курить. А тут три дня не курила — и ничего, жива. Вот и решила: раз три дня могу без папирос, значит и дольше могу». И с тех пор она ни разу не закурила, — тут ее воля проявилась совершенно железно. Хотя потом иногда говорила: «Удивительно, уже два года (потом — уже три года) не курю и не думаю вовсе об этом, но вдруг — после завтрака, после кофе, так хочется закурить, совершенно безумно хочется — вот я прямо чувствую, как в руках папиросу разминаю». Но, по-видимому, то, что она умерла от рака легких, все-таки было результатом этого пятидесятилетнего курения. Курила она всегда, — до сих пор помню ее самокрутки из махорки во время войны, а потом вечный «Беломор», больше пачки в день, — и в больницах, и при воспалениях легких. Я просила ее бросить, врачи вели с ней разговоры на эту тему, но она всегда отвергала их наотмашь: «Курила и курить буду, ничего. Не уговаривайте», — и ни разу не пыталась бросить. Хотя очень огорчалась, когда я, а потом и старший внук закурили.
К Новому, 1985 г. Софья Васильевна пишет список для поздравлений: Великанова, Гершуни, Корягин, Ланда, Орлов, Осипова, Некипелов, Лавут, В январе 1985 г. Андрей Дмитриевич отправил Софье Васильевне письмо с единственной возможной оказией — адвокатом Елены Георгиевны. Привожу текст письма полностью:
«Дорогая Софья Васильевна!
Я начну сразу с большой просьбы. Я решил 26 марта (зачеркнуто) 16 апреля возобновить голодовку с требованием предоставить Люсе возможность поездки за рубеж для лечения (вероятно — операций на сердце и на глазе) и для встречи с Руфью Григорьевной, детьми и внуками. Я прошу Вас в этот день попытаться организовать сообщение о начале голодовки иностранным корреспондентам (желательно в несколько агентств) — либо лично Вами, либо (если Вы, как это было до сих пор, не общаетесь с инкорами) — через кого-либо, кому Вы можете доверить это дело; мне трудно с определенностью назвать фамилию, я плохо знаю положение в Москве и положение людей, я думал в этой связи об Инне Мейман, об Ире Кристи, о Боре Биргере (зачеркнуто). До 13–16 апреля никто не должен знать о моем намерении — иначе ГБ примет свои контрмеры.
Коротко о наших делах. Люсино здоровье много хуже, чем в прошлом году. Чаще и тяжелее приступы стенокардии (каждый раз кажется, что данный приступ самый тяжелый). Приступы происходят с интервалом то около недели, то чаще и длятся от нескольких часов до суток. А небольшие приступы, снимаемые нитроглицерином, — почти каждый день. Сустак форте, нитросорбит ежедневно. Плохо и с глазами. С марта она не была у окулиста (да и чем он может помочь). Субъективно — прогрессирующее сужение поля зрения. Раз в месяц она должна являться на отметку в РОВД. Поликлиника (без обследования!) дала справку, что она «способна к самостоятельному передвижению», т. е. санкционировала привод при неявке при любом морозе и ветре и при любых приступах в день отметки. А у Люси немедленно приступы стенокардии при каждом выходе при небольшом морозе и ветре, и глаза болят. Люсе предъявлено выходящее за пределы ИТК для ссыльных требование не выходить из дома после 8 вечера. Мы живем в беспрецедентной изоляции. Все контакты прерываются, все приезды кого-либо к нам исключены. Число окружающих нас гебистов неисчислимо. Даже по ночам регулярно под окнами дежурит машина с включенным мотором. Хуже всего — отсутствие нормальной почтовой и телеграфной связи. Значительное число наших писем и писем к нам не доходит. Уведомление о вручении мы часто не получаем или — есть один несомненный случай — получаем ложные уведомления. А друзья обижаются, что мы не отвечаем на их вопросы (еще они не учитывают, что все адреса и номера телефонов отобраны при обыске, приходится восстанавливать заново). Из США доходят только открытки от Руфи Григорьевны (и то, возможно, не все).
Одна из проблем Люсиного здоровья — вредность для сердца ее глазного лекарства, вредность для глаз нитропрепаратов, без которых она не может прожить ни одного дня. Это — порочный круг. Время работает не на нас, оно работает против Люсиного здоровья. Бездействие — губительно. Именно поэтому я считаю необходимой голодовку, при всем ужасе этого решения, опасности для меня и для Люси, еще большей, чем для меня. Я не вижу иного выхода.
Софья Васильевна, мы оба желаем Вам всего лучшего. Мы любим и помним Вас. Будьте здоровы.
11 января 1985. Ваш А. С.
Я прилагаю в письме «Обращение» в связи с объявлением голодовки. Может, его удастся передать инкорам (через тех же людей, которые возьмут на себя сообщение инкорам о голодовке)?
Дата начала голодовки изменена мною: 16 апреля 1985 правильно.
Я обратился к Боре Биргеру с просьбой сообщить о голодовке. Но это совсем не заменяет того, с чем я обратился к Вам, т. к. он контактирует, насколько я знаю, только с дипломатами, а это не совсем то, что надо, не гарантирует гласности. И вообще, дублирование не мешает.
А.С.»
Но Софья Васильевна ничего об этом письме не знала, — адвокат Елены Георгиевны ей это письмо не передала и сказала, что у Сахарова все в порядке и он просил не поднимать никакого шума в связи с его молчанием. Мама обнаружила это письмо в нашем почтовом ящике, в незаклеенном конверте без адреса (только с инициалами «С.В.»), спустя почти год, уже после того, как Андрей Дмитриевич, пройдя во второй раз все круги ада в горьковской больнице, одержал победу и Елену Георгиевну выпустили для лечения. После долгого перерыва она вновь попала на улицу Чкалова, где, несмотря на очень плохое самочувствие, не могла не собрать друзей перед отъездом за границу. И только здесь стала известна вся правда. Маме Елена Георгиевна дала страшную фотографию, сделанную в Горьком в декабре 1985 г. сразу после выхода из голодовки: Андрей Дмитриевич выглядел на ней, как узник Освенцима, — его невозможно было узнать.
1985 г. для Софьи Васильевны был очень тяжелым. Вынужденное молчание было невыносимо. В начале года она опять — в третий раз — попадает в больницу с пневмонией. Теперь она не может выходить зимой на улицу: сразу начинается приступ стенокардии. Много читает (уже с лупой), просматривает все газеты, слушает радио. Внимательно вчитывается в речь Горбачева на апрельском пленуме 1985 г. — в ней какие-то новые нотки, такого признания наших трудностей и недостатков с этой трибуны мы еще не слышали. Но идет-то все по-прежнему («по-брежнему»). И в докладе к 40-й годовщине Победы под продолжительные аплодисменты чеканятся привычные фразы: «Советское общество сегодня — это общество высокоразвитой экономики… это общество постоянно растущего благосостояния народа… это общество высокой образованности и культуры народа… это общество подлинной, реальной демократии, уважения достоинства и прав граждан…» И далее: «Нужна бдительность к проискам тех, кто толкает мир к ядерной пропасти». Призыв к «ускорению» лишь удручает.
Летом Софья Васильевна снова под Звенигородом со мной и с четырехлетним младшим правнуком Митей — вся в заботах о нем, очень своеобразном ребенке, который все время убегает. Ей тяжело, но она не может допустить, чтобы «ребенок проводил лето в Москве» (старших правнуков отправили в лагерь). Это едва не кончилось трагически: утром она оставила Митьку на минуту без присмотра около дома, и он исчез. До обеда Софья Васильевна сама пыталась разыскать его, днем — я и все население научной станции. Потом позвонили в милицию. Приехал автобус с милиционерами и восьмью служебными овчарками «брать след ребенка» (рядом с домом — большой лес). Нашли его только в семь часов вечера, километрах в трех от нашей станции, за шоссе, за железной дорогой, около ЛТП. Он выглядел очень довольным и смело шагал в прямо противоположном от дома направлении. Софья Васильевна после этого лежала с тяжелейшим приступом. На следующий день я отвезла Митю в Москву к его родителям.
На звенигородской станции в одном с нами подъезде жили сотрудницы моего института: Татьяна Красильникова и Вита Белявская. Софья Васильевна очень подружилась с их семьями, они ее опекали, когда мне приходилось по работе выезжать в Москву. Я надеялась, что мама за август отдохнет от всех детей и немножко поправит здоровье. Но случилось несчастье. Как-то поздно вечером мы пили чай у Тани Красильниковой, и мама решила сходить к себе за вареньем (квартиры были рядом). На лестнице не было света, и ей под ноги в темноте подвернулась одна из «ничейных» собак, которых подкармливали жители подъезда. Софья Васильевна упала, пролетев целый марш лестницы. На страшный грохот и звон от разбитой банки я выскочила из квартиры и, увидев в свете открытой двери, что мама лежит на нижней площадке, закричала. Первое, что я от нее услышала, было: «Ну что ты голосишь, жива я, жива». Как потом оказалось, она не только сильно ушиблась, но еще и сломала оба плеча. Сбежались соседи, на одеяле подняли ее в квартиру. Сотрудник института Сергей Ломадзе вместе со своим сыном повез нас в Москву. Было уже два часа ночи, в связи с Фестивалем молодежи загородные машины не пускали, мы еле уговорили милиционера. Мама была в полузабытьи, а когда приходила в сознание, говорила что-нибудь утешительное и даже напевала тихонько: «Я ехала домой, и полная луна…» (была ясная ночь, и луна светила в окна машины). Потом Сергей мне сказал: «Я как услышал, что она напевает, понял: жить будет». Привезли ее в Институт Склифосовского, ждали до утра, пока ее положили, а на следующий день, в воскресенье, дежурный врач сказал мне: «Забирайте-ка лучше ее домой». Состояние у нее было очень тяжелое. Даже приподняться на кровати она не могла: малейшее движение рук причиняло страшную боль. Когда я увидела рентгеновский снимок, то ужаснулась — от обоих плечей было отколото по куску кости. Я не представляла себе, как это может срастись.
Весь август мы провели вдвоем на улице Удальцова. Она была совершенно беспомощна — ни сесть, ни одеться, ни ложку в руки взять. Но участковый врач Тамара Петровна Семенова, очень отзывчивый и добрый человек и опытный специалист, сказала, что руки надо упражнять, и показала комплекс упражнений. Как можно делать эти упражнения, сначала ни мама, ни я не понимали, — шевелить руками она не могла. И как же мама боролась! Постепенно, с моей поддержкой, начала ходить по квартире, приподнимать руки из висячего положения, прибавляя каждый день по одному-полтора сантиметра. Отдыхала, снова начинала упражняться. Иногда от боли теряла сознание. Болела и ушибленная грудь. Но ни одной жалобы за весь месяц я от нее не услышала, — все такая же доброжелательная улыбка, всегда ободряющие слова. Как это ни парадоксально, я теперь вспоминаю об этом августе как о счастливейшем месяце: первый раз в жизни мы были с мамой одни с утра до вечера, без всяких дел (и диссертация, и все прочее было отставлено), и говорили, говорили… Погода стояла прекрасная, в комнате было широко распахнуто окно и много солнца. А недели через две я начала выводить ее гулять — по пять минут, по десять, по полчаса. И произошло чудо: несмотря на преклонный мамин возраст кости срослись, хотя, конечно, некоторая скованность движений осталась.
Второе дыхание
И все-таки вокруг все постепенно менялось. 19 сентября 1985 г. я отвезла Софью Васильевну на улицу Воровского, куда в этот день друзья привыкли приходить без приглашения. Она сидела в кресле, а я стояла у дверей и предупреждала каждого входящего: «Только не обнимайте маму, у нее руки сломанные». И это было необходимо: с объятьями бросались к ней дорогие гости, с которыми она уже не чаяла увидеться, — и Сергей Ковалев, и Иосиф Дядькин, и Саша Подрабинек, и Таня Великанова, и Мальва Ланда, и Сергей Ходорович…
С начала января 1986 г. стали приходить письма от Андрея Дмитриевича, наполненные, как всегда, прежде всего беспокойством о Елене Георгиевне (Софья Васильевна всегда восхищалась их трогательной заботой друг о друге. Она говорила, что умение любить — это редкий талант и что Андрей Дмитриевич обладает этим талантом в полной мере). Вот одно из писем:
«5/1-1986 г.
Дорогая Софья Васильевна!
Простите, что долго не отвечал письмом. Хотел узнать что-либо определенное о Люсиной операции. Ну и обычная лень, и «недосуг». К сожалению, врачи, видимо, не решаются на операцию — слишком обширна зона поражения и инфаркт не свежий. С другой стороны, часть сердца в хорошем состоянии, т. е. сильно рисковать незачем. Окончательно узнаю через неделю. В общем, врачам видней. Главное, что Люся увидела своих! Стресс от разлуки — это, наверно, была главная причина инфаркта.
Победа была такой трудной для нас обоих — особенно для Люси, она перенесла 10 страшных месяцев изоляции, незнания и беспокойства за меня, физических и моральных мучений — и такой необходимой.
Мы действительно ничего не знали о Вас. Очень жаль, что Вы вдобавок ко всему упали. Желаю Вам и Вашим близким здоровья в Новом году, счастья!
Я сейчас живу мыслями о Люсе там и пытаюсь изучать статьи о суперструне (не знаю, говорит ли Вам что-нибудь это слово, но звучит оно хорошо, музыкально). Я, вроде Вас, 27 дек. упал (поскользнулся), ушиб спину в области легких. Неприятно, но терпимо. Пройдет в свое время… Быт меня не затрудняет — я умею и могу все делать сам, не спеша. Все необходимое есть. Настроение хорошее.
Аля и Катя Шихановичи прислали фото, на некоторых Вы рядом с Люсей, и на вид почти не изменились. Это меня радует и хочется пожелать Вам «держаться в седле» подольше. С Новым годом, с новым счастьем. Целую Вас. Андрей».
И мама «держалась в седле». Весной 1986 г. пятилетний Митя развел в кабинете под столиком с моими бумагами костер из спичек. Сухой столик и бумаги загорелись, пламя перекинулось на занавеску, загорелся диван. А рядом, на лоджии, спала его сестренка, двухмесячная Анечка. Дело было днем, и дома была только Софья Васильевна. Она в соседней комнате раскладывала пасьянс и ничего не чувствовала — из-за хронического гайморита у нее было сильно ослаблено обоняние. Слава Богу, что Митя не просто убежал на улицу, а все-таки подошел к ней и сказал: «Соня! В большой комнате кто-то спичку зажег…» И тут она увидела, что коридор полон дыма, а за ним виднеется пламя. Реакция ее была мгновенной: она налила в ванной полведра воды (полное донести не могла), прошла сквозь дым и выплеснула в самую середину огня, потом принесла вторые полведра, третьи и т. д. К счастью, минут через пятнадцать вернулась Митина мама и бросилась ей помогать. Когда приехали пожарные, которых вызвали соседи, увидевшие валивший из окна дым, пламя уже загасили. Вот так и было — по классике — «в горящую избу войдет». Вернувшись с работы, увидев прогоревший паркет, черные стены и потолок, остатки стола и груду пепла и ужаснувшись тому, что ей пришлось пережить, я спросила: «Почему же ты сразу не позвала на помощь?» — «Боялась, что пока докричусь, Анечка сгорит». В этом был весь характер Софьи Васильевны: мысль о себе — в последнюю очередь.
О гласности и правах человека еще не было слышно. Но Софья Васильевна уже не повторяла, как в начале 80-х (когда кто-нибудь предлагал устроить еще одну революцию): «Да поймите вы наконец, что советская власть нерушима! Нерушима!» Газеты становились интересней. В феврале, на XXVII съезде, впервые прозвучали слова о необходимости «глубокой перестройки хозяйственного механизма», Борис Ельцин уже заговорил о «порочных методах руководства, проявлениях благодушия, парадности, празднословия, стремлении руководителей к спокойной жизни». В мае Софья Васильевна получила письмо от Сахарова с известием о возвращении Елены Георгиевны из-за границы (а Софья Васильевна так боялась, что ее не впустят обратно). Самое удивительное, во что Софья Васильевна с трудом могла поверить, — отбывших наказание правозащитников начинают прописывать в Москве. Появляется надежда на досрочное освобождение тяжело больного Анатолия Марченко, который держит голодовку. Но вдруг — страшное известие о его смерти. И почти одновременно — 18 декабря — разнеслась весть, что у Сахаровых в Горьком включили телефон и что ему звонил Горбачев.
С возвращения Сахаровых в Москву началось новое время в жизни Софьи Васильевны и ее друзей. Она высоко оценила этот шаг Горбачева как реальное доказательство «нового мышления», не забывая об этом и тогда, когда некоторые действия Михаила Сергеевича стали вызывать у нее досаду и даже протест. В конце декабря, на второй день после приезда Сахаровых, я сопровождала маму на улицу Чкалова. Какая же это была радостная встреча! На легендарной «московской кухне», как в прежние годы, уместились все друзья, и никому не было тесно, а во входную дверь рвались с телекамерами «инкоры», которых Елене Георгиевне еле удавалось сдерживать. И Андрей Дмитриевич, заметно уставший после только что состоявшегося в Останкино его телеинтервью для США, так хорошо улыбался своим друзьям!
Сразу же возникли споры. Хотя многое менялось на глазах, сущность строя оставалась прежней — во главе всего по-прежнему стояла партия со всесильным ЦК, весь репрессивный аппарат был на месте, сотни политзаключенных еще оставались в лагерях. Что делать? Продолжать противостояние или пытаться использовать открывающиеся возможности для какой-то конструктивной работы? Софья Васильевна выбирает второе. Безупречное нравственное чутье позволяло ей идти на компромиссы, учитывающие реальную обстановку, никогда не переходя грань, отделяющую компромисс от беспринципности. Одно из самых насущных дел, по ее мнению, — добиваться освобождения заключенных и полной реабилитации всех невинно осужденных в 60-80-х гг. по политическим статьям. И она пишет от своего имени и от имени друзей и родственников аргументированные жалобы в Верховный суд по делам Ильи Габая, Сергея Ходоровича, активистов крымско-татарского движения. Берется она и за теоретические работы, задуманные более двадцати лет назад: «Адвокат в уголовном процессе» («Право на защиту»), «О порядке содержания граждан в местах предварительного заключения», «О смертной казни», начинает собирать материалы для проекта нового Исправительно-трудового кодекса. Положение в советских тюрьмах и лагерях ей хорошо знакомо. Но это огромная работа, требующая изучения правил и условий содержания заключенных в дореволюционной России, в других странах. Ей приносят из библиотеки книги и статьи по этой тематике. Не все из этого ей удалось довести до конца — не хватило ни сил, ни времени. Она по-прежнему брала на себя заботы о внуках и правнуках, а по вечерам слушала «голоса», которые наконец-то перестали глушить (и в том числе голос Люды Алексеевой, его незабываемый энергичный тембр был хорошо узнаваем даже из-за океана), и относилась ко всему происходящему в стране с огромным интересом: «Никогда не думала, что доведется дожить до такого, когда во всех газетах станут писать то, за что нас безжалостно сажали». Софья Васильевна с большим недоверием относится к утверждениям, на которые не скупятся в газетах весьма уважаемые люди, будто раньше они и не подозревали, что все так плохо, все верили и подумать даже не могли… Так, возмутила ее статья Чингиза Айтматова, напечатанная в «Известиях» в мае 1987 г. Я ее тогда подзадорила: «А ты напиши ему открытое письмо, — вдруг ответит!» Она села и написала, да как написала! Не ответил… В сентябре 1987 г. ей предлагают участвовать в Международном общественном семинаре по гуманитарным вопросам (проходившем тогда еще на частной квартире). И она наговаривает на пленку почти часовой доклад «Публичность и закрытость нормативных актов, регулирующих отношение личности и государства», но выступить лично она физически не в состоянии.
В октябре 1987 г. истек пятилетний срок, после которого, по закону, приостановленное дело должно быть прекращено. И Софья Васильевна написала серию жалоб в прокуратуру от своего имени и от моего, с требованием вернуть изъятое при обысках имущество. Большой надежды на возвращение не было известно, что «вещественные доказательства» предпочитали уничтожать. В записной книжке Софьи Васильевны до сих пор так и лежит копия ответа Михаилу Зотову на аналогичную жалобу:
«Министерство юстиции РСФСР 445036 гор. Тольятти Куйбышевский областной суд, ул. Ст. Разина, 10-198 413099 г. Куйбышев, гр. Зотову М. В. пл. Революции, 60 21.04.88 02–92/81
На Ваше письмо, поступившее из УКГБ по Куйбышевской области, сообщаю, что вещественные доказательства по Вашему делу: 2 фотоальбома, 18 томов рукописных и машинописных текстов, 194 фотопленки и кадров, 519 фотографий, 9 картин и 1 эскиз уничтожены комиссией УКГБ по акту от 10.08.81 года согласно определения областного суда.
Зам. Председателя Куйбышевского областного суда А. С. Бойко».
Но Софья Васильевна считала, что надо «приучать» прокуратуру к соблюдению законов, и продолжала жаловаться во все более высокие инстанции.
Лето 1988 г. она провела с Еленой Марковной Евниной в подмосковной деревне Растороповка, так как я не могла уехать из Москвы, потому что Галя поступала в университет. Мама плохо себя чувствовала, я уговаривала ее лечь в больницу, но она отказалась категорически. Теперь я думаю, что она лучше меня и лучше врачей понимала, насколько плохо обстоят дела с ее здоровьем, и хотела максимально использовать отпущенное ей время: ведь только теперь у нее появилась возможность донести до людей всю правду о правозащитном движении, оболганном нашей прессой. В августе из одного из ответов на свои жалобы она узнает, что ее дело было прекращено еще в 1984 г. ввиду того, что «она прекратила свою деятельность и перестала быть социально опасной», причем ей об этом постановлении не было сообщено. Она подает жалобу в Прокуратуру Союза с требованием либо «прекратить дело за отсутствием состава преступления», либо передать его в суд. И добивается своего.
Мне разрешают прийти в прокуратуру и переписать для нее от руки (прислать домой копию они почему-то не могут) новое постановление. У меня холодок пробегает по спине, когда я начинаю читать преамбулу, в которой переписано из обвинительного заключения: «…материалами дела доказано, что Каллистратова систематически занималась изготовлением и распространением» и т. д. Но в конце стояли нужные слова — «за отсутствием состава преступления». Производил этот текст уже не страшное, а комическое впечатление. Это постановление было важно для Софьи Васильевны прежде всего как прецедент, который помогал ей в борьбе за реабилитацию всех правозащитников, осужденных в 1960-1980-х гг.
Из всего отобранного при обысках ей согласились вернуть лишь пишущие машинки (все рукописи, книжки, фотографии, почта Андрея Дмитриевича вместе с чемоданом неизвестно где исчезли — Прокуратура кивала на ГБ, ГБ на Прокуратуру), но — «только лично». Пришлось мне везти маму на Новокузнецкую — в Московскую прокуратуру. Следователь, жалуясь на отсутствие помощников и тесноту, начал приносить в кабинет машинку за машинкой — штук пятнадцать, пыльные, в футлярах и без: «Я не знаю, какие Ваши, выбирайте сами». К некоторым машинкам были привязаны бирки: «Лернер», «Кизелов»… Там же неожиданно оказался портативный фотоувеличитель в футляре, на котором мы с мамой печатали карточки еще в 50-х гг. и о котором совершенно забыли. Но маминых машинок не было. «Ну так берите любые, какие Вам нравятся», предложил следователь, которому явно было лень тащить еще одну партию. Я и выбрала две «Эрики» — работающие и в приличных футлярах. Мама считала эту операцию незаконной, кроме того, ей хотелось получить свой любимый дореволюционный «Ундервуд», который ей так славно служил долгие годы. Следователь торопил: «Это все бесхозное, хозяева давно уехали, забирайте!» Пришлось взять. Мама вскоре подарила их внукам, которым они очень пригодились для работы, а сама печатала на моей, и печатала много. В конце декабря она закончила развернутые замечания на опубликованный проект «Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик», где излагала давно выношенные мысли о вреде длительных сроков, недопустимости смертной казни, недопустимости расплывчатых формулировок «политических» статей.
С осени 1988 г. Софья Васильевна, что называется, с головой окунается в общественную жизнь. В ноябре ее приглашают в «Спасохауз» — на прием по случаю визита Парламентской комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она решает ехать — машину обещали прислать. Я в замешательстве — в чем ехать? Мама уже много лет не покупала себе одежды, дома носила красивый теплый халат, привезенный мною «из-за бугра», праздничным нарядом служил синий шерстяной сарафан, подаренный друзьями. Я помчалась в универмаг «Москва» — перемерила там все, что было, прикидывая на размер больше, и удача! Черное шерстяное платье за 100 рублей, — как специально для нее сшито. В этом строгом платье, с крупными янтарными бусами (единственной ее «драгоценностью») она выглядела очень красиво и величественно, выступая с трибуны.
А выступала она в эту зиму много раз. В январе 1989 г. ее приглашают на учредительное собрание Московского отделения общества «Мемориал», выбирают делегатом Всесоюзной учредительной конференции «Мемориала». В январе же она становится членом клуба «Московская трибуна», затем Майя Уздина привлекает ее к работе в клубе «Трибуна общественного мнения у Никитских ворот». В феврале познакомившаяся с ней на приеме в «Спасохаузе» сопредседатель советско-американского фонда «Культурная инициатива» (Фонда Сороса) А. Буис предлагает ей стать членом правовой комиссии этого фонда. Ей уже восемьдесят один год, но во всех этих обществах и клубах она отнюдь не играет роль «свадебного генерала», а работает в полную силу. 29 января она выступает на конференции «Мемориала», через несколько дней доказывает на «Московской трибуне» необходимость участия в работе клуба юристов и привлекает в клуб двух квалифицированных адвокатов — Б. АЗолотухина и Н. А. Монахова. В Фонде Сороса вместе с Золотухиным разрабатывает проект по созданию адвокатской группы для осуществления мер по реабилитации жертв репрессий 60-х-80-х гг. и возмещения им материального ущерба. Одновременно она готовит от имени Правовой комиссии Фонда Сороса методические указания по работе с письмами трудящихся. Этот далеко не формальный документ хочется привести целиком, как образец ее подхода к любому делу:
«Каллистратова Софья Васильевна телефон 131-63-97
Если Комиссия по правовой культуре Фонда «Культурная Инициатива» будет финансировать работу с письмами трудящихся Комиссии Ф. Бурлацкого, то предлагаю передать этой Комиссии наш проект методических указаний по работе с письмами:
1. В Комиссию по правам человека, как правило, обращаются люди, либо не верящие в возможность разрешения их наболевших вопросов официальными инстанциями, либо уже прошедшие многие инстанции и отчаявшиеся, потерявшие надежду получить разрешение конфликта. Поэтому решительно невозможно в работе с письмами ограничиться только рассылкой писем в соответствующие официальные инстанции и стандартным извещением автора письма о том, куда его письмо отправлено.
2. Необходимо заключить договор с одной из юридических консультаций МГКА на обслуживание Комиссии квалифицированным адвокатом, специально по работе с письмами. Этому адвокату поручить создать группу (преимущественно из молодых адвокатов, не имеющих достаточной практики) с включением в эту группу одного (а может быть, и двух) психиатров, с которыми (с психиатрами) Комиссия также должна заключить контракт.
В обязанности адвоката, на работу которого будет заключен договор с юрисконсультацией, вменить распределение писем между членами группы и контроль за исполнением.
3. Каждый автор письма должен получить индивидуально для него написанный ответ, составленный с учетом интеллектуального уровня и грамотности автора. Ответ должен быть завизирован исполнителем и адвокатом, обслуживающим группу, и подписан одним из руководящих работников Комиссии.
4. Все поступающие письма должны рассортировываться по следующим категориям:
а) Письма явно бредового характера, исходящие от психически больных людей и требующие не столько правовой, сколько врачебно-психиатрической помощи (к этой категории могут быть отнесены лишь письма, бредовый характер которых очевиден и не вызывает сомнений). Ответы на эти письма должны составляться психиатром с позиций психотерапии. Психиатру же надо предоставлять и право решать, надо ли от имени Комиссии обратиться к местным органам здравоохранения (районному психиатру) с просьбой об оказании автору письма соответствующей врачебной помощи.
б) Письма, содержащие просьбы о денежных пособиях. Как правило, эти письма обосновываются ссылками на конкретные нужды (вставка зубных протезов, поездка к родственникам, приобретение какого-либо оборудования или музыкального инструмента и т. д.).
Насколько я понимаю, ответ на такие письма, как правило, будет отрицательным, так как Комиссия не имеет своей целью выдачу денежных пособий нуждающимся. Отрицательный ответ должен быть изложен в безукоризненно вежливых и уважительных тонах.
в) Письма, содержащие чисто правовые вопросы, для разрешения которых достаточно знания закона и нет необходимости в проверке фактических обстоятельств. На такие письма надо отвечать в доходчивых выражениях, разъясняя соответствующий закон и, возможно, указывая, куда следует обратиться для разрешения возникшего (или могущего возникнуть) конфликта.
г) Письма-жалобы на допущенные кем-либо нарушения или на неправильные (по мнению автора письма) решения административных органов, решения, приговоры и определения судебных органов. Такие письма обычно нуждаются в получении дополнительных сведений от автора письма (путем дополнительной переписки) или проверки на месте (командировка), или изучения судебного гражданского либо уголовного дела с последующим обжалованием в порядке надзора (при наличии к тому оснований жалобу составляет и подает адвокат).
По таким письмам надо сообщать автору письма, кому поручена проверка его жалобы, и указывать адрес этого адвоката (консультации). В такого рода письмах необходимо упоминать, что если жалобщик не имеет возможности оплатить гонорар адвокату, то Комиссия берет на себя эту оплату.
5. Все поступающие письма должны регистрироваться и иметь номер для возможности определять повторные письма того же автора.
Форма и содержание ответов Комиссии определяется общими принципами работы Комиссии, а также стремлением к развитию правового сознания у авторов писем. Очень рекомендуется обращение к автору письма по имени-отчеству с добавлением эпитетов «дорогой» или «уважаемый». Рекомендуются и такие выражения, как: «Мы получили и внимательно прочли Ваше письмо»; «К сожалению, мы лишены возможности…» и т. д.
Максимальное стремление к избежанию стереотипных, формальных формулировок в ответах будет служить основанием для доверия авторов писем к Комиссии.
Из опыта работы с письмами (переписка А. Д. Сахарова) я знаю, что на деле категорически отрицательные ответы, но изложенные в соответствующем тоне, вызывали благодарность авторов жалоб, выраженную в повторных письмах.
2/11-89 г. С. Каллистратова».
Зимой и весной 1989 г. она делает два доклада на заседаниях клуба «Трибуна общественного мнения у Никитских ворот» — «О проекте основ уголовного законодательства» и «О правозащитном движении 60-80-х гг.». В те же месяцы она выступает с докладами в клубе МАИ — «О работе группы «Хельсинки»», и в клубе завода «Серп и молот» — на вечере памяти Ильи Габая. Она завела несколько толстых папок — по одной для каждой общественной организации, — в которых у нее такой же образцовый порядок, какой был в адвокатских досье. Зрение у нее сильно ухудшилось, и тезисы к своим выступлениям она писала крупными печатными буквами, по две-три фразы на страницу. Но тезисы были ей практически не нужны — ее ораторский талант по-прежнему был блистателен. Я, Дима, Галя часто сопровождали ее на выступления и встречи. И с каким восхищением слушали свою бабушку (и наблюдали, как ее слушает аудитория) внуки, привыкшие к тому, что она о них заботится, кормит их, что с нею можно немножко покапризничать.
Софью Васильевну невозможно было не слушать. Помню, Галич рассказывал, как он познакомился с Софьей Васильевной в какой-то компании: «Я думал, что эта старушка родственница хозяев. Но когда «старушка» заговорила…» У мамы был необычайно выразительный голос. Многие пытались определить его: низкий, хрипловатый, прокуренный… Но все это было совершенно несущественно. Главное было в другом. При безупречной дикции и некоторой даже замедленности речи (она никогда не «тараторила») этот голос был невероятно богат оттенками, разнообразен интонациями, акцентированием сущности произносимого. Соединение этой замедленности с энергичностью как-то завораживало. Она умела «держать паузу», умела самое короткое слово — «нет» — произнести десятью разными способами, каждый раз именно так, как было необходимо. В ее голосе не было никакого журчания, монотонности, каждое слово было обращено к слушателю и произнесено так, чтобы весь его смысл раскрылся в данном контексте. Ну а смысл у каждого ее слова был всегда. И при этом ее голос был абсолютно естествен, в нем не было ничего «актерского».
…На улицу Чкалова она больше не ездит. Андрей Дмитриевич иногда звонит ей:
— Софья Васильевна, мы сволочи.
— Кто сволочи???
— Мы с Люсей. Мы звоним вам, только когда надо проконсультироваться…
— Андрей Дмитриевич, я же все понимаю, мы же каждый вечер видим вас на экране. Какой у вас вопрос?..
В мае по предложению издателя журнала «Родина» Сергея Яковлева она пишет статью «Мы не молчали», в июне Наташа Геворкян уговаривает ее написать статью для «Московских новостей» — о политических процессах. Кроме этих дел на нее еще сыплются приглашения на концерты. Мы с Галей и старшими правнукам везем ее на концерт Юлика Кима (который тоже в эти годы переживает прекрасный подъем). И он поет, специально для нее, «Адвокатский вальс»… А потом она, стоя вместе со всем залом, со слезами на глазах слушает «Малый реквием», который Ким потрясающе исполняет вместе со своей дочкой Наташей. Потом возили ее в Зал Чайковского слушать премьеру «Реквиема» Вячеслава Артемова — и казалось, что по восприятию музыки она моложе всех нас. Только очень уж трудно было ей ждать, пока мы поймаем такси, чтобы вернуться домой (тогда это было непросто). Было видно, что она живет на пределе своих сил, но глаза ее были глазами счастливого человека.
16 июня, прямо на заседании «Московской трибуны» она внезапно потеряла сознание. Все перепугались, адвокат Андрей Макаров на руках вынес ее из зала Дома ученых, ее отвезли в больницу. Но ни о какой госпитализации она и слушать не захотела: «Все прошло, я прекрасно себя чувствую».
В начале июля Галя затевает ремонт на улице Удальцова. Ремонт действительно крайне необходим, тем более, после «митиного» пожара. Но Софья Васильевна не хочет и не может уезжать из Москвы — столько надо сделать! И мы перевозим ее на Воровского, в ее любимую синюю солнечную комнату с высоченным потолком, эркером, «Дачей старых большевиков» и репродукциями картин Модильяни и Ван Гога на стенах… В этой комнате Борис Кустов и проводит съемки эпизодов с участием Софьи Васильевны и Семена Глузмана для документального фильма Свердловской киностудии «Блаженны изгнанные».
В августе 1989 г. я все-таки вывезла маму под Звенигород, и здесь сказалось все напряжение последних месяцев. У нее появляется сильная одышка, мучительный кашель, она с трудом поднимается после прогулки на второй этаж и теперь соглашается, что надо лечиться. 10 сентября Саша Недоступ укладывает ее в знакомую двухместную палату с небольшим углублением на полу в коридоре перед входной дверью, которое всегда меня беспокоило — боялась, что мама там споткнется. Она меня успокаивала: «Я здесь с закрытыми глазами каждую выбоину знаю…». Я уезжаю в Друскининкай и получаю от нее из больницы бодрые письма — все в порядке, сделали все анализы, рака нет, просто старческая эмфизема легких.
Галя, остававшаяся в Москве, потом рассказывала мне об этом месяце. Дома непрерывно звонил телефон, каждые пять минут: «Как себя чувствует Софья Васильевна?» И всем, по ее указанию, Галя говорила одно и то же: «Не волнуйтесь, все хорошо. Приходить не надо». Несмотря на это в больницу каждый день приходило по 2–3 человека, а иногда и по 9-10. Приближалось 19 сентября. Софья Васильевна просила передать всем: «Поздравляйте по телефону и телеграммами!» Она боялась, что в больнице устроят «демонстрацию», — ей было неудобно перед врачами. И хотя многие послушались и не пришли, все равно в этот день палата была просто завалена цветами.
И только вернувшись, я поняла, насколько все плохо. Я забрала ее домой, но ей сразу же стало очень плохо, поднялась температура. 12 октября Римма празднует свой день рождения у нас, на Удальцова, — наш последний семейный праздник вместе с мамой. Софья Васильевна сидит во главе стола, вокруг внуки, невестки, правнуки…
А через неделю, обнаружив скопление жидкости в легком, Александр Викторович снова уложил ее в свое отделение. В конце октября ей еще удавалось скрывать от посетителей свое тяжелое состояние. Она с юмором рассказывает о том, как хирург огромным шприцом чуть не проткнул ей правое легкое вместо левого. Она пытается читать, но ей это уже очень трудно. Я вожу ее в кресле-каталке в холл — смотреть сеансы Кашпировского, над которым мы подсмеиваемся, но все-таки смотрим. Когда Софью Васильевну навещают друзья, она оживляется, обсуждает новости, но потом сникает. «Мир сужается, — задумчиво говорит она, — теперь я могу только разговаривать». Все отделение — врачи, сестры преисполнено симпатии и уважения к ней. От нее никто не слышал ни стона, ни жалобы. Как-то я вхожу к ней в палату, сестра пытается сделать ей укол в вену, — а вены-то плохие, одна неудача, вторая… У сестры из глаз капают слезы, а мама ее утешает: «Катенька, да не плачьте же, у вас такие красивые глаза! Попробуйте в другую руку, может, получится». 8 ноября она дает свое последнее интервью Наташе Геворкян — о Петре Григорьевиче Григоренко.
Александр Викторович сделал все, чтобы облегчить ее последние дни, перевел в отдельную палату, где я могла находиться с ней не только днем, но и ночью, организовал проводку кислородного шланга к кровати, чтобы ей не ждать каждый раз, пока я наполню очередную подушку. Само его появление каждый день в палате делало жизнь мамы светлее.
В конце ноября мне позвонил М. И. Коган — член правления только что созданного Союза адвокатов. Сказал, что собирается издавать сборник речей советских адвокатов на политических процессах, спрашивал, есть ли записи речей Софьи Васильевны. Мама очень оживилась, когда я ей об этом рассказала, стала вспоминать, что и у кого можно разыскать. Недели за две до смерти Софьи Васильевны зашел к ней священник Глеб Якунин, с которым ее связывали самые тяжелые годы правозащитного движения. Предлагал исповедаться. «Ну, еще рано», — сказала она. Да и в чем ей было исповедоваться? Вся ее жизнь была как на ладони, вся — для других.
Скончалась Софья Васильевна в полном сознании в час ночи 5 декабря 1989 г. Я помогала ей пересесть с кровати в кресло — лежа ей было очень трудно дышать. Она взглянула на меня, сказала: «Ну вот и все». И умерла.
М. И. Коган организовал гражданскую панихиду в Союзе адвокатов. Так она — уже после смерти — вернулась в свою коллегию.
Мама не была верующей, но не раз, всегда с усмешкой, говорила: «Отпевать меня будут со свечами». Отпевали ее в церкви Ильи Обыдена (в Обыденском переулке, около Кропоткинской), и все стояли со свечами, и гулко звучали голоса певчих под высоким куполом.
Похоронили Софью Васильевну Каллистратову на Востряковском кладбище в Москве.
Д. Кузнецов Сонечка
Описания великого человека здесь нет. Для меня Сонечка была и остается в памяти бабушкой, иногда строгой, но чаще мягкой, иногда ошибающейся, но чаще мудрой.
Мы с братом звали ее «Соня» (а когда стали выше ее ростом, — то «Сонечка». У нас в семье все звали друг друга уменьшительными именами). Я сперва думал, что это имя происходит от слова «спать», и только в школе понял, что «Соня» на самом деле означает «Софья Васильевна». Я помню лишь отдельные эпизоды моего детства, связанные с бабушкой, а также много смешных историй, который она любила нам рассказывать.
Летом мы с братом обычно жили у сестры бабушки «в саду» (сейчас сады вырублены, на этом месте построен микрорайон Строгино). Сестру (Наталью Васильевну) мы звали «Тата». Когда было жарко, мы ходили купаться. За один поход на реку удавалось искупаться два раза. Мы не лезли в воду без разрешения взрослых, но зато, когда залезали, вытащить нас было невозможно ни уговорами, ни угрозами, потому что мы знали — после второго купания нас поведут домой. Однажды мы настолько довели бабушку, что она в сердцах сказала: «Делайте, что хотите», и пошла к дому. Мы очень испугались и пошли за ней. Сонечка, как она потом признавалась, тоже испугалась, но проявила твердость…
Соня и Тата очень заботились друг о друге. Так, например, Тата часто опасалась, что Сонечкина «контрреволюция» не доведет ее до добра. Сонечка беспокоилась оттого, что Тата волнуется, Тата переживала, что Сонечка за нее беспокоится, и т. д.
На Воровского приходили гости, много спорили, рассказывали анекдоты. Мы с братом все слушали, но напрямую с нами о политике взрослые не говорили. Свою сдержанность в суровые годы Сонечка объясняла тем, что боялась за родственников… Сейчас мне кажется, что нас, во всяком случае меня, она берегла больше, чем следовало… Например, когда я принес из детского сада клятву «Ленинское, сталинское, красная звезда, Ленина и Сталина обманывать нельзя», взрослые никак особенно не отреагировали. Когда же я «в лоб» спросил, был ли Сталин «хороший» или «плохой», Сонечка сказала, что не может сейчас этого объяснить, но что есть люди, которые считают: того, что сделал Сталин, можно было добиться с меньшими человеческими жертвами. Она как-то при мне осуждала своих близких друзей, посоветовавших дочке-пятикласснице подать заявление о выходе из пионерской организации. «Они сами должны дойти до всего, а не брать готовое». Правда, на книгу о Павлике Морозове она среагировала довольно бурно: «Немедленно выкинь. Это безнравственная книжка».
Однажды в четвертом классе (1967 г.) в школе нам задали сочинение «Мой друг». Я не дотянул до положенного объема и дополнил рассказ анекдотами про Чапаева, впрочем, по современным меркам, совершенно невинными: про белых (грибы) в лесу, про карты (две колоды) и пр. Учительница прибежала испуганная и спросила: «Что с этим делать?» Сонечка сказала: «Поставьте тройку и отдайте сочинение мне». Что и было сделано, — мои учителя ее очень уважали.
Однажды учитель обществоведения пожаловался Сонечке, что я задаю аполитичные вопросы. Кажется, я спросил, зачем выборы, если в бюллетене один кандидат; а еще я спросил у учителя, зачем глушат западные радиостанции, если все люди сознательные и сами не будут их слушать… Сонечка говорила со мной так: «Тебе действительно не ясно или ты хотел посадить в лужу учителя?» Я признался, что хотел несколько оживить скучный урок. «Делай так: если у тебя будут вопросы, задавай их мне, а в школе не спрашивай. Ты понимаешь, почему в школе не надо спрашивать?» — «Понимаю» «Почему?» — «Маму с работы выгонят». Сонечка засмеялась и сказала, что я умный мальчик и все правильно понимаю… После этого в школе я почти не задавал вопросов и сейчас жалею об этом.
Сонечке очень понравился анекдот, рассказанный моим отчимом, про зверей в самолете, которые, подражая вороне, тоже стали «выпендриваться» — штурвал дергать и кнопки нажимать, пока самолет не развалился. А ворона летала над обломками и каркала: «Чего выпендривались — летать-то не умеете!» И еще про то, как Иисус идет с учениками по воде. Сзади по цепочке передают: «Учитель, Фома погружается!». Христос не обращает внимания. Ему повторяют. Он отмахивается. Наконец: «Учитель, Фома уже по пояс». «Передайте Фоме, чтобы не выпендривался и шел, как все, по камешкам». Сонечка довольно часто повторяла мне, чтобы я не выпендривался и шел, как все, по камешкам. Потом, правда, когда ей показалось, что мы уже выросли, она перестала это говорить.
Однажды в конце 70-х отец моего отчима пожаловался: «Да, все дорожает, а ведь нам еще партвзносы платить приходится». Сонечка взорвалась: «Партия это ваше личное дело. Вы ей платите, чтобы она нас давила, и мне же на это жалуетесь!»
Однажды Соня гуляла с моей маленькой сестрой Галей на улице Удальцова возле дома сотрудников КГБ, в котором тогда жила (по обмену!) Люда Алексеева. Возле дома торчал «топтун». Он обратил внимание, что несколько прохожих подряд сердечно поздоровались с Соней. Это были знакомые диссиденты, которые шли к Люде. Топтун подошел к Сонечке и спросил: «Гуляете?», вкладывая в это слово какой-то особенный смысл. «А вы по службе?» — не растерялась она. «Да нет, тоже гуляю», — сказал топтун и отвернулся. «Вот вы гуляете, а я работаю», — сказала Сонечка. «Как? — подпрыгнул топтун. Где? Кем вы работаете?» «Да вот нянькой работаю, с внучкой гуляю», успокоила его бабушка.
Галю целый год не прописывали в квартиру отца (совершенно незаконно), явно намекали на необходимость дать взятку. Министром внутренних дел в то время стал Н. А. Щелоков. Про него ходило много историй, которые Соня нам весело пересказывала. Например, о том, как по его приказу был прописан друг фаворита Щелокова некий Кудрейко. Соня сразу процитировала Маяковского: «… кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки — кто их к черту разберет!» Он после отбытия заключения не имел права жить в Москве и, навещая мать, обычно при появлении милиционера прятался у нее в шкафу. На этот раз милиционер (в чине майора) явился в 23.00 и был в полной панике, не обнаружив Кудрейко у матери, так как имел на руках приказ Щелокова «прописать сегодня же». Кудрейко, услышав, в чем дело, вылез из шкафа, был отвезен на машине в паспортный стол и действительно прописан до истечения суток. Министр был нестандартный. И вот, прочитав о встрече Щелокова с преподавателями и студентами МГУ, Сонечка вдруг предложила: «А давайте напишем министру, только не просто жалобу, а под видом отклика профессора Широкова (Галиного отца) на выступление в университете — иначе до адресата не дойдет». Содержание речи мы знали из газеты — об обновлении милиции. И вот Соня с ходу, под хохот всего семейства, пишет письмо в утрированно академическом стиле, в котором нетрудно было заметить изысканную издевку. Однако реакция на «отклик» была мгновенной: ровно через три (!) дня моему отчиму позвонили из паспортного стола и попросили приехать. Ближе к вечеру позвонил какой-то чиновник из МВД: «Ребенка прописали? Еще жалобы есть? Если будут, — звоните»…
А в 1973 г. Сонечка еще раз написала Щелокову (на этот раз маме пришлось ее долго уговаривать). Теперь моего брата Сережу, вернувшегося из Томска, отказались прописывать на Воровского, хотя до отъезда он там жил. Соня с обоснованным заявлением пошла просительницей в Моссовет. Там ей сказали: «Мамаша, мы законы сами знаем, пишите «в порядке исключения»». Но и «в порядке исключения» отказали. И Сонечка написала от имени Сережи: «Дорогой Николай Анисимович! Товарищи мне рассказали, как Вы помогли одному парню, который оступился. Теперь он стал врачом и лечит людей. Может, это и легенда, но ведь не про всякого такие легенды рассказывают! А Вас по имени-отчеству каждый подросток в стране знает. На Вас моя последняя надежда». Дальше шло изложение сути дела. А потом насчет того, что «паспортистка говорит (она действительно так говорила): «Бабушка скоро умрет, ты хочешь комнату получить», а я наоборот считаю, что я о бабушке буду заботиться и она долго будет меня воспитывать…» (Это тоже оказалось правдой.) Все друзья, читая это письмо, очень смеялись, говорили, что точно в Сережином стиле. Но Сонечка опасалась, что «переборщила». Оказалось нет, в самую точку.
После 1980 г. (когда адрес Сонечки стал публиковаться в «Хрониках» и прочем «самиздате») к ней часто приходили за советом незнакомые ей, весьма романтически настроенные молодые люди, которые пытались организовывать подпольные группы для борьбы с советской властью. Сонечка всегда старалась убедить их, что только открытая нравственная позиция, открытый протест могут помочь в этой борьбе. Говорила, что опыт народовольцев и большевиков показывает, к чему в России приводит «нелегальщина». Цитировала им Я. Г. Ясиповича: «нравственное обновление — источник всякого действительного прогресса»; «прежде всего в отдельных людях и во всем человечестве должен осуществиться духовно-нравственный переворот, а затем уже последует неизбежно соответствующий переворот и во внешней жизни» (Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы. М.: изд. И. Д. Сытина, 1914).
Обычно эти советы не шли впрок, и когда на «подпольщиков» «наезжал» КГБ, они снова приходили к ней с вопросом: «Что теперь делать?» Сонечка весьма саркастически рассказывала, как быстро они «раскалывались» на допросах (см. в «Сказках моей бабушки» сказки «Шахматист» и «Конспираторы»), считала, что эти молодые люди приносят только вред демократическому движению, и в то же время жалела их.
Однажды к Сонечке пришла хрупкая девушка. Она пыталась консультироваться по вопросу вооруженной борьбы. Она говорила: «Я вообще-то террористка… я бомбистка… я буду бомбы кидать…» Сонечка долго поила ее кофе, потом кормила, потом поила чаем. Долго, терпеливо отговаривала…
Однажды Сонечка написала десяток поздравительных открыток ссыльным и заключенным. Она уже не очень хорошо видела, и я помогал находить их адреса в Соничкиной записной книжке. Отправить мы их не успели. Сонечка хотела проверить, не забыла ли она кого-нибудь. Утром пришли с обыском и кроме пишущих машинок, «самиздата» и альбомов с фотографиями забрали и записные книжки, и готовые к отправке открытки. «Ах так? — сказала Сонечка после их ухода. — Тогда мы сейчас не десять, а двадцать открыток напишем». Разумеется, адреса удалось узнать у друзей.
В последнее лето Сонечкиной жизни Борис Кустов снял ее в кино. Съемка велась на улице Воровского. Эти кадры вошли в документальный фильм Свердловской киностудии «Блаженны изгнанные». Сонечка была очень довольна: «Ну, — весело говорила она, — теперь я стала кинозвездой!»
Сонечка всю жизнь боролась за то, чтобы у людей была свобода выбора — веры, профессии, правительства, страны обитания… Определенные успехи эта борьба принесла. Сумеем ли мы быть свободными? Или ей не удалось нас этому научить? Мне кажется, что ничего хорошего будущее нам не сулит. Но ведь и Сонечка, при всей ее жизнерадостности, была пессимисткой. Она любила повторять: «Неужели разумный, знающий историю человек может верить в светлое будущее?» И еще говорила: «Совдепия нерушима». В последнем она ошиблась, ей удалось увидеть начало ее крушения. Может быть, и я ошибаюсь?
СКАЗКИ МОЕЙ БАБУШКИ
Сонечка часто рассказывала разные курьезы из своей адвокатской практики. Кое-что я записывал, иногда присочинял, получился сборник «Сказки моей бабушки». Вряд ли мне удалось в этих сказках сохранить Сонечкин стиль, но она их все читала, высказывала замечания (часто весьма резкие), и я выкидывал явную ерунду. Не все ей нравилось, но иногда она искренне смеялась. Вот несколько из тех, которые она, по-моему, одобряла.
Кастрюлька
Шофер Костя и экспедитор Леша приспособились воровать алюминий. Опломбированную на заводе машину с алюминиевыми листами они по дороге к заказчику завозили в какой-то сарай, брали два-три листа, ставили на машине свою пломбу (не хуже заводской) и в таком виде сдавали. Листы продавали по пятерке — на выпивку вполне хватало.
Недостача была невелика, но ее регулярность удручала заказчика. Заявили куда следует, проследили весь путь машин — от склада до склада, преступление было раскрыто.
Ущерб от кражи по государственным расценкам составлял всего около сотни рублей, но прокурор требовал перерасчета оптовой цены листового алюминия в розничную, настаивая на коэффициенте 100, что означало «хищение в особо крупных размерах». По этой статье Косте и Леше грозило лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или смертная казнь с конфискацией имущества. Я нигде не могла найти действительный коэффициент. Прейскурантов на алюминий в торговле не существовало, в нашей стране его в розницу не продавали.
Пошла я в хозяйственный магазин, купила алюминиевую кастрюльку, на которой была пробита цена, взвесила дома на безмене и на следующий день вместе с безменом принесла в суд.
Прокурор бледнел и краснел…
1957 г.Гипербола
В Кунцевском районном суде слушается дело… Пропала любимая коза. По три литра молока в день давала. Весной обнаружилась у соседа.
Истец хочет кроме козы получить денежную компенсацию. Ответчик считает, что компенсация полагается ему. Адвокат аргументирует суду позицию ответчика:
— Коза за зиму, может быть, сто пудов сена съела!
— Коза сто пудов съесть не может.
— Гражданин судья, это же гипербола…
— А-а… Гипербола, — эта сожре-еть…
1975 г.Основной Закон
Некий чин попросил меня показать ему текст моей защитительной речи. Я сказала, что текста у меня нет и быть не может, так как я заранее речей не пишу. Тогда он поинтересовался, собираюсь ли я употреблять в своей речи слово «конституция». Я удивилась: «Почему этот вполне юридический термин вызывает у вас такое смущение?» Чин сказал (извинившись), что сверху пришло указание отстранить адвоката Каллистратову от дела, если она будет ссылаться на конституцию, а не на уголовное право. «Ладно, — пообещала я, не буду произносить в суде слово «конституция»».
Свое обещание я сдержала, я говорила «Основной Закон».
1978 г.Ударница
У Нади странность: не может плохо работать. Перевыполняет норму, и все тут. И брака нет. На Доску почета Надю повесили, звание ударника дали. Надя дружила с женой опального академика. Когда парторг об этом узнал, специальное собрание собрали, лишили Надю звания и с Доски сняли. Надя — в газету жалобу, оттуда — отписка. Муж Нади тоже не знает, что делать, уговорил к адвокату сходить.
Пришли, рассказали. Я спрашиваю:
— И чего вы теперь хотите?
— Как чего? Я ведь как лучше всех в цехе работала, так и работаю. Значит, решение надо обжаловать.
— Звания ударника вас лишил трудовой коллектив.
— Так это парторг всех настроил! Он чуть ли не каждому про академика и его жену объяснял…
— Это вы не докажете.
— А что докажу?
— Ну докажите, например, что у вас советский образ мыслей.
— Как?
— Ну напишите, например, открытое письмо, что вы гневно осуждаете академика, его жену и вообще всех отщепенцев. Вас немедленно опять на Доску почета повесят.
— Почему я должна что-то таким образом доказывать?
— Потому что вас правильно с Доски почета сняли. У вас образ мыслей не советский.
— Не советский?
— А что, советский?
— Да, вы правы. И что же теперь делать?
— Как что? Работать. Детей растить. Жить.
Муж обрадовался, благодарить стал. Он уже не знал, как Надю отговаривать, она хотела по начальству жаловаться, пороги обивать. Пока, вроде, мирно живут. Тьфу-тьфу, не сглазить бы, время тревожное…
1983 г.Не похвалишь Горького — не получишь сладкого…
Воробушек собрался в Горький. Перед отъездом он сказал Сороке, что его два дня не будет. Сорока спросила, куда он едет. Воробушек не скрывал.
Случилось так, что Воробушек на день задержался. Но Сорока уже по секрету доложила Секретуту, что Воробушек поехал в Горький и как бы чего не вышло. Секретут, не желая выдавать источник информаци, позвонил Главному Заместителю и спросил, как ему действовать в связи с возможными эксцессами, связанными с тем, например, что если какие-нибудь сотрудники находятся в связи с… ну, который в Горьком, чтобы в этой связи на Институт не упало пятно.
Главный Заместитель намекнул Самому, что в Институте есть отдельные несознательные сотрудники и он не удивится, если выяснится, что кто-нибудь из них устроил провокацию в Горьком.
Когда Воробушек вернулся, Сорока его отругала, потому что она Бог весть что подумала и теперь ей надо звонить и докладывать, что все в порядке. Секретут высказал свое «фе» Сороке в связи с тем, что Сам теперь интересуется, нет ли в Институте самовольных провокационных контактов. Потом еще Главный Заместитель взбучку устроил за то, что информация не подтвердилась. И все из-за глупого Воробья, который не умеет держать язык за зубами.
1983 г.Конспираторы
Андрюша и Саша вели «подпольную работу», то есть писали и размножали свободолюбивые статьи и стихи. Саша приходил к Андрюше, и они перепечатывали, редактировали, спорили.
У Андрюши был приятель Коля. У Коли была идея: все вокруг не так, надо бы бороться, но ни у кого (в том числе у Андрюши и Саши) нет позитивной программы. Надо сперва понять, за что бороться. Чтобы свою идею реализовать, Коля стал читать статьи, которые писали Андрюша и Саша.
Андрюшу вызвали в одно место и пригрозили. Андрюша и Саша решили, что кто-то «стучит». Подозрение пало на Колю и еще одного приятеля Саши. Андрюша знал верный способ выявить стукача: надо, чтобы один знал, что готовят, например, листовки, и знал, где их искать. А никаких листовок чтобы не было, это только приманка для органов. Если придут с обыском, значит, стукач. Этим способом революционеры еще до революции пользовались, провокаторов разоблачали. Сперва Андрюша решил проверить Сашу, чтобы потом действовать сообща.
Андрюша наплел, что Коля с приятелем готовит к празднику 1 мая листовки: они уже достали «устройство», но текст еще не выправлен. Саша как юрист мог бы помочь отредактировать. Пусть Саша через день позвонит Коле. Колю Андрюша попросил, если позвонит Саша, сказать, что Сашина помощь не понадобилась. И только, больше по телефону нельзя: подслушивают. Саша Коле звонит, Коля, как его просили, отвечает. Все тихо-мирно, уже первое мая близко.
Вдруг — трах, у Коли обыск. Никаких листовок, разумеется, нет, «устройства», чтобы их печатать, — тоже, зато есть: магнитофон и чемодан пленок; проигрыватель и пара пластинок, среди них — заграничные и самодельные (на старых рентгенограммах); пишущая машинка; Пастернак, Мандельштам и Ахматова — в перепечатке; Пастернак, Булгаков, Владимов и Платонов — ксерокс; Гумилев и Цветаева — парижские издания; ящик довоенных газет с «врагами народа»; портфель с перепиской Колиных родителей; конспекты «Утопии» Мора и «Города солнца» Кампанеллы — с очень злыми комментариями; Колины «письма в ящик стола» (незаконченный, единственный экземпляр); несколько записных книжек с телефонами и адресами. И еще много всякой такой ерунды.
Проигрыватель и отечественные пластинки последних лет не тронули. Карандаши, ручки и писчую бумагу тоже не взяли. Еще почему-то оставили несколько чистых тетрадей и скоросшиватель.
«Ага, попался!» — обрадовался Андрюша. «Я не доносил, это Андрей все подстроил!» — возмутился Саша. Тогда Андрюша написал открытое письмо в органы, что главный провокатор — следователь: если он считал, что изготовление листовок — преступление, знал, что оно готовится, зачем ждал почти две недели? Ведь его задача — предупредить преступление, а не спровоцировать!
Теперь Саша, Андрюша и Коля не разговаривают.
1983 г.Фотография
У меня была клиентка Юля. Девушка серьезная. Когда у нее родилась дочка, она подала в суд на одного инженера, который, по ее словам, является отцом.
Ответчик на вопрос судьи уверенно сказал:
— Бывало, приходил я в гости, но между нами не было такого, что могло бы привести к рождению ребенка. И вообще неплохо бы допросить соседок Юли как свидетелей: соседки говорили, что Юля им показывала фотографию и говорила, что это муж ее и от него она ребенка ждет…
Суд объявляет перерыв, покуда инженер поехал за соседками. Я Юлю спрашиваю:
— Так что за фотография? Откуда?
Юля смущенно очень отвечает:
— Я ее купила… Возле универмага… Там Немирович-Данченко, анфас… Но надо же мне было оправдаться перед соседками… Они бы меня живьем сожрали, если бы узнали, что у меня нет мужа…
— Где эта фотография сейчас?
— У меня дома…
— Поезжай сейчас же! Чтоб фотография была!
Юля привезла, успела. После перерыва суд продолжается. Судья опрашивает свидетельниц:
— Показывала вам истица фотографию?
— Да. Видели.
— Истица говорила, что это ее муж и от него она беременна?
— Слыхали. Говорила.
— А на ответчика похож человек на фотографии?
— Нет, непохож. Такой солидный там был мужчина, пожилой.
Показываю фотографию свидетельницам:
— Эту вы фотографию имеете в виду?
— Да, эту самую. Нам Юля говорила, что это муж ее, что он в командировке, но скоро приедет…
Фотографию кладу судьям на стол:
— Граждане судьи, да это же Немирович-Данченко!
Судья (секретарю): Пиши определение: вызвать в суд как ответчика Данченко Немировича…
— Граждане судьи! Немирович-Данченко — всемирно известный режиссер…
Заседатель: Ну и что, что режиссер?
— К тому же он умер…
Судья (секретарю): Тогда не надо определения, он умер…
Из-за этой фотографии мы с Юлей дело проиграли.
1986 г.Квартет
В истории с моей клиенткой Любой замешано четыре человека.
Люба дружила с Сашей, родила мальчика. Отцовство Саша не признавал. Суд. У истицы есть свидетели — Маша и Коля. Показывают:
Мы вчетвером в кино ходили, потом зашли в кафе, потом гостили у Саши, пили чай.
Судья: И только чай?
Коля: Вино еще, но мало, одна бутылка — это на четверых-то…
Судья: Ну а потом что делали?
Коля: Мы с Машей на диване сидели, а Саша с Любой — на кровати… И кто-то свет выключил…
Первый заседатель: И долго это продолжалось?
Коля: Я хронометражем не занимался…
Второй заседатель: Для этого пяти минут достаточно…
Судья: Ответчик, а сами вы как думаете, это ваш ребенок?
Саша: Я сомневаюсь. Быть может, мой, а может, и не мой…
Очень убедительно я говорила, что Люба порядочная девушка и трудно допустить, чтобы примерно в то же время она спала еще с кем-либо. Суд решил, что Саша является отцом ребенка Любы. И тут же после суда ко мне подходят эти четверо, и Саша говорит, что я прекрасно дело провела, и приглашает в ресторан, обмыть удачу. Я сказала, что возраст мой уже не тот и пейте без меня.
Через неделю ко мне опять приходит Люба: «Вы знаете, а Саша просит принести ему ребенка показать. И если мальчик на него похож, мы с Сашей, наверное, распишемся…» Ну, я сказала: «В добрый час!» Ребенок оказался похож (так сочли родные Саши)…
С тех пор законы изменились: в наши дни установить отцовство не так-то просто.
1987 г.Танкист
Вызвали меня по одному делу в Верею. Дело пустяковое. Двое парней, строители, с похожей судьбой (побывали в плену, а потом в лагерях), жили отдельно от семей. Однажды подвыпили и как-то лень им показалось тащиться на другой конец города до общаги, а у крыльца лошадь директора потребсоюза в сани запряжена и никого нет. Парни отвязали лошадь и поехали. Весело, с песнями. Пели громко, не то чтобы очень хорошо (навеселе как-никак), но и не то чтобы уж совсем плохо. Почти доехали, но в пятидесяти метрах от общежития их остановили и взяли под стражу. Теперь шьют «хищение общенародной собственности» — от семи до пятнадцати. Дело на двадцати страничках. Судья меня предупреждает: «Только вы, когда будете выступать, постарайтесь побыстрее…»
— Как это побыстрее? скороговоркой?
— Ну, по-танкисски, по-танкисски…
Зачитали обвинение, парни рассказали, как было; прокурор призвал в целях сохранения общенародной собственности впаять им на всю катушку: сани стоят столько-то, лошадь — столько-то… Я говорю, что о тайном хищении не может быть и речи: ехали открыто, пели, не в деревню, не в лес, не к цыганам, а в общежитие. Ни использовать, ни даже спрятать ни лошадь, ни сани они надеяться не могли, поэтому надо парням засчитать то, что они отсидели во время следствия и отпустить, — они больше не будут. Парни подтвердили, что не будут. Судья все поторапливает, а народные заседатели, старик со старухой (кажется, дотронься — рассыплются), все кивают. Суд удаляется на совещание. Ждем.
Час ждем, два ждем. Парни ждут. Конвой ждет. Семьи ждут.
Совещательная комната на втором этаже. Я выхожу во двор, с пригорка в окно смотрю, судья что-то читает, заседатели сидят с боков и дремлют…
Шесть часов ждали. Наконец выходят. Зачитывают: 7 лет условно. Конвой уходит, жены вешаются на парней, я иду к судье отметить командировку. Спрашиваю: ну, чего вы совещались? Дело в полпальца толщиной! А я, говорит, за двадцать минут приговор написал, дал семь лет, а старики не подписывают. Это что же, говорят, их в тюрьму? За решетку? — «Не хотите, пишите свой приговор». «А мы не умеем. Ты напиши сам, чтобы их отпустить, тогда мы подпишем…» Вот мы и ждали, кто кого пересидит. Потом, говорит судья, ему есть захотелось, и он подумал: «А пропади оно пропадом!» и приписал «условно». Аккуратно не получилось, мало места оставил. И старики не верят: а что значит условно? их точно отпустят? не посадят?.. Пришлось последнюю страницу переписывать…
Он быстро («по-танкисски») поставил печать на моей командировке, и мы распрощались.
1987 г.Надя Рождественская
Когда дядя Гоша вернулся с войны, Надя Рождественская заторопилась к сестре. Трамвай еле тащился по бульвару. Перед Надей стоял военный. Он посмотрел в свою бумажку, потом на Надю и сурово спросил:
— Рождественская?
Надя вспомнила: Сережа когда-то читал Гамсуна, а ведь Гамсун тоже оказался фашистом… А еще позавчера мама завернула рыбу прямо в портрет вождя, напечатанный в газете… Сосед мог видеть… Сестру, наверное, теперь тоже… А может быть, уже… Она так и не узнает про дядю Гошу…
— Да, — ответила Надя и встала, прощаясь с домами, с небом, с бульваром. Пассажиры делали вид, что ничего не замечают. Девочки болтали. Бабушка вязала чулок. Из «тарелки» гремел марш… «Знакомые, друзья тоже не заметят, постараются забыть… Нас ждет машина или он поведет меня прямо по улице?.. Но ведь сперва прорабатывают на собрании, чтобы можно было хотя бы проститься с близкими… А я вчера сказала что-то колкое Сереже…»
Военный повернулся спиной и вышел. На остановке было написано: «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БУЛЬВАР».
1987 г.Шахматы
Человек попал под следствие. Следователь оказался очень чутким и деликатным: он не грозил, не ругался. Он просто пытался понять, как при таком передовом строе, как наш, можно без расчета на вознаграждение распространять документы, наносящие ущерб нашему государству.
Человек рассказал о наивном Следователе Знакомому. Знакомый посоветовал Человеку не играть в кошки-мышки и не пытаться изменить мировоззрение Следователя. Человек объяснил, что это не кошки-мышки, а шахматы; поскольку Следователь думает всего на один ход вперед, его нетрудно переиграть.
На следующем же допросе Следователь поставил Человека перед фактом: из ответов на такие-то и такие-то вопросы следует, что в таком-то месяце такой-то материал из Москвы в Ленинград вез хорошо знакомый Человеку Мальчик. Человек согласился.
Знакомый спросил Человека, как он расценивает ход Следователя — как выигрыш ферзя или пешки? Человек сказал, что пока не знает.
Следователь захотел познакомиться с Мальчиком лично. Получив повестку, Мальчик спросил у Знакомого, как быть. Знакомый привел Мальчика и Человека ко мне. Человека я довольно скоро выгнала:
— Вы про меня черт знает чего наговорите, а потом скажете, что играли в шахматы.
Человек ушел. Мальчик спрашивает:
— Что мне говорить?
— Я не могу сказать, что именно, я не знаю, какие вам будут заданы вопросы.
— Ну, он, наверное, спросит, когда я в последний раз ездил в Ленинград и что вез.
— Могу вам сказать одно: не врите.
— Почему?
— Во-первых, потому, что лгать унизительно, а во-вторых, Следователь профессионал, он вас поймает. Либо говорите правду, либо молчите.
У Следователя Мальчик сказал:
— Когда я получил повестку, я не знал, что делать. Меня повели к одной старой женщине… Я не знаю ее имени и фамилии… Это где-то в районе Арбата… Кажется, она бывший адвокат… Я спросил, что мне говорить… Она сказала, что надо либо молчать, либо говорить правду. Я решил говорить правду… Да, я отвозил в Ленинград…
И так далее. Человека посадили. Мальчику дали «условно».
1987 г.Клиент (1)
Виталий надеялся чистосердечным раскаянием смягчить приговор и во всем признался. Рассказал, как напротив магазина «Меха» глох мотор у машины и, пока постовой милиционер помогал чинить, со двора подгоняли грузовик и доверху грузили пушниной. Рассказал, как за 10 000 брал напрокат ключи у кассира ювелирного магазина и делал с них копию. Как покупал с рук возле комиссионки золото, обещая втрое против того, что давало государство, и подсовывал «куклу». В сумме это давало «в особо крупных размерах» и тянуло на «вышку». Накануне суда он спросил:
— Скажите, меня приговорят к расстрелу? Вы поймите, это очень важно знать именно сейчас. Если приговорят, то завтра утром я убегу.
— Как?
— А когда повезут к суду, там забор кирпичный, а около него обычно машина стоит. Я вскочу на крышу машины, достану до выщербины в заборе, подтянусь и запрыгну на него. Никто такой трюк повторить не сможет.
— А потом?
— За забором дорога, я спрыгну в кузов грузовика…
— И куда вы пойдете без документов, без денег?
— А денег вы мне сейчас дадите… на первое время. А потом — одно чистое дело, последнее. Куплю документы и устроюсь на работу.
— Ничего у вас не получится. Ваш трюк никто повторять не будет, вас просто пристрелят. Найдут деньги и меня привлекут как сообщницу.
— Но если меня все равно приговорят?
— Вас не расстреляют.
— Вы мне это обещаете?
— Я не могу вам сказать, будут ли слова «высшая мера» в приговоре, но я обжалую приговор и вас не расстреляют.
1989 г.Клиент (2)
К даче подошел человек:
— Здравствуйте, Софья Васильевна!
— Здравствуйте, — отвечаю.
— Вы меня не узнаете? Вы меня защищали пятнадцать лет назад.
— А, вы Виталий.
— Ну да. Вы же меня от «вышки» спасли. Я пришел спасибо сказать.
— И где вы теперь работаете?
— Да вот пытаюсь здесь сторожем устроиться, чтобы числиться. Далековато, правда, от Москвы, ну, ничего…
— Числиться здесь, а где работать?
— А вот на Арбате есть ювелирный магазин…
— Вам мало?
— Да нет, это я только хотел спросить, если…
— Я вас защищать больше не буду.
— Вы меня неправильно поняли… Мне уже сорок пять лет, надо же с чего-то начинать?
— Вы решили начать со статьи 93?
— Да нет, что вы! Ну, если я не удержусь…
— Вы пришли узнать, сколько вам за это дадут?
— Ну да.
— Уходите и не приходите ко мне больше с такими вещами…
Из местного отделения связи он прислал мне открытку: в плохих стихах укорял в бессердечии.
1989 г.Правосудие в сумерках
Среди судей встречаются очень квалифицированные юристы и порядочные люди. Вот член Московского областного суда Назаров. Ему диссидентских дел и не давали, для этого были другие…
Я с ним в двух процессах была. Помню, защищала бухгалтершу, которая при машинной обработке ухитрилась присваивать большие суммы. У меня был спор с прокурором по какому-то незначительному эпизоду. И в защитительной речи я сказала: «Мы можем спорить об этом хоть до рассвета, но сути дела это не меняет…» Прокурор взял реплику: «О каком это рассвете говорил адвокат? А мы что, вершим правосудие в сумерках? Прошу суд вынести частное определение в адрес адвоката». Назаров только хмыкнул и, конечно, никакого определения не вынес.
А потом я вместе с Назаровым работала в областном суде над одним делом в то время, когда там ждали приговора по «самолетному делу». Он меня спросил: «Софья Васильевна, говорят, что ленинградские адвокаты уехали, не дождавшись вынесения приговора. Неужели это правда?»
1989 г.Е. Боннэр Всечеловечность
Тот вьюжный, морозно-оттепельный, пронзительный ветреный декабрь 1989 года… Забудут ли его те, кто сошелся в тесном помещении Московской коллегии адвокатов на гражданскую панихиду перед церковным отпеванием Софьи Васильевны Каллистратовой — адвоката, защитника, не потому, что это профессия, а защитника людей по всей сути своей души, по всей линии жизни.
Я не знаю никого, кто сделал бы больше для своих подзащитных, чем Софья Васильевна. И для тех, кого история назвала диссидентами, чтобы они по праву получили свое второе историческое название — правозащитники. Ведь это не только защита людей, конкретных, страдающих и страждущих. Но защита Права. Она была нашим учителем в воспитании уважения к Праву как необходимой составляющей жизни нормального общества, нормального государства. И еще одно удивительное качество отличало Софью Васильевну, редкое и трудно объяснимое. При ней люди становились лучше. Она как-то непонятно пробуждала все хорошее в них, то, что было сковано обстоятельствами жизни или особенностями характера. Они становились отзывчивей, человечней, я бы даже сказала (хоть это звучит немного громче, чем хотелось бы), — при ней люди становились всечеловечней.
Я не помню, как впервые встретилась с Софьей Васильевной. Наверное, это было летом или в начале осени 1970 г., когда я искала адвокатов для находящихся под следствием участников ленинградского «самолетного дела». Никогда до этого я не имела дела с адвокатурой и была, что называется, «белый лист», но сразу почувствовала, что лучшего советчика не найти. В последующие годы мне еще не раз предстояло пользоваться советами Софьи Васильевны, а с 1977 г. постоянно вместе работать над составлением и редактированием документов Московской Хельсинкской группы.
Как во всяком добровольном и не регламентированном строго сообществе, в Хельсинкской группе рождались противоречия, и временами было трудно прийти к согласию. Возможно, если б с нами не было Софьи Васильевны, то возникли бы и ссоры. Более ста пятидесяти документов нашей группы не только прошли требовательную и тщательную правовую оценку Софьи Васильевны, но часто она была и их инициатором и первым автором. После ареста основателя и первого руководителя группы Юрия Федоровича Орлова в феврале 1977 г., а затем отъезда на Запад сменившего его Петра Григорьевича Григоренко в Хельсинкской группе не было (по общему решению) формального председателя, но бесспорно нашим неофициальным руководителем и высшим авторитетом была Софья Васильевна.
Группа выпустила свой последний документ в дни, когда против Софьи Васильевны было возбуждено уголовное дело и после неоднократных обысков ее вызывали на допросы. В нем, в частности, говорится, что мы считаем дальнейшую работу группы невозможной в условиях, когда тридцать пять стран, подписавших Хельсинкский Акт, не в силах прекратить преследования членов общественных Хельсинкских групп. Этот документ подписан тремя членами группы, к тому времени остававшимися на свободе, — Софьей Васильевной Каллистратовой, Наумом Натановичем Мейманом и мной. Впоследствии мне неоднократно пришлось выслушивать упреки за него, и некоторые расценивали документ как предательство по отношению к тем, кто уже был арестован и находился в лагере или ссылке. Боюсь, что подобные упреки были и в адрес Софьи Васильевны. Но не она и не Наум Натанович были инициаторами этого документа, а я. Я и сегодня не могу согласиться с теми, кто так остро воспринял этот наш формально общий — троих — шаг. Я думала в то время (и продолжаю считать так и теперь), что наше (группы) существование тогда становилось фикцией. Работать по-настоящему мы уже не могли — против Софьи Васильевны было возбуждено уголовное дело, Наум Натанович упорно добивался разрешения на выезд из СССР, я со дня на день ожидала, что каждая моя поездка из Горького в Москву станет последней. А кроме того — просто так, по-человечески — не могла я себе представить и не могла допустить, чтобы Софью Васильевну осудили, пусть даже по самому мягкому варианту — в ссылку. Так что все прошлые (и будущие) упреки за последний документ Московской Хельсинкской группы должны адресовать только мне.
Я очень любила Софью Васильевну, и в этом я не исключение. Думаю, что многие из тех, кому выпало счастье близко общаться с Софьей Васильевной, были глубоко и искренне к ней привязаны. За ясный ум, за доброту, за юмор и человеческое обаяние. И просто так — ни за что. Но есть у меня и свой, почти интимный, критерий, и, возможно, моя любовь к ней, помимо всего, в какой-то мере была ответом на то, что она относилась ко мне как ко мне, а не как к жене Андрея Дмитриевича Сахарова и уж точно не как к жене а-к-а-д-е-м-и-к-а. И к академику она тоже относилась как к человеку. Никакого придыхания или культа исключительности. И как же бесконечно и навсегда я ей благодарна за это.
Сахаров не увидел своей книги «Воспоминания». Он ушел из жизни за полгода до того, как она пришла к читателям. Не увидела книгу, одна глава которой почти полностью посвящена ей, и Софья Васильевна. Это не его воспоминания о ней, а рассказ о совместной работе, о той неоценимой помощи, которую Софья Васильевна оказывала Андрею Дмитриевичу на протяжении многих лет.
Д. Каминская Солдат правосудия
Именно так — солдатами правосудия — называли адвокатов в Древнем Риме, где профессия адвоката была почетна, где само понятие адвоката включало в себя обязанность быть борцом за право, справедливость и законность.
В талант Софьи Васильевны Каллистратовой я влюбилась сразу и сохранила эту влюбленность на все долгие годы нашей совместной с ней работы.
Речи Софьи Васильевны мне нравились всегда. Особенно ценила я безупречную, «мужскую» логику в ее аргументации и сдержанную страстность в манере изложения. Любила ее чуть хриплый, «прокуренный» голос, так богатый оттенками.
Мне кажется, Софья Васильевна — один из тех адвокатов, кто никогда не произнес неинтересной речи. В самом, казалось бы, безнадежном деле, с самой незанимательной фабулой она умела найти оригинальное решение, неизменно высоконравственную и неизменно аргументированную позицию.
Среди адвокатов Московской коллегии Софья Васильевна занимала особое место. Широкая образованность, удивительная убедительность и стройность логического мышления, блестящий ораторский талант выдвинули ее на одно из первых мест среди адвокатов.
Мне много раз доводилось вместе с Каллистратовой участвовать в судебных процессах. Это были очень разные дела. Иногда очень сложные и запутанные. В таких делах с особенной яркостью проявлялся аналитический склад ее ума. Но доводилось мне слушать и речи, которые она произносила в защиту людей, действительно совершивших преступление, чья вина безусловно была доказана. И в таких делах выступления Софьи Васильевны были всегда пронизаны чувством искреннего сострадания, заботой о судьбе подзащитного. Профессиональный опыт не породил у нее ту привычку к чужим страданиям, которая часто делает адвоката равнодушным профессионалом. Вообще слово «равнодушие» к Софье Васильевне неприменимо. Ее адвокатская деятельность всегда была страстной борьбой за подлинное правосудие, за справедливый и гуманный приговор.
В своей профессиональной работе Софья Васильевна не знала компромиссов. Никакие конъюнктурные соображения, как и соображения собственной безопасности, не могли заставить изменить органически свойственную ей принципиальность в позиции защиты.
В стране, где нарушение закона в те годы было почти нормой, где уважение к закону требовалось только от рядовых граждан, где власть никогда не считала себя этим законом связанной, позиция адвоката, требовавшего в каждом деле и применительно к любому человеку точного соблюдения закона, перерастает рамки чисто правовой практики и приобретает политический характер. Вот почему я считаю, что политическим защитником Софья Васильевна была всегда. Она была всегда борцом за права человека.
Но особенно ярко гражданское мужество и профессиональное мастерство Каллистратовой проявились в политических процессах 60-70-х гг. Основываясь на анализе советских законов и материалах конкретного дела, Софья Васильевна отстаивала в судах право каждого человека на свободное выражение своих собственных мнений, право на участие в свободных демонстрациях, право на свободу совести.
Она была одним из первых (если не первым) адвокатом, участвовавшим в политических процессах тех лет, который с полной категоричностью утверждал в суде, что право на демонстрацию гарантировано конституцией и потому участие в демонстрации, даже не одобряемой властями, не является уголовным преступлением. Именно тогда в защитительной речи Софьи Каллистратовой в политическом процессе прозвучали слова «Прошу оправдать».
Сейчас, может быть, более, чем когда бы то ни было, общество нуждается в людях высокой нравственности, принципиальности и мужества. А именно таким человеком была Софья Васильевна.
1991, март, СШАМ. Каплан Учитель
1960 год. Кунцево, тогда еще Московской области. Около железнодорожной станции в маленьком домике нарсуд и там же юридическая консультация. Как долго я добивалась приема в коллегию адвокатов и, наконец, попала. Не таким мне виделось место моей работы, ну да все равно, счастлива была бесконечно. Встретили меня не очень доброжелательно, никто не хотел возиться со мной, учить меня, тратить на это свое время. Стала сама, как могла, работать. Был там один древний старичок. Учить и помогать в работе он уже не мог, но поведал он мне тогда о многом, за что благодарна ему и по сей день. Вот от него-то я и услышала об адвокате Каллистратовой.
Юридическая консультация, где она работала, находилась неподалеку, в Рабочем поселке, на следующей железнодорожной станции, и слыла Софья Васильевна самым лучшим адвокатом. А вскоре мне довелось видеть ее в суде, в Кунцево, где слушалось уголовное дело. Ее речь, предельно логически последовательная и столь же аргументированная, поразила меня. Тогда у меня сложилось впечатление, что иначе, чем утверждала Софья Васильевна, быть не могло и не может, что наказать можно и должно только так и ничуть не строже, чем она просит. Сейчас не помню, каким был приговор, но это впечатление подтверждалось потом все годы нашего общения.
Выходила я тогда из суда (она меня, наверное, и не видела) пораженная и в то же время расстроенная, считая, что мне такое не дано. Я робела перед ней, какое-либо общение с ней казалось невозможным. Не потому, что она выглядела недоступной, нет, она была очень простой, а потому, что страх перед умным человеком, который может разглядеть твою неграмотность, сковывал меня. И уж никак не могла я вообразить, что пройдет немного времени, и Софья Васильевна заметит меня и станет моим учителем, будет посвящать меня в тайны адвокатского искусства и мастерства. Но если последнему научить можно (и то при огромном желании обучающегося), то первое дается от Бога. Так и говорили про Софью Васильевну — «адвокат от Бога».
Вскоре мы обе оказались в одной консультации: Кунцево, Рабочий поселок влились в Киевский район Москвы. Какое-то время мы продолжали работать в разных помещениях, но часто встречались в главном <…> где в двух не очень больших комнатах собиралось около сорока адвокатов. Там-то на одном производственном совещании меня ругали за какой-то неправильно данный совет (тогда каждый вопрос к адвокату и каждый его ответ обязательно фиксировались). Я отчаянно оборонялась. Не знаю, почему за меня вступилась Софья Васильевна, — и все кончилось благополучно. А еще через некоторое время Софью Васильевну и меня перевели на Большую Молчановку, и она взяла меня под свое крыло. Вот тут-то началась моя настоящая учеба. Она брала меня с собой на все процессы, в которых участвовала, давала читать свои жалобы, ходатайства, не ленилась читать мои писания, обсуждала со мной мои дела. Но главное было в общении, в разговорах.
Вспоминаю, как мы засиживались допоздна в консультации, принося из «Праги» какую-нибудь еду и вскипятив чай. А бывало, что Софья Васильевна приглашала нас, молодых, к себе домой, на улицу Воровского, где мы тоже пили чай и говорили о литературе, искусстве, жизни. Мне кажется, что ее любимым художником был Модильяни, а может быть, это было увлечение того периода… А любимых поэтов у нее было множество: Ахматова, Цветаева, Гумилев и много-много других столь же известных и вовсе неизвестных. Вот тогда-то Софья Васильевна помогла мне достать машинописный четырехтомничек Гумилева, который я храню и сейчас. <…>
Вспоминаю, как Софья Васильевна принесла мне молитву пожилого человека. Вроде бы она принадлежала перу кого-то из англичан… Только сейчас я смогла оценить мудрость этой молитвы. Суть ее такова: «Не кичись своей мудростью, не поучай и да не будешь ты нудным».
Нельзя не вспомнить семью Софьи Васильевны: ее дочь, племянницу, сестру, внуков, тех, кто постоянно окружал ее. Вот сад, усыпанный опавшими яблоками, с огромными яблонями и малюсеньким домиком в Строгино. Все было выращено двумя сестрами — Натальей Васильевной и Софьей Васильевной, их трудами в часы «отдохновения» после изнурительной работы. Вот как сейчас вижу соковарку, в которой Софья Васильевна делала яблочный сок, а потом разливала его в бутылки. И поила она этим соком не только внуков, но и частых гостей. С пустыми руками с дачи не выпускали — гости уезжали с корзинами яблок, букетами цветов.
Я никогда не слышала, чтобы внуки звали ее бабушкой, они звали ее «Соней», и дружба между ними была неподдельная. Но сколько сил и здоровья вкладывала «Соня» в этих сорванцов! На вс и всех должно было ее хватить, — она была не только главным воспитателем, но и подлинной главой семьи, безропотно несшей все связанные с этим обязанности.
Позже дачу сломали, сад спилили, срубили, построили на этом месте жилой район Строгино. И ничего не осталось там от тяжелых трудов этих двух женщин, кроме воспоминаний…
Память опять переносит меня к работе. Первые годы Софья Васильевна опекала и учила меня. Официально я не числилась ее стажером, а она моим патроном, но ее помощь была значительно большей, потому что оказывалась по велению сердца, а не служебного долга. Софья Васильевна часто говорила мне: каким бы простым ни казалось дело, каждый раз необходимо еще и еще раз читать закон, периодику, изучать практику. И сама она всегда поступала так, невзирая на огромный опыт. А как досконально изучала дела, как умела беседовать с клиентами!
Вот Софья Васильевна сидит за столом, стоящим в середине второй комнаты консультации. А вокруг — по бокам, сзади, спереди — такие же столы, за которыми тоже сидят адвокаты, многие из них беседуют с клиентами. Сейчас диву даешься, как же мы могли работать в таком шуме, гаме? А Софья Васильевна, кажется, не замечала всех этих неудобств. Если она бралась вести дело, то отдавала себя этому целиком. Часами беседовала с клиентами. Бывало, все посетители и адвокаты уже ушли, ушли секретарь и машинистка, пришла уборщица, а Софья Васильевна все продолжает беседу с клиентом, выясняя все новые и новые вопросы. Ничто не ускользало от ее внимания, и это давало ей возможность блестяще осуществлять защиту.
Через некоторое время Софья Васильевна стала передавать мне ведение уголовных и гражданских дел, которые по каким-либо причинам не могла вести сама. Но относясь ко мне с большой теплотой и оберегая меня, она никогда даже не предлагала мне дела «инакомыслящих». Сама же с головой ушла в эти дела, ничего не боясь.
Всю жизнь Софья Васильевна прожила в более чем скромном достатке. Ей не только были чужды стяжательство, вещизм, накопительство, но она порой не имела даже самого необходимого и не страдала от этого. Признавала она лишь духовные ценности.
Не могу простить себе, что позволила жизни разобщить нас. Первые годы после ухода Софьи Васильевны на пенсию мы нечасто, но встречались, перезванивались. С годами это общение становилось все более и более редким, а затем и вовсе прекратилось. И вдруг телефонный звонок нашего общего знакомого: Софья Васильевна тяжело больна. Я поехала в больницу. Софья Васильевна, несмотря на тяжкую болезнь не изменившаяся, была рада моему приходу, но в глазах ее я прочла упрек: «Где же вы были так долго?» А может быть, она так и сказала?
Было ли так на самом деле, но в ушах у меня по сей день звучит этот вопрос.
Ю. Лурье Призвание
— Я ознакомилась с содержанием дела. Против вас очень серьезные улики.
— Да, Софья Васильевна.
— Прежде всего я хочу спросить у вас, только совершенно честно, вы убили П.?
— Да, но вы будете доказывать, что сделал это не я.
— Мне кажется, что правильнее признаться перед судом в своей вине. Я думаю, что нам бы удалось добиться максимально мягкого наказания.
— Нет, вы будете доказывать, что убил не я.
— Тогда я вынуждена отказаться от ведения вашего дела.
— Отказаться? Я же вам деньги плачу!
— Вы платите за мою работу, но не покупаете меня. Честность моей работы не только в добросовестности перед вами, но и в честности перед собой, перед людьми. Адвокат имеет свои убеждения и отстаивает их перед вами, перед судом, перед людьми в зале суда. Я отказываюсь защищать вас на каких бы то ни было условиях, ограничивающих мою совесть.
* * *
Призвание. Откуда оно берется? Чей зов слышишь в этом слове — «призвание»? А если суть призвания — стоять на страже справедливости? Этому не учит институт, это человеческая потребность, вырастающая из невозможности выносить несправедливость…
Софья Васильевна листает старые блокноты. Конечно, те дела, о которых она рассказывает, — это вехи ее адвокатского пути. Ошибка следователя, ошибка суда — экстраординарный случай, за всю долгую работу на пальцах пересчитать их можно, и все-таки именно в таких ситуациях проявляется призвание.
— Адвокат должен помочь суду вскрыть перед ним в необходимых случаях несправедливость обвинения, — говорит Софья Васильевна, — и вообще должен быть другом суда. Есть у меня коллеги, считающие, что процесс — это борьба с судом. Да, борьба, но борьба вместе с судом за справедливость приговора.
Адвокатские будни. Незаметный и в то же время тяжелый труд. Софья Васильевна листает старые блокноты, и перед ее глазами лица и судьбы. Обо всех бы рассказать. Но, как известно, журналисты любят что-нибудь особенное, и Софья Васильевна вспоминает самые яркие «боевые» свои дела.
В 1929 г. Софья Васильевна окончила Московский университет пошла работать в профсоюзную юридическую консультацию. Тридцать лет она работала защитником интересов рабочих. Работала? Да, каждый вкладывает в это слово свой особый смысл. Кто-то служит, кто-то мучительно идет на работу, кто-то не хочет уходить и после окончания рабочего дня. Работа — это одна из самых больших радостей в жизни, если чувствуешь, что это твоя работа, что ты на своем месте. Софья Васильевна любила свою работу. Ей нравилось выступать в суде, нравилось открывать неожиданные повороты в деле, нравилось приносить большую пользу людям. И это «нравилось» стало необходимостью. Необходимостью, не диктуемой кем-то, а своей собственной, внутренней необходимостью. Давно уже канули в лету годы работы в ВЦСПС, но необходимость осталась и сейчас. Софья Васильевна спешит то в Радиокомитет, где она ведет общественную приемную по юридическим вопросам, то на заседание методического комитета, где она председатель, много и полезно помогает молодым адвокатам и т. д.
Мы часто говорим о принципе материальной заинтересованности. Это очень важный принцип, но при этом мы помним, что у людей главным является все-таки моральный.
Разве «золотые горы» заставляют вас, Софья Васильевна, работать со стажерами, вести при президиуме коллегии адвокатов криминалистическое бюро, так долго мучаться над делами?
Настоящий, большой адвокат — это человек, который служит людям всем сердцем и разумом. Неужели гонорар — цель? Скорее, это просто возможность отдавать свои силы.
* * *
Хищение на фабрике. Неучтенная продукция сбывалась группой мошенников. Бывший начальник цеха щурит глаза: «Это мне главный инженер велел». Некоторые другие обстоятельства и факты тоже, казалось бы, его обличали. И вот главный инженер, старый коммунист, герой войны взят под стражу…
Каллистратова утверждала, что это только оговор. Следователь же решил, что главный инженер сознательно завышал нормы расходования материалов. Мнение экспертизы подтверждало эту версию.
Адвокат собрала заключения крупнейших специалистов из научно-исследовательского института, доказывающие, что экспертиза во время следствия была неквалифицированной. Именно поэтому она пошла на поводу у следователя. Один год и семь месяцев находился честный человек в следственном изоляторе. Суд признал его невиновным в хищении, но виновным в халатности и приговорил к одному году и семи месяцам лишения свободы, то есть на срок, уже фактически отбытый инженером.
Учет на фабрике должны были вести директор и бухгалтер, но не инженер. Обвинение незаконно, честный человек должен быть реабилитирован!
Сколько уже длится дело? Областной суд. Отказ. Верховный суд. Отказ. Вот и инженер сдался: «Не надо, Софья Васильевна, пусть будет, как будет». И перестал звонить. А Софья Васильевна идет на прием еще к одному члену Верховного суда. Пишет еще одно письмо. Что заставляет ее бороться за честь человека, который сам уже давно смирился, смирился потому, что устал от свалившихся на него непосильных бед?
Добрый человек, не добренький, а именно добрый. Как хорошо встретить в жизни такого человека! Особенно, если в той дороге, по которой тяжело идти… а идти надо! И надо не сдаваться.
Но добрый человек — это не мягкотелость, это не доброта болота. Софья Васильевна может быть резкой, страстной, гневной. Доброта Софьи Васильевны Каллистратовой — в ее непреклонном желании добиться для человека добра. Завтра утром она пойдет на прием к прокурору и, чуточку задыхаясь, скажет ему, что так продумано и прочувствовано…
* * *
В деле 25 томов. Сотни накладных, нарядов. Обвиняются 12 человек в хищении подсолнечника. Софья Васильевна защищает Даурбекова, он — инвалид. Ходит на костылях, трое детей.
Огромный кропотливый труд. Софья Васильевна изучала работы по переработке подсолнечника, консультировалась у специалистов. 25 томов дела! И плюс к этому огромное количество специальной литературы.
Каллистратова: Он не мог расхищать полтора года, ибо работал всего один месяц, временно…
Прокурор: Крупное хищение. Очистка подсолнечника от сора не что иное, как способ скрыть преступление.
Каллистратова: Но есть акт, свидетельствующий об улучшении качества подсолнечника за счет очистки его от сора.
Прокурор: А где наряды рабочим на очистку зерна? Их нет. Не очищалось же зерно само по себе — вот неопровержимая улика.
Каллистратова: Нарядов нет и не может быть, потому что очистка автоматизирована.
Прокурор: Пусть даже так, но это еще не доказательство. Сора никакого не было.
Каллистратова: Прошу приобщить к делу наряды на вывоз сора от подсолнечника. Это доказательство?!
Подсудимые оправданы.
* * *
Да, она могла на равных спорить с экспертизой. Упорство и труд принесли ей победу. И так каждый раз. В каждом новом деле — специфические условия производства или быта. Настоящий адвокат — это большой эрудит, человек воистину энциклопедических знаний…
Ю. Поздеев Честь и талант
Мы идем по мягкому, рябому асфальту, истыканному каблуками. 45 градусов в тени. Ташкент. Июль 1968 г.
Мы — это Софья Васильевна Каллистратова, Владимир Борисович Ромм, Леонид Максимович Попов и я, адвокаты Московской городской коллегии.
Привел нас сюда зов целого народа — крымско-татарского, который от мала до велика в 1944 г. был погружен в эшелоны и в течение одних суток выброшен с родной земли, а затем упрятан в резервациях в Средней Азии.
Правда, в 1968 г. колючей проволоки уже не осталось и семьи воссоединились. Крымские татары, будучи трудолюбивыми, добросовестными и умелыми, обладая высочайшей дисциплиной и отменными моральными качествами, как, впрочем, каждый народ-изгой, стали желанными работниками в любом колхозе или на предприятии и жили зажиточно. Но тоска по родине, по Крыму не оставляла и новые поколения.
Это был один из первых процессов над людьми, вся вина которых заключалась в желании жить там, где жили их предки. И хотя норма закона предусматривала наказание не более трех лет, дело рассматривалось областным судом по первой инстанции на окраине города в обстановке секретности и закрытости. Местные адвокаты, испытывая сильное давление партийных органов и КГБ, либо отказывались от защиты крымских татар, либо становились помощниками обвинения.
Все мы, естественно, жаждали оправдания, понимая в то же время, что это скорее из области фантастики, поскольку такие процессы и их исход программировались заранее.
В этой сложной ситуации во всем блеске развернулся талант Софьи Васильевны Каллистратовой. Она обладала удивительным даром простоты и убедительности. Будучи человеком огромной эрудиции, энциклопедистом, Софья Васильевна не употребляла сложных оборотов, не перегружала речь цитатами. После сказанного ею казалось, что иных слов, иной фразы, иной формы защиты и не могло быть. Вызывало удивление, как эти мысли не пришли в голову тебе самому.
Не секрет, что многие судьи относятся с подозрением к доводам адвоката («Не обманул бы. Он наговорил, а мне расхлебывать»). Речь Софьи Васильевны всегда вызывала сопереживание, и создавалось ощущение, что это и есть момент истины, который мучительно ищет правосудие, — конечно, честное правосудие.
В одном из процессов Мосгорсуда я сам был свидетелем следующего. После защитительной речи Софьи Васильевны судья объявил перерыв. Адвокат, которому предстояло выступать затем, очень торопился на другое дело. Он вошел в совещательную комнату и стал умолять председательствующего заслушать его побыстрее. Председательствующий с раздражением бросил ему: «Неужели вы думаете, что я могу еще кого-то слушать после Каллистратовой?»
Кто-то из нас сильнее в защитительной речи, кто-то лучше владеет следствием, перекрестным допросом, некоторые предпочитают хозяйственные, технические дела, другие любят эмоциональную канву. Уникальность Софьи Васильевны заключалось в ее универсальности. Она одинаково великолепно проводила дела любой категории, в любой стадии и, что еще более существенно, никогда не повторялась. Если к этому добавить полное отсутствие позерства, манерности и рисовки, абсолютную естественность, прекрасный русский язык, блестящую память, то могу только посочувствовать тем, кому не довелось ее слушать. И ведь не издашь сборника ее речей, так как написанных речей и даже тезисов у нее не было. Как-то я заглянул в лист бумаги, который лежал перед Софьей Васильевной во время произнесения ею защитительной речи. Несколько концентрических окружностей, пара звездочек и четыре фамилии — все. Многотомное дело находилось в голове, со всеми листами, деталями, противоречиями. Все это мгновенно извлекалось в нужный момент без мучительного рытья и поисков и без единой ошибки или неточности.
Я убежден, что и в ташкентском деле переломить волю и запрограммированность опытного судьи помогла нам Софья Васильевна. Условное наказание с освобождением трех человек в зале суда из-под стражи, в том числе и подзащитного Каллистратовой Ахтемова, — успех, по тем временам невероятный.
Члену облсуда Сергееву, рассматривавшему дело, это стоило работы. Когда мы приехали в кассационную инстанцию, с ним уже было кончено.
И сейчас, по прошествии десятков лет, я вспоминаю этот процесс как один из самых радостных эпизодов моей нелегкой адвокатской жизни, во многом потому, что рядом со мной находился замечательный русский адвокат — Софья Васильевна Каллистратова.
Н. Горбаневская Софья Васильевна Каллистратова
С Софьей Васильевной Каллистратовой я познакомилась осенью 1967 г. Я уже знала, что она защищала Виктора Хаустова, уже читала ее четкую, мудрую защитительную речь. Но одно дело — знать о человеке понаслышке, другое просиживать целые вечера за чаем, за разговорами, как это скоро стало для меня привычным. К Софье Васильевне всегда можно было забежать вечерком без предупреждения, просто проходя поблизости от ее дома. Очень скоро я привыкла бегать на кухню огромной коммунальной квартиры ставить чайник и только всегда спешила скорей вернуться в комнату, чтобы не пропустить ничего из ее рассказов.
У нас тогда как раз начался период увлечения «буквой закона», мы постоянно и справедливо ловили власти на уклонении от этой буквы, на нарушении законов в ходе процессов. Особенно вопиющими были для нас нарушения, допущенные во время суда на Галансковым и Гинзбургом. Но я на всю жизнь запомнила слегка ироничное замечание Софьи Васильевны по поводу нашего юридического энтузиазма. Не помню точного звучания ее слов, передаю только их общий смысл. Она сказала, что по сравнению с уголовными процессами судьи на политических ведут себя еще очень прилично: если бы мы только знали, какое чудовищное пренебрежение к этой самой «букве закона» царит в процессах по уголовным делам.
Это мимолетное замечание, а также многочисленные рассказы Софьи Васильевны из ее адвокатской практики по уголовным делам стали для меня важным уроком. Быть может, именно благодаря этому, попав позднее в Бутырки, сидя с уголовницами, я смогла внимательно, без высокомерия и отчуждения заинтересоваться как происхождением их преступлений, так и — нередко невероятными — нарушениями правил процесса, допускаемыми в ходе следствия. Интересно, что из всех «невменяемых», сидевших со мной в разное время в больничке Бутырской тюрьмы, у меня одной была встреча с адвокатом — как правило, адвокат, назначенный ли судом, нанятый ли родными, к «невменяемому» подзащитному не приходит ни разу. Так же, как судьи, просто повторяя заключение экспертизы, объявляют невменяемым и отправляют в общую или специальную психбольницу человека, которого они в глаза не видели, так и защитник защищает человека абсолютно ему не известного, не увидев его и не выслушав, а затем не приходит даже уведомить его, что суд состоялся и какое он вынес решение.
Как завидовали мне все в камере, когда я вернулась со свидания с адвокатом, да еще с букетиком ландышей в руках. Накануне у меня был день рождения, и я выколотила себе право не только увидеть принесенный Софьей Васильевной пучок ландышей, но и взять его в камеру. Но это был уже 1970 г. — я забегаю вперед.
В 68-м я впервые просила Софью Васильевну быть моим защитником по делу демонстрации. Тогда это не состоялось: мое дело выделили из общего и прекратили. На процессе о демонстрации Софья Васильевна защищала Вадима Делоне. Защищала блестяще, но и подзащитный не ударил в грязь лицом. Софья Васильевна признавалась, что его выступления на суде дали ей некоторые юридические «подсказки». Процесс демонстрантов был, пожалуй, одним из самых блестящих процессов тех лет.
Впервые в истории советских политических процессов все адвокаты потребовали оправдания своих подзащитных. В то время для защиты по статьям 190-1 и 190-3 еще не требовался «допуск», поэтому на процессе могли выступать и Дина Исааковна Каминская, лишенная «допуска» после защиты Галанскова, и Софья Васильевна, не имевшая его и прежде.
Мое дело в 68-м было прекращено не просто так, — надо мной как Дамоклов меч нависло заключение психиатрической экспертизы о невменяемости. Тогда же по делу о демонстрантах признали невменяемым и отправили в ленинградскую психиатрическую тюрьму Виктора Файнберга, его, с выбитыми при аресте демонстрантов зубами, не сочли возможным представить на общий процесс.
1969 год резко усилил тенденцию к «психиатризации» политических репрессий. Никогда среди известных правозащитников не оказывалось такого процента «психов», как среди арестованных в том году. Подряд один за другим Яхимович, Григоренко, Борисов, еще один Борисов, тоже Владимир (из города Владимира), позднее покончивший с собой в Бутырской тюрьме, в камере, окно которой сквозь решетки и жалюзи смотрело на зарешеченное окно моей камеры. Виктор Кузнецов, Владимир Гершуни, Валерия Новодворская, Ольга Иоффе и, наконец, я, арестованная за неделю до Нового, 1970 г.
Софья Васильевна защищала Ивана Яхимовича с редким успехом <…> Петра Григорьевича Григоренко Софья Васильевна защищала уже в 70-м, когда и меня.
Софья Васильевна побывала у меня в Бутырках трижды. Первый раз, о котором я упоминала, был во время ее знакомства с делом. Второй — накануне процесса.
Хорошо помню ее фразу: «Вас будет судить Богданов — это лучший судья в Мосгорсуде, но это ничего не изменит». Так оно и было. И, придя ко мне, после процесса Софья Васильевна сказала: «Богданов просидел весь процесс, опустив глаза».
Это был его первый политический процесс. Теперь они стали для него рутиной, и больше он глаз не опускает.
Когда Софья Васильевна потребовала, чтобы меня вызвали в суд, судья спросил мнение эксперта-психиатра. Печально знаменитый, ныне уже покойный, так и не покаявшийся перед смертью в своих грехах профессор Лунц заявил, что присутствие на суде может меня психически травмировать, и суд отказался меня вызвать. Когда после суда Софья Васильевна пошла к судье за разрешением на свидание со мной, Богданов сказал: «Ну зачем Вам это? Она же сумасшедшая». «Вы бы хоть посмотрели на нее, какая она сумасшедшая», резко возразила Софья Васильевна. Богданов молча, вероятно, опять опустив глаза, подписал разрешение на свидание.
Кстати, самая тяжелая психическая травма на процессах «невменяемых» — это именно отсутствие на суде. Почему суд в Риге не смог признать Ивана Яхимовича невменяемым и направил его на новую экспертизу? Потому что Софья Васильевна добилась его вызова в суд. Видя живого человека, не так-то легко повторить в постановлении суда то, что написано в акте экспертизы. Общение же с одной бумажкой как бы избавляет от ответственности. Кстати, в уголовных процессах это создает для невменяемого полную беззащитность.
Для нас, политических, эта «травма отсутствия» все-таки отчасти сглаживалась сознанием того, что нас защищают, что за нас есть кому постоять. Хоть Софья Васильевна накануне суда была убеждена, что суд повторит решение экспертизы и отправит меня в психиатрическую тюрьму, но сражалась она за меня до последнего, и я думаю, что судья Богданов опускал свои глаза не только от своей непривычки к политическим процессам, но еще и от стыда перед Каллистратовой, хорошо известной, ценимой и уважаемой даже противниками в кругах московской юстиции. Чтобы поберечь слишком впечатлительных судей, вскоре для статьи 190-1 также был введен так называемый допуск, которого ни Каллистратова, ни Каминская не имели. Я была одной из последних подзащитных Софьи Васильевны по этой статье. Позднее она выступала на нескольких процессах, где арестованным по политическим причинам предъявлялись обвинения, не требующие допуска, но и эта ее адвокатская деятельность была нестерпима для властей, — Софью Васильевну заставили выйти на пенсию.
Я была уже в эмиграции, когда узнала, что Софья Васильевна стала сначала юрисконсультом Рабочей комиссии по изучению использования психиатрии в политических целях, а затем и членом Хельсинкской группы. Первое показалось мне вполне естественным: в конце концов, за юридическими консультациями мы все приходили к Софье Васильевне с самого нашего знакомства, а с проблемами репрессивной психиатрии она столкнулась непосредственно, защищая Яхимовича, Григоренко и меня, и хорошо знала, сколько произвола в этой области. <…> Ее личный опыт, ее знание правил судебно-психиатрической экспертизы — все это она просто не могла не предоставить в помощь молодым учредителям Рабочей комиссии. Но вступление Софьи Васильевны в Хельсинкскую группу показало мне, что что-то важное за мое отсутствие изменилось и в общей атмосфере, и в отношении самой Софьи Васильевны к нашей правозащитной деятельности.
К нашему энтузиазму 1968–1969 гг. она всегда относилась скептически. Конечно, она нас любила, давала советы, ей нравилось наше стремление «прошибить лбом стену», но в то же время ей было всегда ясно, что «лбом стенку не прошибить», и она даже, пожалуй, чуточку жалела о напрасной трате наших сил. Может быть, я ошибаюсь, может быть, ее скептицизм в разговорах с нами был скорее чем-то вроде роли «адвоката дьявола», заставлявшего нас самих строже разобраться в том, что и зачем мы делаем.
Во всяком случае, такого шага, как вступление в Хельсинкскую группу, выхода на «передовую» правозащитной борьбы, я от Софьи Васильевны не ожидала.
Конечно, это было после арестов Гинзбурга, Щаранского и Орлова, когда «передовая» частично оголилась и выбывших требовалось заменить, но не такой человек Софья Васильевна, чтобы сделать что-то вопреки своим убеждениям. Значит, что-то изменилось и в ее убеждениях, значит, пришла она к выводу о том, что правозащитная деятельность не только отважна и тем прекрасна, но еще и осмысленна.
Впрочем, быть может, это было лишь дальнейшим развитием той позиции, которую я охарактеризовала «деятельным пессимизмом». После моего процесса Софья Васильевна мне сказала: «Все, что я говорила, было предназначено для четырех человек в зале». Троих из этих четырех Софья Васильевна знала, и их ни в чем убеждать не надо было. Четвертым был один из народных заседателей. Провести целый судебный процесс с девяти утра до часу ночи, говорить, собственно, ради одного человека в зале — стоит ли игра свеч? Видимо, так же, с теми же настроениями вошла она и в Хельсинкскую группу. Добиться если не чьего-то освобождения, то по крайней мере, уменьшения произвола. Если и этого не добиться, то по крайней мере, предать гласности. <…>
П. Григоренко Дорогая моя защитница
С адвокатом Софьей Васильевной Каллистратовой я познакомился еще в 1968 г. Она неоднократно уже защищала наших ребят.
[П.Г. Григоренко и С. В. Каллистратова]
Теперь Софья Васильевна приехала защищать меня. Сбылось ее шуточное предсказание. Как-то я зашел к ней по делам в консультацию. Дело шло к концу рабочего дня, посетителей у нее больше не было, и мы от дел перешли к обычным разговорам. И я в связи с чем-то спросил ее, скоро ли она уходит на пенсию. Она вполне серьезно, но со смешинкой в глазах сказала: «Куда же я пойду? А вас кто защищать будет?» И вот она, дорогая моя защитница, на свидании со мной в приемной комнате следственного изолятора КГБ, в Ташкенте. Впервые почти за восемь месяцев я вижу человеческое лицо. Да еще какое лицо! Никогда красивее не видел. «Луч света в темном царстве», сказал я ей словами Островского. Никогда не забыть мне мандаринов и шоколада, которыми угощала она меня во время этого свидания. Я не люблю шоколад, но тот, что я получил от нее, был вкуснее всего на свете.
Она мне рассказала о моем деле и выслушала мой рассказ о следствии и экспертизе. Сказала, что будет настаивать на третьей экспертизе в суде. Дала высокую оценку экспертизе, проведенной в Ташкенте: написана высококвалифицированно и объективно. В Институте же Сербского тенденциозно и неквалифицированно. Ташкентская экспертиза дает ей в руки хорошие основания для защиты, но надеяться на успех трудно. Сама система рассмотрения таких дел содержит в себе произвол. Одновременно, одним составом суда решаются два несовместимых вопроса. Вопрос о вменяемости и вопрос о виновности. Правильно решать первый вопрос суд не может потому, что судьи не специалисты, а состязательности в процессе нет. На суд представляется всего одно экспертное заключение, и идет оно от обвинения. Суд может лишь проштамповать это заключение. Ну а если подсудимый признан невменяемым, то о чем же дальше говорить? Невменяемый человек натворил неведомо чего, ну и пусть лечится. Любое преступление следствия покрыто… неподлежащей оспариванию экспертизой, созданной самим следствием.
Софья Васильевна сказала, чтоб надеждами я себя не тешил. Мне это было ясно. Однако я понимал и то, что борьбу она будет вести, хотя и сказала с горечью: «Кого же вдохновит выступать перед пустыми стульями?» Но она все же выступала, и выступления ее оставили след. Вот и сейчас я пишу и смотрю в ходатайство С. В. Каллистратовой «Об истребовании дополнительных медицинских документов и о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы на суде в судебном заседании 3.02.1970 г.». Все ходатайство документ необычайной разоблачительной силы.
Какой звонкой пощечиной начала Софья Васильевна: два у вас документа, уважаемые, а не один; оба по закону имеют одинаковую силу и обязательно должны быть рассмотрены; вы, уважаемые, не обладаете нужными знаниями и потому обязаны создать третью экспертную комиссию, кандидатуры в которую я уже подготовила.
И между строк: «Я прекрасно знаю, что вы ничего этого не сделаете, а проштампуете заключение Института Сербского, поэтому я в дальнейшем разгромлю это заключение и тем выставлю всех вас на всемирное осмеяние». Да, Софья Васильевна разгромить это заключение сумела. «Эксперты не дают оценки действиям испытуемого, не устанавливают их соответствия или несоответствия реальности, их обоснования, а ограничиваются указаниями, что разубедить испытуемого в неправильности суждений не удалось. Между тем, в отличие от акта стационарной экспертизы, члены амбулаторной судебно-психиатрической комиссии от 18.08 прямо указывают, что высказывания Григоренко не имеют характера болезненных, бредовых, а являются убеждением, свойственным не ему одному, а ряду лиц».
Разобрав еще несколько примеров, адвокат пишет: «Все вышеизложенное доказывает, что акт судебно-психиатрической экспертизы от 19.11.1969 не обосновывает наличия у испытуемого паранойяльного (бредового) развития личности». И далее: «Не доказано наличие у испытуемого психопатических черт характера… [он] всегда был хорошо адаптирован к окружающей среде и адекватно реагировал на ситуацию…»
Таким образом, диагноз стационарной судебно-психиатрической экспертной комиссии не находит подтверждения ни в акте от 19.11.69 г., ни в материалах дела. Иначе говоря — медицинский критерий невменяемости (наличие душевного заболевания) у испытуемого экспертизой не установлен. Поэтому и психологический (юридический) критерий невменяемости («исключается возможность отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими»), приводимый в акте от 19.11.1969 г., лишен всякого смысла, так как «оба критерия — медицинский и юридический (психологический) — должны существовать в неразрывном единстве» (процитированная работа принадлежит Д. Р. Лунцу).
Ее заключение: «Все это вместе взятое дает полные основания утверждать, что вывод стационарной экспертной комиссии о невменяемости испытуемого ошибочен. <…> Все изложенное дает защите основание настоятельно просить о назначении по делу третьей судебно-психиатрической экспертизы для разрешения вопроса о психическом состоянии и вменяемости Григоренко П. Г.».
«Ходатайство адвоката Каллистратовой» является лучшим примером того, как можно бороться и побеждать, находясь во власти тоталитарного чудовища. И Софья Васильевна, и я знали, что непосредственного результата в виде избавления меня из ада психушек не будет. Но надо было сделать такое, чтоб суд сам пригвоздил к позорному столбу всю советскую систему принудительного лечения. Софья Васильевна добилась этого. Она создала такое ходатайство, которое можно только удовлетворить. Иначе позорище перед всем миром. Но удовлетворить суд не мог в силу самой своей природы как орудия произвола. Документ, созданный Софьей Васильевной, положил начало разоблачению подлостей советской психиатрии. Этот документ присутствовал в материалах, посланных западным психиатрам Володей Буковским, присутствовал в Гонолулу, приобретает особое значение сейчас, когда я прошел обследование у крупнейших психиатров США <…> которые пришли к тому же заключению, что и Софья Васильевна, — никакими психическими заболеваниями я не болею и никогда не болел. Документу Софьи Васильевны суждена долгая жизнь. Он еще годы и годы будет орудием борьбы за ликвидацию преступной психиатрии. Я рад, что мое дело послужило основанием для создания этого замечательного документа. Ради этого стоило провести пять с лишним лет в психиатрической тюрьме.
«Суд» закончился 5 февраля 1970 г. Софья Васильевна снова пришла ко мне. Судья хотела ей отказать, но Софья Васильевна доказала свое право и пришла. Судья, правда, отыгралась за эту свою вынужденную уступку. Она отказала моей жене, мотивировав тем, что свидание получила адвокат. Я очень расстроился тем, что не смог свидеться тогда с женой. Прошло уже больше восьми месяцев, как мы не виделись. Но если судья думала, что, противопоставив Софью Васильевну Зинаиде Михайловне, она испортит наши отношения, то она глубоко ошиблась. Наоборот, именно после процесса наши отношения стали особенно теплыми. С этого времени мы уже больше никогда не чувствовали Софью Васильевну вне нашей семьи. Она нам с Зинаидой больше, чем сестра. Она — друг, за которого жизнь отдать не страшно.
Ю. Ким Удивительная женщина
Перед моим внутренним оком проходит вереница наших дорогих диссидентов, наших немногих героев времен Душной Скуки. И, как всегда, мое сердце выделяет четырех удивительных женщин, перед которыми склоняется моя голова с восхищением и одновременно с горестным сознанием, что у меня-то оказалось меньше сил, чем у них. Я говорю о Ларисе Богораз, о Нине Лисовской, о Татьяне Великановой и, конечно же, о Софье Васильевне, о нашей защитнице адвокате Каллистратовой.
Кто-то дополнит перечень, да я и сам мог бы, но вот эти четыре имени для меня — первые. С ними разом обновляется в моем сознании заезженное слово «героизм», его изначальный смысл становится ясен.
Диссидентское дело было их главным занятием в течение двадцати лет. Это означает, что двадцать лет над ними неотступно висела омерзительная тень нашего III Отделения… пардон, нашего 5-го управления, андроповских опричников, недреманное око Советской Политической Полиции. Это означает ясное понимание, что каждый поступок — подпись под протестом, составление протеста, собирание подписей под ним, распространение его, собирание информации о бесправии и беззаконии, передача ее за рубеж, да что там самый простой сбор средств или вещей в помощь семьям политзаключенных, каждый такой шаг непременно повлечет за собой очередную гнусность Партийной Жандармерии: увольнение, обыск, арест, грязную статью Н. Н. Яковлева; могли и просто подойти на улице и ударить, да-да, ударить женщину по лицу! И все-таки каждый раз находилась сила — продолжать. Вот эта способность к постоянной, черной, будничной работе по защите прав человека под неуклонным мертвящим глазом Лубянки, зная о нем и все-таки невзирая на него, — вот что я называю героизмом. Не исключались для них и такие эффектные поступки, как выход на площадь, открытое заявление, принятие на себя ответственности за выпуск «Хроники», — то есть шаги по необходимости громкие, но главное все-таки эта вот способность изо дня в день поддерживать кровоточащую нашу гласность, зная и невзирая… И при этом никакой истерики, самообладание и присутствие духа. И юмор, ирония — признак подлинного мужества. Хотя тяжко им приходилось, как мало кому.
Я просто счастлив, что все они дожили до проблеска Свободы, а особенно что Софья Васильевна, самая старшая из них, все-таки застала, все-таки успела порадоваться. И это просветляет горестную мысль о ее кончине. И заставляет еще горше печалиться о тех, кто не дожил…
В 1968 г., после суда над демонстрантами, вышедшими на Красную площадь протестовать против погрома Пражской весны, я сочинил «Адвокатский вальс» и, помню, вечером спел его подряд несколько раз для наших «защитников правозащитников» — были там Борис Золотухин, Дина Каминская, Юрий Поздеев и, конечно, Софья Васильевна. Им эта песня и посвящается, а Софье Васильевне — в первую очередь.
Конечно, усилия тщетны, И им не вдолбить ничего: Предметы для них беспредметны, А белое просто черно. Судье заодно с прокурором Плевать на детальный разбор, Им лишь бы прикрыть разговором Готовый уже приговор. Скорей всего, надобно просто Просить представительный суд Дать меньше по 190-й, Чем то, что, конечно, дадут. Откуда ж берется охота, Азарт, неподдельная страсть: Машинам — доказывать что-то, Властям — корректировать власть? Серьезные, взрослые судьи… Седины… морщины… семья. Какие же это орудья? Такие же люди, как я. И правда моя очевидна, И белые нитки видать, И людям должно же быть стыдно Таких же людей не понять! Ой, правое русское слово, Луч света в кромешной ночи! И все будет вечно хреново… И все же ты вечно звучи!Ю. Фрейдин Стационарная экспертиза дает заключение…
Софья Васильевна Каллистратова столкнулась со злоупотреблениями психиатрией в тот момент, когда их жертвами стали ее подзащитные. Однако мы знаем, что конкретные эпизоды ее адвокатской борьбы положили начало широкому отечественному и международному движению, направленному на искоренение репрессивной психиатрии в нашей стране. На этом пути были свои борцы, мученики и жертвы, их имена известны. Известно и то, что в наши дни репрессивная психиатрия понемногу, хоть и неохотно, отступает. Мне же всего лишь несколько раз довелось помочь Софье Васильевне советами, ответить на несколько ее вопросов, касавшихся отдельных конкретных дел. Тогда мне это не казалось существенным. Однако сама Софья Васильевна всегда считала, что без такой, право же, весьма скромной, помощи, она не могла бы столь уверенно отстаивать свою позицию. Только потому я и позволяю себе сейчас рассказать об этих эпизодах.
Мы познакомились с Софьей Васильевной в конце 60-х гг. в кругу моих друзей и коллег-психиатров Сусанны Ильиничны Рапопорт и Владимира Исааковича Финкельштейна. В своей повседневной практике они постоянно стремились использовать психиатрию во благо всем, кто в этом нуждался.
Софья Васильевна впервые столкнулась с этим в 1969 г. в деле И. А. Яхимовича. В ходатайстве, которое писала Софья Васильевна по делу Яхимовича, первая часть посвящена следственно-обвинительной стороне процесса, вторая экспертно-психиатрической. Не раз слышал, как Софья Васильевна возмущалась, читая утверждения теперешних представителей закона, будто в те годы правозащитники и инакомыслящие преследовались согласно тогдашнему законодательству. «Неправда, — говорила она, — судили не по закону, а по произволу». Ни одно из обвинений на тех процессах не было доказано в полном соответствии с законом. Это были беззаконные преследования! Поэтому Софья Васильевна считала нужным добиваться отмены былых приговоров не в порядке «помилования», не в «связи с изменением обстановки», а именно в связи с отсутствием, недоказанностью состава преступления.
Одну из самых страшных сторон репрессивной психиатрии она усматривала в том, что, будучи объявлен невменяемым, обвиняемый, независимо от формы и тяжести душевного заболевания, еще до того, как суд — единственный, кто имеет на это право, — официально утвердит решение экспертизы, не допускается на судебное заседание. Его как бы нет. Он не участвует в процессе (официально — по соображениям милосердия, дабы не травмировать). Да и весь процесс в отсутствии главного действующего лица можно вести кое-как, не особенно затрудняя себя доказательствами. Софья Васильевна считала, что если бы пересмотреть обвинения лиц, объявленных невменяемыми, — в самых разных процессах, не только в политических — большая часть этих обвинений оказалась бы не доказанной, а просто проштемпелеванной судом в угоду обвинению, без критического анализа следственных материалов дел. В своем ходатайстве она сумела аргументированно показать, что эксперты не выполнили даже элементарно обязательных для них требований, изложенных в «Инструкции о проведении судебно-психиатрической экспертизы» (от 31.IV.1954) и в пособии «Судебная психиатрия». Это давало ей все основания добиваться по материалам дела оправдания обвиняемого, по материалам неполноценной экспертизы — проведения повторного судебно-психиатрического освидетельствования.
Яхимович, как мы знаем, не был оправдан, но его и не направили в спецбольницу. Определением суда он был направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу общего типа, что, безусловно, также означало использование психиатрии в репрессивных целях, но такая репрессия была сравнительно мягкой.
Ко мне Софья Васильевна обращалась в связи с делом Петра Григоренко. Не буду повторять известные подробности — о них не раз говорилось, о них написал в своих воспоминаниях сам генерал Григоренко (воспоминания эти с сокращениями были напечатаны в 1990 г. в журнале «Звезда», а сейчас выходят полностью в московском издательстве «Звенья»). Отмечу лишь, что в деле Григоренко была одна важная особенность: первая, ташкентская, судебно-психиатрическая экспертиза не нашла у него душевного заболевания и признала его вменяемым. Иным было заключение второй экспертизы, проведенной в Центральном научно-исследовательском институте судебной психиатрии им. Сербского в Москве. Окончательное решение оставалось за судом. Суд был волен принять заключение любой из этих двух экспертиз или потребовать третьей, а также выбрать меру психиатрической репрессии.
Если с Яхимовичем Софья Васильевна познакомилась только в ходе ее работы над этим делом, то Петра Григорьевича она знала и раньше, еще до процесса. Было ясно, что о невменяемости Григоренко можно говорить, только злоупотребляя психиатрией.
Мне бы сейчас не вспомнить всех деталей тогдашнего разговора с Софьей Васильевной, но, к счастью, в ее архиве сохранилась записка с точным перечислением вопросов, которые она поставила передо мной в тот вечер на улице Воровского.
Вот текст этой записки:
«1. Стационарная экспертиза в Институте им. Сербского. Заключение «страдает психическим заболеванием в форме патологического (паранояльного) развития личности с наличием идей реформаторства, возникшим у личности с психопатическими чертами характера и начальными явлениями атеросклероза сосудов головного мозга».
Можно ли утверждать:
а) что в этом заключении нет диагноза психического заболевания;
б) что паранояльное развитие личности не предусмотрено в современной классификации психических болезней как самостоятельное заболевание, а является одной из форм психопатии;
в) что психопатию ряд авторов (в том числе и проф. Банщиков) не относят к числу психических заболеваний, а считают патологией характера, развивающейся на протяжении всей жизни, и что психопатия лишь при определенных условиях может быть приравнена к психическим заболеваниям.
Если изложенные выше соображения могут быть высказаны юристом (без риска заслужить упрек в невежестве), то на какие авторитетные источники, кроме учебника «Психиатрия» Банщикова и Невзоровой, можно сослаться? Не устарела ли работа проф. Ганнушкина 1934 г. о психопатии?
2. Являются ли термины «паранояльный» и «параноидный» равнозначными (синонимами)? Удовлетворит самый краткий ответ вплоть до: «да» или «нет». Правомерно ли выражение «паранояльное» (бредовое) развитие личности, то есть: паранояльно-бредовое?
3. Равнозначны ли (с точки зрения психиатрии) выражения: «идеи реформаторства» и «бред реформаторства»?
4. Что такое «стеничность» — есть такой термин? Или это опечатка в акте амбулаторной экспертизы, где написано: «… обнаруживал всегда отдельные своеобразные черты характера, как высокую стеничность и настойчивость».
Софья Васильевна сочла необходимым досконально разобраться в психиатрической терминологии и казуистике. По-видимому, мне как-то удалось помочь ей в выборе твердой и последовательной защитительной позиции по этому сложному и противоречиво освещаемому разными психиатрами вопросу. Впрочем, сама эта противоречивость давала достаточно оснований для спора с экспертным заключением, и в каждом своем ответе на ее вопросы я старался максимально осветить эту спорность и противоречивость.
Хотя заключение было задумано как диагноз психического заболевания и сформулировано так, чтобы оно выглядело достаточно объективно, разнообразные высказывания специалистов по этому вопросу могли быть противопоставлены суждению экспертов. В общепринятых определениях психопатии обычно подчеркивалось, что это «не душевная болезнь», а «патологический характер», «аномальный склад личности» и даже еще мягче «характерологические особенности личности». Это означало, что, хотя психопатия и занимает свое место в классификации болезней, но на особых правах, примерно таких же, как неврозы, навязчивые состояния и другие так называемые пограничные расстройства — пограничные в том смысле, что они занимают промежуточное место между «нормой» и душевными заболеваниями. И Софья Васильевна очень точно уловила эту сторону дела. Действительно, считается, что лишь в особых случаях — при обострении состояния, так называемой декомпенсации, психопатия достигает степени настоящего душевного заболевания и может быть приравнена к нему. Примерно так освещен этот вопрос в стандартном вузовском учебнике психиатрии (Кербиков, Коркина, Наджаров, Снежневский), в Большой медицинской энциклопедии (где, как правило, приводятся нормативные, то есть обязательные для специалистов, сведения) и в других источниках. Книга Ганнушкина «Психопатии, их статика, динамика, систематика», хотя и устарела, но по-прежнему служит источником цитат по данному вопросу. Более поздней и отражающей, пожалуй, наиболее мягкую позицию является монография Ротштейна о психопатиях. Примерно таков был мой ответ на первый вопрос Софьи Васильевны.
Что касалось второго вопроса, то термины «паранояльный» и «параноидный» отнюдь не равнозначны, а вопрос о «паранояльном» (бредовом) развитии личности является в достаточной степени спорным. Обычно под паранояльными понимают сверхценные, а не бредовые идеи, что не одно и то же.
Аналогично и с третьим вопросом Софьи Васильевны. Когда психиатры говорят об «идеях реформаторства», они обычно подразумевают «сверхценные» идеи, то есть такие, которые занимают непропорционально важное место во внутреннем мире человека, вызывают у него эмоционально обостренное отношение. Без сверхценных идей нет ни подвига, ни самопожертвования, ни творческой одержимости.
И, наконец, четвертый вопрос — о «стеничности». Такой термин действительно существует, им обозначают активное, энергичное, волевое упорство в достижении цели. Противоположным ему является широко известный термин «астеничность».
Примерно так протекал наш тогдашний разговор. Позднее оказалось, что Софья Васильевна придавала нашему разговору очень большое значение. Она несколько раз вспоминала об этом в последний год своей жизни, когда свердловские документалисты снимали с ее участием фильм о генерале Григоренко. Она приглашала меня принять участие в съемках, но я отказался, так как не числил за собой никаких особенных заслуг и не считал свою роль сравнимой с подвигом тех людей — и Софьи Васильевны в их ряду, — которые сделали злоупотребления психиатрией в нашей стране достоянием гласности и жертвенно боролись против них. Что же касается меня, то я просто дружил с Софьей Васильевной, черпая в общении с ней импульсы твердой, надежной и активной доброты, щедро излучавшиеся ею.
В наших разговорах нередко возникала тема психиатрических злоупотреблений и репрессий — Софья Васильевна неутомимо поддерживала борьбу против них, несмотря на явную тогда ее малоперспективность. И нам всем, любившим Софью Васильевну и осиротевшим с ее уходом, остаются в утешение память о ней и сознание того, что она все же дожила до той поры, когда стали возвращаться из лагерей, ссылок и «психиатричек» ее друзья и единомышленники, ее подзащитные и подопечные.
С. Глузман Свет, тепло и покой
От ежедневной жвачки безликих наших газет, славословий в адрес неосмысленных речей живого вождя меня тошнило всегда. Тошнило Системой. Но чашу физиологического терпения моего переполнило знание о том, что моя специальность используется для расправы с инакомыслящими. Интеллигенция тогда шепталась о случившемся с генералом Петром Григоренко.
И я вырвал из себя страх, ведь кто-то должен был ответить палачу Лунцу. Дважды Леонид Плющ по моей просьбе передавал московским диссидентам сообщение: «В Киеве есть молодой психиатр, желающий всерьез, профессионально исследовать случай генерала Григоренко с тем, чтобы квалифицированно доказать существование в СССР практики злоупотребления психиатрией в политических целях. Для этого исследования необходимы встречи с семьей Григоренко, его друзьями, необходимы его публицистические произведения из «самиздата»…»
Шесть или семь месяцев мы ожидали ответа! Диссидентская Москва (как, впрочем, и семья генерала) на мой призыв не реагировала. И лишь после второй просьбы Плюща в Киев приехал сын Петра Григорьевича Андрей. Он привез для меня оружие невероятной силы: точную копию всех медицинских документов из следственного (КГБ) дела генерала Григоренко. Копию, исполненную рукой неизвестного мне тогда московского адвоката Софьи Васильевны Каллистратовой.
Почему все было именно так? Почему среди наших юристов, ориентированных и самой жизнью, и всем тем «крыленко-вышинским» университетским курсом на цинизм, некомпетентность и нравственную слепоту, почему среди них все же появлялись Каллистратовы, Каминские, Швейские? И почему таких Каллистратовых фактически не было среди «представителей самой гуманной профессии — врачей»? Нет ответа…
1969 и 1970-е гг., новые и новые аресты диссидентов по всей стране, обыски, угрозы, избиения на улицах «неизвестными хулиганами», медленный, но уверенный курс к очищению Сталина от «поклепов». Каллистратова понимала, что КГБ имеет к ней особый интерес, и не только из-за ее позиции в случае Григоренко. Кто тот неизвестный «молодой психиатр» в Киеве, желающий исследовать случай Григоренко, не провокатор ли он? Или попросту не весьма серьезный молодой человек, не отдающий себе отчет в ситуации? Или глупый болтун, играющий в опасность и при первом же допросе в КГБ расскажущий вс о всех?
К счастью, наши славные чекисты оказались не столь уж профессионально состоятельными. Я успел спокойно переписать рукопись Каллистратовой, а оригинал сжег.
…А потом, спустя год, Андрей Дмитриевич Сахаров скажет мне, двадцатипятилетнему молодому человеку: «Ваша экспертиза — самый серьезный документ на эту тему из всех, которые существуют. Софья Васильевна Каллистратова высказалась так же… Вы знаете, кто такая Каллистратова?»
Я знал. Но увидел ее спустя долгие годы, отбыв все отмеренные мне моей страной десять лет лагерей и ссылки. Мы увиделись с Софьей Васильевной первый раз в Москве в 1982 г. в квартире Елены Георгиевны Боннэр.
Милая Софья Васильевна, мудрая, вселяющая уверенность Софья Васильевна. Так получилось, что все немногие наши встречи были летом. Свет, тепло, покой так все в памяти. Будто не было ни КГБ, ни очередных смертей в лагерях, ни всей той леденящей безысходности. И последняя встреча — летом. Снимаем кино, я сижу в комнате рядом с Софьей Васильевной, жужжит камера… Уже «перестройка», уже «гласность». И еще живы Софья Васильевна, Андрей Дмитриевич…
Киев, 1990 г.Н. Геворкян И в конце было Слово
Ненавижу дефицит, в том числе и на магнитофонные кассеты. Ненавижу себя за то, что ему поддаюсь. Сколько дорогих мне голосов и нужных людям слов, не вошедших в публикуемые материалы, я стерла. Как бы я послушала сейчас снова голос Каллистратовой — с хрипотцой, прерывающийся кашлем. Мне нужны ее слова, мысли — для куража, для работы, для жизни, в которой может быть всякое, для того, чтобы не забыть, не отступить, не испугаться.
— Софья Васильевна, материал хороший, но надо кое-что доделать. Вот я к вам сейчас приеду и вместе его дотянем.
Я звонила ей прямо из «предбанника» главного редактора, который только что прочел ее первый для «Московских новостей» материал об адвокатах диссидентов. Это было лето 1989 г. Я боялась, что Каллистратова окажется «неподходняком». А главный вдруг:
— Хороший материал, так что дотяните его быстренько. Во-первых, мне здесь не хватает ее самой. Пусть пропустит весь текст через себя, через свою жизнь. Во-вторых, вот она пишет, что сталинщина уничтожила адвокатуру (он помолчал). Адвокатуру уничтожил 17-й год. Работай.
Я пришла к Каллистратовой в ее комнату на улице Воровского и рассказала о разговоре с главным. Софья Васильевна улыбнулась и кивнула: «В 1917-м наряду со многими другими институтами была временно распущена и коллегия адвокатов». Это будет одна из первых строк статьи Софьи Каллистратовой «Такое было тяжелое время» (Московские новости. 1989. 6 авг. 32).
Я вспоминала тихую и солнечную комнатку на улице Воровского, принадлежавшую одному из лучших адвокатов этой страны. Вспоминала, сидя на тридцатом этаже филадельфийского небоскреба за беседой с шефом в местной адвокатской конторе. Я потянулась за сигаретой, но оказалось, что «здесь не курят». Ну, а на другом этаже? Нет, потому что адвокатам, как выяснилось, принадлежал весь небоскреб. Одна из наиболее уважаемых, престижных и денежных профессий в мире. Мне вспомнилась немолодая женщина в очень скромной и очень московской комнате большой коммуналки. Женщина, чье имя ее подзащитные, друзья, коллеги сделали известным во всем мире. Адвоката, работавшую в условиях, немыслимых для адвокатов демократических стран. Вспомнила, как она, смеясь, рассказала: «Следователь, производивший у меня обыск, не понял символичности картины Киблицкого «Дача старых большевиков» (подарок генерала Григоренко), потому она и висит на своем месте. Остальное забрали и так до сих пор не вернули». Так и не вернули архивы, фотографии, магнитофонные ленты…
Это не вернули и тех не «вернули» — реабилитированы по диссидентским процессам единицы. На пресс-конференции на Лубянке я задала вопрос об архивах и реабилитации диссидентов. И получила незамедлительный ответ от тогдашнего шефа пресс-службы ГБ, а в прошлом сотрудника 5-го Управления, Карбаинова: «По законам того времени их судили и осудили правильно».
Неправда! И Каллистратова писала о том, как их судили и осуждали. И уже сто раз написано, что процессы были липовыми, что обвинению и судьям дела не было до весомости или невесомости доказательств, что суды штамповали приговоры по велению свыше. Советская Фемида — она зрячая и с обостренным слухом. Те, кто продолжает ссылаться на другое время и его законы, прекрасно знают, что ничья, ни одного диссидента вина не была доказана в полноценном, состязательном, открытом судебном следствии. Так что и те, паршивые, законы того времени не соблюдались. И реабилитация всех пострадавших, всех — живых и неживых — стоит поперек горла сотням и тысячам гэбистов, прокуроров, судей, вершивших грязные дела тогда и все еще занимающих вполне уютные кабинеты.
Боль Каллистратовой — и моя боль. В Нью-Йорке скончалась жена генерала Григоренко, остался их больной сын. Им некуда было (да и как?) вернуться. Каждый день я еду по Комсомольскому проспекту мимо их дома и прячу глаза. Стыдно.
Много лет прошло с той моей первой в нашей печати статьи о Григоренко. Точно помню, когда возникла мысль написать о нем. Первый материал Софьи Васильевны мы иллюстрировали фотографией, на которой она вместе с опальным генералом. Я проходила мимо стенда «Московских новостей» на Пушкинской площади и вдруг услышала голоса: «Кто такой Григоренко? Что это за генерал?» Позвонила Софье Васильевне. Она сказала: «Надо написать, Наташенька, о Петре Григорьевиче. Обязательно. Но на этот раз я хочу, чтобы это был ваш материал. Не относитесь так пренебрежительно к собственной подписи под статьей».
Шли месяцы. Я изучила толстенные мемуары генерала, встретилась с небезызвестным шефом психиатрического института им. Сербского Георгием Морозовым. Софья Васильевна к тому времени была уже в больнице. О том, чтобы делать материал, не могло быть и речи, я знала, что ей плохо. Как-то я напросилась вместе с дочерью Софьи Васильевны к ней в больницу. Марго и начала первый разговор о материале. Еще в метро. У нее с собой было адвокатское досье по делу Григоренко. Она тяжело произнесла:
— Вы должны сделать этот материал. Должны успеть… И маме это нужно.
Это был какой-то кошмар. Мне все время казалось, что я забыла Бога. Софье Васильевне было худо. Она не отнимала окровавленного платка от губ, прерывалась, сжимая зубы, когда боль становилась нестерпимой. Каждый раз, нажимая кнопку магнитофона, я переступала через что-то в себе. Это было в той же больнице, куда Григоренко пришел с ней прощаться перед отъездом в Америку — много лет назад.
— Я знала, что ему не дадут вернуться. Ему нельзя было уезжать. Указ о лишении его гражданства вышел 13 февраля 1978 г. Вы только все же проверьте дату.
Ничего не нужно было проверять. Каллистратова по памяти точно цитировала куски из дел, собственных речей, медицинских заключений. Слушая ее, я не верила… в неизбежность. И помню, как придя домой сказала: «Я опубликую статью и отвезу ей в больницу. Вот радость будет…»
Статья вышла 5 декабря 1989 г. Вся последняя полоса. ««Сумасшедший» генерал — штрихи к портрету Петра Григоренко». Я издалека увидела толпу людей перед стендом «Московских новостей» и уже знала, что они читают именно эту полосу. Протиснулась вплотную к витрине, обруганная со всех сторон. И с ужасом увидела опечатку, да еще набранную крупным шрифтом. Но радость не уходила: «Ну намылят шею на коллегии, — думала про себя, — зато потом помчусь в больницу».
В редакции меня встретили странным молчанием. «Неужели такой скандал?» изумилась в душе. Кто-то открыл дверь в комнату и тихонько так вступил. Не помню точно, кто, может быть, ведущий того номера. Я обернулась.
— Наташа, ты где была? Мы тебя всюду искали. Софья Васильевна… Ее уже нет.
А дальше словами не могу. Глазами могу, сердцем, жестом. Я так и не сжилась с этим страшным совпадением: ее статья (какая, к черту, моя, ее, конечно), такая выстраданная, долгожданная, и ее уход.
Словами скажет через несколько дней Сахаров. Он начнет свое слово на панихиде с этой статьи. И тогда я забьюсь тихо в угол в тесном, переполненном помещении Московской коллегии адвокатов и заплачу. Я оплакиваю мою потерю. Не просто удивительного, хрупкого, мужественного, умного, доброго человека. А моего близкого, близкую, дорогую…
Сахаров долго-долго стоял перед Софьей Васильевной. Очень бледный. Мне стало страшно.
Через 12 дней после номера со статьей о Григоренко мы делали траурный выпуск о Сахарове.
Фотография Софьи Васильевны с Григоренко каждый день у меня перед глазами в кабинете — для куража, для работы, для жизни, в которой может быть всякое, для того, чтобы не забыть, не отступить, не испугаться.
Е. Огурцова, В. Огурцов Возвращаясь к прошлому
Впервые мы встретились с Софьей Васильевной, кажется, в 1970 г. Мы обратились к ней по делу нашего сына Игоря Огурцова, придя в юридическую консультацию, где она работала, по совету наших родственников, адвокатов. Выслушав нас, она порекомендовала нам другого адвоката, так как сама была лишена права защищать политических.
Ее поцелуй при прощании сказал нам больше, чем сказали бы слова о ее сочувствии.
С тех пор Софья Васильевна стала нашим близким другом и моральной опорой. Приезжая в Москву, мы каждый раз непременно встречались. Однажды мы вместе со священником С. А. Желудковым условились по телефону о встрече у нее на квартире, как обычно. И были весьма удивлены, когда на звонок нам открыл дверь незнакомый мужчина. Он пригласил нас пройти к ней в комнату, где мы увидели еще двоих мужчин, которых приняли за неожиданных гостей. Оказалось, что это были не столько неожиданные, сколько нежданные гости из КГБ, проводившие у нее обыск.
Нас задержали до конца обыска, длившегося много часов. Мы очень устали, и нам хотелось пить. И Софья Васильевна попросила меня пойти на кухню и поставить чайник. И вот чай готов, и в соседней маленькой комнате мы сидим за накрытым мною столом и чаевничаем. Обыск кончился, напряжение несколько спало. Софья Васильевна расслабилась и почувствовала себя плохо: сдало сердце. Мы покинули ее, напоив лекарством и убедившись, что она пришла в себя.
Встречи с Софьей Васильевной продолжались до самого нашего отъезда за рубеж… Теперь, мысленно возвращаясь к прошлому, мы вспоминаем постоянную готовность прийти на помощь всем, в ней нуждающимся, так характерную для Софьи Васильевны.
Л. Алексеева Защита — ее призвание
Сказать, что С. В. Каллистратова была превосходным адвокатом, — значит, ничего не сказать о ней. Она была рождена защищать людей, это было ее призванием, ее страстью, ее жизненным предназначением. Я помню такой случай, ею самой мне рассказанный. К ней как к известной участнице правозащитного движения обратился человек из какого-то подмосковного города — не то Тулы, не то Калуги. Его брата сбила насмерть машина секретаря горкома. И потому, что это был секретарь горкома, рассмотрение дела в суде кончилось ничем. Брат погибшего, зная бесстрашие Софьи Васильевны, был уверен, что она-то не откажется выступить против секретаря горкома. Он просил ее взяться за дело и добиться наказания виновного. Но услышала в ответ: «Вы обратились не по адресу: я только защищаю, а вы хотите, чтобы я стала обвинителем».
Конечно, она различала среди своих подзащитных людей плохих и хороших, жертв судопроизводства и преступников. Но защитницей она была всем им, в защиту каждого вкладывала все свое умение и всю душу, которая не скудела от того, что принимала на себя скорби сотен, а вернее, тысяч людей, — ведь Софья Васильевна была защитницей так много лет! И не устала быть защитницей.
Я познакомилась с тем, как Софья Васильевна вела дела своих подзащитных, благодаря тому, что, когда я осталась без работы, она давала мне для заработка перепечатывать ее обращения в суд и в правоохранительные органы. Меня каждый раз поражало, что она, человек кристальной души и жестких правил порядочности, по делам отъявленных мерзавцев выступала так, как если бы попавший в переплет был ее заблудшим сыном.
Что же говорить о том, как она защищала правозащитников!
Первым таким делом было дело Виктора Хаустова — участника демонстрации на Пушкинской площади в Москве 22 января 1967 г. с протестом против ареста «самиздатчиков» — Юрия Галанскова и его товарищей. Запись этого суда и выступления на нем Софьи Васильевны ходила в «самиздате». Это дело было первым по статье о «клевете на советский общественный и государственный строй», на котором адвокат потребовал оправдания обвиняемого. Трудно представить себе сейчас, как это звучало тогда.
Блестящие выступления на других судах по политическим обвинениям тоже ходили в «самиздате» (по делам П. Г. Григоренко, И. Яхимовича, Н. Горбаневской, В. Делоне, крымских татар и многих других). Эти выступления были не только образцами гражданского мужества адвоката, но и заочным правовым обучением всех, кто их читал, а в таком обучении, ох, как нуждалось (и, увы, нуждается до сих пор) наше общество, включая правозащитников. Ведь, за редкими исключениями, мы защищали права человека по сердечному импульсу сострадания, а вовсе не потому, что в этом праве поднаторели. Напротив, почти все мы были в этой области очень невежественны. Так что Софья Васильевна была не только нашим защитником, но и нашим просветителем, советником, нашим учителем в области права.
К сожалению, мне ни разу не удалось слышать ее выступления в суде. Но говорили мне (в частности, отец Ларисы Богораз, Иосиф Аронович, слышавший речь Софьи Васильевны в защиту В. Делоне — участника демонстрации протеста против советской оккупации Чехословакии), что выступления эти производили еще более сильное впечатление, чем чтение их текстов. «Софья Васильевна, выступая, преображалась. Она была прекрасна, глаз не отвести. Нельзя было с ней не соглашаться», — говорил Иосиф Аронович.
Приход Софьи Васильевны в правозащитное движение уже не в качестве профессионала-адвоката, а в качестве члена Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях (консультант с января 1977 г.), а затем члена Московской Хельсинкской группы (с ноября того же года) был совершенно закономерен, потому что пафосом правозащитного движения было близкое ее сердцу заступничество за жертв беззаконий и жестокости и потому что люди, ставшие правозащитниками, по определению были родственными ей душами, как и она, клавшими «живот свой за други своя». То, что она была консультантом, советником и адвокатом правозащитников (да и в силу разницы в возрасте — она принадлежала к поколению наших родителей), создавало дистанцию между ней и нами — естественного нашего благоговения перед ней. Но, преодолевая эту дистанцию, она стала для многих из нас дорогим другом.
Ежегодными дружескими собраниями был день рождения Софьи Васильевны. Ее большая комната в коммуналке на улице Воровского бывала тесной в этот день. Еще бы, ведь это был своеобразный парад правозащитников. Все они собирались вокруг праздничного стола, который сами и помогали ей приготовить. Рядом с ней в этот день всегда сидел Андрей Дмитриевич Сахаров. Кто бы подумал, что и уйдут они из жизни почти одновременно: 8 декабря он произнес прощальное слово над гробом Софьи Васильевны, а 14 декабря не стало его самого.
Постоянным гостем в день рождения Софьи Васильевны бывал ее любимый бард Юлий Ким — уж конечно, с гитарой. В этот день обязательно исполнял он «Адвокатский вальс», навеянный Софьей Васильевной и ей и ее коллеге Д. И. Каминской посвященный.
А. Сахаров Из книги «Воспоминания»
Я получал много писем: с выражением поддержки (я думаю, что большинство таких писем осело в КГБ и до меня дошла лишь очень малая доля), с осуждениями, с угрозами (письма последних двух категорий приходили очень странно — то их не было вообще, то, обычно после какого-либо моего выступления, они приходили целыми пачками; я думаю, что письма с угрозами в основном исходят непосредственно от КГБ, а письма с осуждением моего вмешательства в то или иное дело — скажем, Засимова или Затикяна, или моего письма Пагуошской конференции и т. п. — частично исходят от КГБ, а в большинстве — от реально негодующих граждан и просто выборочно отобраны КГБ из большого числа писем другого содержания <…>
Но не обо всех этих, важных самих по себе, категориях будет далее речь в этой главе. Она посвящена письмам и посетителям с просьбой о помощи. Письма с просьбой о помощи стали приходить сразу после объявления о создании Комитета прав человека в ноябре 1970 г. Тогда же появились первые посетители — сначала на Щукинской, потом на улице Чкалова. За девять с лишним лет — до моей депортации в Горький — многие сотни писем, сотни посетителей! И в каждом письме, у каждого посетителя реальная, большая беда, сложная проблема, которую не решили советские учреждения. В отчаянии, потеряв почти всякую надежду, люди обращались ко мне. Но и я почти никогда, почти никогда не мог помочь. Я это знал с самого начала, но люди-то надеялись на меня. Трудно передать, как все это подавляло, мучало. К сожалению, я в этом трудном положении слишком часто (по незнанию, что отвечать, по неорганизованности, по заваленности другими срочными делами) выбирал самый простой и самый неправильный путь: откладывал со дня на день, с недели на неделю ответ на письмо; потом или отвечать уже было бесполезно по давности, или оно терялось, но при этом не переставало мучить меня. Таких оставшихся без ответа писем было бы еще гораздо больше, если бы не бесценная помощь, оказанная мне Софьей Васильевной Каллистратовой. Ранее мне предложил свою помощь один из советских журналистов, но я не сумел вовремя воспользоваться ею. (Я не хочу называть фамилии, но тот, о ком я пишу, поймет, что речь идет о нем, если эти воспоминания когда-либо попадут в его руки. Я пользуюсь случаем выразить ему свою признательность.)
Прежде чем переходить к отдельным делам, я должен сказать несколько слов о самой Софье Васильевне.
Это — удивительный человек, сделавший людям очень много добра. Простой, справедливый, умный и добрый. Редко когда все эти качества соединяются, но тут это так. По профессии Софья Васильевна юрист, адвокат. Более 20 лет она вела защиту обвиняемых по уголовным делам, вкладывая в это дело всю свою душу, жажду справедливости и добра, желание помочь — и по существу, и морально — доверившимся ей людям. Нельзя было без волнения слушать ее рассказы. Для нее всегда всего важней была судьба живого конкретного человека, стоящего перед ней. Однажды, как она рассказывала, она защищала молодого солдата М., обвиненного в соучастии в изнасиловании. Улики явно были недостаточны, и, по убеждению Софьи Васильевны, он был невиновен, но был приговорен к смерти. Она посетила какого-то большого начальника, и тот, несколько неосторожно, не понимая, с кем имеет дело, стал ей рассказывать, что сейчас расшаталась дисциплина в армии, очень много случаев воинских преступлений и что с целью поднятия дисциплины суровый приговор М. очень полезен, отменять его ни в коем случае не следует. Реакция Софьи Васильевны была неожиданной для него, огненной. Она начала кричать на начальника:
— Вы что, на смерти, на крови этого мальчика хотите укреплять дисциплину, учить своих подчиненных?!
… И дальше все, что тут следовало сказать. Кричала она так громко и решительно, что начальник явно испугался. В конце концов ей удалось добиться пересмотра приговора. В другом деле ей удалось добиться того, что пятнадцатилетний приговор двум обвиняемым, которых она считала невиновными, был заменен 10 годами заключения. Когда она, уже после оглашения приговора, собирала свои бумаги, собираясь уходить, очень расстроенная, к ней подошли заседатели кассационного суда и спросили:
— Ну что, товарищ адвокат, вы довольны результатом?
— Как же я могу быть довольна, ведь нет никаких доказательств вины обвиняемых, а они приговорены к заключению!..
Несколько удивленный такой логикой, один из заседателей сказал:
— Если бы были доказательства, разве мы изменили бы приговор?..
Одним из выводов, которые Софья Васильевна вынесла из своего адвокатского опыта, является неприятие смертной казни, как нечеловеческого, чудовищного и социального вредного института.
Всю свою жажду справедливости, осуществлению которой она пыталась способствовать на протяжении многих лет адвокатской работы, она перенесла на защиту обвиняемых за убеждения, узников совести. Эта единственно возможная для нее позиция изменила всю ее жизнь, само место ее в мире. Эта же линия в конце концов привела ее к участию в открытых общественных выступлениях, в Хельсинкскую группу, а потом — к преследованию, допросам, обыскам <…>
Софья Васильевна защищала в числе других Петра Григоренко, Наталью Горбаневскую. Читая материалы этих давних судов, видишь, как умно и смело она вела защиту. Но не менее важна для обвиняемых была ее теплота при встрече с ними, та связь с внешним миром, которая при этом восстанавливалась.
Когда Софья Васильевна согласилась помогать мне в переписке, я стал приносить к ней получаемые мною письма целыми сумками. Она отвечала на них, давала юридические и просто житейские советы, основанные на ее богатом жизненном опыте. Потом я подписывал эти письма (после обсуждения с нею), она их отсылала. Конечно, и она не была способна сделать чудо. Но все же письма не оставались без ответа. Это уже было кое-что, хотя бы в моральном смысле. Софья Васильевна оставляла у себя письма и копии ответов. Но весь этот архив через несколько лет попал в КГБ — он был конфискован при одном из обысков у Софьи Васильевны <…>
А. Романова Опора и защита
С Софьей Васильевной я познакомилась в 1977 г., до этого много слышала о ней как о незаурядном, смелом адвокате, честно выступавшем на «открытых» политических процессах, куда далеко не всегда попадали даже самые близкие родственники подсудимых.
Не по своей воле в 1976 г. Софья Васильевна ушла на пенсию. Официально. Из Московской коллегии адвокатов. Но вся жизнь ее до рокового декабрьского дня 1989 г. — титанический труд именно защитника, помощника, опекуна огромного числа людей. В комнате ее на улице Воровского всегда были посетители: друзья, знакомые, совсем незнакомые люди со своими нуждами и нуждами близких. Число людей, которым Софья Васильевна помогла добрым, разумным советом, своим — всегда! ко всем! — добрым участием, я думаю, исчисляется многими сотнями. Я (и не только я) лишь диву давались: откуда у нее столько сил?
Все, что мы знали: как вести себя на допросах, на обысках, на работе (многие из нас подвергались всевозможным преследованиям на службе), — мы знали от Софьи Васильевны. Высочайшая юридическая квалификация, замечательный ум, абсолютная доступность, удивительная всесторонняя одаренность, прежде всего одаренность добротой, притягивали к ней колоссальное число людей. Такого смелого, отзывчивого адвоката, как она, наверное, больше не было.
Мне приходилось не раз искать адвокатов для политзаключенных. И не только по политическим делам: была такая практика с 1978 г. — перед окончанием срока политзаключенных возбуждать против них фальсифицированные уголовные дела. Я приходила к Софье Васильевне, она брала со вздохом изданный список адвокатов Московской коллегии и, пролистав его, выбирала немногих, к которым стоило обращаться. А дальше… Лучше не вспоминать… Одни из них, услышав ссылку на Софью Васильевну, вздрагивали и спешили закончить разговор; другие, понимая, какой предстоит процесс, отговаривались другими неотложными делами; третьи честно признавались, что из страха за такое дело не возьмутся. Найти адвоката на такой процесс было неимоверно трудно, тем более что ехать надо было в места весьма отдаленные. Иногда за риск некоторые из них просили очень большое вознаграждение. Но в редких случаях бывала действительно честная, принципиальная защита человека невиновного. Софья Васильевна следила за всеми известными в кругу правозащитников процессами и очень радовалась, когда неожиданно молодой, малоизвестный адвокат выступал в процессе квалифицированно и честно. И бескорыстно.
Одна моя знакомая, адвокат, много раз говорила мне, что не может же любой человек, не имеющий медицинского образования, лечить людей, а почему-то защищать права людей берутся и без юридического образования. У Софьи Васильевны был абсолютно противоположный взгляд на это. Защищать, отстаивать элементарные человеческие права может, считала она, каждый, у кого есть нравственное отношение к жизни. А чтобы делать это юридически грамотно в стране, где и Уголовный кодекс и вся процессуальная машина работают не на права людей, Софья Васильевна призывала учиться и сама учила, направляла очень многих.
«Диссидент, правозащитник должен всегда переходить улицу на зеленый свет», — говорила она. При имеющемся Уголовном кодексе и практике его применения любой неверный шаг мог привести правозащитника на скамью подсудимых. Известно дело Мальвы Ланды, которая за неосторожное обращение с огнем, не повлекшее никаких тяжелых последствий, была осуждена на ссылку только потому, что являлась членом Хельсинкской группы. Или дело Татьяны Трусовой о тунеядстве!
Степень участия Софьи Васильевны в судьбах людей была наивысшей. Для многих она стала просто очень близким, родным, любимым человеком. Совсем уже больная, в 1988–1989 гг. она выступала публично, рассказывая о работе Хельсинкской группы, о правозащитном движении. Ее выступления были самыми яркими и точными. Но она не рассказывала, с каким трудом создавались эти документы, как устанавливалась достоверность фактов, особенно если речь шла о лагерях. С какой осторожностью, уменьем и риском, по крупинкам добывались они… Сколько нужно было выслушать людей, самых разных, чтобы установить истину.
Известность и авторитет Софьи Васильевны среди заключенных были очень значительны. Я знаю случай, когда бредовая идея одной политзаключенной была отвергнута, в том числе и ею самой, одной-единственной фразой: «Софья Васильевна сказала, что это не так».
В 1990 г. я видела фильм о преследовании политзаключенных в советских лагерях и психбольницах (там есть кадры беседы с Софьей Васильевной). Затем состоялась встреча с авторами фильма. Создатели его, молодые люди, сказали, что за несколько месяцев работы они неимоверно устали, что материал так тяжел, так угнетает, что невозможно больше им заниматься. Софья Васильевна годами, десятилетиями, уже совсем больная, жила чужими бедами, ужасами чужих судеб. И не уставала, не давала себе передышки — не могла.
Этот удивительный человек принес в наш мир так много добра, что его еще надолго-надолго всем нам хватит.
М. Зотов Высокий дух и справедливость
В ту ночь я по обыкновению включил транзистор. Прозвучали новости, и вдруг: «Передаем текст открытого письма Софьи Васильевны Каллистратовой Чингизу Айтматову…» Это была отповедь человеку, безапелляционно заявившему в печати, что все мы терпели и молчали во времена не столь отдаленные.
Обычно после непродолжительного бодрствования у транзистора я засыпал… Однако в ту ночь нахлынули воспоминания. И потрясение: «Господи, да сколько же ей лет?» Ведь даже тогда, в 1976 г., когда я впервые оказался у нее в гостях на улице Воровского, у нее за плечами было чуть не полсотни лет работы юристом и более тридцати из них — адвокатом! Я как бы вновь услышал ее голос, ее мгновенную и точную реакцию на чье-то неразумие, несправедливость. Однажды кто-то из пришедших к ней стал с неистовой злостью ругать коммунистов — не кого-либо конкретно, а коммунистов как таковых. Софья Васильевна, послушав малость, без всякого нажима оборвала говорившего: «Зачем же так? И среди коммунистов немало хороших людей. К тому же и сама идея коммунизма не так уж плоха».
В ночь на 25 мая 1976 г. я, как и некоторые другие, разбрасывал по Москве фотолистовки (самую большую их часть мне удалось разбросать вдоль бетонной дорожки, ведущей от станции метро «Университет» к зданию университета). В конце листовки были такие слова: «… И скотину можно накормить досыта, и раба можно одеть в прекрасные одежды, — от скотины, от раба человека отличает только свободное мышление. Но этого-то нам иметь не позволено…» Так писали мы, рабочие. Софья Васильевна хорошо знала настроения рабочих. Деятельность именно таких людей, как она, позволила рабочим поверить, что диссиденты отстаивают интересы не только интеллигенции. Во всяком случае в моем деле так и было. В лице Софьи Васильевны Каллистратовой трудовой народ потерял своего верного защитника.
Низкий мой поклон ее светлой памяти!
М. Петренко-Подъяпольская С благодарностью вспоминаю
Нашу семью с Софьей Васильевной Каллистратовой связывают многие годы дружбы. Воспоминания о ней я хочу начать с двух писем, написанных всего за полгода до ее смерти. Переписка возникла из-за неожиданной разлуки, пока мы жили в одном городе, необходимости в ней не было. Письмо Софья Васильевна адресовала мне тридцатого июня 1989 г.
«Милая моя Машенька!
Сама не знаю почему, только я уже давно не пишу никому писем. А вот получила вашу грустную открытку, и стало стыдно за свое молчание. Вы знаете, как я и все мое семейство Вас любим. Всегда помню Вас, а писать не пишется.
То, что Вы тоскуете и Москва для Вас желанное и пока недостижимое «дома» и «у нас» (а не «у Вас»), понятно. Иначе и быть не могло. Но с Вами Настенька и внуки — на этом, очевидно, надо строить свою жизнь и постараться, чтобы Алеша и Ксюша выросли русскими (хотя неизбежно станут американцами, но хотя бы русскими по духу). Вот начала письмо и уже не понимаю, как могла столько времени не писать.
Я на старости лет «пустилась в свет». Выступаю на разных клубных мероприятиях и даже заседаю в правлении Советско-американского фонда «Культурная инициатива»… В подтверждение своей «бурной деятельности» посылаю Вам фотографию — дотошный фотокор из агентства АПН щелкнул фотоаппаратом, когда я выступала в клубе «Московская трибуна».
В субботу была на домашней встрече (вернее — прощании) с Юрой Орловым. Он пробыл в Москве всего неделю. Из рыжего стал совсем белый, но по-прежнему полон энергии.
Мое семейство живет обычно. Марго днюет и ночует на работе и, как всегда, ничего не успевает — приобретение жратвы и уборка квартиры тоже на ней. Галя пока что успешно учится, за первый курс остался один экзамен. Что будет на «кризисном» втором, — не знаю. Мелкие дети сейчас все в разгоне. Я отдыхаю от них и в то же время — скучаю без них.
…Я пока сижу в Москве, так как Марго собирается в командировку в Среднюю Азию, а я без нее — никуда.
Вот все, что у нас происходит.
Знаю, что Вите Некипелову совсем плохо… Бедная Ниночка (жена В. Некипелова. — Сост.).
Машенька, напишите мне большое письмо о себе и обо всех своих. Обещаю ответить обязательно.
Целую Вас».
Мое письмо (не ответное, а просто письмо) оказалось, наверное, одним из последних, полученных ею. Я привожу его почти целиком. Я писала живой Софье Васильевне, и письмо получилось живым. А те слова, что приходят в голову мне сейчас, представляются искаженными болью и растерянностью. В тот год я потеряла трех очень близких мне людей (они, конечно, дороги многим): Виктора Некипелова, Софью Васильевну и следом за ней Андрея Сахарова. С каждым из них жизнь связала меня такими крепкими узами, что писать о них, об ушедших, мне невероятно тяжело.
Письмо мое было написано ко дню рождения Софьи Васильевны, то есть к 19 сентября 1989 г. Сейчас я переписываю его с чудом сохранившегося черновика.
«Дорогая моя Софья Васильевна!
Второй раз за долгие годы не удается мне посетить Ваше застолье в день Вашего рождения. Грущу по этому поводу и заранее пишу поздравительное письмо.
Поздравляю Вас, и Марго, и внуков Ваших, и их жен, и правнуков Ваших, и друзей Ваших с тем, что у них есть Вы — человек замечательный… Я и себя поздравляю с тем, что знаю Вас уже поди двадцать лет, если не более. Все мы черпаем от Вашей доброты, жизненного опыта и умения видеть мир не только рассудочным и эмоциональным зрением, но препарировать его, извлекая основное в терминах юридических. Без этого, вашего, умения число репрессированных правозащитников неизбежно бы возросло.
Я помню, как Гриша (муж М. Подъяпольской. — Сост.), придя с кассационного суда над Хаустовым, где он видел Вас впервые, рассказал о Вас. И какое чарующее впечатление Вы на него произвели. Как мы познакомились, я не помню. Как-то за чайным столом Вы прочли нам лекцию о правонарушениях в уголовных делах. Мы поняли, что они отличаются еще большей маразматической иррациональностью, чем нарушения в политических процессах. Теперь <…> стали известны их чудовищные масштабы и даже причины, о которых тогда мы только догадывались. А Вы знали обо всем этом и боролись не только за нас, а и за любого несправедливо обвиненного и уже осужденного из тех, с кем Вас сталкивали Ваша профессия и Ваша подвижническая жизнь.
Чувство радости узнавания и благодарности к Вам за то, что с открытым глазами Вы избрали тот же путь, какой мы считали единственно возможным для себя, — путь нравственного сопротивления злу и несправедливости стал фундаментом наших взаимоотношений. Поколение наших родителей, многое понимая, отгораживалось от необходимости анализировать систему зла и от деятельного сопротивления пустым формулам. Причина была понятна — страх. Вы его сумели побороть в себе, хотя осведомленность Ваша о глубинах порочности системы была куда шире и глубже чем у многих <…> С тех пор так много было пережито, передумано и сделано вместе. Произошли необратимые процессы, разметавшие нас физически, — а заботы и чаяния все те же. Жизнь на другом континенте не сделала меня другой. Только возможности окоротила. И я рада тому, что Вам выпало не только счастье говорить во всеуслышанье, но и созидать общественное сознание, возвращая его к вечным ценностям.
Появилась надежда на то, что правда о Ваших бывших подзащитных, живых и погибших, сделавшись достоянием общественного сознания, затруднит рецидивы произвола и беззакония в нашем Отечестве. Боже, как много Вам еще предстоит сделать! Будьте здоровы и счастливы, и дай Вам Бог сил!
Крепко Вас обнимаю и целую. Всегда помню и люблю.
Ваша Маша».
Я смотрю на фотографию Софьи Васильевны (из того же последнего ее письма. Смотрю со смешанным чувством грусти и радости: Софья Васильевна на трибуне у микрофонов, а в перспективе — зал, заполненный слушателями, реакцию которых ловят как всегда внимательные ее глаза. Как будто не было бесконечных лет «застоя», лет диссидентского противостояния, когда в пору адвокатской практики ей приходилось выступать на политических процессах перед аудиторией специально подобранных, идеологически оболваненных слушателей. Судьи полностью соответствовали этой публике. Исключение составляли только подсудимые, да кое-кто из их родственников…
На уголовных процессах все, наверное, было иначе, но и там ей приходилось вести титаническую борьбу за соблюдение процессуальных норм и законов, ради человечности. И только в ее двухкомнатном отсеке в коммунальной квартире, за чайным столом, собиралась ее настоящая аудитория — благодатная и благодарная. У Софьи Васильевны для всех находились и время и силы выслушать и понять. Ее практические советы всегда сопровождались анализом казуса, из которого следовало, что советы будут полезны, только если вторая сторона (ею, как правило, была государственная инстанция) тоже станет действовать в пределах закона. Софья Васильевна объясняла, что это случается отнюдь не всегда и что заставить своего оппонента соблюдать законы — задача очень трудная, благородная и необходимая.
Нам всем хотелось превращения нашей страны в правовое государство. «Самиздат» был наводнен правозащитной литературой: выпустил свои «Правила поведения» на допросах Есенин-Вольпин; В. Чалидзе и А. Твердохлебов издавали сборник статей «Общественные проблемы». Конкретные дела по защите гражданских прав вели Б. Цукерман и Э. Орловский.
После арестов членов Хельсинкской группы стали вызывать на допросы и Софью Васильевну. Сначала она мотивировала отказы от дачи показаний, но после того, как такой отказ послужил для суда «достаточным основанием», чтобы включить ее в список свидетелей по делу Т. Осиповой, якобы подтверждающих вину последней, отказы перестали ею мотивироваться. 24 февраля 1982 г. А. Д. Сахаров выступил с заявлением в ее защиту. Ссыльный — в защиту подследственной! Тем же летом Софье Васильевне было предъявлено обвинение по статье 190-1.
Так свершилось то, что мучало Софью Васильевну многие последующие годы: Московская Хельсинкская группа объявила о прекращении своей деятельности. Начались для Софьи Васильевны горькие времена. Нет, ее не посадили, ее дело было приостановлено производством. Радовалась семья, радовались друзья. Для нее цена этой очень относительной свободы казалась непомерной: прокуратура имела юридическое право без всякого доследования возобновить дело в любой момент в течение пяти лет. Софья Васильевна понимала, конечно: Хельсинкская группа из трех человек, средний возраст которых больше 70, практически не могла выполнять функции, декларированные при ее организации. И все же горевала.
Теперь на нее накинулись все хвори (а их было предостаточно). Она часто и подолгу лежала в больницах. Я таскала ей пачки книг, и выяснилось, что мы обладаем весьма различными художественными вкусами. Ее увлекали классика и детективы, а мне интереснее всего была современная литература. Но чаще всего мы беседовали «за жизнь», намеренно сползая на бытовые темы, — так было легче.
Софья Васильевна очень много душевных сил вложила в своего младшего внука Диму Кузнецова, его жену Таню и их детей. Я тоже люблю это семейство. И внук, и правнуки, а их со временем стало четверо, в какие-то периоды были почти целиком на ее руках, и я наблюдала, как Софья Васильевна предотвращала неизбежную конфронтацию, объясняя свою позицию зарвавшемуся маленькому правнуку. Ее умение объяснить это ребенку было абсолютно: Софья Васильевна никогда не допускала высокомерных или даже повелительных нот.
Размолвки меж нами тоже случались. Помню, как однажды мы вместе ехали в такси, и вдруг Софья Васильевна предъявила мне некоторый счет. Ей казалось неправомерным то, что я дружу и с ней, и с молодой женщиной, которая ее обидела. Я знала историю и подоплеку их конфликта и была не на стороне обидчицы. Но не могла же я рвать с ней из-за того, что у них осложнились отношения. У меня никогда не было охоты обсуждать не свои отношения, да и свои тоже. Я не смолчала и от огорчения высказалась довольно резко. Ну, думаю, конец. Ан нет. Объяснений больше не было, а отношения как-то даже перешли в более доверительную фазу. Софья Васильевна меня приняла такой, какая есть, и, как я поняла, даже внутренне одобрила.
Мучаясь необходимостью отказаться от активной деятельности, Софья Васильевна сохраняла обычный распорядок жизни. Всю рабочую неделю она жила у дочери и нянчила правнуков, а с пятницы до понедельника ее всегда можно было застать на улице Воровского. Сюда к ней продолжали приходить и друзья, и друзья друзей, те, кто нуждался в консультации. Софья Васильевна не ограничила свою переписку с теми, кто сидел за колючей проволокой, постоянно общалась с их близкими, оставшимися на свободе.
Когда началась перестройка и лавина информации породила в нас надежды и ожидание перемен, Софья Васильевна проявила очень большую сдержанность. Особенно это касалось экономических статей, которыми мы зачитывались. Тогда мне это было как-то даже обидно. Но охранительные органы — КГБ, МВД, Прокуратура — жили, сохраняя прежние функции, параллельно с внешней легализацией права на здравую мысль, научный поиск и широкое распространение своих убеждений. Я думаю, этот неестественный симбиоз казался Софье Васильевне недолговечным. Прожив при социалистической утопии на поколение больше почти всех нас, она лучше нас ее знала.
Л. Терновский Письма
Небольшая стопка конвертов и открыток. Но сколько воспоминаний, мыслей и чувств они во мне воскрешают! Каждое из них я перечитывал множество раз. И они были мне радостью и поддержкой в трудные для меня годы.
Они написаны близким и родным мне человеком, Софьей Васильевной Каллистратовой. Человеком деятельной любви и открытого сердца. Человеком, бывшим высоким нравственным примером для знавших ее. Человеком, воистину ставшим для меня названой матерью, чьей многолетней любовью и дружбой я горжусь. Эти письма обращены ко мне. Но каждый раз чужие, враждебные глаза читали их раньше меня. Чужие, недобрые люди листали их, стремясь проникнуть между строк, выискивали скрытые намеки, быть может, делали выписки или копировали. И только потом, в распечатанном виде, отдавали их мне.
Первое из них дошло до меня в феврале 1981 г. Адрес на конверте: «Саранск Мордовской АССР. Учр. ЖХ-385/12». И красными чернилами в углу кем-то приписано: «10-й отряд». Прошло чуть меньше двух недель, как меня привезли в этот лагерь и я снова обрел право отправлять и получать письма. Только утром меня из карантина определили в 10-й отряд и сегодня в первый раз вывозили на работу. И вот вечером по возвращении в барак — письма! Три сразу. От жены, от родных и третье — от Софьи Васильевны.
…Мы познакомились, должно быть, году в 70-м. Сказалось ли тут присущее Софье Васильевне душевное обаяние? Ее деятельная доброта и несогласие мириться с чинимой несправедливостью? Общий ли круг друзей и общая постоянная тревога за них? Или некое душевное сродство? Перст судьбы? Или все это вместе? Только очень скоро и как-то незаметно Софья Васильевна стала для меня — и для всей моей семьи — близким, своим и совершенно родным человеком.
В то время я работал рентгенологом в одной из московских клиник. Года за два до знакомства с Софьей Васильевной я вступил на диссидентскую стезю, подписав несколько правозащитных писем. До поры меня не трогали. Допросы, «беседы», обыски — все эти предупредительные «звоночки» были еще впереди.
Софья Васильевна была на четверть века старше меня. Блистательный и известный адвокат, она за свои смелые и независимые выступления на судах была уже лишена «допуска» к процессам с политической подкладкой. И тем не менее осталась «коронным» адвокатом правозащитников. Каждый из нас, у кого возникали «проблемы», спешил к Софье Васильевне «на огонек», чтобы там, «на Воровского», в ее никогда не запиравшейся комнате в коммуналке услышать за чашкой чая четкий юридический разбор своего «случая», получить мудрый совет, составить нужную бумагу. И просто почувствовать столь необходимые всем нам сочувствие и поддержку.
Сочувствие и поддержка стократ необходимы в лагере. Так важно знать, что на воле о тебе помнят, беспокоятся, заботятся. И вот я достаю из конверта письмо — и теплая волна нахлынула на меня от первых же его строк: «Дорогой мой названый сын Леонард, здравствуйте! Ваше письмо тронуло меня до слез (хотя, Вы знаете, — я не плакса). Горькая радость — но все-таки радость (!) читать Ваши строки после такого длительного перерыва, после полной разлуки с Вами. Дал бы Бог мне дожить до радости встречи с Вами и с Танечкой…» (Дожить до радости встречи нам довелось. Мне — в апреле 83-го. А с Танечкой — Татьяной Великановой — мы увиделись лишь в начале 87-го, когда она, уже отбыв свой лагерный срок, приезжала из ссылки в Москву для встречи со своей безнадежно больной сестрой.)
«Я уверена, что Вы будете вести себя достойно, но благоразумно. Я всегда держалась того мнения, что вернейшим способом сохранить чувство собственного достоинства является пунктуальное соблюдение всех формальных, т. е. законных правил режима». (Увы, в лагере пунктуальнейшее соблюдение всех правил режима часто не помогает. На собственном лагерном опыте мне не раз пришлось убеждаться в этом. Стоит администрации захотеть «постановления» и взыскания посыплются как из рога изобилия. И все-таки Софья Васильевна права — не следует заводиться или конфликтовать по пустякам. Сочетание выдержки, дисциплинированности и соблюдения достоинства в лагерных условиях оптимальны.)
«Ваша Людмила держится гораздо лучше, чем я ожидала… Стремится всем помочь, чем только может. У нее действительно большая, добрая, отзывчивая душа». (Я знаю, это воистину так. Дай, Боже, тебе силы и терпения, моя милая!)
«Много хотелось бы сказать Вам, но… Вы знаете, я не умею писать писем! Посидеть бы за моим столом, попить бы чайку, поговорить бы… Я бы на Вас за что-нибудь покричала, поругала бы, как мать ругает непокорного и слишком самостоятельного сына… Но ведь это была всегда ругань с любовью в сердце, а не со злобой. Целую Вас крепко, обнимаю от всего сердца. Всегда душой с Вами. Ваша мама-Соня».
Вот и получены первые письма. Вот и прошел еще день из отмеренного мне трехлетнего срока. Позади суд, этап, карантин, и наконец-то я прибыл на место. Вот он — мой барак, вот моя бригада. Завтра-послезавтра предстоит знакомиться, свыкаться с окружающими людьми. Какая же это в большинстве своем молодежь! В сыновья мне годятся. Вот ряды коек в два этажа. Ту, верхнюю, отвели мне, на ней сегодня предстоит мне спать. А вон в головах тумбочка. Ее верхняя половина — моя. Туда я сейчас положу полученные письма, вот только перечту их еще раз. Я радуюсь, что родные и друзья уже знают, где я, что между нами уже протянулась тоненькая ниточка.
Я не догадывался в тот миг, что вижу все это в последний раз. Что поздно вечером меня снова «дернут» на этап, и оборвут тонкую ниточку, и снова «столыпиным» повезут в Москву, в тюрьму «Матросская тишина». Ибо в лагерь я был отправлен неправильно, до вступления приговора в законную силу. И до самого кассационного разбирательства, на которое меня, разумеется, не вызовут и которое, конечно же, утвердит мой приговор, мне предстоит сидеть в уже знакомой мне «Матросской тишине». А там меня повезут все тем же «столыпиным» в другой лагерь, который тоже окажется не последним в моей судьбе.
Новый адрес: г. Тольятти, учр. УР-65/8-3. Июнь 81 г. «Дорогой мой Леонард! Ужасно рада Вашему письму… Письма Вы пишете чудесные. Очень Вы похожи на нашу Танечку. Все у Вас хорошо или в крайнем случае «нормально», и полны Вы заботой о других, только не о себе. Впрочем, не случайно же Вас все любят». И дальше: «Между прочим, несмотря на оптимизм Ваших писем, хорошо понимаю, что Вам трудно».
В том же письме весьма благонамеренная декларация: «…я человек дисциплинированный и законопослушный, и так как я хочу, чтобы Вы получали все мои письма, то буду строго ограничивать их содержание делами семейными (включая и семьи близких друзей)».
А спустя пару страниц и сам рассказ про эти семейные новости:
«Верочке привет Ваш передала, а вот ее мужу не хочется ничего передавать ни от себя, ни от Вас. Ведет он себя по отношению к жене и близким друзьям не очень порядочно… По-человечески его можно понять и по-христиански простить, но прежнего теплого отношения к нему уже нет.
Другое дело Толя К. - он хотя фактически и бросил жену с тремя детьми, но, как Вы знаете, его упрекнуть ни в чем нельзя, и судьба у него нелегкая. Я мало знала Анатолия, и вряд ли удастся мне с ним снова встретиться. Но всегда сохраню к нему приязнь и уважение».
Все понятно, Софья Васильевна, жаль только, что новости вы сообщаете нерадостные. Что арестован «муж Веры» (мой сотоварищ по Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях), я догадался еще по предыдущему, первому письму, прочтя, что «Верочка очень скучает без мужа». Только не предполагал я, что он сломается (наговаривает на друзей? кается? — как иначе понять — «ведет себя непорядочно»?). Зато Толя (Корягин, другой член Рабочей комиссии, врач-психиатр) — молодец. Ясно, что он тоже сел (раз — «фактически бросил жену с тремя детьми»). Но он не сдается, держится.
Но вот — совсем непонятные строки: «Помните, мы обсуждали (и даже спорили) применение Указа 1972 года. Но я тогда спорила неразумно, т. к. текста Указа не читала. На днях я подробно ознакомилась с текстом и все свои возражения снимаю, — соглашаясь с Вами».
Какой Указ? Не помню, чтобы мы о каком-то Указе спорили. Долго, очень долго я ломал над этим голову. И только много времени спустя я понял Софью Васильевну. Указ 1972 г. разрешал Прокуратуре и КГБ делать официальные предупреждения гражданам об «антиобщественном» характере их деятельности. Когда-то такое «предупреждение» делалось и мне. «На днях я подробно ознакомилась с текстом Указа…» — могло означать лишь то, что и Софье Васильевне сделано такое «предупреждение». Недобрый симптом.
Еще одна прогулка по этапу. И вот я уже в Омске — заключенный учреждения УХ-16/8. На сей раз — до конца срока. На новом месте в августе и в ноябре от Софьи Васильевны — короткие открытки. Она жалуется на «непонятный психологический «зажим» — не могу никому писать. Не пишу даже Танечке».
Декабрь 81-го. Еще одна открытка — новогодняя. И посреди поздравлений и пожеланий: «Спасибо за Ваше теплое (даже горячее!) сыновнее письмо. Правда, обстоятельства сложились так, что я едва успела его прочесть, а хотелось бы еще и еще перечитывать».
«Едва успела прочесть» и не имеет возможности перечитать снова. Мне ли не понять, каким образом у правозащитников исчезают самые невинные бумаги?! Декабрьский обыск был у Софьи Васильевны третьим за год. Грозное предзнаменование! И было «предупреждение». И были допросы. Все это так часто предшествует аресту.
Сознавала ли Софья Васильевна весь риск своего вступления в «Хельсинки»? Еще бы! К моменту ее окончательного вхождения в группу уже были арестованы ее основатель Юрий Орлов и члены — Александр Гинзбург и Анатолий Щаранский, а Людмила Алексеева под угрозой неизбежного ареста была вынуждена эмигрировать. И в дальнейшем, после вступления Софьи Васильевны, группа оставалась на острие репрессий. В 1978 г. был осужден Владимир Слепак, в 79-м — арестован Виктор Некипелов. В марте 80-го к пяти годам ссылки приговорена шестидесятидвухлетняя Мальва Ланда. «Всех нас скоро пересажают», — много раз слышал я от Софьи Васильевны. Так неужели она сама стремилась к этому? Нет. Разумеется, нет. Но тогда в чем дело? А в том, что существуют такие старинные понятия, как честность мысли, гордость и честь. И они в огромной мере были свойственны Софье Васильевне. Честность мысли не позволяла обманывать себя, оправдывать обывательскими трюизмами молчаливое потворство творимому беззаконию. А гордость и честь не позволяли капитулировать перед угрозами.
…Писем я получал много, и не только от Софьи Васильевны. По ним я мог догадаться о том, что происходило на воле. Уже в заключении мне стало известно о новых арестах членов нашей «Хельсинки» — Тани Осиповой, Вани Ковалева, Феликса Сереброва. Кто теперь следующий? В ноябре 81-го я впервые получил личное трехсуточное свидание с женой и с дочерью. Вот тут-то я узнал в подробностях обо всем и обо всех. И о — увы! — сгущавшихся над головой Софьи Васильевны тучах.
Вскоре я написал ей большое письмо. Его-то в числе прочих бумаг и загребли у нее на декабрьском обыске. Было жаль письма, но беды тут никакой не случилось. Оно шло через цензуру и не содержало в себе никакого криминала. Мне просто хотелось своим письмом поддержать Софью Васильевну в ее трудных обстоятельствах, сказать, как я — и все мы — ее любим, выразить хотя бы отчасти, что она для меня значит!
Софья Васильевна, по памяти, разумеется, ответила на мое отнятое письмо в январе: «Вы, как всегда, меня переоцениваете и преувеличиваете мои достоинства (и этим ко многому, кстати, меня обязываете!). А я, в общем-то, старая и не очень здоровая женщина и пессимистка к тому же. Вот если придется проехаться, например, к Мальве в гости (а к этому дело идет), то вряд ли мне это будет по силам (я имею в виду физические силы)».
«Преувеличиваете мои достоинства и этим ко многому меня обязываете». Неужели же вы, Софья Васильевна, настолько не поняли мое письмо?! Разве я пытался к чему-то «обязывать» вас? Разве я не понимаю, что то, что по плечу нам, мужчинам, к тому же относительно молодым, для вас — непосильная ноша? Мальва — в ссылке, и ей там тоже нелегко, а ведь она на одиннадцать лет моложе вас. Вам там не то что до ссылки не добраться, но и ареста не перенести. Вы выйти из дома одна не в состоянии. Помню, я как-то провожал вас в сберкассу. Пути-то до угла, но за те полчаса вы раза три глотали нитроглицерин. Зато упорно не позволяли вести себя под руку. А восемнадцать ступенек до площадки лифта (вот они, старые дома!) каждый раз были для вас серьезным испытанием.
«Умудрилась схватить воспаление легких… На днях была на рентгене. Там без Вас как-то неуютно. Суждено ли снова увидеть Вас если не там, так где-нибудь в другом месте?.. На днях говорила по телефону с тетей Зиной и ее мужем [перевожу: с Зинаидой Михайловной и генералом Григоренко; а звонили они из Штатов]. Они скучают до слез (буквально). Вам шлют персональный привет. Остальные приветы от родственников Вам, очевидно, передает в письмах Людмила».
Да, не позавидуешь горькой доле изгнанников. А что слышно о наших «горьковчанах»? Почти в каждом письме вы передаете мне привет «от Люси и Андрея» (читай: от Сахарова и его жены), — значит, связь с ними пока не совсем потеряна. (Участие ко мне Сахарова не ограничилось «приветами». Уже после выхода из заключения я узнал, что, и запертый в ссылке, Андрей Дмитриевич продолжал выступать за освобождение «узников совести», в числе других называя и мою фамилию.)
«Ради Бога, ведите себя спокойно и мудро. Целую Вас, очень хочу верить, что у Вас еще будут светлые дни».
На это письмо я ответил сразу. Я написал Софье Васильевне, что когда через год с небольшим выйду на волю, я очень хочу увидеть ее в Москве, обнять и расцеловать. Что ей надо всерьез заняться здоровьем, и для этого ей надо оставить все прочие дела и «уйти на пенсию». Что никто не вправе, зная ее возраст и состояние, упрекнуть ее за это. Я просил не поддаваться хандре и пессимизму и снова ей, пенсионерке, повторял совет «уходить на пенсию».
«Ваше письмо от 31/I получила только что и так растрогалась от выражения Вашей любви и заботы, что отвечаю с ходу. Мою хандру Вы несколько преувеличиваете. Не так уж я подавлена, как это показалось Вам по моим последним письмам. Ваши советы, наверно, разумны с общежитейской точки зрения. Но у меня своя точка отсчета, и «на пенсию» я сейчас не пойду. Не потому, что боюсь чьего-либо осуждения, а потому, что в моем возрасте самое важное — это остаться самою собою. Слишком близко и неразрывно я связана с людьми, которые сейчас на пенсию уйти не могут. Я спокойна за себя, пока я хоть сколько-нибудь (к сожалению, очень немного) могу помочь людям. А кроме этого никаких целей себе не ставлю». Но дальше опять о «жизненной усталости». И — «обстановка с тех пор, как мы с Вами расстались, очень изменилась».
«26/Х-82 г. Не сердитесь на меня, ради Бога, милый Леонард! Все эти месяцы у меня состояние было очень неопределенным и решительно не писалось. Теперь неопределенность стабилизировалась, и я вынуждена последовать Вашему совету и уйти на пенсию.
Я всегда люблю и помню Вас и считаю дни до нашей встречи».
Я думаю, что же спасло Софью Васильевну от гибели в смрадной пасти ГУЛАГа? В высшем смысле, несомненно, Провидение. Есть сходство между человеком и его судьбой — об этом в одном из писем писала мне Софья Васильевна. И было бы едва ли не святотатством, если бы Софью Васильевну — нашу земную Заступницу — не оградил от погубления незримый Покров. Но спасение не приходит само, «Царство Небесное силой берется» (Мф.11, 12). И спустившись ступенькой ниже, можно разглядеть тому и ряд земных, вполне человеческих причин.
Кто и чем своими усилиями помог Провидению в это критическое для Софьи Васильевны время? Многие из ее окружения с риском для себя бросали свои малые лепты на колеблющиеся чаши весов. И каждая из них могла оказаться решающей. Но все-таки главное смогла сама Софья Васильевна — своим стоицизмом, решимостью пойти хоть на гибель, но не отречься от самой себя. Ее спасло не то, что она женщина, — славные «рыцари»-чекисты храбро воюют с ними наравне с мужчинами; процессы Т. Великановой, Т. Осиповой, М. Ланды и многих — наглядное тому подтверждение. Не семидесятипятилетний возраст совсем незадолго советский суд не постыдился приговорить восьмидесятитрехлетнего адвентистского проповедника Владимира Шелкова к пяти годам строгих лагерей, где он вскоре и умер. Не известность — у нас или за границей, — у академика Сахарова, например, она была несравненно большей.
Так что же помешало «органам» расправиться с Софьей Васильевной? Пожалуй, тут сказалась уголовная психология КГБ. Его сотрудников не проймешь жалостью, им дела нет до твоей правоты, но силу они отчасти уважают! Да, если им прикажут, они схватят и того, кто их не боится, накинутся (вдесятером на одного) и на того, кто им не поддается. Так тоже бывало не раз. Но с особой охотой они бьют лежачего.
О, если бы «работавший» с Софьей Васильевной следователь учуял слабину! Если бы комитетчики надеялись, запугав и посулив снисхождение, вырвать у нее покаяние! Но своей неуступчивой решимостью Софья Васильевна поставила КГБ перед ясной дилеммой: либо спустить ее дело на тормозах, либо — брать, судить и сажать. Чтобы потом расплачиваться еще одним громким скандалом, расхлебывать позор судебного убийства больной и старой женщины. А возможный баланс плюсов и минусов Комитет все-таки подсчитывал.
Из всех друзей и знакомых именно я — по обстоятельствам — ничем не мог ей помочь. Но я был уверен: Людмила и мои друзья А. Недоступ и И. Софиева никогда не оставят ее в беде, поддержат и сделают все, что только в их силах, чтобы уберечь и спасти. Что это так и было, подтвердили первые же письма Софьи Васильевны: «Саша и Имочка трогательно внимательны и заботятся обо мне неустанно. Я уже не говорю о Людочке. Каждый день, как на врачебном обходе в клинике, я слышу ее голосок: «Как вы себя чувствуете?»»
Весна, начало лета 82-го. Едва ли не разгар следственно-кагэбешной кампании против Софьи Васильевны. Напряженная, нервная атмосфера, тут может сдать и молодой, здоровый организм. «Почти полтора месяца провалялась в больнице (на этот раз в 70-й…)» (значит — у Иммы).«…и, как водится, — мне «пришили» новый диагноз — хроническая пневмония. Сейчас я на все лето уехала из Москвы, и если ничего не стрясется, вернусь только в сентябре». Эта полуторамесячная передышка несомненно помогла Софье Васильевне еще раз собраться с силами.
В самом начале 1983 г. по намекам в письмах жены я понял, что моих сотоварищей по правозащитному движению — Валерия Абрамкина и Вячеслава Бахмина — не выпустили по окончании срока, что им «шьют» дутые лагерные дела. По множеству признаков я все явственнее видел, что такая перспектива вырисовывается и для меня. В этих обстоятельствах мне показалось нелишним дать понять лагерному начальству, что свою правозащитную деятельность я возобновлять не намерен Но как? Не идти же с этим на прием. И вот в своих подцензурных письмах (в том числе и к Софье Васильевне) я написал, что собираюсь впредь жить частной семейной жизнью, избегая всякой «общественности».
Софья Васильевна поняла и не осудила меня. В середине февраля я получил от нее последнюю открытку: «Дорогой Леонард! Получила Ваше разумное письмо от 23/I. Ваши планы о спокойной семейной жизни полностью одобряю. Надеюсь, что апрель будет теплым и ласковым, и Вы будете в старинном русском городе Рязани. Целую. С.В.»
После освобождения, бывая наездами в Москве, я часто виделся с Софьей Васильевной. В 86-м меня наконец прописали к семье, и я смог по-настоящему вернуться домой. А вскоре наступили новые времена.
Помню, каким счастьем было для Софьи Васильевны освобождение Сахарова, а вслед — и других узников совести; как печалилась она, что Толя Марченко да и не только он! — не дождался чаемых перемен. Как радовалась публикациям в журналах материалов бывшего «самиздата» и наконец — подумать только! самого «Архипелага». Как досадовала на непоследовательность и противоречивость процесса перестройки.
Еще были дни рождения «на Воровского» со множеством гостей. Были хлопоты по делу погибшего в 1973 г. Илюши Габая, увенчавшиеся его посмертной реабилитацией. Были статьи Софьи Васильевны в «Московских новостях» и в журнале «Родина». Были ее выступления на конференциях «Мемориала», на «Московской трибуне», на вечерах правозащитников. Как ее слушали! Удивительная молодость духа отличала Софью Васильевну даже в старости. Но жизнь ее уже неумолимо катилась к концу…
Сегодня мне самому за шестьдесят. И оглядываясь назад, я ясно вижу, что все выпавшие мне на долю невзгоды с лихвой вознаграждены счастьем многолетнего и близкого общения с Софьей Васильевной, ее неизменной дружбой и любовью.
…И вдруг мне бросается в глаза неприметная раньше фраза. В короткой поздравительной открытке к моему дню рождения. Всего десять слов. Они притягивают меня как магнит и словно светятся внутренним светом. Как я мог не замечать их раньше?! Они будят во мне давние воспоминания и переплетаются с нынешней явью, с моими сегодняшними мыслями и заботами. И причудливой фантасмагорией проходят перед внутренним взором.
…Вот я опускаю в автомат «двушку», набираю номер, который помнил наизусть все свои три лагерных года.
— Софья Васильевна!
Я сразу чувствую, что сегодня она в добром настроении. Потому что, узнав мой голос, говорит в трубку не усталое: «Слушаю», а радушное: «Эге!»
— Я забегу?
— Забегайте.
Арбатская площадь. Пройдя почтамт и завернув за угол, я издали вижу светящийся фонарь окон второго этажа. Поднимаюсь. Звоню. Кто-то открывает мне дверь, и я иду вправо-вперед по короткому коридору. Стучусь, прохожу в комнату. Софья Васильевна за пасьянсом в своем любимом кресле. Я подхожу, наклоняюсь и прикасаюсь губами к ее щеке.
— Здравствуйте, Леонард, — слышу я знакомый, с хрипотцой голос заправской курильщицы. — Сейчас будем пить чай и беседовать. Ну, что нового у вас?
Что нового? Мы дожили наконец до новых времен. Жить и сегодня нелегко, хотя трудности нынче иные. Мы говорим, пишем и читаем что хотим, и сажать нас за это пока вроде никто не собирается.
— А Андрея Дмитриевича уже нет с нами. Последний раз я видел его за неделю до его смерти, на ваших похоронах. Он так тепло говорил о вас… Мы родные и друзья — заезжали к вам на Востряково. Ваши верные доктора — Саша и Имма — тоже были с нами. Люда Алексеева как раз приехала из Вашингтона. Все вместе мы постояли немного у ограды и положили цветы на вашу могилу…
Боже! Почему только мысленно я могу встретиться с вами?! Почему нельзя увидеться, ну, хотя бы помолчать вместе? Тогда, в 81-м, вы написали мне… сегодня я возвращаю вам ваши слова: «Еще остались друзья, но все равно мне без вас одиноко».
Т. Трусова Храню с любовью в памяти своей
В январе 1980 г. я получила письмо. Письмо «ушло» при одном из обысков, но текст я помню хорошо: «Танечка! Уже больше месяца ничего о Вас не слышу. Не нужна ли Вам моя помощь? Может быть, юридическая? Позвоните». Подпись Софья Каллистратова. Телефон. На конверте адрес. Имя, телефон, адрес были мне совершенно незнакомыми. Я рассказала об это письме как о курьезе: «некто» волнуется, не получая известий обо мне в течение месяца, а я об этом не имею известий и ничего, не волнуюсь. Друг, которому была рассказана эта история, Ф. Ф. Кизелов, посмотрел письмо, конверт и сообщил, что письмо от Софьи Васильевны Каллистратовой, что это Хельсинкская группа и что совершенно нечего смеяться и зачитывать письмо каждому встречному-поперечному.
А дело было вот в чем. Поздно вечером, в Звенигороде, где мой муж исполнял роль сторожа на даче у «белых людей» (как мы их называли. Кстати, впоследствии выяснилось, что на этой самой даче профессора О. когда-то в детстве проводил каникулы Сахаров), так вот, на даче, где по приемнику хоть что-то было слышно, мы узнали о вводе «ограниченного контингента» наших войск в Афганистан. Я еще помнила ту боль, которая мучала в 1968 г., ту растерянность, те беспомощность и унижение… Я тут же села и написала письмо: «Если Хельсинкская группа или какая-нибудь другая группа людей будет протестовать против интервенции наших войск в Афганистан, прошу присоединить мою подпись к такому протесту или считать это письмо адекватным такой подписи». Подписала я, потом мой муж — Виктор Гринев. Я попросила Ф.Ф. передать письмо Ларе Богораз, — он ехал к ней и Толе Марченко в Карабаново на следующий день. Там, в Карабаново, Толя дал ему прочитать письмо протеста, и Ф.Ф. подписал это письмо тоже. Лара его передала. Ну а потом было письмо от Софьи Васильевны.
Все это может показаться странным, но политикой я не интересовалась вовсе. «Голоса» не слушала, о Хельсинкской группе почти не знала, в основном — из советской прессы и со слов знакомых. Поэтому письмо Софьи Васильевны и явилось полной неожиданностью.
Разумеется, я позвонила и по приглашению Софьи Васильевны пришла на улицу Воровского. На двери список — кому из жильцов сколько раз звонить, список довольно длинный. Вошла. Огромная прихожая, сразу запахло детством, нашей квартирой на Кировской… (У больших коммуналок свой запах, чем-то похожий на запах тмина.) Открыла Софья Васильевна. Невысокая, хотя и выше меня, но это заметилось позже, а первое ощущение — высокая. В чем-то свободном, не то платье, не то халат.
Я пробую описать ее внешность, но ничего не выходит. Ну, очень простое лицо, некрасивое — но это неправда, потому что правда то, что у Григоренко, — «человеческое лицо. Да еще какое лицо! Никогда красивее не видел». (Она очень смеялась над этой фразой.) Полуседые волосы. Морщины. Медленные движения, медленная речь, очень медленная — как из другого века, особенно, если сравнить с нашей скороговоркой 60-70-х гг. И голос низковатый. Были в ней простота и величие, причем величие без величавости, «если вы понимаете, про что я толкую», как говорил один герой детской-недетской книги Толкиена. В беседе, в «трепе» она говорила мало, а когда говорила, то очень четко, математично, с полным соблюдением всех законов формальной логики, и спорить с ней было сложно, аргументы как-то не подбирались.
Трудно через столько лет восстановить первое ощущение, но вот, что осталось. Софья Васильевна сразу ассоциировалась у меня с людьми, которых я знала и любила: моими учителями, с тренером моей дочери. Они очень разные, но было что-то общее, и мы с дочкой потом определили это словом «осанка», что ли, несмотря на сутулость, несмотря на возраст. Прямота, которая изнутри как-то видна была сразу.
Мы прошли в комнату, и опять такое же, как у нас дома на Кировской. Я уже много лет жила в отдельной квартире, в «хрущобе», но никогда не воспринимала ее как «дом». У Софьи Васильевны это «дома» сразу почувствовалось. Почему? Окна ли большие, потолки ли высокие? Большой ли стол почти посредине комнаты, некоторый беспорядок, книги, бумаги… не знаю, только в этой комнате было как «дома».
Мне очень стыдно вспоминать свое первое посещение, я на месте Софьи Васильевны просто выгнала бы эту нахалку. Заговорили мы, естественно, о том, что было связано с причиной приглашения: о моем письме, о Хельсинкской группе. Я сказала, что плохо, что о группе мало кто знает, я вот, например, случайно узнала, потому что знакома с Ларой. А так, «голоса» не многие слушают, да и не слышно ничего, глушат. Каких-нибудь печатных изданий Хельсинкской группы почти нет. «Хроника», где публикуются их документы, почти недоступна. Кто ее читает? Те, у кого есть доступ, то есть знакомые.
Софья Васильевна не стала мне возражать тогда, что не знает чего-то тот, кто не хочет знать. Что круг знакомых — не случайность. Что вот меня же «вынесло» на Лару, а не на нее, так на кого-нибудь другого бы «вынесло», потому что люди находят себе подобных, даже если им кажется, что не ищут. Все это было сказано и проговорено позже. И значительно позже говорили мы о том, что если мало кто читает наши протесты, мало кто знает об «узниках совести», о Хельсинки, о Фонде, то это только потому, что таков уровень людей, народа, они не знают, потому что, может быть, еще не способны хотеть знать. В первый раз Софья Васильевна слушала меня с некоторым любопытством. Она замечательно умела слушать и «заводить». Она сказала: «Так ведь работать некому… Вот, — и показала гору бумаг, — просто даже некому печатать…»
Что это было? Доверчивость? Каждому, кто помнит 70-е гг., известны подозрительность, страх перед стукачами и т. п. Правда, в «конспирацию» Софья Васильевна никогда не играла и к нелегальщине и подполью относилась плохо. Часто повторяла название книги Григоренко: «В подполье можно встретить только крыс».
Так вот, тут же, от нее я позвонила Ф. Ф. Кизелову, и мы договорились, что он придет и поможет с перепечаткой.
Вот сидит передо мной человек, который прошел долгий и трудный путь противостояния: от простой честной позиции адвоката в уголовных процессах до защиты «диссидентов» Григоренко, Делоне и др. А перед ней — «нечто»: я, женщина, которая безапелляционно заявляет ей, что ее единомышленники мало что сделали и сделали все не так. Почему она слушала? И, кажется, даже соглашалась… Очень стыдно вспоминать…
На протяжении 1980–1983 гг. я бывала у Софьи Васильевны часто, иногда несколько раз в неделю, иногда раз в несколько недель, смотря по надобности. Она была права: человек знает, когда хочет знать, и, очевидно, до того, чтобы знать, я дозрела. И пошли чередой люди. Кому-то надо было помочь юридической консультацией, кому-то найти адвоката, о ком-то просто рассказать Софье Васильевне.
Она никогда не отказывала в консультации, помогала составлять письма и прошения, принимала людей. Помню, пришел к ней отец одного кришнаита — у него посадили сына. К кришнаитам Софья Васильевна относилась… ну, никак, в лучшем случае — с юмором. Ее не интересовало содержание взглядов человека. Ее интересовали Закон и его нарушение, судьба каждого отдельного человека вне зависимости от взглядов.
Был у нее как-то обыск, а у следователя — не то язва, не то что-то с печенью, пожелтел весь, и видно, что ему плохо. Софья Васильевна как-то очень по-человечески предложила ему чаю…
Как многие неофиты, я была очень жесткой в оценках. Шли годы, которые Софья Васильевна называла «покаянные годы». Без конца сажали, и далеко не все выдерживали давление. Покаяние отца Дудко, покаяние Болонкина, Сереброва… Однажды она сказала: «У каждого человека свой запас сил». «Ну так надо его рассчитывать заранее и не лезть, если не можешь», — продолжала кипеть я. «Заранее… заранее знать нельзя», — ответила она. Только С. она осудила со всей жестокостью. И даже написала ему письмо — в ответ на его открытое письмо ко всем нам. Письмо начиналось с того, что, сидя в тюрьме, он подумал и решил… «Вот уж, действительно, нашел время и место», спародировала Софья Васильевна известный анекдот. Человек может сломаться, может даже пытаться оправдать себя, но строить на своем отступничестве философию приспособленчества, обвинять тех, кто к предательству не способен, — это подлость.
…Шли бесконечные вызовы, допросы, обыски… Было много непереносимого, например, арест Толи Марченко, а потом срок 10 лет! Да еще 5 лет ссылки. От этого хотелось выть. Толиному сыну семь лет, неужели он увидит отца только в семнадцать? Может быть, именно поэтому, потому что невозможно жить в ощущении постоянного кошмара, — в собственных столкновениях с Комитетом государственной безопасности виделось много смешного, и при рассказах именно это смешное «выпячивалось». Рассказываешь что-нибудь такое Софье Васильевна, а она: «Развлекаетесь? Ну-ну…» За этой фразой был многоэтажный подтекст: упрек за легкомыслие, предостережение и что-то очень теплое, как будто и не так уж сердили ее эти «развлечения». Я отвечала обычно, что русский человек юмором спасается. Она не соглашалась: «Хорош юмор… юмор висельника».
А когда в 1983 г. последний номер «Бюллетеня В» мы закончили фразой о том, что его издание прекращается по причине ареста большей части издателей, но что в русском языке еще много букв и мы не гарантируем, что не появится бюллетень «А» или «Я», да еще отправили этот номер прямо по почте в КГБ, вот тут Софья Васильевна рассердилась всерьез и даже повысила голос: «Что за дурацкие игры? Стыдно!» Для нее ведь все — и работа Хельсинкской группы, и издание «Хроники», и «В» — не было игрой в «казаки-разбойники», романтикой конспирации, как, к сожалению, для некоторых бывало. Для нее все это было делом, работой. Борьбой не против кого-то, а за соблюдение законов с маленькой и большой букв. И я с уверенностью говорю об этом. Приведу несколько примеров.
Хельсинкскую группу иногда упрекали в лицемерии: требуете, дескать, чтобы они соблюдали свои же законы, как будто не понимаете, что если эти законы будут соблюдаться, так и их не будет, — это же абсурд. А для Софьи Васильевны это не было абсурдом, хотя она отлично понимала, что эта власть даже своих писанных законов соблюдать не будет. Именно поэтому она говорила, что борьба должна быть за закон. Не мы нарушаем законы государства, а они. Не мы преступники, а они. Для нее слово «закон» не было некой условностью, как для большинства советских людей, — для нее это слово много значило.
Звоню я ей уже в 1986 г.:
— Софья Васильевна, завтра А. Д. Сахаров будет в Москве! Вы уже, конечно, знаете?
— Знаю. А чему вы, интересно, радуетесь? Выслали без закона, возвращают не по закону. Разгул демократии.
— Ну так разгул демократии лучше, чем…
— Ничем не лучше, — перебивает, — ничем не лучше. Произвол знаки поменял, а вы радуетесь. Ну так он и обратно поменяет. Все должно быть законно!
Но, конечно, она тоже радовалась возвращению Андрея Дмитриевича и «странной амнистии» политзэков из Чистополя и Пермских лагерей… Только эйфории свободы у нее не было.
…В 1982 г. было возбуждено дело против самой Софьи Васильевны по статье 190-1 «за распространение заведомо ложных клеветнических измышлений, порочащих…» и т. д. Это было уже совсем из серии театра абсурда. Софья Васильевна, с ее любовью к точности, с безукоризненным знанием и соблюдением закона, — и «заведомо ложные»… Я помню, часто, когда приходилось писать какие-нибудь сообщения об аресте, задержании, обыске, сколько раз она переспрашивала: «А это точно?» Как ее возмущали некоторые «самиздатские» журналы и бюллетени, в которых «стилистические ошибки перерастали в смысловые» (моя формулировка), или, по формулировке С.В., «небрежность влечет за собой уклонение от истины». Вот, например, фраза в одном таком издании: «Налет КГБ на машбюро редакции». И возмущение Софьи Васильевны: «Это безобразие и безответственность! И дезинформация читателей! Что такое налет — вооруженное нападение? Одно слово — и ложная картина. Какое «машбюро»? Можно подумать, что наш «самиздат» обладает издательствами, зданиями и т. д. Что ни слово, то ложь! Я вообще не понимаю, зачем вы общаетесь с этой публикой?»…
Говорим о деле одной дамы из провинции. У нее собирались коллеги по работе, просто знакомые, читали книги, был там и «самиздат», и «тамиздат», подписывали некоторые письма. Но вот одного из этой компании посадили по 190-1. Посадили за рукописи, написанные таким почерком, что и жена не все могла разобрать, какое уж тут распространение! Дали полтора года, а потом принялись за всю компанию: одного — с работы, другого — под уголовную статью за приборы, купленные по безналичному расчету, которые в лаборатории были разобраны, а части употреблены для создания других приборов или для ремонта. А женщину, у которой они собирались, решили осудить за самогоноварение. Она, действительно, делала домашнее вино и, как многие в те годы, иногда его перегоняла. В информации, которую принесли мне, были такие слова, как «сфабрикованное дело». Софья Васильевна потребовала изменения формулировки: «Что ж тут сфабрикованного? — говорила она. — Факт, хотя бы и единичный, был? А что судят в сущности не за это, — это другое дело. Но с такой формулировкой пускать информацию нельзя — это будет ложь, и, если хотите, «клевета» на органы».
И так было всегда. Только проверенные и перепроверенные факты. Только правда. И вот статья 190-1… А Софья Васильевна была уже очень пожилым человеком, у нее уже были правнуки… И вот психологический парадокс: когда сажают, а потом предъявляют обвинение, — легче, бояться уже нечего, а так… жить под дамокловым мечом… Я пробовала, знаю — страшно. Правда, страх все по-разному переносят. Одни сжимаются и перебарывают, другие бросаются навстречу… Я не знаю, что переживала Софья Васильевна, когда оставалась одна, но всегда тот же голос, те же заботы: «Кофе хотите?» сразу после «Здравствуйте». И меньше всего она разговаривала о своем деле…
— Софья Васильевна! — просили мы все, — может, отойдете от дел?
— Не-а, — отвечала она, как о чем-то неважном, вроде «Хотите чаю?». — Не-а.
Вел дело следователь прокуратуры Воробьев. Большую часть «свидетелей» он вызвал чуть не в один день, кажется, 7 или 9 сентября. Сидели, помню, мы в скверике возле прокуратуры, дожидались своей очереди. «Показаний», естественно, никаких Воробьев не получил, да и не ждал их, выполнял формальности. Зачем-то у всех спрашивал, видели ли вы подпись Софьи Васильевны под документами группы Хельсинки. Она никогда не скрывала своей принадлежности к группе, но раз им надо было, чтобы сказали: «Да, видел подпись», говорить это «да» не хотелось, и каждый уходил от этого «да» по-своему — кто в юридическое крючкотворство, кто в теоретические прения по поводу права на существование общественных организаций и групп. Впрочем, Воробьев рассуждения сразу «гасил», в прения не вступал, на ответах не настаивал. Допросы были короткие. Почему? Мне кажется, что он прекрасно понимал, что «дело явно липовое».
Потом было подписание статьи 201, и Софья Васильевна спросила его: «Ну, как вам понравились мои свидетели?» Он ответил что-то невнятное, типа, что другого и не ожидал, что мог бы и не вызывать. Во всяком случае, Софье Васильевне очень понравилось выражение его лица — «тухлое такое, знаете ли». Ситуацию эту она воспринимала со спокойным юмором и большим достоинством.
Ужасно она была «домашняя». Я никогда не видела более «домашнего» человека. У нее никогда не было «вылизанной» квартиры, но всегда было удивительно уютно. Свернешься на диване, а Софья Васильевна, сидя в кресле или полулежа на том же диване, пасьянс раскладывает. И то ли спрашивает, то ли подтверждает, то ли слушает, то ли просто «мурлычет»: «Н-да-а?» Говорить с ней можно было обо всем. Как-то так случилось, что и о моей сложной домашней ситуации мы с ней говорили… «Н-да-а… так можно и дочь потерять», — для нее это был решительный, непререкаемый аргумент. И только это. Общественное мнение, всякие общепринятые правила — об этом просто и речи не было. Психологические сложности и нюансы, всякая «достоевщина» это она тоже отметала. А вот «дочь потерять» — это она понимала как главное.
Очень Софья Васильевна любила внучку Галочку и удивительно относилась к дочери Марго. Даже трудно сказать «относилась». Было просто ощущение полной слитности, притом, что жизнь у матери и дочери, у каждой, была своя.
Часто бывает, что родные и любят, да не понимают масштаба человека, живущего рядом. Марго понимала. Атмосфера семьи была удивительно приятная. Но у Софьи Васильевны всегда сохранялось чувство долга и личной ответственности за то, что она делает, за путь, который она никому не может навязывать. Помню, в одном письме (она тогда болела и лежала на улице Удальцова, у Марго): «Не имею права принимать здесь всех людей, близких мне по духу». Ее никто в семье не ограничивал, ограничивала она себя сама. Большинство из нас были слишком безоглядны — и часто не только за свой счет, а за счет родных тоже, — как-то не заботились о том, чтобы свой выбор не сделать судьбой близких. А Софья Васильевна и об этом думала. Помню, говорила о Желябове, о судьбе его жены и сына. Я возмущалась жестокостью, а она медленно так сказала, ахматовским своим голосом: «Безответственность и, заметьте, во всем». О народовольцах мы говорили с ней много. Я очень люблю Николая Морозова, правда, «после» отказа от терроризма, с момента крепости. А Софья Васильевна, признавая многое, говорила, что его статьи непростительны. «И заметьте, все недоучки. От недоучек весь вред».
А однажды я наполовину в шутку, но немножко и всерьез завела разговор о том, что вот-де, у большевиков и подпольные типографии были, и пропаганда была поставлена, конспиративные квартиры, кружки, парики, паспорта… Она слушала меня молча, губами жевала. А потом говорит: «Ну и что хорошего? Вы это всерьез? Как маленькая, ей-Богу! Лучше про собак своих расскажите». Она решительно не принимала никакой «подпольщины», для нее было безусловно, что конспирации порождают нарушения нравственности, а значит, никакая «практическая польза» этого не искупит, да и не будет никакой пользы. Сейчас это многие понимают, но тогда это такой уж безусловной истиной не было.
… Дни рождения Софьи Васильевны. Это отдельная тема. Всегда была куча народу, шумно и очень весело. Особая атмосфера ясности, близости, единства, ощущение родства и братства. Вспоминаешь, и хочется сказать: «Хочу обратно в застой», — такого светлого чувства потом, в конце 80-х не было, нет… (Кстати, о слове «застой» — не было у нас застоя, была огромная напряженность мысли, внутреннего действия.) Ведь это было как? Пришел, значит, свой… А те, кто в последние годы (для меня — до 83-го) не приходил, а присылал колбасу или еще что-нибудь в подарок, то Софья Васильевна без осуждения, с иронией выкладывала на стол эту колбасу от «бывшего такого-то» и спрашивала: «Будем есть или заразиться боитесь?», но, наверное, не стала бы плохое поминать, значит, и нам не следует.
Первый тост за именинницу, второй молча, за тех, кого с нами нет: за Андрея Дмитриевича, за Сашу Лавута, Толю Марченко, Таню Великанову, за многих… А третий — «чтоб они сдохли» — он без злости пился этот третий, потому что в этот день и за этим столом почему-то казалось, что так и будет: все изменится, и приговорка Софьи Васильевны о жизни — «как в сказке: чем дальше, тем страшнее» — свою последнюю часть потеряет.
Софья Васильевна в кресле, ее медленный голос… Без конца звонит телефон, телеграммы на холодильнике, открытки… И пироги Марии Гавриловны Подъяпольской и Евгении Эммануиловны… И опять почему-то кипит Пинхос, и смотрит во все глаза милая доктор Имма. Хочу в «застой». Да нет, конечно, «застой» тут ни при чем, но эти дни, именины Софьи Васильевны, — там было очень ясно и светло.
…В 1982 г. посадили мужа, потом завели дело против меня — за хранение огнестрельного оружия: было у Вити около пятидесяти капсул от патронов, какие-то металлические шарики, похожие на игрушечные футбольные мячи. Он использовал все это для макетов, в частности, в макете декораций для «Дней Турбиных» это были пушечные ядра и снаряды. Ему «хранение» не предъявили, на 190-1 им и так хватило, оставили для меня. А я и вправду не знала, откуда они в доме взялись. Потом выяснилось, что принадлежало все это одному приятелю, который отдал все эти штуки Вите. Меня тогда удивило, что приятель этот даже не подумал пойти и сказать обо всем следователю, а заявил, что тогда будет два дела вместо одного. Все, конечно, так, и я бы явки его к следователю не допустила. Но когда я все это рассказала Софье Васильевне (и про два дела вместо одного), она вскипела: «Хоть десять!» — и после долго не принимала этого человека, хотя раньше относилась к нему хорошо. Кажется, он что-то понял. Пришел к ней с заявлением, где было сказано, что о патронах я ничего не знала. И Софья Васильевна помягчела. Отругала и простила, как он говорил. Правда, отдавать это заявление мы не стали. Софья Васильевна сказала: «Только вы можете это решить. Вам решать, вам и ответ держать». Оно снимало обвинение с меня, но автоматически «подставляло» Витю и могло добавить к грозящим ему трем годам еще парочку.
Но на этот раз пронесло: умер Брежнев, и дело прекратили по амнистии. Я, правда, ерепенилась, хотела что-то доказывать, но тут уж решала Софья Васильевна: «Нечего подставляться! Что за показной героизм! Принимайте амнистию и не рыпайтесь!»
Ну, а в ноябре 1983 г. завели следующее дело — на сей раз за тунеядство. (Очередной театр абсурда — в сорок пять лет у меня было двадцать два года трудового стажа. Правда, последний год я не работала, из университета ушла из-за Витиного дела, а тут — свое… Были частные уроки, на жизнь нам с дочерью хватало, потом она родила в сентябре ребенка. Он был слабенький, родился недоношенным и с энцефалопатией.)
Я все сделала, чтобы ни Софья Васильевна, ни мать ничего не знали. Узнала Софья Васильевна все после суда и приговора от Аси Л. «Просто слов нет! Что, боялась, что я ругать буду? Ну так вот, передайте ей, что я ее ругаю!» И сердилась долго, даже обратилась ко мне в первом письме по имени-отчеству. Правда, в том же письме сообщила, что посылает мне кофе и сигареты, и милостиво позволила расценить это как приглашение на чашку кофе.
… Возвращаясь к ситуации с «патронами» — Софья Васильевна, как и другие правозащитники ее поколения (А. Д. Сахаров, П. Г. Григоренко и другие), безупречно чувствовала то, что должно быть нравственной нормой, что и было нравственной нормой для них. Вот, например, такой случай. Z (из моего поколения), по профессии историк, занимался «Хроникой». Человек сухой и точный, безусловно честный, однажды на дне рождения Софьи Васильевны записал голоса гостей — каждый что-то рассказывал о себе. Записал, не спрашивая разрешения у присутствовавших, «для истории». Запись была изъята у него на обыске. Об этом случае много спорили тогда. Мне лично казалось, что он не так уж виноват, просто идиотское стечение обстоятельств, но Софья Васильевна была непреклонна: «Это неэтично. Попала запись куда-то или не попала, вопрос другой, не это важно. Он не имел права без согласия людей что-то записывать!»
В то время ходили по рукам «самиздатские» пособия по поведению на допросах (Альбрехта, Виньковецкого и еще какие-то). В одном из них была дана формулировка: «Я не могу ответить на этот вопрос из морально-этических соображений». Формулировка эта вызвала у меня (и не только у меня) пионерский восторг, что безмерно удивляло Софью Васильевну: «Ну что вас так восхищает? Вы что, сами не понимаете, что не ответите на этот вопрос и именно из-за морально-этических соображений?» Как было ей объяснить, что не ответить, конечно, не отвечу, но… почему? Потому что «морально-этические соображения» — казалось очень здорово и ново.
Мы никогда не беседовали на темы религии. Я не знаю, полагала она себя человеком верующим или нет. Но к Софье Васильевне очень подходит вот эта фраза: «Неси свой крест — и веруй». Просто, без надрыва и аффектаций. Тихо.
А. Алтунян О Софье Васильевне
Весной 1981 г. я пришел домой к Софье Васильевне рассказать о суде над моим отцом Г. О. Алтуняном. Процесс проходил в марте 1981 г. в Харьковском областном суде под председательством Чернухина. Отца обвинили по статье 62 УК УССР (соответствует статье 70 УК РСФСР) и приговорили к 7 годам лагерей строгого режима и 5 годам ссылки. Я хотел посоветоваться о кассационной жалобе. Дело у отца было явно липовое, обвинения глупыми, а следствие и суд допустили такое число нарушений, что грамотно составить кассационную жалобу мы считали необходимым: а вдруг когда-нибудь кто-нибудь обратит внимание на вопиющие нарушения норм… На официального адвоката Кораблева из харьковской коллегии мы не очень надеялись. Софья Васильевна особо интересовалась его позицией. Когда мы ей стали говорить, что адвокат вел себя вполне прилично, она сразу спросила: «Но он сформулировал, что обвиняемый невиновен?» — «Нет, так сказано не было». (Кораблев строил свою защиту на отрицании умысла свержения строя, то есть на сведении обвинения к статье 187 УК УССР, соответствующей статье 190 УК РСФСР, где наказание было до трех лет лагерей.) — «Ну, так и говорить не о чем». По ее мнению, адвокат не сделал того, что обязан был сделать.
Итак, я рассказывал о суде, она слушала, комментировала. Неточности моих формулировок мешали ей понять, есть ли нарушения. Тут я в свою очередь понял, что ее интерес не просто «сочувственный», что она хотела разобраться в деле. Отца моего, отсидевшего уже в 1969–1972 гг. по статье 187 УК УССР, она, конечно, знала. Как знали друг друга почти все участвовавшие в правозащитном движении, но желание помочь было вызвано не близким знакомством, а, скорее, глубоким уважением к правозащитникам, достойно прошедшим через следствие и суд, профессиональной потребностью защитить несправедливо обвиненного.
Я написал Софье Васильевне на листке бумаги (обычная предосторожность от подслушивания — мне, конечно, не хотелось, чтобы наша запись суда пропала при обыске), что у нас есть довольно полная запись хода судебного заседания: на прошедшие тогда в Харькове три процесса по статье 62 УК УССР (над отцом, Евгением Анцуповым и Анатолием Корягиным), хотя и неохотно, но пускали не только родственников, но и друзей. Поэтому у нас была возможность после каждого заседания суда восстановить его по памяти. Через некоторое время наши друзья, Женя и Инна Захаровы, расшифровали записи, а затем переправили их за границу. Позже мы узнали, что в Америке вышла небольшая книжка о процессе отца.
Софья Васильевна сказала, что если я принесу ей эту запись, то она попытается на ее основе составить кассационную жалобу. Через несколько дней после ее получения мы встретились на Чкалова у приехавшей из Горького Елены Георгиевны Боннэр (тогда ей еще разрешали ездить в Москву). Софья Васильевна отдала мне пачку исписанных листов и с каким-то, как мне показалось, мучительным раздражением от собственной беспомощности сказала: «Больше я ничего не могу сделать». Жалоба была составлена очень тщательно и квалифицированно. Все дальнейшие наши письма, жалобы, касавшиеся пересмотра приговора, мы писали, исходя из нее. Я стал бывать у Софьи Васильевны то часто, то редко, примерно, раз в один-два месяца.
Как-то в разговоре (это было в ноябре 1984 г.) она упомянула, что все больше диссидентов, в основном заключенных, приходит к мысли о бесполезности противостояния и что она тоже прекратила свою деятельность, все это «в одном русле». Потом сказала про Андрея Дмитриевича Сахарова, что он для нее моральный, нравственный авторитет (кажется, сказала, «недосягаемый»). Она казнилась: «Надо что-то сделать, чтобы умирать вместе с ним…»
Несколько раз она просила передать отцу и «другим» (имелись в виду заключенные), чтобы они не усугубляли своего положения «не необходимыми» протестами, не объявляли голодовок, подрывающих здоровье, а старались с наименьшими потерями досидеть свои сроки и выйти на свободу. Казалось, что противостояние произволу лагерной (тюремной) администрации по большей части не приносит пользы и даже вызывает новые репрессии. Попытки передать информацию на волю обычно тоже приводили к новым репрессиям. Так была арестована в Киеве Раиса Руденко — жена политзэка Миколы Руденко, поэта, инвалида войны — после публикации на Западе его тюремных стихов. И тем не менее именно в политических зонах (сужу по своему отцу и его тамошнему окружению) взгляд на будущее был отнюдь не безнадежным, ждали изменений.
Софья Васильевна как-то сказала мне: «Не увлекайтесь защитой отца (имелось в виду — не делайте того, что может повлечь за собой арест). Вот Ваня Ковалев, сын Сергея Адамовича Ковалева, тоже начал с защиты своего отца» (ко времени нашего разговора он был уже арестован за «антисоветскую деятельность»). К людям, осознанно продолжающим противостояние властям и достойно переносящим последствия этого противостояния, у нее было двойственное отношение: ведь губят себя! — и безусловное восхищение.
Разговаривать с Софьей Васильевной было в это время непросто. Любые общие темы об обстановке в стране, о положении в экономике, о том, как «все плохо», очень быстро исчерпывались двумя, тремя ее четкими фразами о полном развале. Зато любая тема, где речь шла о попытках пробиться сквозь отупляющее безразличие, — о директоре колхоза в Белоруссии, придумавшем, как убирать хлеб с залитого водой, топкого поля, о каких-то интересных лекциях, анекдот, рассказанный в подмосковном леспромхозе, — вызывали неподдельный интерес. Как-то в присутствии одной знакомой, жены политзэка, я рассказывал об ансамбле Покровского, теперь очень известном, а тогда они, начинающие, непризнанные, устраивали по пятницам в клубе «Дукат» открытые представления, заражая своей энергией, напором. Софья Васильевна слушала почти с радостью: жизнь не останавливается, упорство и умение побеждают. Гостья заметила, что она вот тоже всю жизнь хотела научиться петь, но… «Если бы хотела, то и научилась бы», — резко ответила Софья Васильевна.
Даже в 80-е трудные годы в Софье Васильевне чувствовалась устойчивость, сила. Мне казалось, что основа этого была «профессиональной»: она умела постоять за то, что считала истиной, и умела достигать намеченных целей. И хотя в советском правосудии это было почти невозможно, но вот на долю таких, как она, и доставалась разница между «невозможно» и «почти». Эти профессиональные удачи, когда удавалось убедить суд в своей правоте, изменить часто заранее подготовленные приговоры, давались дорогой ценой.
При всех сложностях, опасностях ей нравились спор с жизненными обстоятельствами, отстаивание своего права на достойное существование. Как она радовалась, когда после свидания с отцом я рассказывал ей, что в Чистопольской тюрьме политзаключенные после мучительной борьбы добились очень важных вещей: в карцере настелили деревянный пол (был бетонный), заключенный стал считаться «приступившим к работе», если успевал связать одну-две сетки (норма — восемь) — до этого, чтобы не подвергаться репрессиям за «отказ от работы», надо было выполнить хотя бы половину нормы.
Наш разговор, если не было каких-то дел, начинался так: «Ну, что пишет папа?» Я рассказывал то, что знал из писем, от приехавших со свиданий родных, — о каких-то новостях в трех пермских, двух мордовских зонах, в Чистопольской тюрьме. Обычно это было перечисление посаженных в карцер, отправленных в Чистопольскую тюрьму, объявивших голодовку, отказов во врачебной помощи, избиений, лишений ларьков, свиданий. Она мрачнела, курила, утыкалась подбородком в кулак.
— Ну хорошо, а что папа?
Я рассказывал.
— Ну и что вы собираетесь делать? — спрашивала она с какой-то резкой требовательностью, и казалось, ждала ответа, чтобы опровергнуть.
Нового не придумывалось, — все известное: поход в Главное управление исправительно-трудовых учреждений, письма и жалобы в многочисленные инстанции и т. д. А Софья Васильевна говорила: «Письмо в… бесполезно, это не та инстанция. Попробуйте туда-то, хотя вряд ли что-нибудь выйдет. Потом расскажете». Бывали и неожиданные ходы: каким-то образом родственникам политзаключенного Миши Ривкина, сидевшего сначала в Барашево (Мордовия), а потом за отказ снимать шапочку (он придерживался еврейских обрядов) переведенного в Чистопольскую тюрьму, удалось узнать телефон начальника зоны в Барашево. Я дозвонился и даже поговорил с начальником: почему нет писем, почему лишение свидания и т. д. Он, может быть от неожиданности, не оборвал разговора. Софья Васильевна была довольна.
…И все же ситуация изменилась. 8 декабря 1986 г. в Чистопольской тюрьме умер Анатолий Марченко, а через несколько дней по радио передали об освобождении А. Д. Сахарова. Весной 1987 г. Софья Васильевна вместе с А. Д. Сахаровым писали политзаключенному Алеше Костерину (Смирнову), что ситуация на воле изменилась, и уговаривали его не отказываться от заявления о пересмотре дела. Вообще же Софья Васильевна в вопросах «заявлений» была достаточно жесткой, себя она казнила, что отказалась от активной деятельности, других старалась не осуждать, но публичного покаяния не прощала.
Когда весной 1987 г. стали выходить политзаключенные, попадая в Москву, они считали необходимым зайти к ней, как и к А. Д. Сахарову. Это были родные ей люди: практически всех, даже если и не лично, она знала много лет, почти за всех она много раз заступалась в обращениях к властям, к международной общественности.
К счастью, она дожила до этих дней.
Ф. Кизелов Мой редкостный друг
Мне посчастливилось появиться на улице Воровского в начале ноября 1980 г., и полное взаимопонимание с Софьей Васильевной возникло сразу, а вскоре наше деловое сотрудничество переросло в истинную дружбу.
Работать с Софьей Васильевной было удивительно просто и приятно. Она часто звонила и говорила: «Ф.Ф., вы мне нужны. Не заглянете ли тогда-то и тогда-то?» И я ехал, садился за пишущую машинку, и начиналось составление проекта очередного документа Московской Хельсинкской группы. И это были лучшие, незабвенные времена моей жизни… Почти все (за исключением одного или двух) документы Московской Хельсинкской группы с 158 и до самого последнего были написаны нами совместно. Софья Васильевна никогда не настаивала категорически на тех или иных формулировках, если мне удавалось предложить какие-либо иные, при условии достаточно логичной и убедительной аргументации. Между нами никогда не было «баталий» по пустякам, которые, например, регулярно затевал профессор Наум Мейман при обсуждении окончательного варианта документов.
24 декабря 1981 г. у Софьи Васильевны сделали обыск — изъяли архив документов Московской Хельсинкской группы, который я к тому времени с величайшим старанием привел в идеальный порядок, чемодан писем академику Сахарову с составленными ею ответами, старую добрую пишущую машинку «Ундервуд», на которой были напечатаны большинство документов Софьи Васильевны в бытность ее практикующим адвокатом и многие документы группы. Смешно, но мне хочется надеяться, что когда-нибудь эту машинку удастся найти и вернуть, и будет она достойным экспонатом музея российского антитоталитарного движения, музея памяти тех, кто осмеливался сопротивляться в те времена, когда малейшие попытки сопротивления стоили карьеры, свободы, а иногда и жизни…
Первая моя реакция на известие об обыске у Софьи Васильевны была — не может быть, не посмеют!.. Посмели… А вторая — ужас при мысли, что ее, в весьма солидном возрасте, могут схватить, посадить в тюрьму, лишить нормальной медицинской помощи, сослать, словом — убить… К этому моменту она была для меня не просто членом Московской Хельсинкской группы, не просто выбранным мною самим «начальником», при котором я с усердием выполнял обязанности секретаря и сотрудника, но, несмотря на солидную разницу в возрасте, Софья Васильевна стала моим другом, родным и близким человеком. И страх охватывал меня при мысли, что ей грозит смертельная опасность.
— Что же делать дальше? — спросил я у Софьи Васильевны. — Ведь вас убьют!
— Будем работать, — последовал ответ, мягкий, но непреклонный.
Аресты продолжались, ЧК-ГБ планомерно «выкашивало» всех, кто хоть как-то сопротивлялся всеобщему оболваниванию. И суды, вернее, пародия на них, продолжались, однако приговоры выносили не комического свойства. Помимо традиционных судов, начали давать вторые сроки непосредственно в лагерях и тюрьмах — тем, кто, по мнению властей, «не проявил признаков исправления», то есть не терял человеческого достоинства в нечеловеческих условиях заключения. И шли документы Московской Хельсинкской группы — арест такого-то, суд над таким-то… и конца не было видно… Стучала машинка на улице Воровского, на втором этаже старинного дома, и плавали клубы табачного дыма под высоким потолком.
Весной 1982 г. грянул новый обыск. Но это было еще продолжение «увертюры». Обыски проходили по чужим «делам». На сей раз среди других и меня не обошли вниманием — явились спозаранку. Квартиру перетряхнули не слишком внимательно для первого раза, многое не нашли, но и того, что откопали, вполне хватило бы на «5 + 5», то есть для получения пяти лет лагерей и пяти — ссылки. После обыска повезли на допрос. На их вопросы я не отвечал, ссылаясь на то, что все изъятые материалы не могут иметь отношения к какому-либо уголовному делу, а вот уважаемый следователь Московской городской прокуратуры Андреев на мой вопрос: «По какому уголовному делу вы меня допрашиваете в качестве свидетеля?» — ответил: «По делу Софьи Васильевны Каллистратовой, обвиняемой по статье 190-1 УК РСФСР (распространение клеветнических измышлений, порочащих государственный и общественный строй)». У меня все внутри оборвалось — «Посмели!» Я декларировал и записал в протокол допроса собственноручно: «Считаю возбуждение уголовного дела по статье 190-1 УК РСФСР против С. В. Каллистратовой незаконным, принимать какое-либо участие в творимом беззаконии отказываюсь и требую привлечь лиц, ответственных за возбуждение уголовного дела против заведомо невиновного, к уголовной ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса».
Как только я вышел из здания прокуратуры, позвонил Софье Васильевне, поехал к ней и рассказал сию печальную историю. Она полушутя-полусерьезно прокомментировала: «Пора сушить сухари…», или как-то в этом роде, не берусь воспроизвести ее точный ответ.
Шел 1982 г. — год Варфоломеевских ночей и дней, уже повальных арестов не только тех, кто говорил и писал достаточно громко, но и тех, кто пытался что-то делать в узком кругу, предавался графомании на запрещенные темы, читал и давал почитать «самиздат» и «тамиздат», просто был близко знаком с теми, кто действительно что-то делал. Работа продолжалась. И снова вереницы очередных документов Московской Хельсинкской группы, и Софья Васильевна в своем неизменном кресле — мягкая, доброжелательная и непреклонная — молча на пулеметы… Правда, призналась мне как-то, что живет относительно спокойно, но только по субботам и воскресеньям, в будние дни ждет, что придут и отвезут… (в те времена аресты по выходным дням не практиковали).
Летом 1982 г. было относительное затишье — перед бурей. Кое-кого из тех, кто еще не был арестован, благополучно выдворили на Запад, милостиво (а иногда довольно настойчиво) разрешив выезд.
Страшное наступило в конце августа. У Софьи Васильевны устроили очередной обыск, вернее, целых два — на Воровского и на Юго-Западе, где она жила у дочери, и вызвали в Московскую городскую прокуратуру. Следователь Воробьев предъявил обвинение — допрашивать и не пытался, так как Софья Васильевна отказывалась разговаривать. После этого она посетила меня в Малом Вузовском переулке — первый и, увы, последний раз. Чуть позже мы отправились на улицу Чкалова, где ждала нас приехавшая из Горького Е. Г. Боннэр. Народу было довольно много. Софья Васильевна в деталях рассказывала о пунктах предъявленного обвинения, а мы писали очередное информационное сообщение теперь уже о ней. Все было ясно, но постичь сердцем я этого не мог. Ибо в диссидентских кругах не было у меня более близкого человека. Тогда же было принято решение объявить о самороспуске Московской Хельсинкской группы. Был составлен последний документ.
На 10 сентября Софью Васильевну вызвали в Московскую городскую прокуратуру для чтения дела (в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР). Я должен был ее отвезти, но рано утром ко мне явились с очередным обыском. Больше всего я переживал, что не смогу заехать за Софьей Васильевной, как обещал, но она поняла: если меня нет в назначенное время, — значит, либо обыск, либо арест. Рылись в моей квартире основательно, но львиной доли бумаг все-таки не нашли (научился я к тому времени основательно прятать рукописи). Часам к одиннадцати утра, через три часа после начала обыска, обнаружили копию последнего документа Московской Хельсинкской группы. И, видимо, очень обрадовались. Звонили по телефону из квартиры, бегали звонить из автомобиля и т. д. Как потом выяснилось, Софья Васильевна была уже в это время у следователя со своим адвокатом и начинала читать дело. Вдруг, после короткого отсутствия, следователь извинился за беспокойство и заявил, что следствие по делу прекращено на неопределенное время и все могут быть свободны. «Дело» так и не возобновили, а я по-прежнему бывал у Софьи Васильевны, встречаясь с ней просто по-дружески, и делился своими заботами. Информация о советских безобразиях на Запад все равно шла, и по-прежнему на улицу Воровского было паломничество жаждущих и страждущих… И по традиции день рождения моей дорогой Софьи Васильевны 19 сентября бурно отмечался всей диссидентской Москвой — море цветов, признательности и любви со стороны тех, кому посчастливилось ее знать…
Пять лет спустя, в ее восьмидесятилетие, я прилетел в Москву из своего четырехлетнего самоизгнания и был счастлив снова ее увидеть, обнять и расцеловать. А она была необычайно рада и счастлива увидеть многих из тех, кого и повидать уже не надеялась, кто вышел из тюрем и лагерей, с честью выдержав эти страшные испытания…
Перед моим отъездом на Запад я несколько раз виделся с Софьей Васильевной, хотя приехал в Москву всего на две недели. В последний раз мы повидались накануне моего вылета и не могли сдержать слез, хотя я был уверен, что мы еще встретимся… Не встретились… Но пребывает она незримо со мной постоянно и согревает своей любовью из глубин вечности…
Вунсокет, СШАТ. Самсонова Как нам вас не хватает!
Трудно писать о человеке, которого очень любишь и которого уже не стало с нами. Не посидишь, не поговоришь, не отдохнешь душой. А нам, в наш суровый век, этого всего очень и очень не хватает…
О Софье Васильевне я узнала в конце 60-х гг. В марте 1970 г. арестовали моего мужа (П. М. Егидеса. — Сост.) за рукопись о вторжении наших войск в Чехословакию, и я бросилась в отчаянии искать адвоката. Первая встреча наша была заочной. Я узнала, что есть прекрасный адвокат Софья Васильевна Каллистратова, которая защищает политических, но… сейчас она больна. Так Софья Васильевна стала для меня адвокатом-легендой. О ней говорили словами, выражающими лишь превосходную степень, — умнейшая, талантливейшая, сердечнейшая, бескорыстнейшая.
А я, отчаявшаяся женщина, не имела возможности с ней договориться, но в мое, тогда очень уязвимое болью сердце она запала на всю жизнь.
Позже наше знакомство состоялось. Оказывается, она была рядом. В доме, где мы жили, по улице Удальцова, она бывала не только часто, но, по сути дела, там-то она и проводила большую часть своего времени, ибо в нашем доме жили ее дочь и внуки. В то время у нее и у меня, почти одновременно, появились внучки, у нее младшая — Галя, а у меня первая — Настя.
Галя и Настя подрастали, а мы с ними гуляли в одном дворе и встречались друг с другом как две бабушки — бабушка Гали и бабушка Насти. Так началось наше знакомство. Однако мы еще не догадывались, кто есть кто. Лишь встретившись у супругов Григоренко, мы по-настоящему нашли друг друга. И как же было радостно: рядом с тобой в одном доме живет родственная тебе душа, адвокат-легенда, чудесный человек.
А потом, потом… состоялось мое маленькое чудо. Видимо, у каждого оно случается в жизни. У меня оно связано с Софьей Васильевной. В ее лице, в наших дружеских отношениях с ней я обрела то, что делает прожитую жизнь осмысленной. Я не фиксирую свою жизнь — жила, работала, радовалась и страдала, что-то удавалось, что-то нет, как у многих. Но для меня главное кого я встретила на своем жизненном пути и кем они стали для меня. Софья Васильевна одна из тех немногих, кто стал для меня очень большим событием, светлым даром. Сначала я восхищалась, потом обрела силу, от нее исходящую, теперь — огромное желание в пожилом возрасте дойти до конца жизни с таким же достоинством, как это сумела Софья Васильевна.
День, который запомнился навсегда: 22 января 1980 г. Вечером ко мне вбежала дочь и закричала: «Мама! Андрей Дмитриевич арестован!!!» — «Не может быть», — ответила я и немедленно поднялась этажом выше, где жила Софья Васильевна. С этой минуты мы до самой поздней ночи не отходили от приемника, слушали разные «голоса». А они путались: арестовали, выслали на Запад, вот он уже в Вене… И, наконец, поздно ночью сказали, что Андрей Дмитриевич отправлен в ссылку в город Горький. Софья Васильевна глубоко вздохнула и сказала: «Завтра будут обыски…» Я схватилась за голову, так как моя квартира была полна материалами нашего «самиздатского» журнала «Поиски». Внук Софьи Васильевны Дима сказал: «Вот вам, Тамара Васильевна, рюкзак, идите, все соберите…» Поздно ночью все, что хранилось в моей квартире, было унесено и сохранено. Как я потом была рада… На следующий день утром за мной на работу приехала черная машина и увезла меня на обыск, а брать было почти нечего.
Софья Васильевна вела, казалось бы, будничную жизнь пожилой женщины. Но это была незаурядная жизнь человека, нашедшего в себе силы противостоять партийно-государственному монолиту, не дрогнув, не прячась за слова «А что это даст?» или им подобные.
Вскоре мне пришлось с ней расстаться, так как я вынуждена была вслед за мужем покинуть свою страну. Позади осталась вся жизнь, дети, родные, друзья. Многим из них тогда грозила опасность, и потому самочувствие мое было отчаянным. Потекли дни эмиграции, заполненные ностальгией, страхом за родину, за своих близких, за Софью Васильевну.
Через десять лет мы вновь встретились… В конце 1988 г., буквально на Новый, 1989 г. нам разрешили приехать, посетить свою страну, родных, друзей. Все мое существо полыхало радостью… А когда я шла к дому Софьи Васильевны, считала секунды до встречи — вот сейчас увижу! Боже мой! Неужели это правда? Это была правда. Шла перестройка.
Софья Васильевна в основном приняла ее принципы, хотя и не без скептицизма относилась к их осуществлению. Я бы назвала это позицией исторической перспективы, с которой в свое время она рассматривала, вместе с Андреем Дмитриевичем Сахаровым, нарождавшееся правозащитное движение. Сейчас, когда нам всем так трудно, когда демократия пробивается через тернии, ее опыт был бы незаменим…
Милая, милая Софья Васильевна, как многим вас не хватает!!!
ПарижЕ. Арманд За всех заступница
Софья Васильевна Каллистратова — фигура значительнейшая в истории сохранения человеческой нравственности. Генерал Григоренко говаривал, что кроме С. Каллистратовой и Д. Каминской ни одного мужика в адвокатуре нет. Он назвал их на свой манер; на востоке сказали бы «шатри», на западе «рыцари». Рыцари без страха и упрека.
Профессия адвоката была одной из самых рискованных. На первых порах диссидентства эти две женщины выступали еще в судах, но вскоре были лишены допуска к политическим процессам. Потом Каминская эмигрировала, Каллистратова же осталась.
Мы все теснились к ней, тяготели к тому горнему воздуху, который она создавала. По-видимому, еще и чувствовали себя защищеннее (как дети) рядом с ней. Ходили к ней с бедами, конфликтами с властью, вопросами, нуждающимися в моральной и правовой оценке, и, по велению души, на семейные праздники. Толпа собиралась большая — все диссидентство со всего Союза. Она была его негласным, бессменным, бесплатным, блестящим юристом. Практически само знакомство с ней было криминалом и реальной опасностью в государстве госбезопасности. Горний дух ее ощущали даже органы, за ней бдящие, и, думаю, шерсть на загривке у них вставала дыбом. Мы же чувствовали к ней благоговение.
Это была старая, очень больная женщина, замученная (но не замордованная) неистовыми и возлюбленными внуками и правнуками. И, наших судеб печальница, держала она каждую на своих плечах.
Один раз я спросила у Софьи Васильевны, бывали ли в прежней ее практики случаи расстрела. Она сказала, что не один. Вот, например, фальшивомонетчик, совсем юный и глупый — не было и двадцати. Остались они с сестрой сиротами, жили вдвоем и хотели куда-то уехать. Он делал «красненькие» и попался, решив выпить кружку кваса. Продавец схватился за десятку мокрой рукой, и краска поплыла.
Следствие искало печатный станок, но не нашло. Следователь не мог поверить, что мальчишка рисует десятки от руки. Наконец парень сказал, что у него на чердаке краска и кисти, ему принесли их. Он нарисовал полдесятки, а дальше бросил: «Надоело!» Пришлось поверить. Феноменальный график! Всего этих десяток он нарисовал шесть, но собирался сделать еще несколько, чтобы хватило на отъезд.
Перед заседанием суда Софья Васильевна взяла из материалов следствия одну фальшивку и, перехватив спешащего прокурора, попросила его разменять. Прокурор ей дал две пятерки, а красненькую убрал в бумажник… Строила она свою защиту на том, что мальчик очень талантлив, что если его учить, он пойдет и пойдет, и не деньги будет рисовать — это пройденный этап… Дали ему чуть ли не условно.
Через месяц-два случилось шумное валютное дело. Хрущев издал закон «Об особо важных государственных преступлениях». В запале и не разбираясь, он крушил «всяких там валютчиков, фарцовщиков, фальшивомонетчиков». Мальчишку расстреляли. Хотя закон обратной силы не имеет, но «пусть поимеет» — решил кто-то Хрущеву угодить. (О фальшивомонетчиках ни раньше, ни позже никто не слышал…)
Спросила я, считает ли она, что есть преступления, достойные наказания смертью? И сколько людей вовлечено в казнь?
— Видите ли, назначает «высшую меру» судья. Подписывают приговор заседатели, присутствует (если процесс открытый) публика. Кто-то содержит под стражей — начальник тюрьмы, охрана, надзиратели. Транспортируют тоже несколько человек. Когда приводят в исполнение, кроме палача там присутствуют врач и прокурор. А обслуге — убирать, мыть… В каждом расстреле принимает участие сто, двести человек или больше. Убийство — это не то, что делится на малые части. Убийцей становится каждый из участников…
И. Бурмистрович Несколько штрихов к портрету
Я познакомился с Софьей Васильевной вскоре после освобождения из заключения, где находился с мая 1968 по май 1971 г. по статье 190-1. Одно из первых моих воспоминаний о ней относится, вероятно, к осени 1971 г. Софья Васильевна находилась в больнице со своеобразным название «имени Медсантруд», недалеко от станции метро «Таганская». Я поехал ее навещать и нашел во дворе больницы на скамейке вместе с Ириной Белогородской, которая тоже ее навещала. Разговор зашел о моем уголовном деле. Некоторые моменты этого «дела» вызывали у меня особое возмущение. Например, такой пассаж из характеристики, которую по запросу КГБ написали в Государственной библиотеке иностранной литературы, где я проработал три месяца: «Использовал помещения библиотеки для встреч с женщинами». Я жаждал привлечь авторов к уголовной ответственности за клевету. Изложив Софье Васильевне это и ряд других своих соображений, я сказал, что хотел бы пройтись по следам своего «дела». Софья Васильевна меня отговаривала, видимо, опасаясь, как бы этот поход не кончился новым «делом». Из всех ее аргументов я запомнил только такой: «Ну зачем все так серьезно воспринимать? Использовал помещения библиотеки для встреч с женщинами? Прекрасно, значит, не импотент!»
В этом же разговоре я жаловался Софье Васильевне на своего адвоката Ю. Поздеева. Он отказался просить в суде моего оправдания за отсутствием состава преступления (на чем настаивал я), а просил оправдания ввиду недоказанности обвинения. Он обосновывал свою позицию тем, что вынужден исходить из вступившего в силу приговора Верховного суда РСФСР, которым были осуждены распространявшиеся мною произведения, а я заявлял, что в моих действиях не было распространения заведомо для меня ложных измышлений. Кроме того, он упомянул в своей речи заключение из Института им. Сербского, что я, хоть и вменяем, но все же не совсем здоров. Объясняя поведение Поздеева, Софья Васильевна сказала, что после защиты К. Бабицкого (процесс над участниками демонстрации на Красной площади в августе 1968 г.) он стал очень популярен, к нему подходили незнакомые люди — поблагодарить и пожать руку. Это вскружило ему голову. Кроме того, он член партии.
* * *
Однажды Софья Васильевна сказала, что при Сталине в судах была законность, а репрессия шла по внесудебной линии. Беззаконие в судах началось позднее.
* * *
О Сталине. В разговоре с Софьей Васильевной я пытался констатировать его чисто психологические свойства, вроде хорошей памяти. Софья Васильевна категорически отказалась слушать о Сталине что бы то ни было такое, что воспринимается как положительное.
* * *
Взгляды Софьи Васильевны на проблему смертной казни хорошо известны. Еще несколько штрихов. Как-то я описал ей со слов зэка сталинских времен реальную ситуацию: сидит в лагере зэк-уголовник со сроком 25 лет. Смертная казнь тогда была отменена. Он отсидел два года и кого-то убил. Его судят, дают 25 лет, то есть он в результате получает на два года больше, чем к тому времени имел. Ему это безразлично. Через какое-то время он убивает еще кого-то — с тем же результатом, опять немного увеличивает свой срок. Его жертвы совершенно беззащитны. Насколько я помню, тогда Софья Васильевна согласилась с правомерностью смертной казни в этой ситуации. Но когда через какое-то время я напомнил ей этот разговор, она свое согласие отрицала. Зато согласилась с тем, что за особо тяжкие преступления можно ввести пожизненное заключение. Я привел — в порядке обсуждения — еще какой-то довод за смертную казню, но Софья Васильевна сказала: «Если вы будете защищать смертную казнь, я вам не подам руки». И привела тот довод против смертной казни, который считала главным: никогда нет полной уверенности, что это не ошибка, нельзя исключить, что обвиняемый невиновен. Я ее спрашивал: была бы она против смертной казни Гитлера? «Да», — отвечала она.
Она привела пример, как защищала одного молодого парня, совершившего убийство, добилась, что он не был приговорен к смертной казни. Он отсидел срок, выучился, (кажется, на детского врача) и принес много пользы.
* * *
Софья Васильевна с большим возмущением рассказывала такой эпизод. К ней многократно обращались за консультацией люди, которых не прописывали в Москве, хотя они (и Софья Васильевна тоже) считали, что у них есть право на прописку. Она ездила в соответствующую инстанцию (УВД г. Москвы) и спрашивала, какими юридическими нормами они руководствуются при решении вопроса о прописке, что ей отвечать этим людям? Ответ был такой: «А вы присылайте их к нам, мы сами разберемся, кого прописывать, а кого нет». Софья Васильевна рассматривала этот ответ как образец правосознания чиновников госаппарата.
* * *
Софью Васильевну привлекали или обещали привлечь как свидетеля по уголовному делу, связанному с ее (и других людей) правозащитной деятельностью. Она отрабатывала обоснование своего отказа от дачи показаний. Сначала нашла такое: «Я по этому делу не свидетель», потому что впоследствии станет по нему обвиняемой (дело, кажется, было возбуждено по факту). Несколько раз она при мне повторила с интонацией публичного выступления: «Я по этому делу не свидетель», но я возражал: с чисто формальной точки зрения это не основание для отказа от дачи показаний. Впоследствии она от этого обоснования решила отказаться и, кажется, свой отказ давать показания вообще никак юридически не обосновывать.
Софью Васильевну действительно привлекли потом в качестве обвиняемой. В это время она уже давно была на пенсии, никаких дел официально не вела. Когда в одно из моих посещений уже на прощание она сказала: «Буду готовиться к защите», — это было особенно выразительно — улыбка, но такой тон, будто речь шла о ее обычной работе с обычным уголовным делом…
* * *
Перед одним из своих последних публичных выступлений — это был вечер, посвященный истории правозащитного движения — Софья Васильевна сказала мне: «Если там будет зеленая скука, вы зададите мне вопрос о моем отношении к смертной казни. Это не совсем по теме, но это поможет расшевелить людей». Мне там скучно не было, и вопрос я ей не задал. Потом она это одобрила, потому что считала, что и так очень затянули. Но ей казалось, что публике, в основном молодежи, совершенно не знакомой с людьми, о которых шла речь, было скучно. Софья Васильевна сократила свое выступление. Я очень жалел, когда узнал об этом: я впервые слышал ее публичное выступление, чувствовал, как оно продуманно выстроено.
* * *
На одном из таких вечеров с выступлением Софьи Васильевны она сообщила, что уголовное дело, возбужденное против нее и ранее прекращенное в связи с тем, что «ее деяние потеряло характер общественно опасного», теперь новым постановлением прекращено за отсутствием состава преступления. Это было встречено маленькой овацией.
К появлению этого нового постановления я был косвенно причастен. В январе 1989 г. я добился приема у прокурора г. Москвы Л. Баранова по вопросу о возвращении материалов, изъятых у меня при обыске (между прочим, этот обыск был в день рождения Софьи Васильевны 19 сентября 1980 г., вскоре после обыска у нее. Когда я потом объяснил ей, почему у нее не был, она сказала, что так и подумала). Я по телефону сообщил Софье Васильевне о предстоящем приеме у прокурора. Она продиктовала мне текст своего заявления, я его перепечатал, сам за нее подписал и на приеме у прокурора — вручил. Свой вопрос я до сих пор так и не решил (не могут найти изъятые материалы), а вопрос Софьи Васильевны был решен. У меня сохранился текст этого заявления, он достаточно выразительный.
Можно предположить, что долгожданное постановление составлено задним числом. Оно датировано 9 декабря 1988 г. — ровно через месяц после жалобы Софьи Васильевны, то есть ровно в тот срок, который положен по закону для ответа. Между тем в заявлении, которое она мне продиктовала по телефону (его дата 21 января 1989 г.), говорится, что прокуратура г. Москвы не отвечает на эту жалобу в течение двух с половиной месяцев.
* * *
Я очень любил слушать рассказы Софьи Васильевны о делах, в которых она участвовала, в частности, несколько раз с неизменным азартом она при мне рассказывала о деле П. Г. Григоренко. Каждый такой рассказ был почти что художественным произведением. Я несколько раз просил Софью Васильевну записать свои воспоминания, она неизменно отказывалась. «Писатель, говорила она, — тем и отличается от неписателя, что писатель напишет, а неписатель — нет. Я — неписатель».
* * *
Однажды я прочел в какой-то газете предложение к адвокатам-пенсионерам сдать на хранение (для истории) свой архив. Я сообщил об этом Софье Васильевне. Она сказала, что не хочет.
Часто бывая в книжных магазинах, я старался сообщать Софье Васильевне о новинках юридической литературы и иногда покупал по ее просьбе книги. При первой такой покупке я не хотел брать у нее деньги. Тогда она сказала, что больше не будет просить меня покупать книги. «И мы оба окажемся в глупом положении», — заметил я. С этим она полностью согласилась. Больше я не пытался отказываться от денег.
Иногда я сообщал Софье Васильевне о новых юридических актах, опубликованных в журналах, которые мне попадались (хотя и нерегулярно), а ей после ухода на пенсию знакомиться с ними было затруднительно. Последнее мое сообщение касалось законодательства об исполнении судебных решений.
Я знал, что Софья Васильевна весьма интересуется исправительно-трудовым законодательством. Когда уже в «перестроечные» времена стало известно, что это законодательство будет меняться, она надеялась как-то повлиять на него. Я однажды заинтересовал ее промелькнувшим в газете сообщением, из которого следовало, что подготовлен проект нового исправительного закона (вероятно, общесоюзных Основ такого законодательства). Этот проект был напечатан в каком-то издании для служебного пользования, при которое она раньше не слыхала, и, насколько я знаю, в открытой печати не появился до сих пор. Еще до этого разговора она спросила, нет ли у меня литературы по русскому дореволюционному законодательству на эту тему. У меня такой литературы не было, зато она взяла у меня уголовно-исполнительный кодекс Польши и несколько других аналогичных кодексов восточноевропейских стран.
Уже будучи тяжело больной, Софья Васильевна сказала по телефону, что больше не будет заниматься вопросами исправительного законодательства — не сможет.
По делу Гдляна и Иванова Софья Васильевна сказала (передаю не дословно): «У меня нет сомнений, что они нарушали уголовно-процессуальный закон. Но когда я только начинала работать, мне объяснили (здесь она назвала того, под чьим началом она тогда работала), что если бы мы в точности выполняли уголовно-процессуальный закон, мы бы до конца не довели ни одного дела».
* * *
Однажды Софья Васильевна спросила у меня: «Ну, как вам нравится офонарелый Арбат?» Ей он не нравился.
* * *
На один из дней рождения Софьи Васильевны я подарил ей книгу Пантелеймона Романова, изданную в Туле. Подарок оказался удачнее, чем я рассчитывал. Тогда Романова только начали переиздавать после долгого перерыва, а Софья Васильевна знала его давно и обрадовалась встрече с писателем своей молодости.
* * *
От Софьи Васильевны я, как и многие другие, часто получал информацию о различных событиях, представляющих общественный интерес. Причем информация, исходившая от нее, была всегда достаточно надежной.
Однажды Софья Васильевна рассказала о судебном процессе (кажется, на Урале), когда судили человека, который, вернувшись от газетного киоска, сказал своей соседке: ««Правды» нет, «Россию» продали, остался только «Труд»». «Но ведь это же старый анекдот!» — ответил я. «Тем не менее судили именно за это!»
Именно от Софьи Васильевны я узнал о присуждении А. Д. Сахарову Нобелевской премии. Помню, с какой радостью она сообщила мне эту новость.
* * *
Незадолго до смерти Софья Васильевна требовала у меня подробностей о выступлении Р. Пименова по теме «История правозащитного движения в СССР».
* * *
Последняя моя встреча с Софьей Васильевной — за один-два месяца до ее смерти — была в больнице. Она была в таком состоянии, что почти ничего не ела, сказала, что не хочет жить, что она уже никому не нужна (то есть никому не может быть полезной). Я пытался ее разубедить. Она и в таком состоянии была нужна — мне, как и, не сомневаюсь, многим другим. И в этот раз она сообщила мне какую-то новость. Ее сознание было совершенно ясным.
Г. Померанц Улыбка понимания
Я мало знал Софью Васильевну, но облик ее остался в моей памяти отчетливее, чем от многих людей, с которыми встречался чаще. Подробностей нет, но каждое впечатление осмысленно, и все они складываются в одно целое.
Первое впечатление определило встречу. Ася Великанова несколько раз повторяла поговорку Софьи Васильевны: «Я люблю актеров на сцене, писателей в обложке, а художников в рамке». За этими словами стоял ум ясный и колючий. Как он сочетался с готовностью броситься на помощь людям, — не знаю. Обычно те, кто хорошо понимают недостатки ближних, не торопятся им помогать. Софья Васильевна — торопилась. Ко многим общественным фактам я могу прибавить еще один — маленький и смешной фактик…
Ася преклонялась перед Софьей Васильевной за то, как она воспитывала больного внука (черта, сближавшая ее с одним из подзащитных — Петром Григорьевичем Григоренко). По Асиной просьбе, мы решили пригласить на елку здоровую ее внучку. К телефону подошла сама бабушка. Услышав, откуда звонят, она с такой тревогой, с такой готовностью спросила: «Что случилось?», — и так это не соответствовало веселому поводу звонка, что случай нам запомнился, рядом с анекдотами 30-х гг. («Не тревожьтесь, говорит человек разбуженному соседу. — Ничего страшного: пожар»). В одном недоразумении обрисовалось и время, и личность.
Третье впечатление трудно сформулировать. Оно связано с циркулярным — в три адреса — письмом Виктора Сокирко, обвинявшего Софью Васильевну Каллистратову, Раису Борисовну Лерт и меня в том, что мы своей позицией поддерживаем «бессмысленное упорство» Валерия Абрамкина и таким образом несем ответственность за его третий срок. Каждый из нас написал ответ, а затем мы собрались вместе, чтобы познакомиться с текстами друг друга и сложить их в запас на случай, если Сокирко свои сочинения опубликует. Запас очень скоро попал в архив КГБ, откуда будущий историк его, возможно, извлечет. Надобности в публикации не оказалось, но я запомнил, что ответ Софьи Васильевны был самым подробным и юридически обоснованным, а мой самым коротким и совершенно без понимания правовых проблем. Что там было, сейчас не помню. Помню чувство неловкости, с которым я подумал, что, кажется, не то написал, а потом обрадовался, когда Софья Васильевна стала восхищаться моим лаконизмом (других достоинств, похоже, в тексте и не было). Слов было сказано немного, и не в словах дело (они могли быть пустой вежливостью), а в тоне, которым что-то было произнесено, и в улыбке. Одна из улыбок, в которой весь характер. Не такая улыбка, как у Татьяны Великановой (у той в улыбке много было детского), не такая открытая: сдержанная улыбка… Сдержанная — и все-таки раскрывавшая способность бескорыстного отклика на Другое. Не только на человеческое страдание. Отклика на другую личность, на другое выражение чувства, на чужой, но верный самому себе стиль. В ней была способность понять Другого (само существование которого — по Ж.-П. Сартру — «недопустимый скандал»).
Когда я вспоминаю Софью Васильевну, то всегда с этой улыбкой.
А. Сахаров Из книги «Горький-Москва, далее везде»
<…> Между тем долгожданный процесс массового освобождения узников совести начался. Сейчас, когда я пишу эти строки (апрель 1987 г.), освобождено около 160 человек. Много это или мало? По сравнению с тем, что происходило до сих пор (освобожденных и обмененных можно пересчитать по пальцам), по сравнению с самыми пылкими нашими мечтами — очень много, невероятно много. Принципиально важно — это НЕ безусловное освобождение узников совести, не амнистия. Тем более это не реабилитация, которая подразумевает признание несправедливости осуждения. Мои опасения оправдались. Судьба каждого из заключенных рассматривается индивидуально, причем от каждого власти требуют письменного заявления с отказом от якобы противозаконной деятельности. То есть люди должны «покупать» себе свободу, как бы (косвенно) признавая себя виновными (а ведь многие могли это сделать и раньше — на следствии и на суде, — но отказались). То, что фактически часто можно было написать ничего не содержащую бумажку, существенно для данного лица, но не меняет дела в принципе. А совершившие несправедливое, противоправное действие власти полностью сохраняют «честь мундира». Официально все это называется помилованием. Никаких гарантий от повторения беззакония при таком освобождении не возникает, моральное и политическое значение смелого на самом деле шага властей в значительной степени теряется как внутри страны, так и в международном плане. Возможно, такая процедура есть результат компромисса в высших сферах (скажем, Горбачева и КГБ, от поддержки которого многое зависит. А может, Горбачева просто обманули? Или он сам не понимает чего-то?). Компромисс проявляется и на местах: как я писал, заключенные часто имеют некоторую свободу в выборе «условных» формулировок. Но много лучше и легче от этого не становится. Однако на большее в ближайшее время, видимо, рассчитывать не приходится.
В эти недели я, Люся, Софья Васильевна Каллистратова, разделяющая нашу оценку реальной ситуации, предприняли ряд усилий, чтобы разъяснить ее стоящим перед выбором заключенным, облегчить им этот выбор. Мы всей душой хотим свободы и счастья всем узникам совести. Широкое освобождение даже в таком урезанном виде имеет огромное значение.
Л. Богораз Как мы добивались амнистии
Когда осенью 1986 г. почувствовалось, что в нашей стране готовятся или даже уже начались какие-то коренные перемены (для меня первой ласточкой-вестницей оказалась демонстрация фильма «Покаяние»), я поделилась своей мыслью о том, что, кажется, становится реальностью возможность всеобщей политической амнистии. Мыслью об обращении по этому поводу я поделилась с двумя людьми — Александром Подрабинеком и Софьей Васильевной Каллистратовой. Как я и ожидала, эта идея нашла у них самую горячую поддержку. Мы долго обсуждали текст нашего обращения в Президиум Верховного Совета СССР. Мы решили отправить его не только в Верховный Совет, но и многим людям — деятелям культуры, науки, имеющим известность, и тем, кого мы — не без оснований — числили в первых рядах нашего, хотя еще и не сформировавшегося, гражданского общества. Мы составили список таких людей. Ко многим из них мы адресовались лично, а остальным разослали призыв поддержать наше обращение, присоединившись к нему или предприняв то, что они сами сочтут нужным сделать в этом направлении.
Мы ждали отклика. Я заранее предполагала, что массовых ответов мы не получим. Всегда скептически настроенная Софья Васильевна предполагала еще худшие, просто нулевые результаты нашего призыва. Первым откликнулся Олег Васильевич Волков — он отправил Софье Васильевне большую статью о политических репрессиях. Софья Васильевна эту статью не получила. Две недели письмо путешествовало неведомо где. Олег Васильевич позвонил мне и возмущался: «Почему вы не получили моего ответа? Я его отправил Софье Васильевне дней десять назад?!» Его письмо пришло на другой же день после этого телефонного разговора.
Еще больше поразил и обрадовал нас отклик Юрия Норштейна. Однажды он пришел ко мне и сказал: «Я не умею писать такие обращения, но я очень хотел бы присоединить свои усилия к вашим. Позвольте присоединиться к вашему письму». Был еще устный отклик одной женщины — не буду ее называть. Она просила простить, что не включается в эту кампанию и не решается поставить свою подпись под нашим обращением: «Поймите меня, мои произведения много лет не печатались. И вот теперь, может быть, они будут напечатаны. Я боюсь спугнуть эту надежду — мне очень стыдно». Меньше всего Софья Васильевна склонна была осуждать такую, как и любую другую, человеческую слабость она, сама никогда, ничего и никого не боявшаяся. Мне хотелось бы надеяться, что я (как и многие другие) переняла у нее эту толерантность по отношению к другому человеку, готовность принять и понять другого таким, каков он есть. Нет, не всякое свойство она хотела понять и принять. Разумеется, не подлость, но также и не фанатизм, не жестокость. Софья Васильевна была настоящим русским интеллигентом: вот, оказывается, сохранились в наше жестокое время (как? каким образом сохранились?) наследники великой русской культуры, впитавшие ее гуманизм, ее сострадательность, ее бескорыстность и широту. Мне Софья Васильевна видится похожей на В. Г. Короленко — всегда готовая прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Не только я испытывала к ней дочерние чувства — как жаль, что я никогда не нашлась, как сказать ей это прямым текстом. Думаю, что ее это порадовало бы: ведь она очень тяготилась своей физической немощью — и еще более тем, что ситуация вынудила ее ограничить свою общественную активность. Это вынужденное формальное ограничение активности происходило вовсе не из чувства самосохранения, а напротив, из высокого сознания долга и ответственности по отношению к семье и к нам, ее друзьям. Ведь она понимала, что ни дочь, ни внуки, ни мы не можем допустить, чтобы ее, восьмидесятилетнюю, тяжело больную женщину судили — и ведь осудили бы! И отправили бы «всего лишь» в ссылку. Случись такое, — на какие крайние поступки решились бы мы все?! Так не себя, а нас оберегала она от грозящей беды. Но ведь то, о чем я сказала «общественная активность», было ограничено по видимости, формально: по существу до конца жизни Софья Васильевна оставалась нашим консультантом. Софья Васильевна, думаю, порадовалась бы теплым, искренним словом, потому, что она сама относилась к нам с материнской любовью и заботой — но, пожалуй, с материнской же требовательностью.
Так я хочу завершить историю нашего обращения о политической амнистии. Когда об этом узнали ее и мои друзья, — сколько помощников нашлось: одни перепечатывали текст обращения (ведь мы отправили не меньше восьмидесяти писем), другие находили нужные нам адреса, отправляли письма. Хочется думать, быть может, кто-то из тех, к кому мы обратились, предпринял собственное действие в этом же направлении, не уведомив об этом нас. А мы и не просили уведомить нас — пусть каждый ответит не нам, а собственной совести. Несмотря на неутешительный жизненный опыт ни она, ни я не потеряли веру в человеческую совесть…
Но вот наступил январь 1987 г. Небольшими группами стали освобождать политзаключенных. Вряд ли это было результатом нашего обращения. Вероятнее, что начало этого процесса ускорила голодовка (с требованием освобождения политзаключенных) и смерть в декабре 1986 г. Анатолия Марченко.
Но как было проведено это новое «мероприятие»!
Даже осознав, видимо, его необходимость и неизбежность, власти не захотели проявить — пусть не справедливость (справедливо бы реабилитировать тех, кто осужден по статьям 70, 100, 142, 227 УК РСФСР), но хотя бы образец милосердия: ведь амнистия — это всего лишь помилование, а не признание вчерашней ошибки или незаконности проводившихся ранее репрессий. Так нет же! У каждого политзаключенного вымогали индивидуальное прошение о помиловании — это было непременным условием освобождения.
«Встань все же напоследок на колени! Тогда, может быть, я тебя — ха! ха! и помилую», — как бы говорила власть своим недавним оппонентам. Некоторые политзаключенные воспринимали такое требование как еще одно унижение и отказывались писать что бы то ни было. Эти оставались в лагерях и тюрьмах.
Я понимала и внутренне разделяла их упорное сопротивление. Софья Васильевна — юрист и правозащитник — лучше, чем я, знала всю противозаконность и античеловечность и осудивших их прежде судов, и нового издевательства, но все же считала возможным передать им через родственников свой совет: «Пусть напишет хоть что-нибудь, ведь, похоже, довольно даже заявления в прачечную». Я спорила с ней, я считала, что каждый сделает трудный выбор сам, что авторитет Софья Васильевны — это тоже своего рода давление. Что касается меня — я, конечно, не вправе, не могу осудить тех, кто напишет просьбу о помиловании, но если кто-то не хочет делать этого, — я тоже не вправе советовать противоположное. Софья Васильевна говорила: «Нет, Лара, это не давление. Но нужно человеку облегчить выбор. Пусть он знает, что его поймут и не осудят друзья». Третий наш соавтор — Саша Подрабинек — был категоричен: кто написал хоть в какой-нибудь форме просьбу о помиловании, тот проявил недостойную слабость, с ним впредь он не будет иметь дело. Такая позиция Саши вызвала у Софьи Васильевны, я бы сказала, недоумение и сожаление. Она считала неуместными и мои старания быть логичной и последовательной, когда речь идет об освобождении человека из тюрьмы, из лагеря. Софье Васильевне куда ближе была добрая мудрость пушкинского Савельича: «Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод… (тьфу!) поцелуй у него ручку».
Все-таки каждый из нас троих получил уникальный документ — тоже свидетельство о начале новой эпохи.
Н. Лисовская Наш друг и советчик
Как мусульман влечет в Мекку, как католиков — в Рим, а христианских и иудаистских паломников — в Иерусалим, так людей, занимавшихся правозащитной деятельностью, влекло к Софье Васильевне Каллистратовой. Она была нашей Меккой и Римом, к ней несли мы свои сомненья и надежды, у нее находили совет и искреннее сочувствие.
Она была преуспевающим адвокатом, под ее крылом выросла плеяда талантливых защитников, но первая же встреча с молодыми людьми, арестованными по политическому делу (разбрасывание листовок), определила ее дальнейший путь — это был путь борьбы за справедливость, помощи тем, кто получил звание «узников совести». Человек решительный и мужественный, Софья Васильевна вошла во второй состав Хельсинкской группы, когда первый состав был полностью разгромлен.
Мне Софья Васильевна представлялась очень занятым человеком, и без дела я пришла к ней всего лишь один раз — это был день нашего знакомства (конец 60-х гг.).
Познакомила меня с Софьей Васильевной Люда Алексеева. Мы проговорили всю ночь до утра, и мне хорошо запомнилось, что она на прощанье сказала: «Вас всех посадят». (Софья Васильевна не была безбрежным оптимистом.) Удивительным образом в отношении нас двоих ее прогноз не оправдался Людмила Михайловна Алексеева была вынуждена уехать за рубеж, а до меня очередь на посадку не дошла — наступила перестройка и то, чем я занималась (помощь политзаключенным и их семьям), стало вполне открытой деятельностью.
Я приведу лишь один эпизод из моих контактов с Софьей Васильевной. У меня был подопечный политзаключенный из Ужгорода — Павел Федорович Кампов. Он преподавал математику в Ужгородском университете и Институте усовершенствования учителей. История его судимости не тривиальна: в 1970 г. при выборах в Верховный Совет УССР в Ужгороде были разбросаны листовки, призывавшие голосовать не за официально выдвинутых кандидатов, а за Кампова и еще троих. Через два дня после выборов Павел Федорович был арестован. Ему была предъявлена статья 62 УК УССР («антисоветская агитация и пропаганда», выразившаяся в распространении листовок; по словам следователя, 20 % избирателей вычеркнули из бюллетеней официального кандидата и вписали П. Ф. Кампова). Суд вынес приговор: 6 лет лагерей строгого режима и 3 года ссылки.
Лагерный срок он отбыл полностью, а из ссылки был возвращен досрочно из-за прогрессирующей потери зрения.
Вернувшись в Ужгород, он долго искал работу математика, экономиста, бухгалтера, но безуспешно. Тогда стал писать письма в ЦК КПСС, Брежневу. В 1981 г. он вновь был арестован. На это раз его судили по статье 83 УК УССР («хищение государственного имущества, совершенное путем мошенничества») за то, что он якобы обманул органы собеса и, будучи здоровым, получал пенсию по инвалидности и, кроме того, обманным путем получал добавку к пенсии, утверждая, что на его иждивении находится дочь, в то время как дочь жила у матери, расторгнувшей брак с П. Ф. Камповым после его ареста. Суд определил меру наказания: 10 лет лишения свободы в лагерях строгого режима с конфискацией всего принадлежащего ему имущества (включая собственный дом в городе, который он купил за двадцать лет до осуждения), «выплатой похищенной» пенсии собесу, и 3 года ссылки.
Даже если признать П. Ф. Кампова виновным в предъявленном ему обвинении, приговор был чудовищно жестоким. Опротестовать приговор было поначалу невозможно из-за отсутствия его копии. Ее удалось получить только в 1988 г., и тогда я с Л. С. Прибытковым, правозащитником из Куйбышева, активно занимавшимся делом Кампова, составили жалобу на имя председателя Верховного суда УССР. Не все в полученном тексте устраивало Прибыткова, и мы решили, что письмо пойдет под моей фамилией.
Я застала Софью Васильевну не в лучшей форме, она была простужена, сильно кашляла, после кашля с трудом могла отдышаться.
Тем не менее она внимательно выслушала мой рассказ о Кампове, ответила на вопросы, которые у меня накопились, иногда для точности обращаясь к справочникам, заполнявшим книжный шкаф. Потом на кухне мы пили чай, разговаривая на разные темы, но она все время возвращалась к делу Кампова, расспрашивала меня о подробностях. Я рассказала ей, что ездила на свидание к нему в тюремную куйбышевскую больницу, где он тогда лежал (по правде сказать, совершенно не рассчитывала на то, что мне это свидание дадут, дают только близким родственникам), что два часа мы разговаривали с ним по телефону, разделенные стеклянной перегородкой и в присутствии офицера.
Я рассказала Софье Васильевне, что не успел Кампов поверить, что это я приехала, как стал описывать свое трехнедельное пребывание в кировской тюремной больнице (он заболел воспалением легких на этапе из лагеря, находившегося в Кировской области): «Пробыл я там двадцать дней, и за это время через больницу прошло больше сотни заболевших, которых везли с юга на север, — рассказывал Кампов, — похоже, что передислоцируют в северные края какие-то лагеря…» Здесь офицер, слушавший наш разговор, прервал Павла Федоровича, и я испугалась, что на этом наше свидание и кончится: на всякий случай стала быстро рассказывать о моей переписке с сестрой Кампова, оглядываясь на офицера. Слава Богу, кажется, пронесло, офицер сидел молча.
Софья Васильевна грустно улыбнулась, видимо, хорошо представляя и мой испуг и состояние заключенного, стремившегося поскорее сообщить человеку с воли то, что он знал и что его волновало больше, чем собственная судьба.
На мой вопрос Павлу Федоровичу, есть ли у него копия приговора, он по-детски всплеснул руками и воскликнул: «Мне не дали никаких документов, а я их и не просил. Я ни о чем не просил, потому что, когда узнал, что меня, человека, никогда в жизни не сказавшего ни слова неправды, обвиняют в мошенничестве, я вообще отказался с ними говорить».
И опять горькая улыбка все понимающей Софьи Васильевны.
Как она умела слушать! Сидела, положив руки на колени и не пропуская ни одного слова. В следующий раз, когда я пришла к ней, она поразила меня тем, что помнила все мелочи из моего рассказа.
Софья Васильевна согласилась прочесть жалобу и сказала: «Если не расхвораюсь совсем». И добавила: «Не торопите меня, приходите недели через две». Я настроилась на двухнедельное ожидание, но уже через три дня Софья Васильевна позвонила мне: «Приходите, я все сделала». Я тут же приехала. Ее было не узнать: энергичная, уверенная в себе, даже кашель утих, как будто дело, заинтересовавшее ее, придало ей сил, болезнь отступила. Единственное, что ее тревожило, — я никак этого не ожидала! — это как я отношусь к ее критике и исправлениям, не обижусь ли?! Но какой мог быть разговор об обиде? Чем дальше я читала, тем больше росло мое чувство уважения, благодарности и восхищения этой необыкновенной женщиной. С одной стороны, она очень бережно отнеслась к моему тексту (и похвалила его), почти весь его сохранила, но добавила такие аргументы, о которых я и не подумала, придала тексту стройность, последовательность и поистине железную логику. Вот, например, я отметила в жалобе, что Павел Федорович на протяжении 1977–1978 гг. был пять раз освидетельствован комиссиями ВТЭК и признан инвалидом второй и первой групп, и лишь последняя, шестая, комиссия в августе 1981 г. признала его здоровым, злостно спекулировавшим заболеванием глаз. Вставка Софьи Васильевны: «Другими словами, сначала Павла Федоровича арестовали (13 июля 1981 г.), а уж потом стали создавать «доказательства» его вины! И первое и, по существу, единственное «доказательство» заключение Днепропетровского института трудовой экспертизы — появилось в деле только через месяц и пять дней после ареста. Это ли не явное и неоспоримое свидетельство фальсификации дела?»
В моей жалобе не было анализа вопроса о том, с какого момента П. Ф. Кампов, по мнению Ужгородского суда, утратил инвалидность. Софья Васильевна пишет: «С какого же числа, с точки зрения Ужгородского суда, П. Ф. Кампов утратил инвалидность? С 18–19 августа 1981 г., когда его обследовали в Днепропетровском институте трудовой экспертизы и вынесли вердикт, что он здоров? Нет, так как этому противоречит большая сумма накопившейся пенсии. С 13 февраля 1977 г., когда ВТЭК Томской области «ошибочно» определил ему вторую группу инвалидности? Но как тогда быть с Ужгородской межрайонной ВТЭК, которая 18 февраля 1978 г. определила ему первую группу инвалидности, и с заключением Закарпатской областной ВТЭК от 2 июля 1981 г., подтверждающим эту первую группу и не упомянутом в приговоре? Ужгородский суд не установил, с какого именно срока инвалид первой группы П. Ф. Кампов стал здоровым, поэтому все денежные расчеты суда следует считать недействительными». (По приговору Кампов должен был вернуть выплаченную с 1977 г. пенсию — 3260 руб. 40 коп.) П. Ф. Кампов постановлением Президиума Закарпатского областного суда был освобожден из лагеря 30 августа 1989 г.
Да что говорить! Софья Васильевна была прекрасным адвокатом и не утратила своих профессиональных качеств до самого конца своей жизни.
Не могу сказать, что оценила ее поздно. Нет! Я понимала, какое богатство она таит в себе, но, может быть, именно это понимание заставило меня стараться не обременять ее дополнительными заботами, не отнимать у нее драгоценного времени.
М. Уздина У Никитских ворот
Наш клуб «Трибуна общественного мнения у Никитских ворот» работал в Доме медиков. Темы вечеров и встреч объявлялись заранее и всегда были острыми, поэтому абонементы раскупались мгновенно и зал на двести пятьдесят мест обычно был полон. У нас проводился вечер Солженицына, состоялась встреча с активистами «Мемориала». Многие выдающиеся люди, такие, как Лидия Чуковская, Владимир Антонов-Овсеенко, Олег Волков, именно у нас получили возможность выступить публично.
Среди прочих тем было две, которые требовали участия юристов-правозащитников. Лариса Иосифовна Богораз посоветовала мне обратиться к С. В. Каллистратовой. Я договорилась о встрече по телефону и в начале января 1989 г. приехала на улицу Удальцова. Открыла мне дверь Софья Васильевна Каллистратова — невысокая, очень пожилая и приветливая женщина в теплом домашнем халате. Сразу поразила удивительная скромность квартиры, не вязалось это с моими представлениями о жизни известных адвокатов. Помню письменный стол, канцелярскую настольную лампу, старую пишущую машинку, газеты около кушетки, книги, больше ничего. Уговаривать Софью Васильевну принять участие во встрече «Обсуждаем проект Уголовного законодательства СССР» не пришлось. Сначала она подробно расспросила о клубе, обо мне самой, а потом сразу согласилась, но поставила условие: «Выступать буду бесплатно, и за такси расплачиваться буду сама». Пишу об этом, потому что нечасто за свою практику встречалась с подобным бескорыстием.
В этот день я узнала много о жизни Софьи Васильевны Каллистратовой. Она поила меня в кухне чаем и рассказывала о своей практике по уголовным делам, потом о допросах, обысках, которые были у нее дома. И вот наступил день встречи. И когда на сцену к трибуне торжественно, даже величественно вышла Софья Васильевна в красивом строгом черном платье, с поднятой головой и распрямленными плечами, я была потрясена преображением этой женщины, казавшейся в домашней обстановке такой простой и уютной. Зал встал, аплодируя, а я, глядя на нее, думала, что она похожа на адвоката из английского фильма.
Обсуждение ее выступления шло очень живо. Особенно жгучие споры возникли по вопросу об отмене смертной казни. Помню интересный и острый диалог Софьи Васильевны с поэтом и философом Вл. Микушевичем. Более трех часов продолжался вечер, а после, окружив Софью Васильевну, зрители еще долго не расходились, спрашивали, возражали. После этого вечера я часто общалась с ней, и, всегда мудрая и доброжелательная, она оказывала мне бесценную помощь своими советами.
А 19 июня 1989 г. был другой вечер («Встреча с правозащитниками 60-80-х гг.», который Софья Васильевна вела. В этот день стояла жара под тридцать градусов, зал был переполнен, сидели даже на полу. Среди публики было много ее друзей — Б. Золотухин, Н. Монахов, поэт Ю. Ким. А на сцене тоже были ее друзья — известные правозащитники, прошедшие через брежневские тюрьмы и лагеря: Л. Богораз, Т. Великанова, С. Ковалев, Л. Терновский, Г. Якунин, А. Смирнов, Ф. Светов, С. Глузман, Л. Бородин. За несколько дней до этого у Софьи Васильевны был тяжелый приступ стенокардии, сильная одышка, но она нашла в себе силы и мужество приехать и вести вечер, и выступать так, что и не заподозрил никто, насколько серьезно она уже болела.
В сентябре, в больнице, Софья Васильевна с мягкой усмешкой (но и с явной гордостью) показала мне свежий номер «Родины» с ее статьей и вздохнула: «Дожила ведь…»
В конце ноября в дни «нашей революции» я была в Праге на встречах со студентами, рассказывала о наших демонстрантах на Красной площади в августе 1968 г., когда советские танки ворвались в Чехословакию, о суде над ними, об адвокатах и, конечно, о Софье Васильевне. Обратно мы приехали с группой чешских студентов 7 декабря и попали прямо на панихиду… Так мы расстались с этим удивительным, справедливым и мужественным человеком.
С. Ковалев Все вместе мы храним этот образ
Представим себе, что адвокат Софья Васильевна Каллистратова родилась, работала и прожила долгую жизнь в другой стране, в стране с более благополучной и спокойной национальной судьбой, нежели наша.
Тогда сегодня, несомненно, вспоминали бы о ее фундаментальных знаниях, редкостном трудолюбии, высоком ораторском искусстве, несокрушимой логике. Вне всякого сомнения, говорили бы и о ее редком и высоком даре — даре сочувствия, сопереживания. Иными словами, и в любой другой стране сохранялась бы память об очень хорошем человеке и выдающемся адвокате.
Но Софья Васильевна родилась здесь. Можно сказать, что ей выпало это горькое и трудное счастье.
И потому ей была уготована необычная судьба.
Добросовестная, честная, четкая и яркая профессиональная работа оказалась подвигом, каждодневным и очень рискованным. Просто работа, просто честная и добросовестная работа, и ничего больше.
В этой стране яркий и самобытный талант, который был бы для большинства обузой, для нее стал высоким и трудным предназначением. Своей подвижнической работой она защищала не только честь профессионального круга адвокатов, но гораздо больше — честь страны, честь народа.
Конечно, это могло случиться только при сочетании яркого профессионального таланта и таланта, неизмеримо более высокого, — таланта совести, человечности, таланта мужества.
Я встретил Софью Васильевну Каллистратову в тяжелом, памятном и очень знаменательном 1968 г. и испытал ее неотразимое влияние; продолжаю испытывать его и сейчас, и не дай мне Бог когда-нибудь утратить это влияние. За все эти многие годы знакомства, надеюсь, что, может быть, дружбы, я ни разу не слышал от Софьи Васильевны высоких слов и патетических заявлений.
Софья Васильевна нехотя вошла в историю, твердо заняла там свое место и останется там.
Когда человек завершает земной путь, остаются его дела и его слова, его друзья и его ученики. Остается нечто высокое и трудновыразимое. Вселенная, прекрасный и гармоничный мир, которым была Софья Васильевна Каллистратова, среди живых больше не существует, и нет никого, кто имел бы в себе, в своей памяти этот прекрасный и цельный образ. Просто никому не дано вместить его целиком. Но в сердце каждого из тех, кто знал ее, попал осколок этой Вселенной, и только все вместе мы можем сохранить этот образ, незримо связанные им.
Право на защиту
Право обвиняемого и подсудимого на защиту от предъявленного обвинения в совершении преступления, гарантированное ст. III Конституции СССР, является одной из очень важных гарантий прав человека.
Право на защиту — очень широкое понятие, включающее в себя как защиту в материальном смысле, так и процессуальные вопросы.
В данной работе мы ограничиваемся рассмотрением только права обвиняемого иметь защитника во всех стадиях уголовного процесса. Это право устанавливается ст. 21 Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных республик, принятых Верховным Советом СССР от 25/XII-1958 г. и ст. ст. 19 и 46 УПК РСФСР.
Ст. 48 УПК предусматривает право обвиняемого избрать определенного защитника из числа лиц, которым законом предоставлено право осуществлять защиту (ст. 47 УПК РСФСР). Из ч. I ст. 48 УПК РСФСР, не содержащей каких-либо ограничений в выборе защитника из числа адвокатов, следует, что обвиняемый вправе пригласить для своей защиты любого адвоката из любой коллегии адвокатов, действующих на основе ст. 13 Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР. Единственным исключением, ограничивающим право свободного выбора адвоката, является случай невозможности участия избранного обвиняемым адвоката в течение длительного срока (ч. III ст. 48 и ч. II ст. 201 УПК РСФСР). Но и в этом случае обвиняемому предоставлено право избрать другого защитника. Это право вытекает из ч. II ст. 201 и из ч. II ст. 251 УПК РСФСР:
«При неявке защитника и невозможности заменить его в этом заседании разбирательство дела откладывается. Замена защитника, не явившегося в судебное заседание, допускается только с согласия подсудимого». (ст. 251 УПК РСФСР).
В практике возникает вопрос о так называемом допуске адвокатов к участию в рассмотрении некоторых уголовных дел.
Ни в союзном, ни в республиканском законодательстве, равно как и в «Положении об адвокатуре» и в руководящих постановлениях Пленума Верховного суда СССР не содержится никаких ограничений допуска адвокатов к ведения каких-либо уголовных дел. В силу этого само понятие допуска в том смысле, в каком этот термин употребляется применительно к адвокатам, является неопределенным и неясным. Можно категорически утверждать, что требование «допуска» от адвокатов не основано на законе.
Гласность судебного разбирательства является одним из важнейших принципов советского уголовного процесса (ст. 111 Конституции СССР). Закон строго ограничивает случаи, в которых допускается слушание уголовных дел в закрытых судебных заседаниях (ст. 12 Основ уголовного судопроизводства СССР и ст. 18 УПК РСФСР).
Учитывая установленные ст. 37 Основ уголовного судопроизводства и ст. 240 УПК РСФСР принципы непосредственности и устности процесса, надо прийти к выводу, что требование какого-либо «допуска» от адвокатов по делам, рассматриваемым в открытом судебном заседании, не только незаконно, но и бессмысленно. В самом деле, при рассмотрении в открытом судебном заседании содержание всех материалов дела становится достоянием всех присутствующих в суде. И если для присутствия в зале судебного заседания никакого специального допуска не требуется, то нет никакого смысла в требовании допуска для адвоката.
В свете ст. ст. 75 и 76 УК РСФСР, устанавливающих уголовную ответственность за разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержащих государственную тайну, надо полагать, что адвокат в целях обеспечения охраны государственной тайны в соответствующих случаях должен быть следователем и судом предупрежден о неразглашении материалов дела, содержащих в себе государственную тайну.
Произвольное решение вопроса о допуске или недопуске того или иного адвоката к участию в том или ином деле при отсутствии для этого оснований, прямо предусмотренных законом, не только нарушает право обвиняемого на выбор защитника, но и является дискриминацией в отношении отдельных адвокатов.
II
Закон достаточно полно гарантирует право обвиняемого на защиту (и в частности, на выбор защитника) в суде первой инстанции. Имеющиеся в практике ограничения и нарушения этого конституционного права являются следствием прямого нарушения закона.
Иначе дело обстоит в суде II инстанции при рассмотрении уголовных дел в кассационном порядке. Ст. 53 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и ст. 356 УПК РСФСР устанавливают, что обжалованный и опротестованный в кассационном порядке приговор вступает в законную силу по рассмотрении дела вышестоящим судом (если приговор не отменен).
Отсюда с полной очевидностью следует, что в случае обжалования или опротестования приговора в кассационном порядке рассмотрение уголовного дела не заканчивается вынесением приговора и при рассмотрении дела в суде II инстанции должны действовать все гарантии права на защиту. Это тем более необходимо потому, что закон не предусматривает обязательности участия самого осужденного в кассационном рассмотрении дела. «Вопрос об участии осужденного в заседании суда, рассматривающего дело в кассационном порядке, разрешается этим судом» (ст. 45 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР). В практике лица, осужденные к лишению свободы и к высшей мере наказания — расстрелу, находящиеся под стражей, как правило, в заседание кассационного суда не доставляются.
Упомянутая выше ст. 45 Основ устанавливает обязательное участие в кассационном рассмотрении дела прокурора, но не защитника. «При рассмотрении дела в кассационном порядке прокурор дает заключение о законности и обоснованности приговора». «В заседании суда кассационной инстанции может участвовать защитник» (ст. 45 Основ). Более того, ст. 355 УПК РСФСР, повторяя это положение, прямо предусматривает, что неявка защитника (независимо от причин этой неявки!), своевременно извещенного о дне рассмотрения дела, «не препятствует его рассмотрению». Ни одного случая обязательного участия защиты в кассационном рассмотрении уголовного дела законом не предусмотрено.
Практически многие дела, в том числе не только дела приговоренных к расстрелу, но также несовершеннолетних, немых, глухих, слепых, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, и других лиц, перечисленных в ст. 49 УПК РСФСР, рассматриваются в суде II инстанции без участия самих осужденных и без участия защиты.
Все сказанное приводит к тому, что уголовно-процессуальный закон, вопреки ст. III Конституции СССР, не гарантирует право на защиту в суде II инстанции. Такое существенное нарушение права на защиту нетерпимо и должно быть устранено путем изменения закона.
III
Ст. 23 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и соответственно ст. 51 УПК РСФСР устанавливают, что «адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты обвиняемого».
Это правило, являющееся одной из существенных гарантий права на защиту, нуждается в расшифровке и в уточнении. Некоторые юристы считают, что это правило ст. 23 Основ относится лишь к позиции адвоката в суде первой инстанции и противопоставляется положению, по которому прокурор, если он в результате судебного разбирательства «придет к убеждению, что данные судебного следствия не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения… обязан отказаться от обвинения и изложить суду мотивы отказа» (ст. 40 Основ). Такое ограниченное толкование нормы, содержащейся в ст. 23 Основ и в соответствующих статьях УПК союзных республик, вряд ли можно считать правильным.
Бесспорно, что адвокат не вправе признать в суде доказанность обвинения в отношении своего подзащитного, если последний не признает себя виновным. Хотя, к сожалению, мы не имеем по этому вопросу прямого и четкого указания закона, тем не менее это вытекает не только из общих принципов конституционного права на защиту (которое при ином толковании превратилось бы в право обвиняемого иметь в процессе двух обвинителей), но и из конкретных норм закона, обязывающих защитника использовать все указанные в законе средства и способы защиты в целях выяснения обстоятельств, оправдывающих обвиняемого или смягчающих его ответственность, и оказывать обвиняемому необходимую юридическую помощь (см. ч. I ст. 23 Основ, ч. I ст. 51 УПК РСФСР, ст. 31 Положения об адвокатуре, утв. законом РСФСР от 25/VII-69 г.).
Однако надо сказать, что правило «Адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты» касается и другой стороны вопроса. Не случайно эта норма законодателем помещена не в раздел «Производство суда в суде первой инстанции» (раздел IV Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и гл. 21 УПК РСФСР), где трактуется обязанность прокурора при известных условиях отказаться от обвинения, — а в раздел «Участники процесса, их права и обязанности» (раздел II Основ и гл. III УПК РСФСР). Уже это обстоятельство дает основание утверждать, что адвокат не вправе отказаться от принятого поручения на ведение защиты. В связи с этим возникают вопросы о том, кто принимает поручение на защиту и в какой момент заканчивается исполнение поручения на защиту. Автор этих строк безоговорочно считает, что поручение принимает определенный адвокат, а не юридическая консультация и что исполнение поручения на защиту заканчивается лишь в момент вступления приговора в законную силу.
Очевидный пробел в законе, который не разрешает прямо затронутого вопроса, лишает нас возможности сослаться в подтверждение своей точки зрения на какую-либо норму уголовно-процессуального права. Но такой возможности лишены и противники высказанной нами точки зрения, считающие, что поручение на защиту принимается юридической консультацией и лишь на определенную стадию процесса.
Гражданские правоотношения адвоката с подзащитным по уголовному делу не могут быть втиснуты в рамки договора поручения, регламентированного гл. 35 Гр. код. РСФСР уже в силу того, что адвокат в уголовном процессе является не поверенным, представляющим интересы доверителя, а стороной в уголовном деле. К адвокату неприменимо правило ст. 401 Гр. код. РСФСР, по которому поверенный имеет право «во всякое время» (т. е. в любой стадии процесса) отказаться от исполнения принятого поручения.
Положение об адвокатуре РСФСР не только не дает четкой регламентации гражданско-правовых отношений между адвокатом и его подзащитным по уголовному делу, но и содержит в себе противоречия по этому вопросу. Кто принимает поручение: определенный адвокат, юридическая консультация или коллегия адвокатов как юридическое лицо? В Положении об адвокатуре РСФСР говорится, что «коллегии адвокатов являются добровольным объединением лиц, занимающихся адвокатской деятельностью, и организуются в целях…» Ст. 24 устанавливает, что юридические консультации создаются «для организации работы членов коллегии адвокатов». Ст. 25 указывает, что заведующий распределяет работу между адвокатами с учетом их квалификации и персональных к ним обращений, не допуская при этом перегруженности в работе одних и отсутствия надлежащей нагрузки у других.
Из всех этих положений при желании можно сделать вывод, что стороной в гражданско-правовом договоре с клиентом (поручение на защиту) является коллегия адвокатов в лице юридической консультации и ее заведующего. Однако ст. 31 Положения об адвокатуре говорит об обязанностях адвоката в отношении лиц, обратившихся к нему за юридической помощью. Ст. 32 определяет те случаи, в которых адвокат не вправе принять поручение на ведение дела (на защиту). Ст. 34 устанавливает, что адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты обвиняемого.
Отсюда следует, что стороной в гражданско-правовом договоре с клиентом (поручение на защиту) является адвокат, а не юридическая консультация, которая лишь контролирует и оформляет принятие поручения. Это соображение подтверждается и тем, что форма регистрационной карточки (утвержденная в соответствующем порядке), являющейся формой своеобразного договора поручения, наряду с подписью заведующего консультацией, определяющего размер гонорара, предусматривает графы: а) какому адвокату дается поручение и б) подпись адвоката, принявшего поручение.
В свете законодательного закрепления за обвиняемым права выбора адвоката (см. раздел I настоящей работы) и отсутствия у юридической консультации и у коллегии адвокатов права заменить адвоката без согласия клиента надо прийти к выводу, что стороной в договоре является определенный адвокат, принимающий поручение и не имеющий права отказаться от выполнения принятого поручения до окончания его выполнения.
Возвращаясь к вопросу о том, в какой момент оканчивается выполнение поручения на защиту, мы сталкиваемся с тем, что в практике всех коллегий адвокатов поручения оформляются на каждую стадию уголовного процесса отдельно: а) поручение на защиту в предварительном следствии; б) поручение на защиту в суде I инстанции; в) поручение на защиту в суде II инстанции. Представляется, что такое расчленение защиты на 3 стадии, не предусмотренное законом, имеет не правовое, а чисто финансово-организационное значение и вызвано тем, что нельзя заранее определить, на какой из перечисленных стадий закончится уголовное дело.
Поручая адвокату защиту по уголовному делу, обвиняемый рассчитывает на юридическую помощь в разрешении своей судьбы, т. е. помощь в достижении законного и обоснованного результата по уголовному делу. Таким результатом (кроме случаев прекращения дела до суда) является вступивший в законную силу приговор суда. Поэтому и выполнение адвокатом поручения на защиту по уголовному делу должно считаться законченным либо в момент прекращения дела, либо в момент вступления приговора в законную силу.
Законодательное закрепление такой нормы соответствовало бы духу одного из основополагающих принципов нашего уголовного процесса — права обвиняемого на защиту, способствовало бы улучшению качества работы адвокатов, усиливало бы ответственность адвоката за порученное ему дело, делало бы защиту более доступной по стоимости для обвиняемых, так как гонорар одного адвоката, осуществляющего защиту во всех стадиях процесса по действующей таксе оплаты юридической помощи, значительно ниже, чем гонорары трех разных адвокатов.
IV
С вопросом о праве обвиняемого на защиту тесно связан вопрос о творческой свободе адвоката в выборе позиции защиты, методов и средств защиты в пределах, ограниченных только законом.
Очевидно, было бы правильным распространение на адвокатов конституционной нормы, по которой судьи независимы и подчиняются только закону (ст. 112 Конституции СССР). Эта норма нашла свое развитие в Основах уголовного судопроизводства, ст. 10 которых гласит: «При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только закону. Судьи и народные заседатели разрешают уголовные дела на основе закона, в соответствии с социалистическим правосознанием, в условиях, исключающих постороннее воздействие на судей». Совершенно очевидно при этом, что социалистическое правосознание не может ни противопоставляться советским законам, ни заменять их. Напротив, мы исходим из того, что социалистическое правосознание выражено в советском законе. Эта точка зрения подтверждается тем, что текст ст. 112 Конституции СССР, ограничиваясь указанием на подчинение судей «только закону», вообще не содержит ссылки на социалистическое правосознание.
Независимость судей — это важнейший принцип, без осуществления которого нет подлинного правосудия.
Так же независимость адвоката, который обязан подчиняться только закону и руководствоваться в своей работе велениями закона, социалистическим правосознанием и нравственными нормами справедливости и гуманности, должна стать основным принципом, без осуществления которого нет подлинной защиты.
28 февраля 1971 г.Некоторые замечания по поводу «Проекта Конституции СССР» 1977 г.
По общим вопросам
1. Конституция — основной закон государства. Она должна не только определять экономическую и политическую систему (государственный строй), но и дать правовые основы, четко сформулированные положения закона, исполнение которых может быть подвергнуто объективной проверке.
Между тем большинство статей Конституции записаны в виде деклараций, а не конкретных правовых норм.
В качестве примера можно привести ст. 5 о референдумах.
Какие «наиболее важные» вопросы государственной жизни, в каких случаях, в каком порядке должны ставиться на всенародное обсуждение (референдум)? Как проверить, соблюдается или нарушается ст. 5 Конституции?
Этот вопрос приобретает особое значение в силу того, что за все время существования советского государства, т. е. за 60 лет, не было проведено ни одного референдума. Всенародное одобрение государство получает на специально организуемых митингах, где произносятся парадные (заранее тщательно отработанные) речи и раздается торжественное «ура»!
Несмотря на то, что упоминание о референдуме содержалось и в прежней Конституции, вопрос о вторжении советских войск в Чехословакию в 1968 г. был решен не только без всенародного обсуждения или голосования, но и без извещения народа о подготовке и осуществлении этой акции.
Таких примеров декларативности, неконкретности статей Конституции можно привести десятки. Именно отсутствие характерных черт закона, правовых основ превращает этот важнейший для жизни народа документ в трескучую и хвастливую декларацию.
С этой точки зрения особых возражений заслуживает преамбула Конституции, которая никакого отношения к основному закону как к правовому документу не имеет.
2. Основным пороком Проекта является вопиющее и ничем не прикрытое противоречие между ст. ст. 1 и 2 и ст. 6.
Ст.ст. 1 и 2 декларируют СССР как общенародное государство, в котором народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР.
В то же время ст. 6 ядром политической системы объявляет КПСС. Более того, вторая часть ст. 6 прямо устанавливает, что все важнейшие государственные вопросы решают не Советы, а КПСС (практически — высшее руководство КПСС).
По существу нового здесь ничего нет. Новое и имеющее значение состоит лишь в том, что открыто закрепляется и усиливается существующее положение, при котором именно руководящий орган КПСС решает все политические, экономические и международные вопросы (т. е. все вопросы, подлежащие компетенции государства). Даже важнейшие международные соглашения подписываются не главой государства и не правительством страны, а партийным руководителем.
Обсуждая этот вопрос, мы не можем игнорировать то обстоятельство, что на протяжении десятилетий не было ни одного случая, чтобы Верховный Совет СССР не одобрил и не придал силу закона какому-либо решению Политбюро или Пленума ЦК КПСС.
Такое «монолитное единство» не может быть названо демократией ни в каком смысле. Недавний, свежий пример. Не только всему народу, но и членам партии даже не объяснили, по каким причинам и поводам был выведен из состава Политбюро ЦК КПСС Председатель Президиума Верховного Совета СССР Подгорный Н. В. Можно было бы сказать, что это чисто партийное дело, и на этом успокоиться — по крайней мере нам, беспартийным. Но мы все очень хорошо знаем, что исключение из состава Политбюро ЦК КПСС — это окончательное и бесповоротное снятие с выборного поста главы государства.
Никакая степень свободы и демократии немыслима без борьбы идей. Монопольное положение единственной в стране партии, подчинение идеологии этой партии всех сторон государственной, политической, экономической и общественной жизни может быть признано полезным или вредным для общества, но не может быть, не должно именоваться демократией.
Мы уже устали удивляться тому, что главы государств подписывают международные договора и соглашения не с главой СССР, а с партийным руководителем. Теперь удивляться уже не надо. Конституция закрепляет законодательно то положение, что основой политического строя нашей страны являются не Советы депутатов трудящихся, а КПСС.
По главе 2
Не затрагивая большого и самостоятельного вопроса о степени эффективности социалистической экономики, позволю себе сделать по главе 2 следующие замечания:
1. Ст. 13 Проекта декларирует свободный труд советских людей как источник роста общественного благосостояния народа.
Такая декларация не вызывает возражений сама по себе, но должна обязательно сопровождаться категорическим указанием на недопустимость всех форм принудительного труда в том его понимании, которое содержится в Конвенции Генеральной конференции Международной организации труда 29, ратифицированной СССР, вступившей в силу для СССР 23/VI — 1957 г. и неуклонно и повседневно нарушаемой в нашей стране (достаточно напомнить, что в СССР установлена уголовная ответственность за то, что трудоспособный гражданин не работает).
2. Ст. 16 Проекта декларирует участие коллективов трудящихся и общественных организаций в управлении предприятиями и объединениями. Однако не установлено форм и способов этого участия.
Не установлено процедуры разрешения могущих иметь место конфликтов в сфере управления производством, в решении вопросов организации труда и быта и т. д. (арбитраж, право на забастовку или иные способы разрешения конфликтов между администрацией и трудящимися).
По главе 3
Учитывая печальный исторический опыт отставания и застоя в ряде отраслей науки в результате директивно-административно-репрессивно построенного «руководства» наукой (кибернетика, генетика, социология и т. д.), необходимо установить в ст. 26 полную свободу научного поиска и исследования, без которого нет и не может быть подлинного прогресса в науке.
По главе 5
Хотя, очевидно, нельзя отказаться от всеобщей воинской обязанности, но безусловная принудительность этой обязанности противоречит нравственным устоям человеческого общества и не способствует укреплению обороноспособности страны. Необходимо предусмотреть хотя бы минимальные возможности освобождения по идейным и религиозным мотивам или, по меньшей мере, устранить уголовную ответственность за отказ от военной службы по таким мотивам.
По главе 6
1. В ст. 33 Конституции обязательно должна быть сформулирована норма, согласно которой гражданство является добровольным и любой отказ отдельного гражданина от советского гражданства должен удовлетворяться независимо от мотива такого отказа.
Без неограниченного права отказа от гражданства нет и не может быть подлинной свободы и демократии для личности, для человека.
2. В тех же целях предоставления человеку (личности) подлинных демократических прав в ст. 38 Проекта наряду с предоставлением права политического убежища иностранцам необходимо предусмотреть предоставление права выезда из страны гражданина, обратившегося с просьбой о политическом убежище к какому-либо иностранному государству и получившему такое право.
По главе 7
Обширный перечень основных правил и свобод граждан, содержащийся в главе 7 Проекта внешне создает впечатление подлинной и действительной демократии. Однако даже беглый анализ развеивает это впечатление. Демократия не расширяется, а ущемляется даже по сравнению с ныне действующей Конституцией.
Наиболее важной в этом плане является вторая часть ст. 39 Проекта, устанавливающая, что использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам общества и государства.
Разумеется, не должно наносить ущерб. Но кто, как, в результате какой процедуры определяет — что в ущерб, а что во благо? Есть вечные и незыблемые истины, определяющие добро и зло с точки зрения общечеловеческой морали. Проповеди насилия, ненависти, убийства (в т. ч. и войны) безусловно наносят ущерб обществу.
А вот по вопросу о том, наносит ли ущерб советскому государству и обществу высказывание и отстаивание мнения (убеждения) о необходимости многопартийной системы, о необходимости ликвидации сплошной коллективизации, о необходимости разрешить в какой-либо форме преподавание детям религиозных учений, о необходимости ликвидировать или решительно преобразовать Комитет госбезопасности СССР и т. д. и т. п., - могут быть и есть различные точки зрения.
Именно поэтому старую редакцию ст. 125 действующей Конституции можно и нужно было понимать так: интересы трудящихся будут соблюдены, социалистический строй будет укрепляться, если всем гражданам будут предоставлены основные демократические свободы. Именно осуществление основных демократических свобод соответствует интересам трудящихся. Борьба идей и свободное отстаивание своих убеждений не может причинить ущерб народу и государственному строю. Именно в борьбе идей и выковывается наиболее справедливое и целесообразно устроенное общество.
Но в свете нашего печального исторического опыта мы ясно видим, что не только отстаивание своего убеждения, но и простое его высказывание, если это убеждение не соответствует идеологическим «установкам» КПСС, презюмируется как «причиняющее ущерб» и сурово карается в уголовном порядке.
Если за свободное слово, даже за свободную мысль законом гарантируется тюрьма и ссылка, если меру соответствия слова и мысли интересам общества и государства определяют не свободное общественное мнение, а карательные органы государства, то все «свободы» и «права», декларированные в Конституции, превращаются в фикцию.
Свобода слова, свобода информации, подлинная, а не фиктивная свобода печати, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, — это полная отмена предварительной цензуры, разрешение и обеспечение возможности существования частных типографий, издательств, печатных органов, это легализация самиздата, это полная отмена необходимости получения разрешений на собрания, митинги, демонстрации, это строжайший запрет применения каких-либо насильственных действий для прекращения (разгона) митингов и мирных демонстраций.
Не менее важным является и вопрос о праве граждан объединяться в общественные организации.
Редакция ст. 51 Проекта явно такого права не обеспечивает.
В основном законе должно быть определено, что любая группа граждан имеет право создавать свободные общества, союзы и ассоциации, если они не имеют преступных или аморальных целей. В формулировке этой статьи должно быть подчеркнуто, что на образование таких ассоциаций не требуется предварительного разрешения государственных органов.
По отдельным статьям главы 7 считаю необходимым сделать следующие замечания:
1. В ст. 40 Проекта необходимо включить основные положения Конвенции 111 Генеральной Конференции Международной Организации Труда, ратифицированной СССР 31/I — 1961 г. и повседневно нарушаемой в СССР (преимущества при приеме на работу на большое количество должностей для членов КПСС, система «допусков» к секретной работе, секретные характеристики и т. д. и т. п.).
2. Для более полного обеспечения охраны здоровья и улучшения качества медицинской помощи в ст. 42 необходимо наряду с бесплатной медицинской помощью предусмотреть право частной практики врачей всех специальностей и возможность организации частных лечебных учреждений, в т. ч. стационарных.
3. Ст. 43 Проекта, декларируя право на обеспечение в старости и по случаю болезни, своим содержанием такого права всем гражданам не обеспечивает, так как: а) вне социального страхования остаются кустари-ремесленники и некоторые другие группы граждан, работающие не по найму; б) лица, отбывшие наказание за преступления и искупившие тяжелым многолетним принудительным трудом свою вину, не имеют права на обеспечение пенсиями по социальному страхованию, если до совершения преступления у них не было соответствующего трудового стажа; в) значительные группы престарелых колхозников, прекративших работу в колхозах до введения пенсионного обеспечения и не имеющих права ни на колхозную пенсию, ни на пенсию по социальному страхованию, — и некоторые другие.
4. Ст. 47 Проекта не гарантирует пользование достижениями мировой культуры, так как закон не содержит указания на свободный от таможенного досмотра (а фактически — цензуры) ввоз книг и других произведений культуры из иностранных государств. Кроме того, необходима отмена системы разрешений и запретов на выставки, публичные чтения и другие демонстрации произведений искусства и полная отмена цензуры в области музыки, изобразительного искусства, театра и т. д.
5. Ст. 52 Проекта формально декларирует, а фактически не допускает свободы совести, так как не допускает религиозной пропаганды, указывая на допустимость антирелигиозной. Верить Слову Божьему и не иметь права нести это слово людям — это значит идти против своей совести.
6. Ст. ст. 54–58 Проекта по своему содержанию не вызывают возражений, но практическое нарушение этих статей (существующих и в действующей Конституции) на протяжении десятилетий и даже закрепление этих нарушений в ряде законов (например, право органов милиции задерживать граждан на срок до трех дней без предварительной санкции прокурора; права органов милиции в отношении лиц, отбывших наказание по приговору суда и подвергаемых административному надзору, и т. д. и т. п.) настоятельно требуют более конкретного и категорического изложения гарантий этого раздела прав.
7. Удивляет отсутствие в этой главе об основных правах граждан статьи о свободе передвижения и свободе выбора места жительства. Гарантией такого права была бы полная отмена паспортной системы и системы обязательной прописки по месту жительства.
Всякая действительно демократическая Конституция должна предусматривать право свободного выезда из страны (эмиграции) и право свободного возвращения в свою страну.
Формулировки этой статьи должны соответствовать ст. 12 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного СССР в 1973 г. и в настоящее время вступившего в силу и имеющего для СССР силу закона.
По главе 13
Выборы депутатов в высшие и местные органы власти в нашей стране давно превратились в пустую формальность, так как избиратели фактически не имеют возможности выбирать. При наличии одного кандидата в депутаты между кем и чем выбирать?
Это настолько общеизвестно, что не стоит тратить слов на изложение своего мнения об абсурдности такой «избирательной» системы. Необходимо предоставление любой свободной ассоциации и просто группе граждан (определенной численности) права выдвижения кандидатов в депутаты, с тем, чтобы все выдвинутые кандидаты включались в избирательные бюллетени.
По главе 15
Ст. 114 и ст. 121 Проекта не гарантируют полного и безусловного опубликования законов, указов и постановлений высших органов власти.
Как мы знаем из практики, в нашей стране действует значительное число законодательных и подзаконных актов, либо вовсе не опубликованных, либо опубликованных в так называемой закрытой печати. Получается парадоксальное положение, когда обязательные для исполнения законы, указы и постановления не доводятся до сведения граждан.
В Конституции должно быть четко записано, что ни один закон и подзаконный акт не может быть признан для кого-либо обязательным, если он не опубликован в общей открытой печати.
По главе 20
Вопрос о независимости судей — один из самых старых и самых сложных вопросов государственного права. На протяжении веков ни в одной стране мира не найдено безупречного и всеобъемлющего способа обеспечения действительной независимости судей. Между тем любая форма и степень зависимости судей по существу разрушает саму идею правосудия.
В Проекте Конституции (ст. 154) независимость судей только провозглашается и не делается даже какой-либо попытки гарантировать эту независимость. Полная зависимость всех звеньев нашей судебной системы от центральных и местных организаций КПСС очевидна уже потому, что, как правило, все народные судьи являются членами КПСС (процент беспартийных судей незначителен) и все судьи (в том числе и беспартийные) подотчетны не только своим избирателям, но и соответствующим партийным органам, которые дают указания по общим вопросам судебной деятельности (включая вопросы так называемой карательной политики), а зачастую по отдельным конкретным делам.
Наибольшим приближением к независимости судей явилось бы такое положение, когда основой судебной системы стал бы суд народных представителей, организованный по типу суда присяжных, с обязательным разделением решения вопросов заседателями и судьями-чиновниками и с правом обвиняемого на немотивированный отвод значительной части заседателей.
Система суда присяжных была достаточно разработана еще в XIX в. в России. Эта система существует в подавляющей части цивилизованного мира (в той или иной форме).
Действующая в настоящее время и предусмотренная на будущее система коллегиального суда с участием народных заседателей ничего общего с судом присяжных не имеет и независимости судей ни в какой степени не гарантирует. При формальной равноправности судьи-чиновника и народных заседателей фактически никакого равноправия здесь нет и не может быть в силу того, что при совместном совещании судей и заседателей судья имеет преимущество должности и должностного авторитета.
Введение суда народных представителей по типу суда присяжных значительно способствовало бы демократизации суда и приближению к действительному правосудию.
2. В ст. 156 Проекта провозглашается гласность суда. Однако вторая часть этой статьи дает возможность в любой момент отменить эту гласность, не нарушая Конституции.
Учитывая, что гласность судопроизводства является важнейшей гарантией прав личности и демократических свобод, необходимо в тексте Конституции указать, что в закрытом судебном заседании дела могут рассматриваться лишь для охраны военной и государственной тайны, а также, в перечисленных законом случаях, дела о половых преступлениях.
3. Ст. 157 Проекта декларирует право обвиняемого на защиту, но не содержит решительно никаких гарантий этого права. Нарушением этого права является неузаконенная система секретных «допусков» для адвокатов. Кроме того, случаи дискриминации и даже репрессий в отношении адвокатов, осуществляющих защиту по политическим делам, и зависимость адвокатуры от органов Министерства юстиции и местных органов власти приводят к отсутствию полноценной защиты не только по политическим, но и по уголовным делам.
Гарантией действительного права на защиту было бы право свободного выбора защитника из числа всех дееспособных граждан и право приглашения защитников из числа иностранных граждан.
Вторым важнейшим вопросом в области права на защиту является вопрос о моменте, с которого возникает право на защиту.
В свете принципа презумпции невиновности (см. следующий пункт) право на защиту должно возникать с момента процессуального оформления подозрения. Человек, задержанный, или вызванный для допроса, или подвергающийся обыску (или становящийся объектом иных процессуальных действий, вызванных возникшими против него подозрениями), должен иметь право на защиту не только в общем, но и в специальном значении этого слова, т. е. право пригласить защитника и иметь возможность консультироваться с ним с момента совершения в отношении него любого процессуального действия.
4. Ст. 159 Проекта недостаточно четко отражает принцип презумпции невиновности. Следует записать принятую во всех цивилизованных странах формулу: «Каждый человек предполагается невиновным до тех пор, пока приговором суда не будет установлена его виновность». Такая формулировка должна повлечь за собой далеко идущие изменения всего процессуального законодательства в части, относящейся к расследованию преступлений и ведению предварительного следствия.
В то же время необходимо установить конституционный запрет публичного обвинения кого-либо, в особенности в печати, в совершении тех или иных преступных действиях до вступления в силу обвинительного приговора суда.
5. В Проекте Конституции — ни в главе 20 «Суд», ни в главе 21 «Прокуратура» — не определяется взаимодействие между судом, прокуратурой и органами следствия в вопросах расследования уголовных дел и обвинения в суде.
Между тем это чрезвычайно важный и основополагающий вопрос правосудия.
По действующим нормам уголовного процесса прокурор, передающий дело для судебного рассмотрения и поддерживающий обвинение в суде, одновременно является непосредственным начальником и руководителем следователя, расследующего преступление. Следователь во всех областях своей работы подчиняется прокурору — будущему обвинителю в суде. При таком положении равенство сторон (обвинения и защиты) в процессе становится фикцией, а само расследование дел неизбежно приобретает черты необъективности, т. е. так называемый обвинительный уклон. Необходимо в конституционном порядке гарантировать полную независимость работников следственного аппарата от прокуратуры, оставив в этой области за прокуратурой лишь общие функции надзора за соблюдением законности.
По разделу IX Проекта
Ст. 172 Проекта не наполнена конкретным содержанием. Должна быть установлена процедура рассмотрения и разрешения вопросов о соответствии закона Конституции и образован орган, разрешающий этот вопрос при возникновении сомнения в конституционности того или иного законодательного или подзаконного акта.
* * *
Представленный на всенародное обсуждение проект Конституции СССР страдает столь значительными органическими недостатками (на полноту изложения которых я отнюдь не претендую) и является столь далеким от подлинной демократизации жизни нашего общества, что он не может быть исправлен отдельными изменениями и исправлениями. Никакой срочности во введении нового текста Конституции усмотреть невозможно. Решительный поворот к точному соблюдению норм действующей Конституции был бы хорошей подготовкой к разработке проекта новой, более демократической Конституции.
Москва, 1977 г.Замечания к «Проекту основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик»
Раздел I. Общие положения
Ч. II ст. 1. Термин «О преступлениях против государства» слишком широк. По существу, любое преступление независимо от его специального объекта общим объектом имеет интересы государства.
Дальнейший текст — «в необходимых случаях и за иные преступления, направленные против интересов Союза ССР» — практически дает общесоюзным органам власти неограниченное право определять любые правонарушения как уголовное преступление и устанавливать за них наказание. Этим ущемляется суверенитет союзных республик.
Следует изложить ч. II ст. 1 в такой редакции:
«Общесоюзные уголовные законы определяют ответственность за особо тяжкие преступления (ч. 5 ст. 8) и за воинские преступления, а также за преступления против мира и безопасности человечества».
Ч. I ст. 2. После слов «собственности общественных организаций» необходимо вставить (через запятую) «личной собственности граждан».
Ч. II ст. 3. На протяжении десятилетий в советской уголовной практике сначала отрицался, а в последние годы де-юре признавался, но фактически игнорировался принцип презумпции невиновности. Для решительного упрочнения этого принципа в законе и судебной практике надо усилить ч. II ст. 3 прямым упоминанием термина «презумпция невиновности», т. е. изложить ч. II ст. 3 в следующей редакции: «Одним из основополагающих принципов уголовного законодательства является принцип презумпции невиновности. Человек, обвиняемый в совершении преступления, полагается невиновным до тех пор, пока виновность его не будет доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Никто не может быть подвергнут уголовному наказанию иначе, как по приговору суда и в соответствии с законом об исполнении приговора».
Ч. I ст. 4. Текст ч. I ст. 4 проекта является формулировкой объективного вменения, так как не содержит в себе основного признака основания уголовной ответственности — вины в форме умысла или неосторожности. Предлагаю такую формулировку ч. I ст. 4: «Основанием уголовной ответственности являются виновные, т. е. умышленно или по неосторожности совершившие деяния, содержащие все признаки состава преступления, предусмотренные уголовным законом».
Раздел II. О преступлении
Ч. I и ч. II ст. 13. По действующему закону к уголовной ответственности привлекаются дети. Этот принцип полностью сохранен и в проекте Основ. Считаю необходимым повышение возраста, с которого наступает уголовная ответственность. До 18 лет в ч. I ст. 13 и до 16 лет в ч. II ст. 13.
При этом из ч. II ст. 13 исключить — кражу.
При такой формулировке отпадает необходимость в ч. III ст. 13, которая, кстати, вносит в закон некоторую неопределенность и неясность. (Например: можно ли законом Союза ССР или союзной республики ввести ответственность с 18 лет за какое-либо преступление, предусмотренное в ч. II ст. 13).
Ч. I и ч. II ст. 14. Вменяемость является обязательным элементом состава любого преступления, поэтому невменяемость может быть установлена только судом. Заключение судебно-психиатрической экспертизы является лишь одним из доказательств.
Между тем в судебной практике прочно укоренилось такое положение, когда невменяемость устанавливается не судебным решением, а заключением психиатрической экспертизы, полученным в период предварительного следствия.
Так, например, по ст. 306 УПК РСФСР «в случаях, когда во время дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства возникал вопрос о вменяемости подсудимого, суд обязан при постановлении приговора еще раз обсудить этот вопрос». Признав подсудимого невменяемым, «суд выносит определение в порядке главы 33 настоящего кодекса» (УПК РСФСР).
«Еще раз». Когда и в каком порядке суд в первый раз обсуждает вопрос о невменяемости, в законе не указано. В то же время глава 33 УПК РСФСР значительно ограничивает права обвиняемого, признанного невменяемым (кем? экспертизой?) уже в порядке предварительного следствия.
В соответствии с п. 2 ст. 406 УПК вопрос о направлении дела в суд в порядке, установленном главой 33 УПК РСФСР для невменяемых, решает не суд, а следователь и прокурор. При таком положении обвиняемый (а потом и подсудимый) полностью лишен возможности оспаривать заключение экспертизы о невменяемости. Другими словами — если экспертиза признала обвиняемого вменяемым, то и он и его защита могут в суде доказывать невменяемость. Если же экспертиза признала обвиняемого невменяемым, то заключение экспертизы ему не предъявляется, с материалами дела он не знакомится, в судебном заседании может и не участвовать (как правило, не вызывается — ст. 407 УПК РСФСР).
Таким образом, невменяемость устанавливается не судом, а экспертизой, что противоречит закону (примеры Григоренко, Яхимовича, Горбаневской).
Детальная процедура установления невменяемости должна регулироваться Основами уголовно-процессуального законодательства. Но учитывая сложившуюся порочную судебную практику, считаю необходимым изложить ч. II ст. 14 проекта Основ в следующей редакции:
«Вопрос о вменяемости или невменяемости подсудимого решается только судом. По определению суда, признавшего обвиняемого невменяемым, таковой признается невиновным и к нему могут быть применены принудительные меры медицинского характера, предусмотренные ст. 75 настоящих Основ».
Ст. 19. Статью о недонесении надо вообще исключить. Недонесение может быть признано преступлением только при наличии элементов укрывательства. Исключить эту статью необходимо потому, что нельзя вменить донос под страхом уголовной ответственности в обязанность и долг гражданину. Тем более, что достоверность знания о готовившемся или совершенном преступлении — понятие, не поддающееся объективной проверке.
Неопределенность понятий «достоверность» и «заведомость» при наличии в законе ответственности и за недоносительство и за ложный донос неизбежно ставит гражданина в положение рискующего ошибкой в выборе решения доносить или не доносить.
Освобождение от ответственности за недоносительство близких родственников (ч. II ст. 19 и примечание) не облегчает указанного выше выбора, тем более, что не относится, например, к жениху и невесте, к друзьям, которые могут быть ближе и дороже, чем братья и сестры (за что был расстрелян Н. Гумилев?).
Ответственность за недоносительство в советское законодательство введена только в 40-е гг. одновременно с резким ужесточением наказаний. (Увеличение срока лишения свободы до 25 лет.)
Ч. I ст. 20. Вторую фразу в ч. I ст. 20 надо исключить, так как совершение разных преступлений не может быть признано повторностью. (Если человек подделал трудовую книжку, а потом совершил квартирную кражу, то он совершил второе преступление, а не повторное). Текст второй фразы стирает разницу между повторностью и рецидивом (ч. I ст. 22).
Ч. III ст. 20. Вопрос о разнице между повторностью преступлений, длящимися преступлениями и продолжаемыми преступлениями — один из очень спорных в теории уголовного права и в судебной практике. Мне кажется, надо в ч. III ст. 20 дать определение, что же такое длящееся и что такое продолжаемого преступление.
Раздел III. Об обстоятельствах, исключающих преступность деяния
Ч. I ст. 23. Понятие необходимой обороны должно быть легкодоступно не только юристу, но и каждому гражданину. Редакция ч. I ст. 23 (повторяющая дословно редакцию ст. 13 действующих Основ) неудачна. В одном сложном грамматическом предложении — 55 слов. Трудно понять. Я попыталась разбить это предложение хотя бы на два. Мне кажется, так лучше:
Ч. I ст. 23: «Не является преступлением умышленное действие, причиняющее вред другому лицу, если это действие хотя и подпадает под признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но совершено в состоянии необходимой обороны и без превышения пределов необходимой обороны.
Необходимой обороной является защита интересов советского государства и общества, а также личности или прав обороняющегося или другого лица от преступного посягательства».
Ст. 25. В этой статье идет речь о задержании лица, совершившего преступление. Между тем только судебный приговор может установить, совершено ли преступление и совершено ли оно данным лицом.
Место этой статьи разве лишь в Уставе конвойной службы. Из Основ ее надо исключить. Нельзя предоставлять гражданам права задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступления, и определять, дает ли «характер оказываемого им при задержании сопротивления» право убивать сопротивляющегося.
Ст. 27. Редакция текста не четкая. Возникает впечатление, что лицо, отдавшее преступный приказ или распоряжение, несет за него ответственность лишь в том случае, если исполнитель «не сознавал преступного характера приказа или распоряжения».
Второе предложение в этой статье, полагаю, надо изложить так: «При этом за деяние, совершенное исполнителем во исполнение преступного приказа или распоряжения, ответственность во всех случаях несет лицо, отдавшее такой приказ или распоряжение».
Вопрос об ответственности исполнителя преступного приказа или распоряжения чрезвычайно сложен, так как:
а) сознавал или не сознавал исполнитель преступный характер приказа или распоряжения — это субъективная сторона преступления. Очень трудно доказать, что исполнитель сознавал. Более того, установить, что приказ или распоряжение были преступными, в соответствии с презумпцией невиновности может только суд в приговоре по делу лица, отдавшего приказ или распоряжение. Как же можно под страхом уголовной ответственности вынуждать исполнителя решать (может быть, в считанные секунды), преступен ли приказ?
б) если исполнитель сознает преступность приказа, но его невыполнение влечет за собой смерть (приказ под дулом пистолета), то как в таком случае решать вопрос об ответственности исполнителя?
Признаюсь, мне не удалось найти достаточно убедительную формулировку этой статьи закона.
Раздел IV. О наказании
Ч. I ст. 28. Споры о целях уголовного наказания идут из глубины веков. Сейчас в науке западных стран понятия наказания как возмездия, отмщения, кары почти не имеют сторонников и в законодательстве этих стран целью наказания провозглашается: а) защита общества и государства (общая и специальная превенция) и б) перевоспитание, исправление преступников и приспособление их к жизни в обществе после отбытия наказания.
Только в уголовных законах социалистических стран осталось понятие кары как одной из целей наказания. Между тем в первых законодательных актах нашей страны после Октябрьской революции был ярко выражен отказ от принципов возмездия и кары как целей наказания. («Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 г., первый Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.).
В принятых в 1924 г. «Основных началах уголовного законодательства Союза СССР и союзных республик» даже сам термин «наказание» не употребляется, а заменяется термином «меры социальной защиты».
То же мы видим и в Уголовном кодексе 1926 г. (и в соответствующих статьях уголовных кодексов других союзных республик).
К термину «наказание» и к принципу кары как к цели наказания наше уголовное законодательство вернулось впервые в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 8/VI-34 г. «Об уголовной ответственности за измену Родине».
Кара как одна из целей наказания устанавливается и в законе о судоустройстве СССР, союзных и автономных республик 1938 г. и в действующих ныне «Основах уголовного законодательства» 1958 г.: «Наказание является не только карой за совершенное преступление, но и имеет целью…» (ст. 20 действующих Основ).
Вопрос о том, что возврат к терминам «наказание» и «кара» был связан с переходом к массовым репрессиям и что именно в 30-е и 40-е гг. был издан ряд законодательных актов, увеличивающих сроки наказания и ужесточающих условия отбывания наказания, заслуживает отдельного исследования и выходит за пределы этих заметок.
Здесь считаю возможным отметить лишь два момента:
а) очень хорошо, что указание на кару как на одну из целей наказания исключено из обсуждаемого проекта «Основ», и надо всячески добиваться, чтобы слово «кара» не восстанавливалось в законе. Говорю об этом потому, что за восстановление термина «кара», наверное, раздается немало голосов сторонников ужесточения уголовного законодательства, противников его гуманизации;
б) кое-кто считает, что от термина «наказание» надо возвратиться к термину «меры социальной защиты». Мне кажется, что это не нужно. Слово «наказание» емкое, привычное, понятное и для нас традиционное.
К тому же независимо от термина понятие «лишение свободы» (как и другие виды уголовного наказания) неизбежно содержит в себе какую-то степень ограничения личных прав и свобод осужденного (это хорошо сформулировано в ч. I ст. Проекта «Основ», и поэтому термин «наказание» без усиливающего его указания на «кара» надо считать более удачным, чем «меры социальной защиты»).
С учетом изложенного предлагаю ч. I ст. 28 сформулировать так: «Наказание не является возмездием или карой за совершенное преступление, а есть мера принуждения, применяемая от имени государства по приговору суда к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключающаяся в предусмотренных законом лишении или ограничении прав и интересов осужденного».
Ч. II ст. 28 необходимо изменить, подчеркнув, что охрана общества и прав человека от преступных посягательств является основной целью наказания.
Предлагаю ч. II ст. 28 изменить так:
«Наказание применяется в целях:
а) защиты общества и прав и свобод граждан от посягательств со стороны преступников, т. е. предупреждения совершения новых преступлений как осужденными, так и другими лицами;
б) исправления и перевоспитания осужденных в духе точного исполнения законов, честного отношения к труду, уважения к правилам человеческого общежития.
Ч. III ст. 28. Ст. 49 первого Испр. — труд. кодекса 1924 г. гласила: «Для действительного осуществления исправительно-трудовой политики режим в местах заключения должен быть лишен всяких признаков мучительства, отнюдь не допуская применения физического воздействия: кандалов, наручников, карцера, строго одиночного заключения, лишения пищи, свидания заключенных с их посетителями через решетку».
Действующее законодательство из всего этого перечня не применяет разве что кандалов.
Прекрасная статья Василия Еремина «Лесоповал» (Огонек. 51 и 52 за 1988 г.) избавляет меня от необходимости приводить примеры причинения страданий и унижения человеческого достоинства в местах заключения. Хотя содержание этой статьи можно дополнить множеством фактов прямого мучительства, применяемого в современных нам лагерях сегодня.
В действующих «Основах уголовного законодательства» 1958 г. записано: «Наказание не имеет целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства» (ст. 20). Это дословно повторено и в ч. III ст. 28 проекта новых «Основ».
Наказание — это принудительное лишение или ограничение прав (свобод) и интересов осужденного.
Следовательно, наказание неотделимо от какой-то степени причинения страданий. Здесь изначально заложено некоторое труднопреодолимое внутреннее противоречие с утверждением того, что наказание не ставит целью причинение страданий (физических и моральных).
Выход из этого противоречия один: четкая формулировка в законе степени лишений и ограничений при применении наказания. Это уже проблема исправительно-трудового, а не уголовного права.
Однако нельзя не учесть того, что некоторые услужливые ученые мужи-правоведы усердно доказывают в курсах исправительно-трудового права и в монографиях, что хотя наказание и не имеет целью причинение страданий, но причинение этих страданий может (и даже должно) применяться как средство для достижения цели.
Можно привести множество высказываний ученых по этому поводу. Ограничусь одной цитатой: «Цели наказания достигаются не только при помощи мер политико-воспитательного и трудового характера, но и путем применения мер принуждения, связанных с определенными лишениями и страданиями… Страдания и лишения применимы лишь в объеме, необходимом для решения задач, поставленных перед наказанием» (Ткачевский Ю. М. Советское исправительно-трудовое право. М.: Юридическая литература, 1971. С. 10).
Этот «необходимый объем страданий» широко толкуется в исправительно-трудовых кодексах республик и совсем необъятно широко применяется на практике, основываясь на многочисленных неопубликованных правилах, распоряжениях и инструкциях МВД и на бесконтрольности администрации мест заключения.
Повторяю: подробная разработка этого вопроса относится к области исправительно-трудового законодательства. Но ч. III ст. 28 с учетом вышеизложенного предлагаю изложить так: «Причинение осужденным физических и моральных страданий и унижение их человеческого достоинства не только не являются целью наказания, но и не могут применяться как средство для достижения целей наказания».
Ч. II ст. 31. Размеры штрафов, как минимальные, так и максимальные чрезвычайно высоки. Надо полагать, что штраф, который в законе поставлен по степени тяжести на второе место после порицания, будет применяться за менее опасные, в том числе и за неосторожные преступления. Так, по действующему Уголовному кодексу РСФСР, штраф предусмотрен за мелкое хищение (ст. 96 УК РСФСР), присвоение находки (ст. 97), небрежное использование или хранение сельскохозяйственной техники (ст. 99), побои, не причинившие никакого расстройства здоровья (ст. 112), оскорбление (ст. 131), халатность (ст. 172) и др.
Штрафы — минимальный свыше среднемесячной зарплаты и максимальный в 2–3 раза выше среднегодовой заработной платы — непосильны для рядового трудящегося гражданина. Если же говорить о людях, совершающих крупные корыстные преступления, то, во-первых, для них санкция в виде штрафа не предусмотрена, а во-вторых, закон предусматривает возможность неограниченного предельной суммой изъятия имущества, нажитого преступлениями, путем применения дополнительного наказания — конфискации имущества.
Считаю, что размеры штрафа должны быть снижены и установлены в пределах от 50 руб. до 1000 руб. Такие размеры штрафа установлены ныне действующим законодательством (ст. 30 УК РСФСР в редакции 1992 г.), и для увеличения их нет оснований.
Ч. II ст. 33. Здесь необходимо указать, что исправительные работы не применяются: к беременным женщинам и к женщинам, имеющим детей до 2-летнего возраста; к инвалидам; к мужчинам старше 60 лет и к женщинам старше 55 лет.
Ч. III ст. 33. Совершенно неправильно невключение в общий трудовой стаж, дающий право на пенсионное обеспечение по старости и по инвалидности, времени отбывания исправительных работ. Практически в ряде случаев это приведет к пожизненному наказанию в виде лишения пенсии. При наличии ч. IV 4 этой статьи, предусматривающей последствия злостного уклонения от отбывания исправительных работ, надо ч. III изложить в следующей редакции: «Время, фактически отработанное при отбывании исправительных работ, прерывает непрерывный стаж работы, дающий право на льготы по трудовому и пенсионному законодательству, но включается в общий стаж работы, дающий право на пенсионное обеспечение по инвалидности и старости».
Ст. 34. По указанным выше мотивам надо в такой же формулировке внести дополнение к ч. V ст. 34 (ограничение свободы) и к ст. 36 (лишение свободы).
Ч. I ст. 36. На протяжении всего периода истории советского уголовного права до 1937 г. максимальный срок лишения свободы был 10 лет. Даже в 1932 г., когда за хищение социалистической собственности был введен расстрел, альтернативная санкция — лишение свободы — оставалось на тот же срок — 10 лет. Только в 1937 г. Постановлением ВЦИКа и СНК СССР от 2/X-1937 об ответственности за особо опасные государственные преступления (измена Родине, шпионаж, диверсии и т. п.) был введен срок лишения свободы не свыше 25 лет.
Это был период наибольшего разгула массовых сталинских репрессий. Позже мы увидели этот же предельный срок — 25 лет — в печально знаменитых Указах от 4/VI-1947 г. И общество привыкло и примирилось с этими чудовищными сроками. И когда в «Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик» 1958 г. предельный срок лишения свободы был снижен до 15 лет, общество приняло это как гуманизацию уголовного кодекса (а значительное число людей сочло этот акт опасным послаблением).
На самом деле 15 лет лишения свободы — это очень много. Это необоснованный и нецелесообразно долгий срок. Если человека, совершившего преступление, можно исправить, то для этого не нужно 15 лет. (Да и 10 лет много.) Такие длительные сроки лишения свободы не исправляют, а озлобляют и развращают осужденного.
Еще в XVIII в. Чезаре Беккариа писал: «Одно из самых действенных средств, сдерживающих преступления, заключается не в жестокости наказаний, а в их неизбежности». Мы привычно ссылаемся на высказывания В. И. Ленина, который еще в начале нашего века писал (имея в виду мысль Беккариа): «Давно уже сказано, что предупредительное значение наказания обуславливается не его жестокостью, а его неотвратимостью». Ссылаемся — и увеличиваем сроки лишения свободы…
Считаю, что надо вернуться к действовавшему до 1937 г. 10-летнему максимальному сроку лишения свободы.
Кроме этого изменения из ст. 36 следует исключить все указания на смертную казнь, так как таковая подлежит безусловной отмене (см. замечания к ст. 41).
Ст. 41. Смертная казнь должна быть безусловно и безоговорочно отменена.
На протяжении столетий лучшие умы человечества отрицали смертную казнь как наказание, противоречащее принципам общечеловеческой морали. На сегодня во всей Европе смертная казнь сохранена только в социалистических странах.
Можно предвидеть, что, скажем, при проведении всенародного референдума большинство населения высказалось бы за сохранение смертной казни. Толпе свойственно кричать: «Распни его, распни!». Вот ведь находятся же люди, требующие смертной казни даже для детей (см. «Известия» от 2/I-89 г.), и это пишет женщина! Есть ли у нее дети?
И именно такой настрой нашего общества, вызванный десятками лет воспитания людей в духе ненависти, вражды и жестокости, настоятельно требует отмены смертной казни как необходимого шага к созданию человеколюбивой, высоконравственной атмосферы.
Еще Виктор Гюго говорил, что смертная казнь страшна не столько для тех, кого казнят, сколько для тех, кто казнит. Возможность приговорить человека от имени государства к убийству (к смертной казни) неизбежно влечет за собой у некоторых людей сознание своего собственного права на убийство. Вряд ли нужно повторять здесь все доводы против смертной казни, высказанные на протяжении веков, начиная от французских просветителей XVIII в. до выдающегося гуманиста наших дней А. Д. Сахарова. Эти доводы достаточно широко известны.
Могу лишь сказать о себе. За десятки лет адвокатской деятельности пятнадцать раз мне приходилось один на один смотреть в глаза людей, приговоренных к смертной казни (в отношении четырех из этих людей приговор был приведен в исполнение). Эти глаза я забыть не могу, и воспоминание о них усиливает мое убеждение в том, что в уголовном праве нет более безнравственного явления, чем смертная казнь.
Ограничения применения смертной казни, содержащиеся в тексте ст. 41, не устраняют неприемлемости смертной казни в принципе. Да и сами эти ограничения довольно шатки.
Так, например, смертная казнь допускается за государственную измену (ст. 1 Закона от 25/XII-1958 г., текст которой дословно включен в ст. 64 УК РСФСР). Но это понятие «измена» сформулировано так широко и неопределенно, что под него можно подвести все, что угодно (в тексте закона: отказ возвратиться из-за границы в СССР; оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности против СССР).
Смертная казнь допускается за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах. А по действующему закону (ст. 102 УК РСФСР), например, отягчающими обстоятельствами, в частности, являются «хулиганские побуждения». Другими словами, можно приговорить к смерти за убийство в драке, хотя такое убийство, как правило, не бывает предумышленным и зачастую субъективно не осознается как убийство лицом, участвующим в драке.
Число таких примеров можно увеличить.
Ограничение применения смертной казни возрастом в ч. II ст. 41 вряд ли можно признать достаточным. Неприменение смертной казни к мужчинам, достигшим 60 лет, можно считать проявлением гуманности (хотя я убеждена, что эта гуманность не исключает безнравственности смертной казни как таковой). Но как же можно с холодной рассудительностью написать в законе, что смертная казнь может быть применена к мальчикам, которым к моменту совершения преступления исполнилось 18 лет? В 18 лет еще вся жизнь впереди, впереди возможность не просто исправиться, а и стать другим человеком.
В моей практике есть случай, когда 18-летнему юноше, приговоренному к расстрелу, смертная казнь была заменена лишением свободы в порядке помилования. К моменту вынесения приговора он был не очень грамотным человеком. Годы заключения он упорно занимался самообразованием. После отбытия срока окончил медицинский институт, стал прекрасным врачом, спас и продолжает спасать сотни человеческих жизней.
Если из Закона не будет безоговорочно исключена смертная казнь, то где гарантия, что в один прекрасный день не появится указ, подобный Указу от 5/V-1961 г., безмерно расширяющий перечень преступлений, за которые может быть применена смертная казнь.
Раздел V. Назначение наказания
Ч. I ст. 43. Мне кажется, надо категорически возражать против отнесения к числу смягчающих обстоятельств «активное способствование раскрытию преступления».
Во-первых, указание на такое смягчающее вину обстоятельство влечет за собой возложение на обвиняемого обязанности помочь следствию уличать самого себя. Это противоестественно и ограничивает право обвиняемого выбирать способы защиты (в том числе и отказ от дачи всяких показаний).
Во-вторых, наличие такого указания может привести (а в ряде случаев обязательно приведет) к тому, что обвиняемый, стремясь смягчить свою вину, будет оговаривать невиновных людей с целью показать свое активное содействие следствию.
Предлагаю в п. «б» ч. I ст. 43 Основ исключить слова «активное способствование раскрытию преступления».
Ч. II ст. 44. Перечень отягчающих вину обстоятельств должен быть строго и четко зафиксирован в законе и не подлежит расширительному толкованию. Поэтому предлагаю ч. II ст. 44, предоставляющую союзным республикам неограниченное право расширять перечень отягчающих вину обстоятельств, исключить. Часть же III этой статьи усилить: «Перечень отягчающих вину обстоятельств является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит. При назначении наказания суд не может признать отягчающими обстоятельства, не указанные в законе».
Ч. I ст. 45. Право назначить наказание ниже низшего предела, установленного законом, должно быть безоговорочно предоставлено суверенному суду, поэтому предлагаю из ч. I ст. 45 исключить слово «исключительные». (Тем более, что вопрос о том, какие обстоятельства признать исключительными, все равно может признать лишь тот же суд).
Ч. III ст. 47. Если принять предложение об установлении высшим пределом срок лишения свободы — 10 лет (см. замечание к ч. I ст. 36), то надо исключить последнюю часть фразы, где речь идет о 15-летнем сроке.
Ст. 50. Исчисление сроков наказания в случаях, предусмотренных этой статьей, надо считать не в днях, а в сутках.
Раздел VI. Условное осуждение и отсрочка исполнения наказания
Замечаний нет.
Раздел VII. Освобождение от уголовной ответственности и наказания
Ч. IV ст. 55. Случаи перерыва срока давности при совершении нового умышленного преступления необходимо ограничивать, так как по тексту проекта любое, даже самое незначительное умышленное преступление приводит к тяжелым последствиям.
Считаю, что конец первой фразы ч. IV ст. 55 надо изложить так: «…совершит новое тяжкое или особо тяжкое умышленное преступление».
Ч. VII ст. 55. Надо либо здесь, в «Основах», перечислить случаи, когда давность не применяется, либо исключить ч. VII, а не ссылаться на какие-то неведомые «законодательные акты».
Ст. 58. Ч. I и ч. II ст. 58 проекта «Основ» противоречит ст. 160 Конституции СССР, так как нарушает принцип презумпции невиновности и предоставляет прокурору, следователю и даже дознавателю (!) право, по закону принадлежащее только суду. По тексту этой статьи проекта «Основ» получается, что прокурор, следователь и дознаватель решают вопрос о виновности обвиняемого. Нельзя не отметить, что такое нарушение ст. 160 Конституции может явиться причиной возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц прокуратуры и органов МВД (милиции) и, в частности, взяточничества.
Ст. 59-1. Предлагаю ввести статью об условно-досрочном освобождении по зачету рабочих дней при добросовестном отношении к труду. Институт досрочного освобождения по зачету рабочих дней существовал в нашем уголовном праве, и к нему надо вернуться как к средству воспитания в духе честного и добросовестного отношения к труду.
Ч. IV ст. 61. В действующих ныне «Основах» уголовного законодательства 1958 г. освобождение в случае тяжкого заболевания (кроме психического), препятствующего дальнейшему отбыванию наказания, предусмотрено не было. Однако эта норма была введена ст. 46 «Основ» исправительно-трудового законодательства 1969 г. и вошла в республиканские исправительно-трудовые кодексы (ст. 100 ИТК РСФСР).
В законе указано, что лица, страдающие тяжким заболеванием, препятствующим дальнейшему отбыванию наказания, могут быть (а не должны быть) судом освобождены от дальнейшего отбывания наказания. Это «могут быть» сохранено и в обсуждаемом проекте «Основ». Другими словами, если установлено (медицинской экспертизой), что человек по состоянию здоровья не может дальше отбывать наказание, то суд может, не оспаривая заключение экспертизы, а руководствуясь различными другими соображениями, отказать в освобождении от дальнейшего отбывания наказания.
Мы не знаем статистики, но, судя по практике, можно утверждать, что освобождение из заключения больных и даже умирающих было редкостью. Люди умирали и еще умирают в зонах. Поэтому считаю, что в ч. IV ст. 61 Основ слова «может быть освобождено» должны быть заменены словами «подлежит освобождению».
Ч. I ст. 62. Текст этой статьи проекта «Основ» находится в противоречии с принципом презумпции невиновности. «Лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, а лицо, осужденное за преступление, может быть полностью или частично освобождено от наказания… на основании акта амнистии или помилования».
«Лицо, осужденное» — здесь все ясно. Но если суда еще не было, то кто и в каком порядке, применяя амнистию или помилование, решает вопрос — совершило ли данное лицо преступление? Предлагаю слова «Лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности» исключить. Помилование, или амнистирование, т. е. прощение человека, вина которого не установлена приговором суда, не должно иметь места.
Ч. I ст. 63. Необходимо дополнить ч. I ст. 63 словами: «Судимость не влечет за собой ограничение права проживания в каких-либо местностях, а также права работать по специальности, если приговором не установлено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью». Такое дополнение необходимо, так как в практике существуют установленные ведомственными актами, а зачастую и произвольно чинимые ограничения, которые лишают возможности нормально жить и работать людей, отбывших срок наказания.
СУДЕБНЫЕ РЕЧИ. АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
От составителя: Президиум Московской коллегии адвокатов время от времени стенографировал судебные речи защитников для проведения аттестаций. Так были застенографированы две речи Софьи Васильевны. Мы приводим здесь одну из таких стенограмм.
На политических процессах 60-70-х гг. родилась процедура коллективной записи судебного заседания родственниками и друзьями обвиняемых. Магнитофонами в зале суда пользоваться запрещалось (да и записи приходилось делать украдкой). Писали все, кому удавалось пройти в зал суда, — кто что успевал. В тот же вечер записывавшие (иногда шесть-семь человек) собирались и составляли единый текст, которой затем публиковался в «самиздате». Две таким образом записанные речи Софьи Васильевны — в защиту Вадима Делоне и в защиту Анатолия Малкина — представлены в этом разделе.
Речь в защиту Александра Подрабинека никогда не была произнесена, она написана рукой Софьи Васильевны, которая в этом время уже вынуждена была уйти из Коллегии адвокатов (хотя, как видно из публикуемого текста, могла бы еще защищать и защищать).
Защитительная речь по делу Михайлова в судебной коллегии по уголовным делам Московского облсуда 12 мая 1958 г.
В судебном заседании бесспорно установлены следующие обстоятельства дела:
После окончания рабочего дня 9/VII-57 г. грузчики Матицин, Михайлов, Федоров и Беляков в нетрезвом состоянии были на станции Кунцево, и здесь между Михайловым и подошедшим Лукашевым произошел конфликт — ссора, в которой какое-то участие на стороне Михайлова принял Матицин.
После этого Матицин, Михайлов, Федоров и Беляков пошли в закусочную 2, расположенную на углу Некрасовской улицы и Косого переулка, где выпивали, сидя за одним столом. За этим столом сидели еще две женщины. В той же закусочной за другим столом был и Лукашев.
Михайлов ударил по лицу одну из женщин — Жирнову. Кто-то заступился за Жирнову, после чего в закусочной началась драка. В драке избитым оказался Лукашев.
Через некоторое короткое время (10-15-20 минут) в Косом переулке, куда выходят ворота со двора закусочной, был обнаружен смертельно раненный ножом Матицин, а в пяти шагах от него был задержан Михайлов, одежда которого была сильно испачкана кровью. Нож ни у Михайлова, ни около умирающего Матицина обнаружен не был.
Михайлов, обвиняемый в убийстве Матицина, с первого допроса и до сегодняшнего дня утверждал и утверждает, что он ножа не имел, Матицина, являющегося его другом, не убивал, что он подошел к смертельно раненному кем-то другим Матицину и пытался оказать ему помощь, зажимал рану рукой, хотел поднять раненого, но не удержал и уронил и в это время был задержан.
Я сознательно излагаю перед вами, граждане судьи, обстоятельства дела предельно кратко, указывая лишь те моменты, по которым нет спора между обвинением и защитой.
Вам известно, что приговором от 10/XII-57 г. Михайлов был признан виновным в убийстве Матицина и приговорен к высшей мере наказания — расстрелу.
Этот приговор был отменен Верховным судом РСФСР по жалобе защиты. Новое судебное следствие, проведенное неторопливо и тщательно, еще более укрепило убеждение защиты в том, что предание Михайлова суду по п. «а» ч. I ст. 136 УК РСФСР является тяжелой ошибкой, что Михайлов не совершал убийства, что настоящий убийца Матицина остался неразоблаченным.
Обвинение, предъявленное Михайлову по ч. II ст. 74 УК РСФСР, естественно, волнует меня значительно меньше. Михайлов признал себя виновным в хулиганстве. Его вина в этой части доказана показаниями свидетелей. Что же сказать по этому поводу? Разве только то, что он хулиганил в закусочной не один, а на скамье подсудимых оказался один. Но это не исключает состава преступления в его действиях. Не мое дело, защитника, говорить о привлечении других лиц. Я могу лишь просить не возлагать на Михайлова ответственность за всю сумму беспорядка, учиненного в закусочной несколькими лицами, и судить его лишь в меру его индивидуальной вины за те хулиганские действия, которые он лично совершил.
Не оспаривая виновности Михайлова в хулиганстве и квалификации его действий по ч. II ст. 74 УК РСФСР, я не буду об этом больше говорить в защитительной речи до самого ее завершения, пока не встанет вопрос о том, какую меру наказания, с точки зрения защиты, нужно определить Михайлову по ст. 74 УК РСФСР. Все время, которое я вынуждена отнять у вас для защитительной речи, я посвящу исключительно вопросу обвинения Михайлова по ст. 136 УК РСФСР.
Для того, чтобы карать действительных преступников, для того, чтобы кара правосудия со всей тяжестью обрушилась на человека действительно виновного в совершении тяжкого преступления, — совершенно необходимо строжайшее соблюдение законности при расследовании преступления. Мне представляется, что это положение бесспорно.
Вся сложность настоящего дела заключена в том, что с самого начала, с первых минут расследования по делу убийства Матицина были допущены нарушения закона, и эти нарушения привели к тому, что вопрос о действительном, настоящем виновнике, о настоящем убийце Матицина разрешить трудно, а может быть, и невозможно.
Закон устанавливает, что сложные дела о тяжких преступлениях, в том числе об убийствах, должны расследоваться квалифицированными следователями прокуратуры. В нарушение ст. 108 УПК РСФСР настоящее дело в течение длительного времени расследовалось работниками милиции и было передано в прокуратуру только через 20 дней после убийства. В течение первых 20 дней, когда возможно было собрать все доказательства и улики квалифицированно, с применением научно-технических средств, и раскрыть преступление и установить действительного убийцу, — следствие вели работники милиции, которые по закону не имеют права расследовать дела об убийствах.
Беда была бы невелика и нарушение это можно было бы счесть формальным, если бы следствие было поручено одному опытному, знающему и грамотному работнику милиции, который правильно и объективно расследовал бы и проверил все возможные версии по делу. Однако, если вы, граждане судьи, посмотрите первоначальные материалы дела, то убедитесь, что допросы вели и выполняли другие следственные действия около 10 работников милиции, и среди них есть такие, которых никак нельзя признать сколько-нибудь пригодными для расследования столь серьезного дела по уровню юридической и общей грамотности. В качестве примера я могу сослаться на протокол допроса на листе дела 20, составленный явно малограмотным человеком.
К чему привело нарушение ст. 108 УПК? Следствие было начато неправильно, плохо, односторонне. Не были своевременно исследованы все возможные по делу версии. Утверждая, что следствие было начато плохо, я могу сослаться на такой авторитетный документ, как Постановление Президиума Верховного суда РСФСР от 9/IV-58 г. по данному делу, где прямо записано: «Ввиду плохо начатого следствия, орудие убийства — нож, которым было нанесено Матицину смертельное ранение, — обнаружено не было». Вопрос о ноже имеет чрезвычайно серьезное значение, и я к нему еще вернусь.
Михайлов был задержан в 4–5 шагах от трупа Матицина и оказался при задержании весь в крови. Эта улика с самого начала показалась работникам милиции, производившим следствие, настолько исчерпывающей и достаточной, что никаких других версий и предположений проверять не стали, а все допросы и все следственные действия велись только с целью во что бы то ни стало уличить Михайлова. Таким образом, была нарушена и другая статья УПК, ст. 111, которая обязывает органы следствия выяснить все обстоятельства, независимо от того, говорят ли эти обстоятельства против обвиняемого или в его пользу.
При таком ведении следствия, естественно, не расследовалось преступление, не исследовались и не проверялись все возможные версии, а подбирались доказательства против человека, задержанного у трупа Матицина и испачканного кровью, т. е. против Михайлова.
Я просила суд огласить показания свидетеля Ульянова, несмотря на то, что эти показания, как может показаться на первый взгляд, не имеют никакого отношения к вопросу о виновности или невиновности Михайлова в убийстве. Вы помните, граждане судьи, Ульянов — это потерпевший в драке, проходившей около закусочной днем 9/VII-57 г. Участие в этой драке не вменено Михайлову. Ульянов допрашивался в милиции и говорил, что избивал его неизвестный в светло-сером костюме, выше среднего роста, плотного сложения, блондин (описание внешности и костюма не соответствует внешности и костюму Михайлова). А далее в протоколе допроса Ульянова записано: «… как мне стало известно в органах милиции, его фамилия Михайлов» (?!). Оказывается, Ульянов не знал фамилии человека, который его избивал, а в милиции ему подсказывают: «Избивал тебя Михайлов». Для чего? Чтобы вменить Михайлову еще один эпизод.
Протокол допроса Ульянова — это показатель того, как следователь, даже не применяя явно незаконных приемов на допросе в своем стремлении уличить, а не расследовать, наталкивает добросовестного свидетеля на показания, которые при проверке оказываются, мягко выражаясь, несоответствующими истине.
И в самом деле — предъявляют после этого допроса Михайлова на опознание, и Ульянов говорит: ничего подобного, я этого человека не знаю, не он меня избивал!
В отношении же свидетеля Федорова, главного и, по существу, единственного свидетеля обвинения, были применены прямо и явно незаконные методы ведения следствия. Свидетеля Федорова только формально называли свидетелем, а на самом деле держали в КПЗ в качестве «подозреваемого в убийстве». Как же можно от такого свидетеля ожидать объективных, беспристрастных и правдивых показаний?
Федоров сказал в судебном заседании, что ему угрожали. Можно было бы ему не поверить, можно было бы сказать, что Федоров попытается вывернуться из неприятного положения, в которое он попал, меняя свои показания. Но мы представили справку, документ, выданный милицией по запросу суда, и эта справка подтверждает то, о чем сказал Федоров в судебном заседании. Если «свидетеля» не пускают домой, пять дней держат в КПЗ как подозреваемого в убийстве (без протокола задержания, без санкции прокурора!), то разве это не угроза? Да тут и угрожать не надо, достаточно намекнуть: «Ты дай показания против Михайлова, иначе смотри, ты у нас подозреваемый в убийстве». И вот результат: показания Федорова на предварительном следствии, прямо уличающие Михайлова в убийстве, и категорический отказ от этих показаний в судебном заседании.
Противоречия в показаниях Федорова многочисленны. Несчастный человек, запутавшийся в своих показаниях потому, что он давал показания, движимый двумя разноречивыми чувствами, с одной стороны присущей ему, очевидно, честностью и желанием сказать только то, что он знает, с другой стороны нависшей над ним угрозой: если не дать показания против Михайлова, то сам окажешься не свидетелем, а обвиняемым.
А угроза эта для Федорова была реальной. Ведь мы так и не установили, почему у Федорова обе руки были в крови. Показания свидетеля Каткова, который брал у газировщицы воду и поливал ее на окровавленные руки Федорова, неопровержимы.
Неправильное ведение следствия в милиции ярко видно и на примере показаний свидетеля Демина, которого здесь прокурор, очевидно по недоразумению, зачислил в число сослуживцев и приятелей Михайлова. Установлено, что Демин и Михайлов ранее друг друга не знали. На листе дела 20, правда, предельно неграмотно записаны, но все же записаны работником милиции показания Демина о том, что якобы он видел в руках у Михайлова финский нож и что якобы этим финским ножом Михайлов «угрожал парню в сапогах, хотя этого парня на улице не было».
Неточно говорит представитель государственного обвинения, что от этих показаний Демин отказался в судебном заседании. Он от этих показаний отказался, как только дело из рук работников милиции перешло в руки того органа, которому по закону надлежит заниматься расследованием дел об убийстве. На листе дела 244, еще в предварительном следствии, вы увидите показания Демина, где он говорит, что он никакого ножа не видел, что он не знает, к кому относилась угроза парня в коричневом плаще, и сказать по этому поводу ничего не может. Эти же показания Демин повторил и в судебном заседании.
Я не стану останавливать ваше внимание на других мелких нарушениях и пробелах предварительного следствия. Дело в конце концов перешло в руки опытного следователя областной прокуратуры, который сделал попытку исследовать другие версии, но или эта попытка была недостаточно энергичной, или действительно было уже слишком поздно и сделать ничего не удалось.
Если вы, граждане судьи, отклонили мое ходатайство о направлении дела на доследование, значит, вы убеждены, что больше нельзя добыть доказательств и нельзя больше ничего по этому делу открыть. Мне кажется, что тщательным, терпеливым и, я бы сказала, кропотливым расследованием еще можно установить истину. Но, может быть, вы и правы, может, действительно слишком поздно и, может быть, утрачена возможность осуществить основную задачу правосудия установить истину и покарать настоящего убийцу. Но еще не поздно осуществить вторую, не менее важную задачу правосудия, еще не поздно предотвратить осуждение человека, вина которого не доказана.
Оставить преступление нераскрытым, сказать, что мы сегодня не знаем, кто 9/VII-57 г. убил Матицина, это, конечно, тяжело. Признать, что не удалось установить истинного, действительного убийцу Матицина, — это трудно. Но насколько тяжелее и труднее вынести обвинительный приговор Михайлову, если нет уверенности в том, что он совершил это убийство (а такой уверенности не может быть по материалам судебного следствия), если есть сомнения, если возможны другие версии, если не исключено совершение этого убийства другими лицами.
Прежде чем перейти к анализу улик, собранных по делу, я обязана в нескольких словах остановиться на квалификации действий, вменяемых Михайлову, безотносительно к решению вопроса о их доказанности.
В постановлении о предъявлении обвинения Михайлову, так же, как и в обвинительном заключении, не указан ни один из квалифицирующих признаков, предусмотренных ст. 136 УК. В обвинительном заключении нет ссылки на какие-либо отягчающие обстоятельства, образующие состав преступления по ст. 136 УК РСФСР. Поэтому, если бы не было спора о виновности или невиновности Михайлова в убийстве, то надлежало бы сказать, что его действия должны быть квалифицированы по ст. 137 УК РСФСР, так как ему вменено убийство без отягчающих обстоятельств. Но я не стану подробнее останавливаться на квалификации вмененных Михайлову действий, так как глубоко убеждена в невиновности Михайлова, глубоко убеждена в том, что не Михайлов убил Матицина, и считаю, что Михайлов по обвинению в убийстве должен быть оправдан.
Прокурор, обвиняя Михайлова в совершении убийства, ничего не сказал о мотивах, которые могли привести Михайлова к убийству Матицина. А разве не ясно, что вопрос о мотивах убийства имеет огромное значение не только для правильной квалификации преступления, но и для решения вопроса о виновности или невиновности обвиняемого.
Вы, граждане судьи, установили с исчерпывающей полнотой, что Михайлов и Матицин были друзьями. Это подтвердили все свидетели, работавшие с Михайловым и Матициным. Жена погибшего Матицина подтвердила наличие хороших отношений между ее, ныне покойным, мужем и Михайловым. Между друзьями могут быть ссоры, особенно, если эти друзья выпили.
Между друзьями могут быть драки, особенно, если друзья сильно пьяны и если есть причина для ссоры и драки. Но для того, чтобы убить своего приятеля, человека, с которым, по выражению свидетеля Белякова, отношения были братские, нужна очень серьезная причина.
В наше время и в нашей стране безмотивные убийства, даже в пьяном виде, чрезвычайная редкость. Для молодого человека, воспитанного в советской семье, в советской школе, в советском рабочем коллективе, привычно отношение к личности человека, к жизни каждого советского человека как к высшей ценности. Это и дает мне основание утверждать, что самый факт безмотивности, беспричинности убийства заставляет сомневаться в виновности. Для того, чтобы доказать виновность Михайлова в убийстве Матицина, надо вскрыть и доказать мотивы этого убийства.
В обвинительном заключении написано, что Михайлов убил Матицина за то, что Матицин заступился за Жирнову, за незнакомую им женщину, которую ударил Михайлов.
Я уже не говорю, что такой мотив для убийства слишком мелок, слишком ничтожен. Но установили ли вы, граждане судьи, в судебном заседании, кто заступился за Жирнову? Матицин ли заступился за Жирнову? Жирнова в судебном заседании показала: «За меня заступился мой знакомый Меркулов. Меркулов сказал: «За что бьешь женщину?»». Это тот самый Меркулов, который также задерживался и подозревался в убийстве по этому делу, но эта версия осталась непроверенной, нерасследованной.
По этому вопросу допрашивались свидетели Демин и Ларин. Они утверждают, что за Жирнову вступился неизвестный парень, сидевший за их столиком. Ранее Демин и Ларин показали, что за их столиком сидел и за Жирнову заступился именно тот парень, который затем оказался убитым, т. е. Матицин. Однако в судебном заседании установлено совершенно бесспорно и с исчерпывающей полнотой, что Матицин сидел за одним столиком с Михайловым, Федоровым, Беляковым и здесь же сидела Жирнова, а Демин и Ларин сидели за другим столом, по другую сторону от входа, и с ними сидел какой-то неизвестный им парень. Установлено, что Демин и Ларин лишь предполагали, что убитым оказался парень, сидевший за их столом и заступившийся за Жирнову, так как убитого Матицина им для опознания не предъявляли.
Есть очень много оснований считать, что за одним столом с Деминым и Лариным сидел Лукашев. Однако я воздерживаюсь от утверждения, что это именно был Лукашев, я не стану свои предположения и убеждения выдавать за бесспорно установленный факт. Не стану утверждать, что за одним столом с Деминым и Лариным сидел Лукашев, но устанавливаю, что это был не Матицин. Кстати, надо сказать, что в возникшей тут же драке избитым оказался не Матицин, а Лукашев — это отмечено и в обвинительном заключении.
Какие же основания утверждать, что за Жирнову заступился Матицин? Только показания так называемого свидетеля Федорова, который показал: «Матицин заметил — зачем ты бьешь женщину, придет милиция, и нас заберут». Хорошенькое заступничество за женщину! Это не за женщину он заступился, а за себя и за свою пьяную компанию. Такое «заступничество» не повод для ссоры, для драки, для убийства.
Для решения вопроса о том, у кого и какие мотивы, которые могли привести к убийству Матицина, очень важно установить, кто с кем дрался в закусочной после нанесения Михайловым удара Жирновой за несколько минут до того, как совершилось убийство. По этому вопросу в показаниях свидетелей были противоречия. Большинство свидетелей предпочли ограничиться формулой: «Народу было много, кто кого бил, понять было трудно».
Но вот по настоянию защиты в судебное заседание явился свидетель Козлов. Человек пожилой, он зашел в закусочную выпить кружку пива в момент, когда там происходили события, интересующие нас сегодня. И этот свидетель Козлов четко и совершенно категорически показал: четверо избивали Лукашева. Он так показал при допросе на предварительном следствии, он так показал на очной ставке с Лукашевым (а Лукашев его показания подтвердил), он так показал сегодня в суде: «Я увидел, что четыре парня избивают Лукашева, и сказал им — что вы четверо на одного навалились?».
Сам Лукашев по этому поводу показывает, что первый удар ему нанес Михайлов, а потом его стали избивать все товарищи Михайлова, бывшие с ним в закусочной.
Таким образом, показаниями Козлова и Лукашева установлено, что четверо Михайлов, Матицин, Федоров и, очевидно, Беляков, хотя он это и отрицает, избивали в закусочной Лукашева. Установлено, что ссора и драка в закусочной произошли не между Михайловым и Матициным, а между Михайловым, Матициным, Федоровым, с одной стороны, и Лукашевым, с другой стороны. Избитым в кровь оказался не Михайлов, не Матицин, а Лукашев. Мотивы мести могли появиться не у Михайлова, а у Лукашева.
Уклонившись от исследования в своей речи вопроса о мотивах убийства, прокурор ограничился лишь неоднократным повторением утверждения, что ряд косвенных улик смыкается вокруг Михайлова. При этом прокурор не затруднил себя даже простым перечислением этих, якобы неопровержимых, улик, смыкающихся вокруг Михайлова. В этой связи необходимо прежде всего обратиться к такому документу, как постановление Президиума Верховного суда РСФСР от 9/IV-58 г. по этому делу. Указав на необходимость тщательной проверки и оценки показаний свидетеля Федорова, прямо уличающего Михайлова в убийстве Матицина, Президиум Верховного суда РСФСР в своем постановлении прямо записал: «Все остальные доказательства, на которые сослался суд, являются косвенными и не замыкаются вокруг личности обвиняемого Михайлова».
Иными словами, Верховный суд РСФСР, проверив и оценив все доказательства, собранные по делу и положенные в основу первого обвинительного приговора, по которому Михайлов был осужден к высшей мере наказания — расстрелу, признал, что косвенные улики, собранные по делу, не составляют той замкнутой цепи доказательств, которая единственно может привести к осуждению обвиняемого, а прямая улика — показания свидетеля Федорова, нуждается в тщательной проверке.
Это указание вышестоящей инстанции для всех нас является обязательным.
В показаниях Федорова было много противоречий. На предварительном следствии он сначала утверждал, что ничего не помнит, потом стал прямо уличать Михайлова, утверждая, что видел в его руке нож, которым тот нанес удар Матицину.
Но вот Федоров стоял здесь перед вами и дважды повторял: «Я оговорил Михайлова, я не видел ножа в его руках, я не видел, чтобы он ножом или чем-либо иным ударил Матицина, я видел, что он плакал, я видел, что он держал Матицина, и когда я подошел, он его уронил и Матицин упал. Я увидел кровь и убежал».
Причины, по которым Федоров оговорил Михайлова, достаточно ясны, об этом я уже говорила и не стану повторяться.
Единственная прямая улика, добытая в предварительном следствии, при проверке оказалась порочной, недостоверной, искусственно созданной.
Показания свидетелей Петровой, Аверьяновой, Кошкина, Власовой, Медведева, на которых обвинительное заключение ссылается как на доказательство виновности Михайлова в убийстве, не только не уличают Михайлова, не только не исключают версии об убийстве Матицина Лукашевым, но в значительной степени даже подтверждают версию защиты.
Я очень далека, граждане судьи, от намерения обвинять здесь перед вами Лукашева. Да, я не имею права этого делать. Лукашев не обвиняемый, у него нет защитников, а я не прокурор. Я не обвиняю Лукашева, но я обязана сказать: версия об убийстве Матицина Лукашевым материалами дела не исключена, а до тех пор, пока она не исключена, не может быть осужден Михайлов.
Вы помните, граждане судьи, как Аверьянова и Петрова, эти две свидетельницы, которые несомненно знают больше, чем показывают, эти буфетчица и официантка, которых завсегдатаи закусочной называют попросту Зина и Люба, как они открещивались от Лукашева? Они, мол, его в этот день и не видели и был ли он в закусочной — не знают, если бы он был избит, то они его узнали бы, так как вообще его хорошо знают.
А что говорят другие свидетели, ничем между собой не связанные и не знающие друг друга?
Свидетель Козлов (который знает Лукашева) подтвердил, что Лукашев был в закусочной и именно его избили четверо ребят.
Федоров, по другим вопросам менявший свои показания, с первого допроса и до сегодняшнего утверждал, что после драки в закусочной видел Лукашева в подсобном помещении закусочной с ножом в руках.
Свидетели Демин и Ларин утверждают, что «избитого парня» (а избит был только один Лукашев) Зина и Люба спрятали в подсобку. Наконец приводят Лукашева. Его приводят под стражей, так как он уже осужден за разбойное нападение к 17 годам заключения. Что же, он отрицает, что был в подсобке? Нет, он это признает. Он спорит против одного. Он говорит, что у него в руках был не нож, а вилка. А все остальное он признает. Что его официантка спрятала в подсобку, признает, что она ему поливала на руки воду и он умывался — признает, что он через коридор подсобного помещения вышел во двор, где ему Зина открыла «штырь» на воротах и выпустила в Косой переулок, — он признает.
Значит, на Косом переулке оказался Лукашев с ножом в руках. Вы не забудете, что гастрономический нож пропал в этот же вечер из закусочной, а Аверьянова и Петрова показали, что Лукашев знал, где хранились ножи. Лукашев с ножом в руках оказался в том самом Косом переулке, где прямо против ворот закусочной через несколько минут был обнаружен смертельно раненный Матицин.
Михайлов утверждает, что когда он подошел к смертельно раненному Матицину, то видел какого-то человека, убегающего с места преступления через сады и огороды. Достаточно посмотреть на схему места, где совершено преступление, чтобы убедиться, что, выйдя из ворот закусочной в Косой переулок, Лукашев для того, чтобы попасть домой, куда он, по его показаниям, стремился, должен был повернуть налево и дойти до конца маленького Косого переулка тут же за углом и дом Лукашева. А он, по его показаниям и по показаниям свидетеля Козлова, повернул направо, выбежал на Некрасовскую улицу, забежал на чужой участок (на участок свидетеля Козлова) и огородами, через заборы, кружным путем отправился домой. Не это ли является подтверждением показаний Михайлова о человеке, убегавшем садами и огородами?
Может быть, Михайлов видел убегавшим и не Лукашева. Не знаю.
Я не могу утверждать, что именно Лукашев унес с собой нож, которым был поражен Матицин. Но такая версия не исключена материалами, собранными по делу, а до тех пор, пока она не исключена, невозможно признать Михайлова виновным в этом убийстве.
Сейчас я перехожу к самой серьезной, с моей точки зрения, контр-улике по делу. К вопросу о ноже.
Из показаний Медведева и из акта задержания Михайлова видно, что Михайлов был задержан буквально у самого трупа Матицина: 4–5 шагов — вот расстояние от трупа до места задержания Михайлова.
Вы, граждане судьи, помните, что при задержании Михайлова никакого ножа у него не обнаружено. Не было ножа и около лежащего в крови Матицина. А между тем рана нанесена ножом. Где нож? Этот вопрос неизбежно должен был беспокоить и лиц, производивших расследование. И предпринимается обширный обыск местности, потому что совершенно естественно предположить, что преступник, видя, что ему не избежать задержания, может забросить нож. 10 человек в течение 2-х часов прочесывают не только Косой переулок, но и все прилегающие к Некрасовской улице и Косому переулку садики и огороды, обшаривают эту местность в радиусе 150 метров от места убийства и ножа не находят.
Одной этой контр-улики достаточно для того, чтобы не только усомниться в виновности Михайлова, но и для того, чтобы прямо прийти к выводу о его невиновности. Нож унес с собой тот, кто нанес смертельный удар Матицину и убежал. Не знаю, был ли это Лукашев, но тот, кто нанес ранение, унес с собой нож. Иначе нож оказался бы в руке Михайлова при задержании, либо торчал бы в груди умирающего Матицина, либо валялся бы на расстоянии, доступном руке пьяного человека. Даже чемпион не может забросить нож на расстояние 150 метров, а на таком расстоянии обыскана местность, и ножа не оказалось.
Значит, нельзя признать Михайлова виновным в убийстве. Чудес не бывает. Если удар нанесен ножом, этот нож был в руках убийцы, и если убийца не задержан, то он может нож унести с собой, но если убийца задержан на месте преступления, то нож должен быть здесь. Нет ножа, и это дает мне право утверждать, что Михайлов не может быть признан виновным в убийстве Матицина.
Прокурор ссылается на заключение криминалистической экспертизы. Прокурор говорит о том, что утверждение Михайлова, что он пытался поднять смертельно раненного Матицина, зажимал рану рукой, хотел оказать помощь, опровергается заключением криминалистической экспертизы и показаниями свидетеля Медведева. Я прошу вас, граждане судьи, еще раз посмотреть заключение эксперта-криминалиста для того, чтобы убедиться, что прокурор неправ. Перед экспертом был поставлен вопрос, был ли смертельно раненный Матицин передвинут с места на место или приподнят и опущен вновь на землю. В прошлом судебном заседании эксперт дал заключение, из которого явствует, что он не может ответить на поставленный перед ним вопрос, так как материалы дела не содержат данных для разрешения этого вопроса. Это заключение было не совсем ясно сформулировано, и суд, рассматривавший дело в первый раз, указал в приговоре, что по заключению экспертизы Матицин после нанесения ему ранения не был стронут с места.
В сегодняшнем судебном заседании эксперт уточнил формулировку своего заключения и прямо указал, что экспертиза по имеющимся материалам дела не может дать ответа на поставленный вопрос. Следовательно, заключения экспертизы как доказательства по существу дела нет. Недостаточность материалов для разрешения вопроса экспертом может доказывать неполноту следственных материалов, но не доказывает виновность Михайлова в убийстве ни прямо, ни косвенно.
Медведев в суде показал, что Михайлов был сильно испачкан в крови: «У Михайлова одна рука была так испачкана в крови, как будто он окунул ее в кровь. Кровь просочилась и запеклась между пальцами». Вы слышали эти показания, граждане судьи. Разве эти показания не подтверждают объективно утверждение Михайлова о том, что он пытался зажать рану своей рукой?
Тот же Медведев, задержавший Михайлова, показал: «Михайлов кричал, что он не убивал, что это его товарищ».
Таким образом, версия Михайлова находит непосредственное подтверждение в показаниях свидетеля Медведева, и непонятно, почему прокурор ссылается на показания этого свидетеля как на доказательство виновности Михайлова.
Не менее важные показания дали другие свидетели, присутствовавшие при задержании Михайлова.
Свидетель Кошкин показал: «Михайлов кричал, дайте «скорую помощь», это мой товарищ, его зарезали».
Свидетель Петрова показала, что Михайлов бежал навстречу милицейской машине и кричал: «Зарезали товарища, окажите помощь!»
Свидетель Аверьянова показала, что она видела Михайлова, когда он с работниками милиции стоял около трупа и кричал: «Пускай я буду убийца, но спасите товарища».
Медведев утверждает, что при задержании Михайлов не пытался бежать, но сопротивлялся, когда его сажали в машину. Важно установить, почему он сопротивлялся. Михайлов объяснил, что он хотел добиться оказания помощи Матицину, считая, что он еще жив. Все свидетели подтверждают, что Михайлову со стороны кричали: «Убийца», а он отвечал: «Пусть я буду убийца, спасите моего товарища». Эти показания подтверждают объяснения Михайлова.
Разве не ясно, что убийца, всадив нож в грудь своей жертве, стремится скрыться, убежать, избежать задержания у трупа? А Михайлов бежит навстречу милицейской машине, кричит: «Зарезали товарища, окажите помощь». Несмотря на то, что он весь испачкался в крови, пытаясь помочь раненому товарищу, Михайлов не думает в этот момент о том, что на него может пасть подозрение, он не стремится скрыться, он обращается за помощью к тем, от кого должен бежать преступник.
Это еще одно обстоятельство, говорящее о том, что убийство совершил не Михайлов, что убийца убежал с места преступления и унес с собой нож.
Следующее обстоятельство, на которое ссылается прокурор как на доказательство виновности Михайлова, — это заключение судебно-медицинской экспертизы о пятнах крови. При этом прокурор ставит вопрос так: «Вы не можете, граждане судьи, отвергнуть заключение экспертизы».
Здесь два момента чрезвычайно существенных. Один момент относится к области законодательства, а другой — к области практического значения этой экспертизы для обвинения.
Из области законодательства вряд ли мне нужно напоминать вам, граждане судьи, что заключение всякой экспертизы, в том числе и судебно-медицинской, является одним из видов доказательств и что суд, оценив это доказательство, может принять его или отвергнуть, как и всякое иное доказательство. Поэтому прокурор совершенно неправ, если он утверждает, что вы, граждане судьи, не можете отвергнуть заключение судебно-медицинской экспертизы.
Эксперт совершенно бездоказательно утверждает, что пятна крови на одежде Михайлова могли образоваться только при нанесении им удара ножом и что такие пятна, в большинстве своем мелкоточечные, не могли образоваться при тесном соприкосновении с Матициным после получения им ранения. Это свое утверждение эксперт не сопровождает какой-либо обоснованной мотивировкой.
Если взять заключение эксперта в совокупности с описанием вещественных доказательств (одежды Михайлова), сделанным тем же экспертом в предварительном следствии, то не является ли это заключение, наоборот, подтверждением версии Михайлова?
Не слишком ли много крови оказалось на одежде Михайлова для того, чтобы признать его виновным в нанесении одного удара ножом?
Если Михайлов нанес Матицину один удар ножом в грудь, то на него могли попасть брызги крови. Эта кровь могла попасть на том уровне, где нанесена рана. Кровь могла брызнуть на руку, на грудь, немного выше, немного ниже. Но когда вы смотрите описание на листе дела 87, вы убеждаетесь, что на плаще и одежде Михайлова обнаружено 122 пятна крови, причем из этих 122 пятен крови только 26 являются мелкоточечными, остальные же так называемые помарки. Размеры этих «помарок» таковы, что неизбежно возникает вопрос о тесном соприкосновении Михайлова с раненым Матициным. Откуда, каким образом могли попасть эти пятна-«помарки» на изнанку плаща, на задние полы плаща, на изнанку и внутренние поверхности рукавов, если не поверить Михайлову, что он наклонялся к раненому Матицину, подымал его к себе? Иначе откуда кровь на изнанке карманов, откуда кровь на внутренних поверхностях обоих рукавов, откуда кровь на подошвах сандалет?
Наличие такого числа больших пятен-«помарок» (а отдельные из них доходят до размеров 66–68 кв. см) подтверждает объяснения Михайлова, а не доказывает его виновность.
На вопрос, поставленный защитой в судебном заседании, эксперт ответил, что в течение некоторого короткого времени после того, как была нанесена рана, кровь может пульсировать и фонтанировать, а следовательно, давать брызги.
Вспомним показания Медведева о том, что когда он задержал Михайлова и подошел к лежащему Матицину, то Матицин был еще жив, что пульс, очень слабый, но еще был. Значит, в тот момент, когда Михайлов пытался оказать помощь Матицину, кровь еще могла фонтанировать.
Я уже не говорю о том, что когда в закусочной при драке был разбит нос Лукашеву, мелкоточечные брызги крови тоже могли попасть на одежду Михайлова. Ведь экспертиза не дала заключение, что кровь, обнаруженная на одежде Михайлова, по типу и группе совпадает с кровью убитого Матицина.
При таком положении нельзя утверждать, что заключение судебно-медицинской экспертизы о пятнах крови на одежде Михайлова является достаточным доказательством виновности Михайлова в убийстве.
Мне осталось сказать немного. Я подхожу к концу своей защитительной речи. Мы допросили много свидетелей. К сожалению, большинство из этих свидетелей не могли или не хотели рассказывать суду, как дело обстояло в действительности. Но тем не менее из показаний ряда свидетелей с совершенной очевидностью вытекает, что в момент, непосредственно предшествующий совершению убийства, в Косом переулке было не два человека убийца и убитый, — а больше.
Свидетельница Петрова первоначально давала показания, и Аверьянова давала такие показания, — что в Косом переулке стояли дравшиеся в закусочной, а в закусочной, как вы помните, дрались 5 человек, четверо избивали Лукашева. После этого Петрова изменила свои показания и сказала, что видела только троих, причем видела так ясно, что сделала различие между водкой простой и «московской» — уточнила, что в руках Матицина была водка не простая, а «московская». При этом Петрова утверждала, что третьим был «парень в синей вельветовой куртке», т. е. Федоров. Потом она изменила еще раз показания и сказала, что не видела парня в вельветовой куртке, а видела черного, в котором она предположительно опознала Белякова.
Но это свидетель, который больше всего боялся признаться в том, что именно она в этот момент выпустила из двора закусочной на Косой переулок Лукашева.
А что говорят другие свидетели?
Свидетель Кошкин показал, что на Косом переулке была группа лиц, человек 5 или 6, которые дрались, а когда он через несколько минут возвращался обратно, то увидел на этом месте только труп и Михайлова.
Свидетель Сергеева, которая сегодня давала показания в судебном заседании, подтвердила, что за углом закусочной их было несколько человек, не два, а больше. Это она указала Кошкину, куда пошли эти люди.
Власова — девочка, которая была допрошена в предварительном следствии и которая, к сожалению, не смогла дать показания в суде, утверждала, что «этих дяденек было человек 10», а потом она видела, что осталось только два: «дяденька в коричневой плаще» — это Михайлов, «тащил другого, и другой упал».
Что против этих показаний могут значить показания свидетеля Петровой Зои о том, что она видела, как 2 человека, подталкивая один другого, пошли за угол закусочной. Прокурор ссылается на эти показания, что это были Михайлов и Матицин. Но прокурор сам говорит, что около этой закусочной каждый день были пьяные драки. А свидетель Петрова Зоя говорит: не каждый день, а каждый час. Разве Петрова Зоя опознала Михайлова и Матицина? Нет. Разве мы установили с точностью время, когда было совершено убийство и когда Петрова видела этих двух людей? Это могло быть простое совпадение. Это могло быть на 10–15 минут раньше.
Прокурор считает, что показания девочки Власовой в предварительном следствии уличают косвенно Михайлова. Но эти показания не уличают Михайлова, а наоборот, подтверждают его версию.
Власова показывала, что дрались в переулке несколько человек (Кошкин говорит 5–6, Власова — «человек 10»). Потом они разбежались, остался «дяденька в коричневой плаще», он тащил другого «дяденьку», этот дяденька упал. Но и Михайлов утверждает, что он пытался поднять уже кем-то раненного Матицина, не удержал, уронил и Матицин упал.
Михайлов утверждает, что он не был в Косом переулке в момент, когда кто-то нанес удар ножом Матицину, что он вошел в Косой переулок в то время, когда Матицин уже лежал смертельно раненный и кто-то убегал через заборы по участкам. Это утверждение Михайлова вызывает сомнения в связи с показаниями Кошкина, Сергеевой, Власовой.
Из сопоставления показаний этих свидетелей с показаниям Демина, Ларина, Лукашева, Федорова можно прийти к такому выводу: все лица, участвовавшие в драке с Лукашевым в закусочной, вышли в Косой переулок и там допивали водку. В это время Петрова Зоя через подсобку и ворота закусочной выпустила в Косой переулок Лукашева (с ножом), и вновь завязалась драка, в которой был смертельно ранен Матицин. Все разбежались, убийца унес с собой нож, раненый Матицин и пытавшийся оказать своему другу помощь Михайлов остались в переулке.
Эта версия не только не исключена материалам дела, но и прямо вытекает из сопоставления и анализа свидетельских показаний.
Показания других свидетелей, еще не упомянутых мною, ни в чем не уличают Михайлова и по существу ничего не дают для разрешения этого сложного дела. Прокурор ссылается на показания Галиченко, который не был в закусочной и в Косом переулке и давал показания лишь о разговорах с Федоровым. Сегодня Галиченко сказал, что Федоров ему рассказал, что видел Михайлова с ножом. Но ведь Галиченко допрашивался неоднократно, и сегодня мы его допрашивали тщательно, чтобы проверить показания Федорова. И что же оказывается? В первый день после убийства, т. е. до задержания Федорова, по словам Галиченко, Федоров высказывал предположения, что убийцей мог быть «высокий белокурый парень», а ведь это приметы Лукашева! А после освобождения из КПЗ Федоров стал говорить, что видел нож у Михайлова. Получается так: когда Федорова превратили из свидетеля в подозреваемого, когда его поставили перед дилеммой — или Михайлов или ты убийца, тогда движимый инстинктом самозащиты Федоров не только на следствии подписывает не соответствующие истине показания, но и товарищам говорит, что видел в руке Михайлова нож. Но что бы ни рассказывали Федоров, Галиченко, вы сами, граждане судьи, слышали здесь Федорова. Он здесь, в суде, перед вами, дважды, трижды повторял: «Я оговорил Михайлова, мне угрожали на следствии, я не видел ножа в руках Михайлова, я не видел, чтобы он ножом или чем иным ударил Матицина, я видел, что он плакал, я видел, что он держал Матицина и, когда я подошел, он его уронил и Матицин упал. Я увидел кровь и убежал». Как же может прокурор говорить, что Федоров подтвердил в суде свои показания, данные в предварительном следствии? Единственные показания, которые подтвердил Федоров, показания, которые он не изменил ни разу, — это показания о том, что видел в подсобном помещении закусочной Лукашева с ножом. Так он показывал и до своего незаконного ареста, и в период этого ареста, и после освобождения, и здесь, на суде. Эта часть его показаний является истиной.
Очевидно, уже не удастся найти и уличить настоящего виновника убийства Матицина. Может быть, это был Лукашев, который ускользнул от возмездия в результате неправильного ведения следствия. Может быть, это был Михайлов, страстно отрицающий предъявленное ему обвинение. Может, это был Федоров, который так и не смог объяснить суду, почему у него оказались руки в крови и свидетель Катков брал у газировщицы Сергеевой воду, чтобы отмыть кровь с рук Федорова. Может быть, это был Беляков, который не захотел признаться даже в участии в драке, даже в присутствии при драке. Может быть, может быть. Это не основание для осуждения. Для осуждения человека, для признания его виновным в столь тяжком преступлении, как умышленное убийство, нужна абсолютная уверенность, основанная на незыблемых доказательствах. Даже одно «может быть» — это основание для вынесения оправдательного приговора.
Я прошу вас, граждане судьи, по п. «а» ч.1 ст. 136 УК РСФСР оправдать Михайлова за отсутствием достаточных доказательств его виновности. Признав Михайлова виновным по ч. 2 ст. 74 УК РСФСР, вы при назначении меры наказания примите во внимание смягчающие его вину обстоятельства и положительную характеристику его лично, о которых подробно говорил прокурор, вы учтите наличие у Михайлова больных стариков родителей, для которых он был единственной надеждой и поддержкой.
Я прошу вас по ч. 2 ст.74 УК РСФСР назначить Михайлову минимальное наказание в пределах санкции закона.
Стенограмма выправлена. Адвокат Каллистратова С. В.
Справка: Приговором Судебной коллегии по уголовным делам Московского областного суда от 13/V-1958 г. Михайлов признан виновным по ч. 2 ст. 74 УК, по п. «а» ч. 1 ст.136 УК РСФСР, по совокупности приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет с отбыванием первых трех лет лишения свободы в тюремном заключении.
Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РСФСР приговор оставлен в силе.
Заявление
Председателю Президиума Московской городской коллегии адвокатов
Мне известно, что в Президиуме поставлен вопрос об исключении из состава Коллегии адвокатов тов. Золотухина Б. А.
Исходя из твердого убеждения в том, что сама постановка вопроса об исключении Золотухина, одного из лучших адвокатов нашей Коллегии, не только несправедлива, но и противозаконна, считаю своим профессиональным и человеческим долгом изложить Президиуму свою точку зрения по этому вопросу.
Ст. 13 Положения об адвокатуре РСФСР устанавливает перечень оснований для исключения из Коллегии адвокатов. Ни одного из этих оснований в деле Золотухина Б. А. усмотреть нельзя.
Защищая по уголовному делу подсудимого А. Гинзбурга, адвокат Золотухин Б. А. в полном соответствии с законом — со ст. 23 Основ уголовного судопроизводства СССР и ст. 31 Положения об адвокатуре — использовал все законные средства и способы защиты и не вышел за пределы определенных законом прав и обязанностей адвоката. Об этом свидетельствует уже то обстоятельство, что в течение всего процесса председательствующий в судебном заседании ни разу не воспользовался правами, предусмотренными ст. ст. 243 и 263 УПК РСФСР. Золотухину не было сделано ни одного замечания. Частного определения о неправильном поведении Золотухина в процессе судом вынесено не было.
Обращаю Ваше внимание на то обстоятельство, что значение правильного и законного разрешения дисциплинарного дела адвоката Золотухина выходит далеко за пределы вопроса о справедливости или несправедливости решения по отношению к одному из членов нашей Коллегии. Решая вопрос об исключении Золотухина из Коллегии адвокатов, Президиум вместе с тем будет решать и вопрос о пределах профессиональных прав и обязанностей адвоката в уголовном процессе. Речь идет о гарантированном Конституцией СССР праве на защиту, о том, имеет ли право и обязан ли адвокат, убежденный в правильности своей правовой позиции, всеми законными средствами и методами отстаивать свою позицию в суде. Поэтому решение Президиума по дисциплинарному делу адвоката Золотухина Б. А. будет иметь огромное значение для каждого адвоката и для всей Коллегии адвокатов в целом.
Ограниченное только рамками закона, конституционное право на защиту представляет собой одно из проявлений социалистического демократизма, важнейшую гарантию правосудия. Исключение из Коллегии адвоката, который с профессиональным мастерством, квалифицированно и убежденно осуществлял защиту по уголовному делу в соответствии с законом, нанесло бы только вред социалистическому правосудию.
Прошу вас ознакомить с этим моим заявлением всех членов Президиума до начала рассмотрения дисциплинарного дела адвоката Золотухина Б. А.
7 июня 1968 г.Беззаконие
Заметки юриста
Мы живем не в правовом государстве. Не только должностные лица, но и высшие партийные и советские органы нарушают ими же изданные законы. Примеров таких нарушений много. Самый яркий пример открытого, циничного нарушения это ссылка мужественного и непримиримого борца за права человека, академика Андрея Дмитриевича Сахарова.
Ссылка — мера уголовного наказания. Конституция СССР, Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик (закон 1958 г.) и все республиканские уголовные кодексы устанавливают, что правосудие осуществляется только судом и меры уголовного наказания могут быть применены только по приговору суда. Действующее законодательство СССР не предусматривает никаких форм административной ссылки.
И вот среди бела дня 22 января 1980 г. в Москве на улице был схвачен А. Д. Сахаров и в тот же день без следствия и суда под конвоем отправлен в ссылку в г. Горький.
На глазах всей страны, всего мира, неприкрыто, цинично нарушен закон. Эта «акция» проведена Прокуратурой СССР и Министерством внутренних дел СССР, учреждениями, на которые возложена обязанность контролировать выполнение закона и пресекать всякие его нарушения… В «оправдание» Генерального прокурора СССР Рекункова и министра внутренних дел СССР Щелокова можно сказать лишь одно: не вызывает сомнений, что они были лишь подставными исполнителям акции беззакония, разработанной и осуществленной КГБ СССР, санкционированной партийным руководством на самом высоком уровне.
И вот уже почти полтора года академик А. Д. Сахаров в ссылке. На свои заявления и протесты, на требования дать ему возможность защищаться перед открытым судом он не получает никакого (даже формального) ответа. Многочисленные открытые письма, заявления, протесты правозащитников, отдельных ученых, неформальных ассоциаций (например, Московской группы «Хельсинки») не публикуются, замалчиваются, остаются без ответа.
Люди, выступающие открыто в защиту Сахарова, преследуются. (Например, в г. Махачкале был арестован и осужден по ст. 70 УК РСФСР научный работник Вазиф Мейланов, после того, как он вышел на улицу с плакатом, содержащим протест против ссылки Сахарова.)
Академия наук СССР не отвечает на просьбы академика Сахарова о защите. А ведь в составе Академии есть видные юристы, понимающие, что такое закон и что такое произвол и беззаконие.
Закон нарушен не только самим фактом внесудебной расправы. Люди, сосланные по приговору суда (обоснованно или необоснованно), имеют права и условия отбывания ссылки, регламентированные законом. Андрей Дмитриевич, сосланный не по приговору суда, а по произволу властей, лишен всяких прав.
Закон устанавливает максимальный срок ссылки до пяти лет. Сахаров сослан бессрочно.
Закон не ограничивает право ссыльных на переписку. Сахаров не получает многих писем, в том числе большинства писем из-за рубежа. Даже письма его детей и внуков не всегда доходят до него. Он практически лишен возможности пользоваться междугородней телефонной связью.
Закон не запрещает ссыльным принимать гостей в месте ссылки. К Андрею Дмитриевичу не пускают практически никого. Все попытки друзей посетить Сахарова в г. Горьком пресекаются насильственным образом. И если на улице кто-либо подходит и заговаривает с Андреем Дмитриевичем, то такие попытки общения пресекаются.
Ссыльные по закону имеют право свободного передвижения в пределах административного района ссылки. У дверей квартиры, где поселен Сахаров, установлен круглосуточный милицейский пост, а передвижение Андрея Дмитриевича по городу возможно только под усиленным конвоем лиц «в штатском».
Обыски и изъятие документов (рукописей, писем) у ссыльных могут проводиться только в установленном законом порядке по постановлению, санкционированному прокурором. У Сахарова производятся негласные обыски в его отсутствие. Важнейшие рукописи и дневниковые записи Андрей Дмитриевич носил всегда с собой, надеясь сохранить их от негласных обысков. И вот его сумка, не содержащая иных ценностей кроме рукописей Сахарова, была украдена при посещении Андреем Дмитриевичем зубоврачебной поликлиники. Утрачены результаты многомесячных научных и публицистических исследований и размышлений…
Ссыльные по закону имеют право выезжать по разрешению администрации за пределы района ссылки. Сахарову не разрешили поехать на похороны близкого друга. Да что там в Ленинград, когда Андрей Дмитриевич не имеет права помочь своей жене занести вещи в вагон! Его просто не пускают, отталкивают.
Таким образом Андрей Дмитриевич находится в значительно худшем положении, чем люди, сосланные по приговору суда: он полностью изолирован от внешнего мира, лишен возможности не только поддерживать научные и человеческие контакты, но и просто общаться с людьми. Он лишен возможности спокойно работать. Постоянное ощущение слежки, давления, бесправности, возможности проявления в любой момент произвола лишает его покоя, держит в нервном напряжении. Андрей Дмитриевич лишен квалифицированной медицинской помощи, так как поездка в Москву на консультацию с его постоянными врачами в поликлинике Академии наук для него исключена.
Где найти слова, чтобы выразить тревогу за одного из самых светлых людей нашей эпохи, чтобы выразить боль, гнев и возмущение действиями властей, поставивших Андрея Дмитриевича в положение человека «вне закона»?
В авторском предисловии к повести о временах Иоанна Грозного «Князь Серебряный» Алексей Константинович Толстой писал: «В отношении к ужасам того времени автор оставался постоянно ниже истории. Из уважения к искусству и к нравственному чувству читателя он набросил на них тень и показал их, по возможности, в отдалении. Тем не менее он сознается, что при чтении источников книга не раз выпадала у него из рук и он бросал перо в негодовании, не столько от мысли, что мог существовать Иоанн IV, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования». Как может наше общество смотреть без негодования на беззаконную расправу с академиком А. Д. Сахаровым? Можно еще понять тех, кто по недостатку информации, по вине цензуры, по закрытости нашего общества ничего не знает о Сахарове и верит распространяющейся о нем клевете. Но каждый, кто знает Сахарова и его судьбу и не поднимает голоса в его защиту, должен чувствовать себя невольным соучастником зла, несправедливости и насилия, творимых властями по отношению к одном из самых лучших, самых светлых наших современников.
Защитительная речь по делу Вадима Делоне 11 октября 1968 г.
Я прошу вас, товарищи судьи, отнестись снисходительно к некоторым шероховатостям, которые могут быть в моей речи, так как я начинаю эту речь на двенадцатом часу непрерывной работы.
Мы, юристы, глубоко уважаем закон и знаем, что нельзя оправдать нарушение закона никакими, даже самыми лучшими побуждениями. Руководствуясь законом, и только законом, я обязана, в силу своего профессионального долга, просить суд об оправдании Вадима Делоне, так как ни в законе, ни в материалах дела нет оснований признать уголовно наказуемыми его действия. А если нет преступления, то нет места и для применения уголовной репрессии.
Правовой анализ материалов дела в моей речи будет очень краток, так как я постараюсь избежать повторения доводов товарищей по защите, выступавших до меня. Но прежде чем я перейду к изложению основной позиции защиты, я не могу не отметить, что даже с точки зрения государственного обвинителя, который считает виновность Делоне доказанной, даже с этой точки зрения невозможно понять, почему прокурор требует такой суровой меры наказания для Делоне. В своей суровой несправедливости прокурор даже прямо нарушает закон, когда он просит, определив Делоне по совокупности двух вмененных ему статей наказание в виде лишения свободы сроком на два года, присоединить к этому наказанию еще год лишения свободы по предыдущему приговору, в то время как по правилам ст. ст. 41 и 42 Уголовного кодекса может быть присоединена лишь неотбытая часть наказания. Вы знаете, товарищи судьи, что Делоне до освобождения из-под стражи по приговору 1967 г. пробыл в заключении более семи месяцев. Следовательно, в соответствии с буквой и смыслом закона, прокурор не имел оснований просить вас о присоединении года лишения свободы по предыдущему приговору.
Но дело даже не в этом.
Когда глядишь на Вадима Делоне, когда знаешь материалы дела, когда видишь его в суде и сравниваешь его с другими, а такое сравнение неизбежно, то возникает тягостное впечатление, что прокурор требует для Делоне наказания совсем не за то, в чем его формально обвиняют.
Прокурор, квалифицированный юрист, сказал, что Делоне, как и другие подсудимые, совершил тяжелое преступление. Мы, юристы, обязаны употреблять правовые термины только в строгом соответствии с законом. Я вынуждена обратить ваше внимание, товарищи судьи, на то, что примечание 2 к статье 24 УК РСФСР дает исчерпывающий перечень преступлений, отнесенных законом к числу тяжких. И в этом перечне нет ни ст. 190-1, ни ст. 190-3 УК, по которым предан суду Делоне. Прокурор не может не знать и не понимать этого.
Вы хорошо знаете, товарищи судьи, санкцию закона, знаете, что обе статьи УК, вменяемые Делоне, предусматривают наказание не только в виде лишения свободы, но и исправительные работы без лишения свободы и штраф до 100 руб. Следовательно, законом установлено, что человек, признанный виновным в совершении преступлений, описанных в этих статьях, может, в зависимости от обстоятельств, быть присужден к штрафу, или к исправительным работам без лишения свободы, или к лишению свободы сроком от трех месяцев до трех лет.
И вот прокурор, не пытаясь даже сослаться на предусмотренные законом отягчающие обстоятельства, хочет, чтобы Вадим Делоне получил максимально высокое наказание. Вот почему я говорю о тягостном впечатлении от того, что прокурор просит для Делоне наказания не за то, в чем он формально обвиняется.
Санкция закона широка. И если вы будете решать вопрос о том, как надо наказать Вадима Делоне, то вы будете избирать меру наказания не произвольно, а на основании закона, потому что ст. ст. 37, 38 и 39 УК РСФСР определяют, чем руководствуется суд, избирая ту или иную меру наказания.
Вы должны учитывать характер и степень общественной опасности действий, вменяемых Делоне.
И вот здесь я вижу серьезное внутреннее противоречие в речи прокурора.
С одной стороны, прокурор говорит, что подсудимые — это незначительная кучка неправильно мыслящих людей, которая тонет в единодушии всего народа. Значит, их действия не так уж опасны? Но с другой стороны, прокурор требует определить меру наказания самую суровую — три года лишения свободы, то есть, очевидно, исходит из признания какой-то повышенной опасности этих действий, хотя материалы дела не дают для этого оснований.
И личность подсудимого должен учитывать суд, определяя ту или иную меру наказания.
Двадцать лет Вадиму Делоне. Он не герой — он не сделал в своей жизни ничего такого, что мы могли бы положить на судейский стол: характеристики, похвальные листы, свидетельства его неустанной плодотворной работы. По-разному складываются характеры людей. Одни — в девятнадцать-двадцать лет уже устоявшиеся люди, с определенной профессией, мировоззрением. Другие складываются и формируются позже.
Но назвать двадцатилетнего юношу «лицом без определенных занятий» только потому, что он не работал в течение нескольких недель, — можно только сухо, формально и бездушно.
Дело в том, что Вадим — ищущий юноша, который еще не нашел своего жизненного пути.
Если бы всегда так сурово и так несправедливо именовали «лицами без определенных занятий» людей ищущих, бросающихся от одной работы к другой, из одной местности в другую, если бы всегда так сурово относились к таким людям, то мы, может быть, не досчитались бы на своих книжных полках произведений не только Александра Грина, но и Константина Паустовского и многих других. Именно людям, склонным к творческой, литературной деятельности, часто свойственна такая неустроенность, такое метание, такая неспособность сразу найти свое место в жизни.
Поэтому я считаю, что нельзя ставить Вадиму Делоне в вину то, что он к моменту ареста не работал. Он просто не сумел быстро сориентироваться и устроиться на работу. Нельзя поставить ему в вину, что он оставил учебу в Новосибирском университете. Вы слышали, товарищи судьи, как был травмирован Делоне, молодой, начинающий поэт, разгромной рекламной статьей, обрушившейся на его голову. Я имею в виду статью корреспондента газеты «Вечерний Новосибирск», которая приобщена к делу. В этой статье все, что есть у Делоне дорогого, все его творчество было зачеркнуто даже не черной краской, а дегтем. Да и сам Вадим перечеркнут как человек, как личность, как поэт. Надо иметь закалку, надо иметь волю, чтобы устоять после такого удара.
Посмотрите, товарищи судьи, какая разница между корреспондентом газеты, заключившим с легкостью необыкновенной в кавычки и слово «творчество» и слово «стих», и бережным и чутким отношением к стихам молодого поэта со стороны большого поэта и чудесного человека Корнея Ивановича Чуковского. Мы представили суду письмо Чуковского, который не пожалел своего времени и своих сил, по строчкам разобрал стихи этого юноши и написал, что Вадим Делоне станет большим и сильным поэтом, если будет упорно работать.
Не хватило у двадцатилетнего юноши духа противопоставить разгромной газетной статье даже грамоту, которую он получил от райкома комсомола и правления клуба «Под интегралом». А эта грамота, приобщенная к делу, удостоверяет, что Вадим получил вторую премию на конкурсе стихов, посвященных 50-летию Октябрьской революции. Эта премия и письмо Чуковского дают мне право утверждать, что Делоне — поэт.
Вадим малодушно бежал из Новосибирска — куда? К матери. К этой самой матери, которой он оставил, когда его уводили из дома после обыска, такую простую и трогательную записку: «Прости за то, что я вновь причиняю тебе горе».
Я признаю право прокурора на убеждение, такое же право я признаю и за собой. У нас состязательный процесс. Мы спорим. Прокурор доказывает, что Делоне виновен. Я доказываю, что он невиновен. А вы, товарищи судьи, будете вершить приговор и устанавливать истину. Но разве можно в этом споре закрыть глаза на человека и, оперируя какими-то бездушными понятиями, просить три года лишения свободы для Делоне?
Я понимаю, у прокурора есть что мне возразить. Прокурор может сказать вам, товарищи судьи: я прошу для Делоне такую суровую меру наказания потому, что он судим, а судимость является по закону отягчающим вину обстоятельством.
Да, судим, и по одной из тех статей, которые ему вменяются сегодня. И тот приговор 1967 г. я не имею права критиковать, так как он вступил в законную силу и мне и в голову не приходит выражать сомнение в его законности.
Но я напоминаю вам, товарищи судьи, что ст. 39 УК РСФСР дает право суду и не придавать прежней судимости значения отягчающего обстоятельства.
Вы не можете не учесть, что к моменту первого ареста Делоне было едва девятнадцать лет. Мы не можем сейчас ничего сказать по этому делу, кроме того, что Делоне был осужден к условному наказанию. Мы то дело не исследовали и не могли исследовать. Поэтому прокурор не имеет оснований говорить о «крокодиловых слезах». Может быть, позиция Делоне в том суде объясняется вовсе не желанием кого-то разжалобить слезами, а совсем иными обстоятельствами.
Никаких других, предусмотренных законом, отягчающих вину Делоне обстоятельств прокурор указать не может. Их просто нет.
Безусловно отсутствие каких-либо корыстных целей — в самом широком смысле, полное отсутствие надежд на получение какого-либо личного преимущества или какой-либо выгоды для себя в результате своего поступка, наконец, отсутствие тяжких последствий, — все это должно расцениваться как обстоятельства, смягчающие вину.
Все это дает мне право утверждать, что прежняя судимость за поступок, совершенный в девятнадцатилетнем возрасте, не является достаточной мотивировкой для назначения Делоне максимально тяжелого наказания, если даже исходить из убеждения в его виновности.
Но я не могу, товарищи судьи, ограничить защиту Делоне только вопросом о мере наказания.
Уже в начале своей речи я высказала свое глубокое убеждение в том, что Делоне не совершил уголовного преступления, что он должен быть судом оправдан.
У меня не меньше, чем у моих коллег по защите, права и оснований ссылаться на то, что Делоне не изготовлял и не приносил лозунгов на Красную площадь, что Делоне держал в руках лозунг «За вашу и нашу свободу», который в своем содержании никакой клеветы не несет. Но я не буду на это ссылаться. Я скажу прямо: именно этот лозунг в руки Делоне попал случайно, он не выбирал лозунга. Поэтому я должна говорить о всех лозунгах, включенных в формулу обвинительного заключения.
Но, говоря о всех лозунгах, я не могу не отметить, что некоторые из них, по моему глубокому убеждению, могли попасть в формулу обвинения только по недоразумению.
Как можно признать клеветническими слова: «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!», «За нашу и вашу свободу»?
В фойе кинотеатра «Россия» на стене большими красными буквами написано: «За вашу и нашу свободу!» Это название кинофильма. Газеты, содержащие объявление с этим названием фильма, широко, в миллионах экземпляров, разошлись по стране. И я возражаю против обвинения в уголовном порядке по подтексту.
Как можно признать клеветническим сам по себе лозунг, который содержит лишь призыв к свободе и не только не несет никакой информации о каких-либо фактах, но и не содержит никакой, даже объективно ложной оценки каких-либо явлений?
Я помню, что есть и другие лозунги, и я обещала говорить о всех лозунгах. Но здесь я постараюсь, оставаясь на строго правовой юридической позиции, не выходить ни на минуту за рамки закона. При этом я не буду повторять доводов, уже прозвучавших в речах защиты.
По закону устное распространение заведомо ложных клеветнических сведений наказуется в уголовном порядке только в том случае, если оно носит систематический характер. Произведениями, однократное изготовление или распространение которых наказуемо, эти лозунги не являются. Это положение было прекрасно аргументировано адвокатом Каминской. Значит, даже с этих позиций, независимо от содержания лозунгов, в действиях подсудимых нет состава преступления.
Заведомо ложные измышления — что это такое в строго правовом смысле? Это сообщение о фактах, якобы имевших место, лицом, заведомо знающим, что эти факты не имели места в действительности. Другими словами, закон устанавливает ответственность за распространение заведомо ложных, клеветнических сведений или измышлений, распространение заведомо ложной, клеветнической информации о фактах, не имевших места.
Ни один из вмененных подсудимым лозунгов такой информации не несет.
Может быть клевета и иного порядка — может быть заведомо для данного лица ложное освещение, умышленно ложная оценка тех или иных фактов или событий, действительно имевших место. Это тоже будет своеобразная и направленная информация, которая может быть субъективно заведомо ложной.
Но если та или иная оценка высказывается по внутреннему субъективному убеждению, то она может быть объективно правильной или неправильной, вредной или невредной, но она не может быть субъективно заведомо ложной.
Как можно утверждать, что оценка, в правильности которой человек убежден, я еще раз повторяю, пусть объективно неправильная, — как можно сказать, что это его внутреннее убеждение, — пусть объективно вредное, — но как можно сказать, что оно заведомо для этого человека ложное?
В соответствии с законом я имею право утверждать, что наш закон не знает уголовной ответственности ни за убеждения, ни за мысли, ни за идеи, а устанавливает уголовную ответственность только за действия, содержащие конкретные признаки того или иного уголовного преступления. Вот позиция защиты, которая дает мне право утверждать, что умысла порочить советский государственный строй у Делоне не было, что он в своих действиях руководствовался совсем иными мотивам. Если эти мотивы, это своеобразие мнений и убеждений прокурор охарактеризовал как политическую незрелость, то за политическую незрелость и неустойчивость нет уголовной ответственности.
В наших руках целый арсенал средств борьбы, средств исправления людей, страдающих политической незрелостью и политической неустойчивостью. Уголовная репрессия в число этих средств не входит.
Таким образом, я полагаю, что в действиях Делоне нет состава преступления, предусмотренного ст. 190-1 УК, и он по этой статье подлежит оправданию.
Пожалуй, еще более кратко будет изложение позиции защиты по ст. 190-3 УК.
Прокурор утверждает, что Делоне виновен, ссылаясь лишь на то, что Делоне признает факт появления на площади 25 августа и развертывания там плакатов и что его в этом уличает Ястреба.
Несмотря на то, что в законе идет речь о групповых действиях, в пределах этой группы каждый несет ответственность индивидуально за свои действия, а не за действия всей группы, по принципу — индивидуальная ответственность за индивидуальную вину.
Так вот: Делоне признает, Ястреба уличает. Это все доказательства, которые приведены прокурором в его обвинительной речи.
А в чем уличает Делоне Ястреба? В каком нарушении порядка? Она ведь не уличает Делоне в том, что он кого-либо ударил. Она дает показания о том, что ударили самого Делоне два раза. Она ведь не уличает его в том, что он кричал, создавал шум, нарушил порядок. Она его «уличает» в том, что он и сам признает, что он сказал так вот, совсем прямо и открыто: пришел на Красную площадь, чтобы выразить свое несогласие с решением правительства о вводе войск в Чехословакию, сел у Лобного места и развернул плакат с лозунгом «За вашу и нашу свободу».
Если, как утверждает товарищ прокурор, в самом факте выражения несогласия с отдельными мероприятиями правительства содержатся состав преступления, — то тогда защищать Делоне возможно. Но пусть прокурор укажет закон, определяющий, что в этом есть состав преступления.
А я слышу, что Делоне обвиняют в несогласии с отдельными мероприятиям, тем более несогласии, которое никак не сочетается в обвинении с какими-нибудь неблаговидными целями, — а только за форму выражения этого несогласия. Вот этой преступной формы в действиях Делоне усмотреть невозможно. Ведь недостаточно пять раз повторить, что было нарушение, надо указать и доказать, в чем именно конкретно было нарушение порядка со стороны Делоне.
Прокурор говорит о ст. 13 УК, о необходимой обороне…
Судья (прерывает): Вы в своей речи больше касаетесь речи прокурора. Пожалуйста, переходите к защите непосредственно.
Каллистратова: Я, товарищ председатель, очень дисциплинированный человек и беспрекословно подчиняюсь указаниям тех, кто имеет право — а вы имеете это право — давать мне указания в судебном заседании. Но я прошу вас учесть, что я — адвокат — не обязана представлять доказательства невиновности Делоне, по закону я здесь для того, чтобы оспаривать и критиковать те доказательства, которые представлял прокурор. Поэтому мне представляется такое построение моей речи правильным.
Однако мне осталось не так долго занимать ваше внимание. Я подхожу к концу своей защитительной речи.
Ст. 13 УК не может оправдывать незаконные действия. Нужно ли было в порядке ст. 13 бить Делоне, который не сопротивлялся? Мне кажется, что не нужно. И мне хотелось бы, чтобы в речи прокурора прозвучал упрек тем неизвестным, неустановленным лицам, которые делали это. Мы к юноше Делоне предъявляем очень большие требования. Давайте же предъявим такие же требования и к тем людям, которые своим несдержанным поведением создали нарушение порядка. Нельзя за действие этих лиц возлагать ответственность на Делоне, который не шумел, не кричал, никого не оскорбил, никому не мешал и не совершил никакого нарушения общественного порядка.
Не стану останавливаться на других вопросах, чтобы не повторять прекрасно аргументированные доводы Каминской и Поздеева. Я заканчиваю. Надеюсь не на снисхождение, а на справедливость и законность вашего приговора.
Я прошу Делоне оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.
Защитительная речь по делу А. Малкина Август 1975 г.
Это дело очень простое по своей фабуле, доказательственным материалам. Но оно очень сложно по правовой, чисто юридической постановке вопроса о наличии или отсутствии состава преступления в действиях, совершенных Малкиным. Я с интересом ждала речи своего процессуального противника государственного обвинителя, предвидя правовой спор обвинения и защиты. К сожалению, прокурор в своей яркой эмоциональной речи уделил неоправданно много места и времени анализу доказательств того, что Малкин уклонился от призыва в армию, и совсем не коснулся вопроса о субъективной стороне преступления. Между тем ни подсудимый, ни защита не отрицают того, что Малкин отказался служить в армии, и это обстоятельство установлено бесспорно. Вопрос в том, есть ли в этих действиях Малкина состав преступления, предусмотренного ч. I ст. 80 УК РСФСР, и только в этой плоскости идет спор между обвинением и защитой.
Прежде, чем перейти к правовому анализу, я должна остановиться на обстоятельствах, характеризующих личность Анатолия Малкина, и на вопросе о мере наказания, которого требует для Малкина прокурор. Государственный обвинитель требует лишения свободы сроком на три года, то есть самой высокой меры наказания, ссылаясь при этом на обстоятельства, отягчающие якобы вину Малкина. Но ни одно из обстоятельств, указанных прокурором, не предусмотрено законом как отягчающее вину. Кроме того, прокурор в своей речи ссылается на некоторые обстоятельства, которые судом не исследовались и не могли исследоваться. Так, государственный обвинитель утверждает, что убеждения Малкина нелояльны, что Малкину чужды взгляды советских людей, что ему не нравятся советские порядки, что он хотел «убежать» в другое государство. Прокурор также заявил, что Малкин испытывает «ненависть к нашей стране». Суд не исследовал, не мог исследовать вопроса об убеждениях и взглядах Малкина, так как убеждения и взгляды не являются предметом судебного разбирательства. Не было в судебном заседании и речи об отношении Малкина к советским порядкам, о любви или ненависти к стране, которую Малкин хотел покинуть. Не «убежать» хотел Малкин, а использовать свое право на эмиграцию, заявив это в установленном порядке в официальное советское учреждение.
Желание выехать из СССР вовсе не обязательно свидетельствует о «несогласии с порядком», а тем более о «ненависти». Могут быть и несомненно есть другие причины, побуждающие к эмиграции, в частности, религиозные убеждения, семейные или дружеские связи, наконец, просто желание жить в другой стране. Во время судебного следствия председатель-судья правильно остановил Малкина замечанием, что вопрос исключения из института не рассматривается судом. Однако прокурор счел себя вправе заявить, что Малкин исключен из института правильно. Я коснусь этого вопроса только в плане оценки личности Малкина. В приказе от 6 июня 1974 г. не расшифровано, в чем заключалось поведение Малкина, не достойное советского студента. Однако в характеристике, выданной Малкину, написано, что аморальное поведение выразилось в двурушничестве, обмане товарищей и неискренности. Это действительно отрицательные черты. Но чем установлено наличие этих отрицательных черт у Малкина? В десятом классе школы он характеризуется положительно, исключительная честность отмечается как основная черта его характера.
В показаниях его товарищей по группе в институте на предварительном следствии (см. показания Погасяна и Золотого) говорится, что его решение уехать в Израиль для товарищей не было неожиданным, он не скрывал этого решения! — но ни слова не сказано ни о двурушничестве, ни об обмане, ни о неискренности. Не сказано об этих отрицательных качествах и при обсуждении персонального дела Малкина на заседании комитета ВЛКСМ. Не стану вдаваться в обсуждение вопроса, что такое «социал-шовинизм», я такого сочетания терминов не знаю и вообще не понимаю, какое отношение имеет шовинизм к Малкину, но кроме «социал-шовинизма», религиозных взглядов и намерения уехать в Израиль никаких иных упреков в адрес Малкина не было. За что же исключен Малкин из института? Чем обоснована ссылка в характеристике на двурушничество, обман и неискренность? Вот если бы Малкин, стремясь получить высшее образование, скрыл от товарищей и официальных учреждений свое намерение уехать в Израиль, свои религиозные убеждения, тогда были бы неискренность, обман, аморальность. До 24 апреля 1974 г. за свою небольшую жизнь Малкин не имел ни одного упрека в свой адрес, поэтому нельзя считать, что он характеризуется отрицательно.
Нельзя не отметить, что Малкин не мог работать с момента исключения из института до момента ареста только потому, что он не имел ответа из ОВИРа на свое ходатайство о выезде и не мог скрывать того, что вопрос об этом находится на разрешении. Прокурор утверждает, что Малкин попал под какое-то влияние каких-то людей, хотя об этом нет решительно никаких данных в материалах дела, и это он склонен также считать отягчающим вину обстоятельством. Если Малкин склонен так легко поддаваться влияниям, то почему же, с точки зрения государственного обвинителя, нужен столь длинный срок для его исправления? Однако Малкин ни на чье влияние как на смягчающее обстоятельство не ссылается, а свидетель Золотой характеризует его как волевого, обдумывающего свои решения человека. Уклонение от явки по вызову следователя законом не отнесено к отягчающим вину обстоятельствам. Однако достаточных доказательств того, что уклонение от суда и следствия имело место, обвинитель суду не представил. О какой «нелегальной» квартире, о каком «нелегальном» положении говорит прокурор?
Малкин не жил по месту прописки с родителями начиная с июля 1974 г., то есть ушел из дома задолго не только до возбуждения уголовного дела, но и до призыва в армию. Это подтвердил отец подсудимого. Почему он ушел? Это ясно. Произошел конфликт с родителями. Анатолий любит отца и мать, он не хочет и не может ссориться с ними. Но он не может и не хочет изменить свое решение, вызвавшее конфликт. Сотни, а может, и тысячи москвичей фактически месяцами живут в Москве не по месту своей московской прописки, а у друзей, знакомых, родственников. Чаще всего это вызывается семейными конфликтами. И такое проживание человека в другом месте, на другой улице, не по месту прописки не считается «нелегальным», не влечет административной ответственности, допускается правилами прописки в Москве. Повесток с вызовами в прокуратуру Малкин не получал. Отец Малкина в предварительном следствии дал показания о том, что он о вызовах в прокуратуру сыну не говорил. Здесь, в суде, он сначала сказал, что сообщил сыну о вызовах в прокуратуру, но при уточнении этого вопроса употребил формулировку, указывающую на сомнения и неуверенность: «По-моему, я сыну о вызовах в прокуратуру говорил». Когда именно и при каких обстоятельствах говорил — не помнит. Нельзя при таком положении считать, что установлено, что Малкин скрывался от следствия. Малкину всего двадцать лет. Он впервые предстает перед судом.
Все сказанное давало бы мне серьезные основания при отсутствии спора о виновности Малкина утверждать, что прокурор требует чрезмерно сурового наказания и просить о смягчении. Но профессиональный долг обязывает меня ставить перед судом вопрос об оправдании Малкина за отсутствием в его действиях состава преступления. Признавая факт отказа от призыва в армию, Малкин не признает себя виновным в совершении уголовного преступления, утверждая, что не имел умысла на нарушение закона о всеобщей воинской обязанности. Я далека от намерения превратить свою защитительную речь в лекцию о теории науки о составе преступления. Но позиция подсудимого обязывает меня как юриста дать правовой анализ состава преступления. Для состава преступления необходимы четыре элемента: субъект преступления — он налицо (Малкин совершеннолетний, вменяемый человек, несущий ответственность за свои действия. Здесь у защиты нет спора с обвинением); объектом преступления (второй элемент состава), предусмотренного ч. 1 ст. 80 УК РСФСР, являются интересы государства (и здесь у защиты нет спора с обвинением); объективная сторона преступления, то есть действия, предусмотренные уголовным законом (также не опровергаются защитой); субъективная сторона преступления в форме умысла или неосторожности (иначе отсутствует состав преступления).
Вот на этом четвертом обязательном элементе состава преступления и сосредоточивается весь спор между защитой и обвинением. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 80 УК РСФСР, может быть совершено только умышленно. На что же был направлен умысел Малкина? В этом аспекте суд не могут не интересовать причины, по которым Малкин отказался явиться на призыв в армию. Он говорит, что является гражданином государства Израиль и поэтому считал себя не только не обязанным, но не имеющим права служить в Советской Армии. Поскольку к моменту совершения действий, вменяемых Малкину, он еще не получил ответа из Президиума Верховного Совета СССР, надо признать, что он является гражданином СССР. Но он был уже принят в гражданство Израиля и, следовательно, был лицом с двойным гражданством. При всем моем уважении к своему процессуальному противнику — прокурору — я должна сказать, что он ошибается, утверждая, что не может быть лиц с двойным гражданством.
Правовое понятие о лицах с двойным гражданством существуют как в нашем законодательстве, так и в специальной юридической литературе. Я могу сослаться на ряд конвенций, заключенных советским правительством с другим странами в 50-х и 60-х гг. о порядке ликвидации двойного гражданства, которое является нежелательным, но реально существующим. Характерно, что во всех этих конвенциях основным способом ликвидации двойного гражданства является выбор самим человеком, имеющим двойное гражданство, гражданства одной из стран. В курсе «Международное право» (изд-во «Наука», 1967 г., под редакцией профессора Чхиквадзе) говорится о том, что одно и то же лицо может состоять в гражданстве двух государств. В монографии профессора Лисовского, изданной в 1970 г., также упоминается двойное гражданство. В законе о всеобщей воинской обязанности лица с двойным гражданством не упоминаются, и этот пробел в законе способствовал субъективному убеждению Малкина, который этот закон знает, в том, что он не имеет права служить в Советской Армии.
Вопрос о прохождении военной службы людьми с двойным гражданством законом не урегулирован (именно это защита имеет в виду, говоря о пробеле в законе). Поэтому Малкин, считая себя лицом с двойным гражданством, был убежден (субъективно), что закон о всеобщей воинской повинности на него не распространяется, а следовательно, он не имел умысла на нарушение этого закона. Если это даже заблуждение, то это добросовестное заблуждение, являющееся результатом пробела в законе, а не результатом незнания закона. Такое добросовестное заблуждение исключает умысел на нарушение закона, а это означает, что отсутствует субъективная сторона преступления, а следовательно, и состав преступления. Вот те правовые основания, по которым я прошу оправдания Малкина.
Прокурор: Я не так выразил свою мысль, меня не так поняли. Я не отрицаю двойного гражданства, можно даже назвать известные фамилии людей с двойным гражданством. Я говорил о том, что Малкин не представил никаких доказательств того, что он имеет двойное гражданство, он не имеет другого паспорта кроме советского. Говоря о враждебности взглядов и недовольстве порядками, я имел в виду отношение Малкина к службе в армии. Субъективная сторона преступления Малкина заключается в подаче им письменного заявления об отказе служить в армии. Открытый отказ опаснее, чем уклонение от призыва. Причины отказа значения не имеют.
Каллистратова: Я очень рада, что прокурор отказался от своего утверждения, что людей с двойным гражданством не бывает и быть не может. Это освобождает меня от обязанности приводить какие-либо дополнительные доводы по вопросу о двойном гражданстве. Ссылка же прокурора на то, что Малкин ничем не доказал своего двойного гражданства, может вызвать лишь удивление. Государственный обвинитель забыл, что объяснения подсудимого также являются доказательством и что подсудимый не обязан свои показания добывать. Суд по нашему ходатайству приобщил к делу телеграмму о том, что документы об израильском гражданстве были высланы почтой. Малкин эти документы не получил. Защита ходатайствовала об истребовании в установленном порядке подтверждения факта приема Малкина в гражданство Израиля. Суд не счел необходимой такую проверку. Обвинение ничем не опровергло показания Малкина. Следовательно, надо признать факт двойного гражданства установленным. От своего необоснованного утверждения о «чуждых» взглядах Малкина и его ненависти к нашей стране прокурор тоже фактически отказался, и эта часть реплики ответа не требует. Что же касается спора о субъективной стороне преступления, то здесь, к сожалению, наш спор с прокурором идет на разных уровнях. Подача заявления об отказе от службы в армии — это действие, это объективная сторона преступления, наличие которой защита не оспаривает. Субъективная же сторона преступления — это отношение субъекта преступления к действию, это виновность в форме умысла или неосторожности. Вопрос об умысле в реплике прокурора не затронут, так же, как этот основной по данному делу вопрос обойден в обвинительной речи.
Справка: А. Малкин был приговорен к трем годам заключения в лагерях общего режима.
Непроизнесенная в Верховном суде РСФСР защитительная речь при кассационном рассмотрении 4 сентября 1978 г. дела по жалобе А. Подрабинека
Я не имею возможности сказать слово в защиту Саши Подрабинека в суде. Но и промолчать я не могу. Пусть эту речь услышат не судьи, а все, кто имеет не только уши, но и совесть.
В разных странах существуют разные законы — одни лучше, другие хуже, есть совсем плохие. Законы можно обсуждать и критиковать (хотя в нашей стране это отнюдь не безопасно!), можно добиваться их отмены или изменения (хотя в нашей стране такая возможность предельно ограничена!). Но действующие законы подлежат исполнению не только гражданами, но и органами власти. Это один из основных принципов всякого правового демократического государства.
Если суд нарушает или игнорирует закон, то это уже не суд, а судилище, это уже не правосудие, а произвол.
Доступные мне материалы по делу Подрабинека дают основания утверждать, что действующие в нашей стране законы нарушались и нарушаются непрерывно и неуклонно с момента возбуждения уголовного дела против Подрабинека и до сегодняшнего дня. Это не голословное утверждение, и в меру своих сил и возможностей я постараюсь доказать это.
В соответствии со ст. 3 Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных республик и ст. 3 УПК РСФСР прокурорские следственные органы (в том числе следственный аппарат КГБ) в случае обнаружения признаков преступления обязаны возбудить уголовное дело и действовать далее в строгих рамках процессуальных норм.
Рукопись книги «Карательная медицина» Подрабинека была изъята КГБ еще в марте 1977 г. Стремясь добиться прекращения использования психиатрии в качестве репрессий против инакомыслящих и помогая жертвам этих репрессий и их семьям, Подрабинек всегда действовал открыто и легально.
Считая и книгу Подрабинека, и его общественную деятельность криминальной, следственные органы прибегали к непрерывной явной и тайной слежке, к шантажу, угрозам и запугиванию самого Саши и членов его семьи, действуя вне всяких предусмотренных законом процессуальных норм. В течение месяцев Подрабинеку не предъявляли обвинений и пытались добиться того, чтобы он «добровольно» покинул страну, в которой родился и вырос. Нет надобности сейчас воспроизводить позорную историю преследований мужественного юноши она еще свежа в памяти. Могу лишь напомнить, что брат Саши, Кирилл, безвинно осужденный во исполнение упомянутых угроз, и сегодня еще томится в лагере.
Только после ареста 14 мая 1978 г. Александр Подрабинек узнал, что еще 29 декабря 1977 г. против него было возбуждено уголовное дело и уже более четырех месяцев ведется следствие. Все это время он был полностью лишен всех процессуальных прав, гарантированных законом лицу, находящемуся под следствием.
14 мая 1978 г. Подрабинек арестован. Этот арест также нельзя признать основанным на законе.
В ст. 96 УПК РСФСР содержится перечень статей Уголовного кодекса, по которым заключение под стражу в качестве меры пресечения может применяться «по мотивам одной лишь опасности преступления». Статья 190-1 УК РСФСР, по которой обвинялся и осужден Александр Подрабинек, в этом перечне не упомянута.
В соответствии со ст. ст. 89 и 91 УПК РСФСР мера пресечения вообще (а тем более в виде заключения под стражу) избирается лишь «при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый скроется, или воспрепятствует установлению истины… или будет заниматься преступной деятельностью…»
Подрабинек имел постоянное место жительства, работал, ранее он не был судим, никогда от суда и следствия не уклонялся, — таким образом не было оснований заключать его под стражу до суда. Невольно возникает мысль, не сочли ли органы следствия «достаточным основанием» для ареста Подрабинека именно 14 мая то, что 15 мая начинался суд над Юрием Федоровичем Орловым?
Во всяком случае очевидно, что арест Подрабинека не был основан на непреложных требованиях закона и преследовал цель затруднить обвиняемому возможность защищаться от предъявленных ему обвинений.
В таких условиях, будучи уверен, что следствие ведется предвзято и с нарушением ст. 20 Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных республик и ст. 20 УПК РСФСР, обязывающей следствие всесторонне и объективно исследовать обстоятельства дела, выявляя как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельства, Подрабинек отказался участвовать в предварительном следствии. Его можно понять.
Но он готовился защищаться сам и с помощью адвоката в гласном открытом суде. В тюрьме он тщательно обдумывает и формулирует (с помощью адвоката) ходатайства, которые он заявит в суде. Ведь по ст. 20 УПК РСФСР суд и прокурор, так же, как ранее следователь, обязаны тщательно и объективно исследовать все доказательства виновности или невиновности подсудимого.
Провозглашенное в Конституции и в ст. 19 УПК РСФСР право подсудимого на защиту имеет в виду не только участие адвоката в процессе, но и обеспечение подсудимому возможности защищаться всеми средствами и способами, установленными законом.
И вот наступает день суда. День открытого, гласного, публичного суда. Знакомая по всем предыдущим политическим процессам картина. Милицейские кордоны, отгораживающие здание суда. Многочисленные «охранники порядка» в штатском. Заранее заполненный «публикой» тесный зал суда. Толпа перед судом. Нет на этот раз в толпе только иностранных корреспондентов, которых не только в суд, но и в город не пустили.
Ходатайство Подрабинека о допуске в зал его друзей и знакомых, приехавших специально для того, чтобы присутствовать на суде, привычно и немотивированно отклоняется. Так грубо нарушается закон гласности, провозглашенный ст. 12 Основ уголовного судопроизводства СССР и союзных республик, повторенный в ст. 18 УПК РСФСР.
Обвиняемый заявляет суду двадцать семь ходатайств. Все ходатайства, кроме просьбы о назначении международной психиатрической экспертизы и об истребовании актов экспертиз, проведенных английским психиатром Лоубером, поддерживает адвокат. Суд отклоняет все ходатайства и этим самым полностью лишает Подрабинека возможности защищаться. Это грубейшее нарушение не только основополагающих принципов уголовного процесса, установленных ст. ст. 13 и 20 Основ уголовного судопроизводства, но и нарушение конкретных ст. ст. 131 и 276 УПК РСФСР, регламентирующих условия, при которых заявленные ходатайства подлежат удовлетворению. По тексту и смыслу этих статей подлежат обязательному удовлетворению все ходатайства об истребовании и проверке доказательств, имеющих значение для дела.
Подкрепляя обвинение Подрабинека в ложных измышлениях по поводу порядков в психиатрических больницах, следователь ссылается в обвинительном заключении на «Положение о психиатрических больницах». Однако этого «Положения» в материалах дела нет. Подрабинек просит о приобщении к делу этого документа, чтобы иметь возможность на него ссылаться. Суд отклоняет эту просьбу.
Подрабинека обвиняют в том, что он клевещет, утверждая, что в больницах плохое и недостаточное питание для больных. В обвинительном заключении следователь ссылается на инструкцию Министерства здравоохранения о питании больных. Этой инструкции также нет в деле, и Подрабинек ходатайствует о ее приобщении. Суд отклоняет и это ходатайство.
Подрабинек заявляет ряд ходатайств о приобщении к делу других документов и книг, на которые ссылается обвинительное заключение. Все эти ходатайства неизменно отклоняются.
В опровержение обвинения в клевете Подрабинек просит вызвать ряд свидетелей, которые могут подтвердить, что факты, описанные в его книге «Карательная медицина», в действительности имели место. Суд отклоняет все ходатайства о вызове свидетелей защиты.
Ссылка на то, что большинство свидетелей, о вызове которых просит Подрабинек, являются невменяемыми и потому они не могут быть допрошены в суде, не только голословна, но и нарушает закон:
а) в материалах дела нет никаких документов, удостоверяющих невменяемость лиц, о вызове которых просил Подрабинек;
б) невменяемость — категория материального уголовного права (ст.11 УК РСФСР) и может устанавливаться только судом, а не удостоверением того факта, что человек лечится в психиатрической больнице;
в) ст. 79 УПК РСФСР устанавливает обязательность проведения судебно-психиатрической экспертизы для определения психического состояния свидетеля в случаях, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значения для дела, и давать о них правильные показания.
То обстоятельство, что показания свидетелей, о вызове которых просил Подрабинек, существенны для дела, не подлежит сомнению. Вот примеры, это подтверждающие.
Подрабинеку вменяется, что он «в клеветнических целях» приписывает врачам Сычевской специальной психиатрической больницы слова, которые они не произносили. В частности, по утверждению Подрабинека, врач Зеленеев якобы сказал больному Белову Ю. С.: «Ты здоров и в лечении не нуждаешься». Подрабинек просит вызвать и допросить Белова. Суд ему в этом ходатайстве отказывает. Исследование этого эпизода ограничивается допросом Зеленеева (лица явно заинтересованного).
Подрабинеку вменяются клеветнические утверждения об условиях содержания больных в психиатрических больницах. Он просит вызвать ряд свидетелей, которые могут подтвердить изложенные им в рукописи «Карательная медицина» факты. Суд все эти ходатайства отклоняет, ограничившись допросом свидетелей из числа медперсонала больниц, ответственных за «порядки» и условия содержания больных, то есть лиц, явно и непосредственно заинтересованных в деле.
Особенно явно нарушение судом ст. ст. 20 и 276 УПК РСФСР видно на примере эпизода смерти Радченко.
Подрабинек в своей книге «Карательная медицина» писал о том, что в Казанской специальной психиатрической больнице умер больной Радченко в результате того, что ему вводили большие дозы аминозина и атропина после тридцати дней голодовки. Это вменялось Подрабинеку как клевета, так как к делу была приобщена справка той же больницы, что Радченко умер от асфиксии вследствие задушения рвотными массами. Подрабинек ходатайствует об истребовании и приобщении к делу истории болезни, медицинского заключения о смерти для тщательной проверки обстоятельств смерти Радченко. Суд это ходатайство тоже отклонил.
При этом суд не поставил перед собой и не разрешил вопросы:
а) чем была вызвана рвота у Радченко, не явилась ли она следствием передозировки лекарств на фоне длительной голодовки;
б) как могла произойти асфиксия рвотными массами, если Радченко находился в сознании и не был лишен возможности двигаться (ведь достаточно наклониться или просто повернуть голову в сторону);
в) если Радченко был в бессознательном состоянии, то чем это состояние было вызвано и почему и по чьей вине он был оставлен без надзора и медицинского наблюдения в таком состоянии.
Достаточно лишь поставить эти вопросы для того, чтобы прийти к выводу, что смерть Радченко явилась результатом по меньшей мере преступной неосторожности медицинского персонала больницы. Но, ограничившись в качестве доказательства справкой этой же больницы, суд признал Подрабинека клеветником.
Безоговорочно отклоняя все ходатайства подсудимого, суд нарушает не только процессуальный закон, но и простую логику.
К делу приобщены документы «Сахаровских чтений», изложенные на итальянском языке, которым подсудимый не владеет.
Ст.ст. 201 и 236 УПК РСФСР устанавливают право подсудимого знакомиться со всеми материалами дела. Подрабинек заявил ходатайство о переводе текста документов на русский язык. Суд отклонил это ходатайство. При этом судья «утешил» подсудимого обещанием не рассматривать эти документы в судебном заседании. Неужели простая логика не подсказала судьям, что эти документы (содержание которых, очевидно, не знает и суд) могут оказаться доказательствами, оправдывающими или смягчающими вину подсудимого, и Подрабинек по закону имеет право на них ссылаться?
В соответствии со ст. 313 УПК РСФСР в приговоре суда должны найти отражение сведения о личности подсудимого, имеющие значения для дела.
Это обязывает суд в свете ст. 20 УПК РСФСР не только устанавливать данные из биографии, но и исследовать морально-этические стороны характера подсудимого. Особенно это необходимо по такой категории дел, как клевета, на которую способен, как правило, только человек с низким моральным уровнем и с отсутствием нравственных устоев.
Суд не интересовался, что собой представляет Подрабинек как личность. Десятки (если не сотни) людей, в том числе многие из тех, кого просил вызвать в суд подсудимый, могли рассказать о Саше Подрабинеке как о человеке правдивом, не способном на компромисс со своей совестью, чутком и внимательном к людям, отзывчивом на чужую боль и горе, честном и бескорыстном. Если бы были допрошены люди, знающие Сашу, то стало бы очевидным, что клевета выходит за пределы плана его личности, что Александр Подрабинек и клевета — несовместимы.
Вопрос о том, кто обвиняется в клевете, остался за пределами судебного разбирательства.
Подрабинек, выслушав определение об отклонении всех его ходатайств и просьб, подавляющее большинство которых было поддержано его адвокатом, убедился, что его полностью лишили возможности защищаться. Он отказался от услуг участвующего в деле адвоката. И даже это заявление подсудимого было отклонено, несмотря на то, что в силу ст. 50 УПК РСФСР отказ от адвоката в любой стадии процесса является безусловным правом подсудимого (исключения из этого правила к Подрабинеку не относятся).
Только после вторичного, в письменном виде заявленного отказа от участия адвоката в процессе этот отказ судом был принят.
И, наконец, Подрабинек заявил об отказе участвовать в судебном процессе и просил удалить его из зала судебного заседания. Так как суд отклонил и эту просьбу, Подрабинек, имитируя нарушение порядка (курение, насвистывание арии «Тореадор…»), добился удаления его по правилам ст. 263 УПК РСФСР.
По просьбе Подрабинека председательствующий суда обещал (устно, а не определением суда) доставить его в судебное заседание для произнесения последнего слова. Но обещание это осталось невыполненным. Доставлен был Подрабинек только для выслушивания приговора.
Итак, из участников процесса в судебном заседании остался только один прокурор. Защищаться и защищать было некому. Такое положение обязывало суд особенно тщательно исследовать доказательства по делу, истребовать новые доказательства по своей инициативе, если оставались невыясненными вопросы, существенные для решения судьбы человека, отсутствующего в суде (хотя бы и по своему желанию) и лишенного возможности защищаться.
Но и судебное заседание, и следствие, и речь прокурора, и совещание судей для обсуждения и написания приговора, и провозглашение приговора, — все это продолжалось всего 4,5 часа. Уже одно это обстоятельство дает основание полагать, что судом был нарушен один из основополагающих принципов процесса, изложенный в ст.240 УПК РСФСР, — непосредственность рассмотрения дела. Физически невозможно устно с достаточной полнотой исследовать все материалы дела, составляющие пять томов, за такой короткий срок.
Мера наказания определена судом Подрабинеку также с нарушением закона.
Определяя наказание в виде ссылки на пять лет, суд сослался на ст.43 УК РСФСР, которая дает право суду назначить наказание ниже низшего предела, предусмотренного законом, или перейти к другому, более мягкому виду наказания. Как прямо указано в ст. 43, закон имеет в виду смягчение наказания по сравнению с минимальным наказанием, предусмотренным санкцией статьи УК, по которой осужден человек.
Санкция ст.190-1 УК РСФСР, по которой осужден Подрабинек, предусматривает три вида наказания: лишение свободы сроком до трех лет, исправительные работы (без содержания под стражей) на срок до одного года и штраф до ста рублей.
Ссылка, не предусмотренная санкцией ст. 190 УК РСФСР, признается законом более мягким наказанием, чем лишение свободы, но более тяжелым, чем исправительные работы и штраф. Таким образом, нижний предел наказания по этой статье — денежный штраф. Ниже этого предела идут, в соответствии со ст. 21 УКП РСФСР, — увольнение от должности, возложение обязанности загладить причиненный вред и общественное порицание.
В явном противоречии с текстом и смыслом ст. 43 УК РСФСР суд назначил Подрабинеку более тяжелое наказание по сравнению с низшим пределом санкции ст. 190 УК РСФСР. Такое нарушение закона при назначении наказания впервые в судебной практике было допущено в 1968 г. по делу Литвинова и других о демонстрации на Красной площади в Москве в знак протеста против оккупации Чехословакии. С тех пор такое нарушение стало привычным в политических процессах. Но привыкнуть к нарушению закона нельзя.
Приговор провозглашен. Нарушения процессуального закона продолжаются…
В соответствии со ст.319 УПК РСФСР человек, осужденный к наказанию, не связанному с лишением свободы, подлежит немедленному освобождению из-под стражи в зале судебного заседания. Но Сашу Подрабинека под конвоем уводят в тюрьму. И сегодня он в тюрьме. Будучи приговорен к ссылке, он отбывает наказание в тюрьме. И более того, до истечения кассационного срока Саша уже переведен в пересыльную тюрьму на Красной Пресне. Невольно подумаешь: ошибка это или свидетельство уверенности в том, что кассационное рассмотрение дела — пустая формальность и пересылки Саше не миновать. Впрочем, в истории московских судов были и такие случаи, когда до истечения кассационного срока осужденного отправляли для отбытия наказания в лагерь (дело Феликса Сереброва).
Но к нарушению закона привыкнуть нельзя.
Ст. 320 УПК РСФСР устанавливает, что осужденному, содержащемуся под стражей, копия приговора должна быть вручена не позднее трех суток с момента провозглашения. Приговор был провозглашен 15 августа. На 30 августа есть точные сведения, что копия приговора еще не вручена.
Какие еще нарушения закона последуют по этому «обычному уголовному делу»?
Невозможность изучения подлинных документов дела лишает права говорить о других процессуальных нарушениях. Но и приведенных нарушений, установленных мною на основании доступных мне сведений, более чем достаточно, чтобы сказать: приговор по делу Подрабинека неправосуден и подлежит отмене в точном соответствии со ст. ст. 342, 343, 345 УПК РСФСР.
Но я не могу на этом закончить свою защитительную речь. Остается самое главное. Я утверждаю, что Александр Подрабинек осужден при отсутствии в его действиях состава преступления.
Я не беру на себя смелость утверждать, что вся информация в книге Подрабинека «Карательная медицина» (а кроме написания и распространения этой рукописи Подрабинеку ничего не вменено) точно и безошибочно отражает факты, имевшие место в действительности. Напротив, я предполагаю наличие отдельных неточностей и даже ошибок, которые неизбежны при тех трудных условиях, в которых Подрабинек собирал и получал информацию.
Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях, в рамках которой проходила деятельность Подрабинека, является свободной общественной ассоциацией, не имеет статуса юридического лица, не обладает средствами и техническим аппаратом. В атмосфере полной секретности, окружающей работу психиатрических больниц и учреждений, только своей энергичной работой с помощью других членов Рабочей комиссии и примыкающих к ней людей Подрабинек сумел за два года собрать, проверить и оформить огромный материал, выявить большое число фактов. Достаточно указать на то, что в книге «Карательная медицина», содержание которой вменено Подрабинеку, приведено около 300 конкретных фактов. Если только 13 из них фигурируют в обвинительном заключении как не соответствующие действительности, то процент ошибок отнюдь не велик.
Но, как видно из всего сказанного по поводу нарушений процессуальных норм при расследовании и рассмотрении дела, и в отношении 13 эпизодов несоответствие действительности изложенных в рукописи Подрабинека фактов не может быть признано установленным.
Можно сослаться на такие примеры:
В своей книге Подрабинек пишет о фактах избиения больных в Сычевской специальной психиатрической больнице санитаром Дворенковым Сашей. Этот эпизод признается клеветническим, так как к делу приобщена справка Сычевской больницы о том, что такого санитара не было. Но при этом и в обвинительном заключении и при допросе свидетелей говорится о санитаре Дворникове Саше. Очевидно, Дворникова среди санитаров в Сычевской больнице действительно не было, а вот был ли Дворенков и избивал ли он больных — не проверено.
Клеветой признается описание в книге Подрабинека убийства при попытке к бегству Левитина в Сычевской больнице, так как установлено, что такой больной в Сычевке не содержался. Однако по вопросу убийства больного при попытке к бегству свидетели — врачи Сычевской больницы — в суде давали противоречивые показания. Врач Федоров утверждает, что случаев убийства больных не было. Врач Москальков показал, что в 1975 г. при попытке к бегству был убит один больной, но он не помнит его фамилию. Это противоречие суд даже не пытался проверить и устранить. Так был случай убийства или не было? И не в фамилии ли здесь только ошибка?
Можно с уверенностью сказать, что при расследовании и рассмотрении дела с соблюдением всех процессуальных норм процент ошибочных и неточных сообщений о конкретных фактах, приведенных в рукописи Подрабинека, значительно сократился бы.
Но главное заключается не в числе не подтвердившихся фактов.
Клевета — это распространение заведомо ложных, позорящих лицо, учреждение или государство измышлений. Такое определение преступления, именуемого клеветой, прямо вытекает из текста закона (ст. ст. 130 и 190-1 УК РСФСР) и не оспаривается в официальной теории советского уголовного права. Слово «заведомо», употребленное в тексте ст. 190-1 УК РСФСР, определяет субъективную сторону данного преступления, которое может быть совершено только умышленно.
В официальном Комментарии к Уголовному кодексу РСФСР (изд-во «Юридическая литература», 1971 г.) написано: «Заведомо ложными, порочащим советский государственный и общественный строй, являются измышления о якобы имевших место фактах и обстоятельствах, порочащих советское общество и государство, несоответствие которых действительности известно виновному уже тогда, когда он распространяет такие измышления. Распространение измышлений, ложность которых неизвестна распространяющему их лицу, а равно высказывание ошибочных оценок, суждений или предположений не образует преступления, предусмотренного ст. 190-1».
Этот научный, официальный комментарий полностью отражает смысл и букву закона. Никаких доказательств того, что Подрабинек умышленно распространял заведомо для него ложные сведения, в деле нет. Больше того, собирая и проверяя огромного объема информацию, он помещал в свою рукопись только то, что считал достоверным, соответствующим действительности. А это исключает состав уголовного преступления в его действиях.
Правильность такого толкования закона подтверждается тем, что за распространение не соответствующих действительности, порочащих какое-либо лицо или организацию сведений, в результате ошибки или по неосторожности (то есть при отсутствии заведомой ложности) нашим законом установлена лишь гражданская (а не уголовная) ответственность по ст. 7 ГК РСФСР. В «Научно-практическом комментарии к ГК РСФСР» (изд-во «Юридическая литература», 1966 г.) указывается, что уголовно наказуема клевета, то есть распространение заведомо ложных, порочащих кого-либо сведений. В отличие от этого ст. 7 ГК РСФСР применяется в тех случаях, когда распространяющий «порочащие сведения добросовестно заблуждался, то есть полагал, что эти сведения соответствуют действительности».
Кроме отдельных эпизодов, относящихся к психиатрии, Подрабинеку вменяется в общей форме клевета на советский государственный и общественный строй, содержащаяся в книге «Карательная медицина». Нельзя отрицать того, что в рукописи Подрабинека содержатся отрицательные оценки некоторых сторон советской действительности, порой выраженные в достаточно резкой форме. Подрабинек не скрывает своих политических, социальных и нравственных взглядов, которые зачастую находятся в противоречии с официальной политикой, идеологией советского государства.
Защите Подрабинека нет надобности входить в обсуждение вопроса о том, правильны или ошибочны взгляды и мировоззрение Подрабинека. С правовых позиций необходимо только отметить, что в субъективных оценках и суждениях, высказываемых человеком, независимо от того, хороши они или плохи, не содержится заведомой лжи. Человек высказывает свои убеждения и считает их правильными и истинными. Следовательно, нельзя эти высказывания считать заведомо ложным измышлениями, то есть клеветой. В уже цитированном мною «Комментарии к Уголовному кодексу РСФСР» по этому поводу написано:
«Произведениями такого рода (т. е. подпадающими под признаки ст. 190-1) являются произведения, в которых высказаны или выражены заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй, т. е. содержатся несоответствующие действительности сведения о якобы имевших место фактах, порочащих советское общество и государство.
Изготовление или распространение произведений, хотя и выражающих отрицательное отношение изготовившего их лица к советской действительности, но не содержащих заведомо ложных измышлений упомянутого характера, не влечет ответственности по ст. 190-1».
Право человека мыслить, иметь свои убеждения, собирать и распространять информацию — это одно из основных гражданских прав в каждом цивилизованном обществе. Это право зафиксировано в подписанных советским правительством международных документах.
Преследование за слово, за мысль, за убеждения — недопустимо.
Александр Подрабинек — инакомыслящий. Он в соответствии со своими убеждениями боролся за права психически больных и за права здоровых людей, объявляемых сумасшедшими в политических целях. Но он не клеветник. Он действовал в пределах закона и не совершил преступления.
Вот те правовые основания, которые позволяют мне утверждать, что приговор по делу Подрабинека подлежит отмене, а уголовное дело — прекращению за отсутствием состава преступления.
Жалоба (в порядке надзора) по делу И. Я. Габая
Председателю Верховного суда СССР <…> на приговор судебной коллегии по уголовным делам Ташкентского городского суда от 19.01.70 г. и на определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Узбекской ССР от 16.03.70 г.
Указанным выше приговором Габай И. Я., 1935 года рождения, был осужден по ст. 190-1 УК РСФСР к лишению свободы сроком на три года. Определением Верховного суда Узбекской ССР от 16.03.70 г. кассационные жалобы Габая и его адвоката были отклонены и приговор оставлен в силе.
Габай И. Я. полностью отбыл наказание и в мае 1972 года вернулся к семье в Москву. Однако здесь он столкнулся с невозможностью жить полноценной жизнью, а именно: устроиться работать по специальности в соответствии с полученным образованием, участвовать в общественном правозащитном движении, за что фактически он и был осужден, публиковать свои поэтические произведения, которые он начал писать еще в школьные годы и продолжал до конца жизни. Все это вместе с глубокой психологической травмой, полученной от пребывания в ИТК в абсолютно чуждом ему мире уголовников, привело к глубокой депрессии, вследствие которой Габай И. Я. 20 октября 1973 г. покончил жизнь самоубийством.
Габай И. Я. рано потерял родителей, у него не осталось близких родственников в СССР. Его вдова с сыном и дочерью эмигрировали в 1974 г. в США и живут там. Мы, близкие друзья Габая И. Я., знали его как человека, безусловно не способного ко лжи и клевете. Он был убежденным гуманистом, что привело его к публицистической деятельности в защиту демократических принципов в СССР, в которой сейчас никто не усмотрел бы криминала. Мы убеждены, что преследовался он и был осужден необоснованно. Наше убеждение основано на имеющихся у нас материалах — выписках из дела, записях, сделанных на судебном заседании, копиях обвинительного заключения, кассационного определения, текста последнего слова Габая. Эти копии и записи не заверены и поэтому не являются официальными документами. Но, опираясь на подтверждения свидетелей — участников процесса (Габай Г. В., Милошевича В. А., Кима Ю. Ч., Баевой Т. А.), данные ими еще во время пребывания Габая И. Я. в заключении, мы не сомневаемся в том, что имеющиеся у нас материалы соответствуют действительности, и на них основываем свою жалобу.
Уголовно-процессуальное законодательство не ограничивает ни срока подачи надзорной жалобы на обвинительный приговор, ни круг лиц, имеющих право обращаться с просьбами о пересмотре дела в порядке надзора.
Поэтому мы, группа друзей Ильи Габая, считая его осуждение неправильным, обращаемся к вам с просьбой об истребовании доводов и о принесении протеста на приговор суда и определение Верховного суда Узб. ССР на предмет их отмены и прекращения дела производством за отсутствием в действиях Габая состава преступления.
Мы стремимся к посмертной реабилитации Ильи Габая, к возвращению нашему обществу имени еще одного поэта и правозащитника, к публикации его стихов и воспоминаний о нем близких друзей. Считаем безвременно погибшего Илью Габая жертвой извращений государственных и социальных принципов демократии, гласности и законности в годы брежневского застоя.
При проверке материалов дела Габая необходимо обратить внимание на следующие нарушения, допущенные в предварительном следствии и на суде:
I. Габай постоянно жил и работал в Москве, и все вменяемые ему приговором действия он совершил в Москве. И осужден он по УК РСФСР, а не Узбекистана. Тем не менее следствие по его делу велось в Ташкенте, куда он был переведен после ареста в Москве, и там он был осужден Ташкентским городским судом.
Сначала утверждалось, что в Ташкенте надо вести дело по месту жительства второго обвиняемого, Джемилева М. Позже, 13 июня 1969 г. дело Джемилева было выделено в особое производство. 10 сентября 1969 г. дела Габая и Джемилева вновь были объединены. Все свидетели по делу Габая допрашивались в Москве, и все четыре свидетеля, допрошенные в суде по эпизодам, вменяемым Габаю, были вызваны из Москвы.
Таким образом, явно просматривается нарушение территориальной подследственности и подсудности.
II. Были нарушены установленные законом сроки ведения следствия: вместо четырех месяцев Габай пробыл под стражей до начала суда восемь месяцев — с 14 мая 1969 г. по 12 января 1970 г. Для прикрытия нарушения закона следователь Березовский имитировал бурную деятельность, собрав 20 (!) томов дела. В то же время, согласно постановлению следователя Березовского от 6.X.69 г. «О признании по делу доказательств», по всем эпизодам, вменяемым и Габаю и Джемилеву, вещественными доказательствами признаны только 32 документа, которые не составляют и одного тома. Почти все 20 томов заполнены материалами («документами») по эпизодам, никому не вменяемым и не имеющим никакого отношения к обвиняемым Габаю и Джемилеву. Приведем только три примера:
а) том II целиком (405 листов) заполнен сборником материалов по делу Гинзбурга, Галанскова и др., составленным П. Литвиновым. Ни «изготовление», ни распространение этого сборника ни Габаю, ни Джемилеву не вменялось;
б) том XI — это «машинописный экземпляр книги без заглавия и указания автора». Что это за книга, какое она имеет значение для дела — неизвестно;
в) том VIII содержит в себе 7156 подписей крымских татар (348 листов!). Ни сбор, ни распространение этих подписей ни Габаю, ни Джемилеву в вину не вменялось.
Разумеется, эти три тома в суде не только не исследовались, но и не открывались. Как, впрочем, не исследовались и многочисленные «документы», содержащиеся в других томах и не имеющие никакого отношения к делу.
III. Производился отбор публики, пропускаемой в зал суда, в том числе чинились препятствия родственникам и друзьям подсудимых. Таким образом, был явно нарушен принцип гласности, тем более, что председатель суда Писаренко неоднократно запрещал вести записи и позволял конвоирам вмешиваться в ход процесса возгласами типа: «Товарищ судья, вот этот записывает!»
IV. Явное нарушение процессуального закона было допущено при решении вопросов об отводе прокурора Бочарова и народного заседателя Усмановой.
В начале судебного процесса Джемилев и Габай заявили отвод прокурору Бочарову, так как он упоминается в документах, вменяемых обвиняемым, как участник разгона праздничного гуляния в Чирчике и, следовательно, является свидетелем по делу. Прокурор заявил суду, что он не участвовал в чирчикских событиях, а был там только очевидцем. И после этого суд отклонил заявленный прокурору отвод.
В дополнениях к судебному следствию Джемилев заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля народного заседателя Усмановой, так как она в 1966 г. была народным заседателем по его делу и может подтвердить, что «Последнее слово» Джемилева, которое вменяется Джемилеву как «клеветнический документ», изготовленный в период отбытия наказания, действительно было произнесено им в суде в 1966 г.
После разъяснения адвоката Джемилев заявил отвод народному заседателю Усмановой. И этот отвод был отклонен.
V. Суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката Каминской Д. И. (адвоката Габая), самого Габая и Джемилева, заявленное в заседании 15 января 1970 г., о вызове свидетелем Григоренко П. Г., несмотря на то, что на начальном этапе следствие по делам Габая, Джемилева и Григоренко велось совместно и что в списке лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, подписанном следователем Березовским, был указан в числе свидетелей Григоренко П. Г. Препятствий для вызова Григоренко, содержащегося в то время под стражей, не было.
Однако главным доводом обжалования приговора является явное отсутствие состава преступления в действиях Габая Ильи Янкелевича.
По действующей редакции ст. 190-1 УК РСФСР обязательными элементами состава преступления являются:
а) ложность излагаемых (распространяемых) сведений, то есть несоответствие действительности тех событий, которые в «измышлениях» выдаются за факты;
б) заведомое осознание обвиняемым (подсудимым) этой ложности.
Субъективная оценка тех или иных событий (фактов), в действительности имевших место, то есть оценочные суждения, основанные на личных убеждениях, могут быть правильными или неправильными, но не могут быть признаны заведомо ложными, то есть клеветой;
в) ложные измышления должны порочить не отдельных лиц (в том числе и руководителей государства), не отдельные ведомства или органы власти, а государственный и общественный строй как таковой.
Исходя из этих бесспорных правовых положений, следствие должно было собрать доказательства того, что Габай заведомо лживо порочил советский строй.
Вместо этого следователь набивал тома не имеющими отношения к делу материалами, допрашивал обвиняемых и свидетелей только для установления: когда, где, кем составлен тот или иной документ, на какой машинке напечатан, кем и каким образом распространен.
Одновременно следователь, а затем и суд, выясняли воззрения, мнения, убеждения не только обвиняемых, но и свидетелей.
Криминальный же, клеветнический характер вменяемых обвиняемым документов просто резюмировался. Возьмем несколько примеров.
1) Габаю вменено составление и распространение документов с протестами против разгона милицией и сотрудниками КГБ праздничного гуляния крымских татар в г. Чирчике 21 апреля 1968 г. В этих документах говорится о том, что тысячи граждан, в большинстве женщины и дети, собравшиеся на свой национальный праздник «Дервиза», приуроченный ко дню рождения В. И. Ленина, подверглись нападению солдат и милиционеров, были избиты, обливались из пожарных машин щелочной жидкостью.
Габай, так же, как Джемилев (как и тысячи других людей), именовали это событие произволом и беззаконием. Прокурор Бочаров (упомянутый в «клеветнических» документах как один из руководителей этой операции и сам в суде заявивший, что он был «очевидцем» чирчикских событий) в суде утверждал, что милиция не разгоняла мирных татар, а наводила общественный порядок, нарушенный лицами татарской национальности.
Как видно, оценка событий разная. Но самый факт события ни следствие, ни даже суд не пытались опровергнуть.
2) Габаю вменены в вину документы, содержащие протест против ввода войск СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 г.
Факт неоспорим, и документы, составленные Габаем, не содержат «ложных измышлений». Официальные власти и официальная печать оценивали ввод войск как братскую помощь чехословацкому народу. Габай был твердо убежден, что это нарушение суверенитета Чехословакии и оккупация. Опять то же: судили Габая не за заведомо ложные измышления, а за оценку действительно имевших место событий, основанную на личном убеждении. Такая оценка, повторяем, не может быть признана заведомо ложной.
Надо добавить, что убеждения Габая и его оценку разделяли лица, совместно с ним подписавшие документы, но не привлекавшиеся за это к уголовной ответственности, и, кроме того, многие лица в нашей стране, не высказывавшие открыто своих мнений. Подобные взгляды открыто выразили представители французской, итальянской и некоторых других зарубежных коммунистических партий. В наше время близкие оценки появляются в печати (см., например, 35 газеты «Московские новости» за 1988 г.).
3) Габаю вменен в вину ряд документов, содержащих протесты против репрессий времен брежневского застоя, которые Габай считал возрождением сталинизма, против судебных преследований инакомыслящих, против приговоров, которые Габай считал неправосудными.
Между тем все эти документы были основаны на широко известных фактах и содержали критику судебной практики по этим делам, а вовсе не заведомо ложные измышления, порочащие государственный и общественный строй.
Мы думаем, что нет необходимости подробно анализировать в данной жалобе каждый из семнадцати вмененных приговором документов. Достаточно сказать, что ни по одному из этих документов не добыто ни одного доказательства лживости, измышлений, клеветы.
В течение шести дней судебного процесса Габай и его адвокат (так же, как и второй подсудимый Джемилев) пытались добиться, чтобы суд занялся рассмотрением существа дела: есть ли в документе лживые измышления, являлись ли эти измышления заведомой ложью, порочили ли они советский государственный и общественный строй. Все эти попытки были тщетны, и Габай (так же, как и Джемилев) был осужден при полном и вопиющем отсутствии доказательств того, что в его действиях есть состав преступления, предусмотренного ст. 190-1 УК РСФСР.
Изложенные выше доводы и явная несправедливость судебной репрессии, допущенной в отношении Габая и приведшей к трагическому самоубийству честного, правдивого, чуткого к несправедливости человека, заставляют нас поднять голос в защиту его имени. Мы просим об отмене приговора и о прекращении дела производством за отсутствием в действиях Габая состава преступления, то есть о посмертной его реабилитации.
Кроме не заверенных копий приговора и определения (заверенные получить не имеем возможности) мы прилагаем имеющийся у нас текст последнего слова Габая И. Я. в суде. Этот текст был нами получен от него, и мы уверены в его подлинности.
Из последнего слова в суде неправосудность приговора видна ярче и безоговорочнее, чем из нашей жалобы. Это последнее слово сам Илья Габай уже не может предать широкой гласности. Он ушел из жизни до того, как наступила эра перестройки, эра нового мышления.
Мустафа Джемилев жив и на свободе. Мы не имеем от него полномочий подавать жалобу от его имени. Но мы надеемся, что при рассмотрении дела в отношении Габая в порядке надзора будет решен и вопрос о реабилитации Джемилева.
Прилагаем не заверенные копии: 1. Приговора, 2. Определения, 3. Текст последнего слова Габая.
С. В. Каллистратова о «делах» генерала П. Г. Григоренко и других своих подзащитных
Фрагмент фонограммы кинофильма «Блаженны изгнанные»
Каллистратова: Я защищала генерала Григоренко… Приехала, когда еще заканчивалось предварительное следствие. И когда следователь Березовский мне сказал, что я два дня с ним не увижусь, потому что он — невменяемый, то я ему ответила: «Вы плохо знаете закон. Я с генералом увижусь, а без свидания с ним я вам ни одной бумаги не подпишу». И меня привели в подвальное помещение следственного изолятора КГБ — там, в городе Ташкенте. И туда московский конвой ввел генерала Григоренко, и генерал Григоренко на глазах изумленной публики сгреб меня в объятия, начал целовать. Конвой растерялся и не знал, что делать. <…> Вот с этого и началось. <…> Я сидела там месяц и делала выписки. Они у меня были в деле, эти выписки. Я только дала подписку, что их никому не буду разглашать.
Кустов: Что представляло собой это дело?
Каллистратова: Это дело представляло двадцать один том, в котором было Бог знает что. Там чего только было не наворочено. Но меня интересовали совершенно определенные моменты… Я сидела над этим делом месяц. И в течение этого времени каждый раз с боем я получала свидания с генералом Григоренко. Мы с ним общались… Так вот, в моих записях были такие пометки: том такой-то, лист дела такой-то. Значит, здесь идет выписка из материалов подлинного следственного дела. Так Слава (Глузман. — Сост.) и ссылался на подлинное следственное дело. По этим выпискам и писал: том 20-й, лист дела 172-й. И так далее. Поэтому тут все было совершенно ясно. И пусть Слава не думает, что я уж так рисковала головой. До этого я рисковала головой уже очень много раз. И еще до этого у меня было два обыска.
Кустов: А сколько их было потом?
Каллистратова: Всего их было пять.
Мне сказали, что есть психиатр, который сможет это разработать. А я-то ведь не психиатр. Правда, я психиатрию знаю в объеме курса университета по судебной психиатрии, которая преподавалась на юридическом факультете. И у меня был большой опыт общения с людьми, признанными невменяемыми. И у меня глаз наметанный, хотя я и не могу разобраться в тонкостях диагноза. Но все-таки человека безусловно здорового от человека безусловно больного я отличу.
Кустов: И чем ташкентский процесс над Григоренко отличался от других процессов?
Каллистратова: Первым был процесс латвийского председателя колхоза Ивана Яхимовича. Я вам должна сказать, что бывают разные люди, бывают люди со странностями, но более нормального, более спокойного, более уравновешенного человека, чем Иван Яхимович, я не видела. Он был признан невменяемым. Причем в самом постановлении о признании его невменяемым совершенно анекдотические вещи написаны, совершенно анекдотические. Например, в этом постановлении говорится так: «Заявляет, что никогда и ни при каких условиях не изменит идее борьбы за коммунистический строй, за социализм, но только с тем условием, чтобы многие, не соответствующие высокому званию коммуниста люди, находящиеся в настоящее время в партии, были удалены из партии с тем, чтобы с ними была в дальнейшем проведена воспитательная работа, направленная на изменение их мировоззрения. Считает, что политических заключенных не надо лишать свободы, на них надо действовать методом убеждения, разъяснениями и наглядной агитацией. Прекрасно владеет произведениями классиков марксизма-ленинизма, отлично знает труды многих философов и политических деятелей». Я вам читаю только маленькие выдержки.
Кустов: Откуда выдержки?
Каллистратова: Из заключения экспертизы, в которой Яхимович признан невменяемым. Написано: «Со стороны центральной нервной системы патологических органических признаков не обнаружено».
Кустов: А кто подписал, кто эксперты?
Каллистратова: А-а, вы хотите знать, кто эксперты…
Кустов: Хочу.
Каллистратова: Это я могу вам сказать. Это четыре латвийских, рижских психиатра: Русинов, Мартис, Красноямский, Каснянский. Послушайте, что они дальше говорят: «Во время бесед с врачом — любезен, бредовых идей и галлюцинаторных переживаний не обнаруживает, память достаточная». Это в заключении, в котором он признан больным психически. А больным он признан только потому, что считает, что его идейный и политический долг, равно как и общественный, стоит значительно выше его долга перед семьей, уверен, что он и ему подобные лица исполняют значительную миссию перед лицом своего народа, и разубеждению не поддается. Поэтому псих.
Глузман: Да, это самое главное.
Кустов: Понятно. А были у вас подзащитные, изначально здоровые и пошедшие не в психушку, а в лагерь? Коротко, если можно.
Каллистратова: Пожалуйста, сколько угодно. Это все подзащитные по делу о демонстрации на Красной площади. Это все крымские татары, которых я защищала, которых обвинили в том, что они клевещут на советскую власть. Это рабочий Хаустов, которого осудили за то, что выступал на митинге, участвовал в демонстрации на площади Пушкина в защиту Гинзбурга, Добровольского и Галанскова. Да сколько угодно! Но тут они выбирали что, вот этого Яхимовича почему решили сделать сумасшедшим? Он ушел с педагогической работы на колхозную, и первое, что он заявил, — до тех пор, пока я не могу колхозникам выплатить за трудодень хоть что-нибудь, я ограничиваю свою зарплату по партмаксимуму. А остальным-то как?
Кустов: Яхимович сам разрешил себе получать лишь тридцать рублей?
Каллистратова: Да, да. Партмаксимум. А что остальным председателям колхозов делать, которые получают по тысяче двести? Сумасшедшим надо его признать.
Кустов: Нормальный человек так не поступает.
Каллистратова: Да, нормальный человек так не поступает. Он, рискуя своей шкурой, продал ненужный для колхоза запас бревен как-то и выдал колхозникам, которые до этого десятилетиями не получали ни копейки, по сколько-то рублей на трудодень. Ненормальный.
Кустов: Софья Васильевна, Яхимович — это особое дело…
Каллистратова: Да… 6 апреля 1970 г. суд признал невменяемой Наталью Горбаневскую, признал, что у нее вялотекущая шизофрения. А когда в суде выступал профессор Лунц, я у него спросила: «Скажите, эксперт, какие признаки вялотекущей шизофрении вы отмечаете у Горбаневской?» И он мне ответил: «Вялотекущая шизофрения, как правило, никаких симптомов не дает». Ясно вам? Во-первых, она смелая — она с трехмесячным ребенком ходила на эту демонстрацию на Красной площади. Во-вторых, она издавала «Хронику текущих событий». Это был человек, которого надо было скомпрометировать. Поэт, переводчик, разумный человек, который живет и работает уже сколько лет в Париже, произведения которой печатают, — вот взяли и написали, что она сумасшедшая. Что она невменяемая.
Кустов: Ахматова считала ее очень талантливой.
Каллистратова: Да.
Кустов: А Лунц…
Каллистратова: А Лунц считал ее психом. Теперь — чем отличается процесс Григоренко. Прежде всего тем, что по этому процессу было две экспертизы. Первая экспертиза, так называемая амбулаторная, в которой участвовали главный психиатр военного округа Коган и профессор Детенгоф. Очень известный психиатр…
Кустов: Ныне покойный Федор Федорович Детенгоф.
Каллистратова: Да, да, да. И они дали заключение: «Сознание ясное, правильно ориентирован, в беседе держится вполне упорядоченно, естествен, легко доступен к контакту, речь связная, целенаправленная, несколько обстоятельная». И пришли к выводу: психическим заболеванием не страдает, не нуждается в стационарном обследовании. Стационарное обследование может в настоящее время не расширить представление о нем, а наоборот, учитывая возраст и резко отрицательное отношение его к пребыванию в психиатрическом стационаре, привести к неправильным выводам. Так что же сделал генерал? Генерал — его весь мир знает, ну как же его судить-то открытым судом? Надо сделать его сумасшедшим. И следователь Березовский при наличии такой экспертизы сажает его в самолет, сам лично, под своим конвоем, везет в Москву в Институт Сербского и сдает туда на экспертизу. А в Институте Сербского рады стараться: сумасшедший, невменяем, переоценивает свою личность, убежден в своей правоте, разубеждению не подлежит. Паранойя. В суде обе эти экспертизы. Я говорю в суде: «Вызовите генерала Григоренко в судебное заседание. Товарищи судьи, посмотрите на него сами. Вы же имеете две совершенно разные экспертизы, вы же не можете разобраться, какая из этих экспертиз правильная». Нет, отвечают, вызывать психически больного человека в суд негуманно, в ходатайстве адвоката отказать. Обращаюсь к Детенгофу, — он тут же сидит рядом с Лунцем, — и говорю ему: «В промежуток времени между тем, как вы давали заключение о вменяемости Григоренко, и сегодняшним днем вы его видели?» «Нет, не видел». «Были какие-нибудь новые медицинские документы о нем? Вы их видели?» «Нет, не видел». «Вы какими-нибудь новыми данными располагаете?» «Нет, не располагаю». «Почему же вы теперь даете заключение диаметрально противоположное своему первому заключению?» «Мы ошиблись, коллеги из Москвы нас поправили».
Кустов: Он тоже подписал?
Каллистратова: Он подписал первое заключение. О том, что Григоренко вменяем. Его и вызвали в судебное заседание как одного из авторов первого заключения, для того, чтобы решить вопрос, какая экспертиза правильна. А он в суде отказался от прежнего заключения и присоединился к Лунцу. Тогда я говорю: «Давайте вызовем Когана, давайте послушаем еще одного человека». Нет, отвечают, нам достаточно.
Кустов: А что суд? Где он проходил?
Каллистратова: В Ташкенте.
Кустов: Кто были зрители? Сколько было зрителей?
Каллистратова: По узбекскому кодексу дела о невменяемых слушают в закрытом судебном заседании. Сам Григоренко доставлен не был. Поэтому среди зрителей не было даже конвоиров, я говорила перед судьями, перед пустыми стульями в зале. Я говорила перед судьями, из которых одна заседательница спала, другой ковырял в носу, а председательствующий все время смотрел на часы.
Кустов: И родственников тоже не было?
Каллистратова: Нет. Никого не пустили в зал. Ни одного человека. Этим тоже отличается процесс Григоренко от процессов Горбаневской и Яхимовича. Правда, у Яхимовича и у Горбаневской была подобрана публика. Но туда все-таки родственники просочились. Некоторые из друзей просочились. А здесь никого не было.
Кустов: Что в заключении экспертов было основным признаком психической болезни у Петра Григорьевича?
Каллистратова: Преувеличение своей роли. То есть мания величия. Хотя это ничем не было подтверждено в материалах дела. Наоборот, скорей там были какие-то данные, чтобы говорить о мании преследования. Потому что он все время говорил, что за ним следят… <…>
… Вот эти три человека, о которых я вам говорила, — Яхимович, Горбаневская и Григоренко, — никакие эксперты в мире не убедят меня в том, что они психически больные. Это здоровые люди. Допрашивали на суде сестру Григоренко, родную сестру. Она украинка, говорила по-русски, но с украинским акцентом. Судья ее спрашивает, так ваш брат болен? Да нет, он здоровый. Так тогда, значит, он враг нашей партии? Да нет, он коммунист. Так если он коммунист, а такие вещи пишет, значит он больной? Да здоровый он, что вы меня пытаете?
Ни одного же свидетельского показания не было, которое говорило бы о его психической болезни. Нет, я говорю, никакие эксперты в мире меня не могут убедить в том, что эти люди психически больные. Они здоровы, а утверждение об их болезни достигалось только одним способом: «Если все нормы УПК соблюдать, как сказал мне один член областного суда по другому делу, — так ни одного виновного не осудят». Итак, я написала жалобу на это определение, на это признание Григоренко виновным. В жалобе указала 49 пунктов нарушений Уголовно-процессуального кодекса. И эту жалобу меня заставили подать через спецчасть адвокатуры. Вызвали к заместителю Генерального прокурора Малярову заместителя председателя Президиума городской коллегии адвокатов и сказали: «Передайте адвокату Каллистратовой — ее жалоба по делу Григоренко получена, ответа не будет». А вы говорите, как это совмещалось с законом. Да никак не совмещалось!
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Сообщение на Международном общественном семинаре по гуманитарным вопросам
Москва, декабрь 1987 г.
По возрасту и состоянию здоровья я не могу принять активного участия в работе семинара. Разделяя полностью принципиальные положения, которыми руководствуются его инициаторы и организаторы, я горячо приветствую всех участников и тех, кто искренне хотел принять участие в этой важнейшей и нужной для дела мира работе, но обстоятельствами, от него не зависящими, был лишен этой возможности.
Мы, правозащитники конца 60-х — начала 80-х гг., действовали всегда открыто, не прибегали к нелегальным методам и не нарушали действующих законов. Но были властями начисто отключены от всякой гласности и поэтому вынуждены были осуществлять свою общественную деятельность в условиях конфронтации с правительством. Эта конфронтация с нашей стороны была обусловлена исключительно суровыми и необоснованными репрессиями по отношению к нам. Обыски, допросы, административные предупреждения, задержания, аресты, осуждения к лишению свободы и ссылке — этих мер не избежал никто из членов Инициативной группы по защите прав человека, групп «Хельсинки», «Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях», «Комитета защиты прав верующих», редколлегии журнала «Поиски». Таким же преследованиям подвергались члены других неформальных правозащитных групп и отдельные правозащитники. В таких условиях все наши попытки найти общий язык диалога с правительством были тщетными.
Сейчас вопросы о нарушениях в области прав человека, допускавшихся в СССР, те вопросы, которые мы поднимали в наших документах, обращениях, письмах и за которые подвергались репрессиям, широко обсуждаются в советской прессе, в телевизионных и радиопрограммах. Это обязывает участников сегодняшнего правозащитного движения искать формы деятельности, лишенные оттенка конфронтации с правительством, стремиться к внесению посильного вклада в дело развития и укрепления демократии, гласности и законности. Вместе с тем надо открыто и решительно выступать против лиц и организаций, которые, не перестроившись на новый тип мышления, пытаются противодействовать возможностям пользоваться всеми правами и свободами, провозглашенными не только Конституцией СССР, но и международными документами.
Я считаю, что настоящий семинар является одной из таких форм и поэтому своевременен и носит позитивный характер. Отдавая должную дань уважения большой работе организаторов и участников семинара, я прошу принять в качестве материала для обсуждения мои краткие заметки на тему, обозначенную в повестке дня семинара, — «Публичность и закрытость нормативных актов, регулирующих отношения личности и государства».
Подлинная демократия неразделима с гласностью и строжайшим соблюдением законности. Демократия без соблюдения законности, — как органами власти и их представителями, так и формальными и неформальными общественными организациями и всеми гражданами, — неизбежно превратится в хаос и произвол.
Надо уточнить, что закон — это только один из видов нормативных актов, и мы говорим о соблюдении законности, так как это слово привычнее и проще, чем понятие «нормативный акт». Не только обыватель, но и юрист-практик привычно называет законом и закон, принятый на сессии Верховного Совета, и постановление Совета Министров, и даже ведомственную инструкцию.
Поскольку мы говорим о публичности и закрытости, то есть о порядке опубликования и введения в действие нормативных актов, для нас важно правильное определение понятия «нормативный акт». Нормативный акт — это правовой документ, являющийся источником права, который издается управомоченным органом и устанавливает, уточняет, изменяет и отменяет нормы права. Конституция определяет круг органов, которым предоставлено право издания нормативных актов и устанавливает их форму для отдельных органов законодательной и исполнительной власти.
Закон в настоящем значении этого слова — это нормативный акт, принятый на сессии Верховного Совета СССР или союзной республики. Все остальные нормативные акты являются подзаконными, то есть не могут противоречить закону. Подавляющее большинство вопросов в области отношений личности и государства в нашей стране разрешаются именно подзаконными актами, многочисленными указами, постановлениями, распоряжениями и приказами.
Некоторые из этих подзаконных нормативных актов затрагивают интересы определенных групп граждан и даже отдельных лиц, а некоторые имеют значение для широких слоев населения. Вопрос об опубликовании нормативных актов союзного значения разрешается статьей 114 Конституции СССР, по которой законы СССР, постановления и иные акты Верховного Совета СССР публикуются. Аналогичные статьи есть и во всех республиканских конституциях. Можно считать, таким образом, что по Конституции все нормативные акты, издаваемые Верховными Советами, подлежат опубликованию для всеобщего сведения.
Действующий в настоящее время указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1958 г. устанавливает в статье 1, что законы, указы и постановления Верховного Совета СССР подлежат опубликованию в «Ведомостях Верховного Совета» не позднее семи дней после их принятия. А важнейшие из этих актов публикуются в газете «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Статья 5 этого указа определяет вступление в силу упомянутых актов по истечении 10 дней после их опубликования. Однако указ от 19 июня 1958 г. содержит статью 3, противоречащую статье 114 Конституции СССР. Цитирую: «Указы и Постановления Президиума Верховного Совета СССР, не имеющие общего значения или не носящие нормативного характера, рассылаются соответствующим ведомствам и учреждениям и доводятся ими до сведения лиц, на которых распространяются действия этих актов. Они могут быть не опубликованы по решению Президиума Верховного Совета СССР».
Вот так… можно не публиковать указы и постановления Президиума Верховного Совета, то есть нормативные акты, которые, видите ли, не имеют, не носят нормативного характера. И вступают они в силу с момента их принятия. А то, что они могут относиться к числу нормативных актов, регулирующих отношения личности и государства, видно уже из того, что ведомства и учреждения должны доводить их до сведения лиц, на которых эти акты распространяются.
Так обстоит дело с нормативными актами, издаваемыми Верховными Советами. Что же касается огромного числа подзаконных актов, издаваемых Советами Министров СССР и союзных республик, местными советами, министерствами и ведомствами, то вообще нет общесоюзного закона, определяющего обязательное их опубликование и условия вступления их в силу. Неизвестно — кто, когда, на каком уровне и исходя из каких принципов решает вопрос, что публиковать и что издавать для служебного пользования, а что и вовсе держать в тайне. А как уже сказано выше, именно эти подзаконные нормативные акты имеют огромное значение для регулирования отношений между личностью и государством. В силу этого надо считать, что все подзаконные акты, затрагивающие права человека, должны обязательно публиковаться в изданиях, доступных широким массам, и не только потому, что граждане должны знать закон, что без этого не может соблюдаться законность, что невозможно всерьез говорить о гласности и демократии, если акты, определяющие права и обязанности граждан, в значительной мере являются секретными.
Широкая публикация всех нормативных актов, затрагивающих интересы личности, необходима и потому, что под тайной неопубликованных актов зачастую прячется несоответствие этих актов закону и прямое нарушение закона.
Вот несколько примеров: закон устанавливает, что срок предварительного заключения, то есть содержания под стражей человека, не признанного еще судом виновным (он может быть и оправдан), ограничен двумя месяцами. Этот срок может продляться ввиду особой сложности дела прокуратурой, но только до девяти месяцев (статья 34 «Основ уголовного судопроизводства»). Закон не устанавливает никаких исключений и никаких возможностей для продления этого срока после истечения девяти месяцев. Если следствие не закончено, а девятимесячный срок содержания под стражей истек, то подследственный подлежит освобождению из-под стражи. Однако в практике зачастую человек остается под стражей, так как Президиумы Верховных Советов принимают указы о продлении срока предварительного заключения для того или иного гражданина. Указы, разумеется, не публикуются, и никто кроме самого подследственного и узкого круга лиц не знает, что грубо нарушен конституционный принцип равенства граждан перед законом, нарушена упомянутая выше статья 34 «Основ».
Другой пример. Действующее законодательство не предусматривает административной ссылки. Ссылка является уголовным наказанием (ст. 21 «Основ уголовного законодательства»). Статья 159 Конституции СССР устанавливает, что никто не может быть подвергнут уголовному наказанию иначе, как по приговору суда.
Всему миру известно, что лауреат Нобелевской премии мира, академик Андрей Дмитриевич Сахаров в январе 1980 г. без судебного разбирательства и приговора был сослан из Москвы в г. Горький и находился в ссылке около семи лет. Напомним, что по закону срок ссылки, как уголовного наказания, не может превышать пяти лет. Говорят, был Указ Президиума Верховного Совета СССР. Этот указ не только не был опубликован, но не был даже объявлен самому Сахарову. В конце 1986 г. Андрей Дмитриевич получил разрешение вернуться в Москву и теперь активно участвует в научной и общественной деятельности. Однако об отмене незаконного указа 1980 г. объявлено не было, и возвращение Сахарова из незаконной ссылки выглядит скорее как помилование, чем как реабилитация.
Нет у нас в действующем законодательстве и такого наказания, как административная высылка. В статье 24 Кодекса РСФСР об административных нарушениях, принятого 20 июня 1984 г. на основании союзного Закона «Об основах административных нарушений», и в соответствующих статьях кодексов других республик содержится исчерпывающий перечень видов административных взысканий. Административной высылки в этом перечне нет. Высылка — это также уголовное наказание (см. статью 21 «Основ уголовного законодательства»).
Между тем в постановлении Совета Министров СССР от 6 августа 1985 г. (736), которое полностью никогда и нигде не было опубликовано, есть статья 23 (неопубликованная), которая устанавливает, что граждане, систематически допускающие проживание у себя других лиц без паспортов или без прописки, при определенных условиях высылаются из Москвы на срок до двух лет по решению исполкомов районных советов народных депутатов. Статья 27 этого же постановления (также неопубликованная) запрещает прописку и прием на работу в Москве и пригородной зоне лиц, отбывших лишение свободы, ссылку или высылку за преступления, предусмотренные определенными статьями уголовных кодексов. Эти статьи перечислены тут же, и в их число входит статья 70, статья 190-1, по которым, как правило, осуждались инакомыслящие и правозащитники, а также статьи 142 и 227, предусматривающие ответственность за осуществление людьми своих религиозных убеждений. Более того, статья 29 этого же постановления, также неопубликованная, устанавливает, что перечисленные в статье 27 лица не имеют права въезда в Москву без специального разрешения органов МВД, а такое разрешение выдается лишь при наличии уважительных причин и на срок не более трех суток. Далее, в статье 29 говорится, что условия и порядок выдачи разрешения на въезд в Москву указанным лицам определяются МВД СССР. Инструкция МВД СССР, также, разумеется, неопубликованная, еще ужесточает положения постановления Совета Министров. Так, например, перечень уважительных причин характеризуется указанием на такие чрезвычайные обстоятельства, как тяжелая болезнь или смерть близких родственников. Кроме того, регламентируется, что заявление с просьбой о поездке в Москву должно быть подано в местное отделение милиции по определенной форме, а разрешение, если начальник милиции найдет причину достаточно уважительной, выдается в виде маршрутного листа с указанием точных адресов, по которым можно пребывать в Москве.
Таким образом, неопубликованное постановление Совета Министров СССР от 6 августа 1985 г. и изданная в развитие пункта 29 этого постановления инструкция МВД фактически устанавливают для лиц, отбывших назначенное им судом наказание, дополнительное, внесудебное наказание в виде административной высылки. Содержание этих неопубликованных нормативных актов нарушает нашу Конституцию, наш Закон, а также пункт 1 статьи 13 Всеобщей декларации прав человека и пункт 1 статьи 12 Международного пакта о гражданских и политических правах. Содержание этих актов стало нам известно лишь потому, что бывшие политзаключенные, отбывшие сроки лишения свободы и ссылки, С. Ковалев, В. Бахмин, А. Подрабинек, Л. Терновский и многие другие, получили отказ на заявления о прописке в Москве, где живут члены их семей. Позже эти лица вызывались в отделения милиции по месту их прописки, и им сообщали устно содержание этих актов. Полный произвол в применении неопубликованных актов подчеркивается тем, что некоторых бывших политзэков, при всех равных условиях, прописали в Москве к женам и детям. Не будем называть их фамилий, чтобы ненароком не навлечь на них административный гнев. Надо отметить, что к политзаключенным-москвичам, помилованным указами Верховного Совета СССР в 1987 г., указанные выше ограничения применены не были и все они прописаны и живут в Москве, хотя в указах не обусловлено снятие судимости.
Число неопубликованных нормативных актов, затрагивающих интересы граждан, нам неизвестно. Очевидно, их много. Об этом мы можем судить только по косвенным данным. Возьмем еще несколько примеров. Основы исправительно-трудового законодательства СССР и союзных республик, так же, как и республиканские исправительно-трудовые кодексы, подробно и всесторонне регламентирующие все условия отбывания наказания в лагерях, не предусматривают права администрации производить личные обыски родственников, приезжающих на так называемые длительные (до трех дней) свидания с заключенными. Статья 34 Исправительно-трудового кодекса РСФСР предусматривает, что в отдельных случаях, когда имеются достаточные основания, администрация вправе подвергать досмотру (не обыску) вещи и одежду лиц, входящих на производственные объекты, где работают осужденные, и выходящих с них, но не родственников, входящих в помещения для свиданий с заключенным и выходящих из этих помещений.
Однако нам известно из многочисленных рассказов родственников политзаключенных, что во всех лагерях постоянно производятся обыски, порой вплоть до раздевания догола. Совершенно очевидно, что существует какой-то неопубликованный и неизвестный нам нормативный акт, регулирующий эти обыски. Кем и когда этот акт издан, мы не знаем, но если он существует, то такой акт явно незаконен, так как нарушает конституционный принцип неприкосновенности личности, а также статью 3 Всеобщей декларации прав человека и статью 9 Международного пакта о гражданских и политических правах. Вообще обыск — это действие должностных лиц, глубоко затрагивающее права человека, неприкосновенность личности, и поэтому «Основы уголовного судопроизводства» устанавливают и перечень лиц, имеющих право производить обыск, и перечень случаев, в которых могут производиться обыски, и порядок проведения обыска, то есть мотивированное постановление об обыске, присутствие понятых, санкцию прокурора и т. д.
Сейчас в прессе много сообщений о борьбе с «несунами», и никто из пишущих и говорящих на эту актуальную тему не задумывается, на каком нормативном акте основаны повальные обыски в проходных многочисленных фабрик и заводов. Обыски, затрагивающие права десятков миллионов граждан, большинство из которых честные и порядочные люди. Но ни в «Основах законодательства о труде», ни в республиканских кодексах «Законов о труде», ни в многочисленных опубликованных правительственных и ведомственных нормативных актах о труде, в том числе и в типовых правилах внутреннего распорядка, нигде нет даже намека на возможность проведения массовых обысков работниками внутренней ведомственной охраны. Я не знаю, издавались ли когда и кем постановления, приказы, инструкции об этих обысках. Внутренне убеждена, что такие неопубликованные акты существуют. Так, трудно предположить, что администрация многочисленных предприятий однотипно допускает нарушения закона по своей инициативе, без соответствующих указаний сверху. Я отнюдь не говорю, что не надо бороться с «несунами», то есть с массовым явлением мелких хищений государственного и общественного имущества, но если эту борьбу нельзя организовать без обысков, то должен быть издан и широко опубликован закон, регулирующий порядок, условия и методы этих обысков.
Обратимся к иным областям права. В статье 74 «Устава связи» (опубликованного) было указано на возможность отключения телефонов, если они используются в ущерб государственным интересам. В 1986 г. это указание помещено в правилах пользования телефонной связью, опубликованных в бюллетенях нормативных актов министерств и ведомств за 1986 г. Эти правила можно прочесть в любом отделении связи. Но они не содержат указания на условия и порядок отключения телефонов. Многочисленные случаи отключения телефонов в Москве имели место в 70-х и 80-х гг. Есть отдельные случаи и сейчас. Недавно отключен телефон в квартире правозащитницы Аси Абрамовны Лащивер.
Отключение производится по распоряжению начальников районных телефонных узлов. Все обращения к ним оказываются тщетными. Нет ни устных, ни письменных ответов на вопросы, чем именно и какие именно интересы государства нарушены и как и кем это нарушение установлено. Все начальники телефонных узлов, каждый в отдельности, но синхронно, отвечают: «Мы исполнители, нам ничего не известно, мы имеем указания», — и палец многозначительно указывает в потолок. Что же эти указания даются кем-то по каждому случаю устно или существует неопубликованный нормативный акт и опубликовать этот акт нельзя, так как его содержание со всей остротой поднимает вопрос о прослушивании частных телефонных разговоров?
Еще один пример, из другой области права. Существует особый и довольно сложный порядок оформления регистрации браков с иностранцами. Этот порядок отличается от обычных норм, установленных «Основами законодательства о браке и семье» и республиканскими кодексами. Эти правила (когда и кем изданные, мы не знаем) не опубликованы, и мужчины и женщины, вступающие в брак с иностранцами, тыкаются, как слепые, как слепые котята, чтобы постепенно узнавать, когда и куда надо обратиться и какие документы представить. Мне известен забавный случай, когда молодой американец, приехавший в СССР к своей невесте второй раз, уже зная о трудностях оформления, привез с собой напечатанные на машинке подробные выписки из правил. К сожалению, ни даты, ни номера, ни названия госорганизации, издавшей эти правила, он не выписал. Вот так. В Америке знают, а у нас… то ли издано с грифом «для служебного пользования», то ли с грифом «не подлежит опубликованию», то ли вообще сохранено в тайне.
И, наконец, еще один пример, хотя и не о нормативном акте в строгом смысле этого слова, но о неопубликованном документе, имеющем значение для общественности. Речь идет о статье «Еще раз о наркомании» («Известия» от 22 ноября 1987 г.). Сообщается, что в августе этого года утверждена и начала действовать в Москве Комплексная программа по борьбе с наркоманией. В какой форме и кем утверждена эта программа, в статье не указано, программа не опубликована. Корреспонденты спрашивают, как может общественность участвовать в борьбе, объявленной в неопубликованном документе? Как случилось, что несекретный документ стал для общественности закрытым? Журналисты настойчиво спрашивают: есть ли в утвержденной программе что-то не подлежащее разглашению, какие-то особые сведения, которые позволяли бы считать этот документ закрытым? Ответственные работники Управления внутренних дел Мосгорисполкома, то есть милиция, и руководители прокуратуры города на последний вопрос категорически отвечают «нет». И все-таки документ не опубликован. В ответе же редакции зам. председателя Мосгорисполкома утверждает, что программа является доступной для общественности. Но ведь не опубликована! И в то же время сообщается, что в программе указаны приказы и некоторые директивные документы, имеющие служебный характер. Как написано в статье, «странный подход к гласности». От себя добавим: не только странный, а убийственный и для гласности, и для демократии.
Все сказанное дает мне основания для вывода: все без исключения нормативные акты, регулирующие отношения личности и государства, должны публиковаться в изданиях, доступных всем гражданам. Осуществление этого необходимого для установления полной гласности, законности и демократии мероприятия требует большой работы.
Необходимо:
1. Определить, какие ранее изданные и неопубликованные нормативные акты указанной выше категории не противоречат закону и необходимы для поддержания правового порядка в обществе. Все остальные многочисленные неопубликованные нормативные акты в законодательном порядке признать утратившим силу.
2. Издать достаточным тиражом сборник действующих ранее неопубликованных актов, затрагивающих правовые интересы граждан.
3. Отменить Указ Президиума Верховного Совета от 19 июня 1958 г. о порядке опубликования и вступления в силу законов.
4. Издать общесоюзный закон, которым предусмотреть, что все нормативные акты, издаваемые всеми управомоченными (как общесоюзными, так и республиканскими и местными) органами власти, регулирующие взаимоотношения личности и государства и в той или иной форме затрагивающие права человека, обязательно должны быть опубликованы для всеобщего сведения и вступать в силу только через десять дней после опубликования.
Меня спросят, не слишком ли много сил, средств и бумаги потребуется для осуществления этого мероприятия, не захлебнутся ли в потоке бесчисленных нормативных актов неискушенные и еще не обладающие правовым мышлением люди. Выход здесь прост: поменьше издавать нормативных актов, не спешить с изданием запретительных и ограничительных указов, постановлений, распоряжений, приказов и инструкций и помнить древнее правовое изречение: «Все, что прямо не запрещено законом, разрешено». Правда, изречение это нельзя понимать слишком буквально. Ведь говорить надо не только о юридических законах, но и о законах морали, нравственности, законах совести и социальной справедливости. Но это уже вопросы, выходящие за пределы нашей темы, вопросы, требующие многих лет работы над повышением нравственного уровня нашего общества.
Открытое письмо писателю Чингизу Айтматову
Дорогой Чингиз Торекулович!
В этом письме, возможно, прозвучат резкие слова, которые до какой-то степени относятся к Вам. Поэтому оговариваюсь заранее: очень люблю Ваши повести и романы, глубоко уважаю и ценю Вас как большого, настоящего художника слова, считаю, что Вы входите в первую десятку писателей — наших современников. Поэтому постарайтесь без обиды прочитать мое письмо, продиктованное болью за то, что даже лучшие люди не могут быть до конца правдивыми перед собой и перед нашим обществом.
Пишу по поводу Вашей статьи «Подрываются ли основы» («Известия» от 3 мая 1988 г.). Вы начинаете:
«…многие годы после XX съезда, этого мужественного прорыва блокады культа личности, незаметно затем отнесенного на обочину политического забвения, а точнее сказать, молчаливо аннулированного, мы, постоянно пребывая в атмосфере благодушия и неистощимого самодовольства, призванных демонстрировать псевдостабильность в стране, не пытались думать об этом. Во всяком случае, вслух никто не размышлял…»
Кто это мы? Молодой, но уже прославленный литератор Чингиз Айтматов? Имевшие имя и возможность широкого выхода в прессу Константин Симонов, Сергей Михалков и иже с ними? Созвездие известных писателей, проголосовавших в 1958 г. за исключение из Союза писателей Бориса Пастернака?
Должны ли «простые», «маленькие» люди, о которых словами Осипа Мандельштама можно было сказать:
Мы живем, за собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны…,
— включать себя в Ваше понятие «мы»?
Мы и до XX съезда, и особенно после него, размышляем вслух, но нас не многие слышали, и к рупорам мы доступа не имели. Об этих «размышлениях» Вы, может быть, и не знаете.
Но Вы не можете не знать «Крутого маршрута» Евгении Гинзбург, «В круге первом» и «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, «Мои показания» Анатолия Марченко, песни, стихи и поэмы Александра Галича. Не можете не знать созданного десятками писателей потока «самиздата» конца 50-х-60-х гг., который мы читали, делясь разрозненными страницами, как крупицами сокровищ.
Как можете Вы утверждать: «Мы… не пытались думать об этом. Во всяком случае, вслух никто не размышлял…»?!
Входят ли в это «никто» а) Андрей Сахаров, бывший с 1969 г. председателем Комитета прав человека, созданного им вместе с Валерием Чалидзе? б) Наталья Горбаневская, Татьяна Великанова, Сергей Ковалев и многие другие, участвовавшие в издании независимого журнала «Хроника текущих событий» и почти поголовно репрессированные в годы брежневского застоя? в) члены Московской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений, созданной Юрием Орловым в 1976 г., так же, как и Украинской, Эстонской, Грузинской, Армянской Хельсинкских групп, члены которых «вслух размышляли об этом» и все, поголовно, подвергались обыскам, допросам, арестам, осуждениям к лишению свободы и ссылкам, либо оказывались выдворенными за границу? г) издатели независимого журнала «Поиски» — П. Егидес, Р. Лерт, В. Абрамкин, С. и В. Сорокины и другие? д) группа творческой интеллигенции, направившая в 1969 г. в ЦК КПСС письмо с протестом в связи со слухами о предстоящей реабилитации Сталина к 90-летию со дня его рождения (письмо, разумеется, не было опубликовано, и поэтому я не знаю достоверно имен всех его авторов)?
Если перечислить всех, кто не молчал, а размышлял и пытался говорить вслух, то не хватит букв русского алфавита для обозначения пунктов предыдущего абзаца. Приведу еще лишь один пример. К той же дате, 90-летию со дня рождения Сталина, трое совсем молодых людей (им было 19–20 лет) — Вячеслав Бахмин, Ирина Каплун и Ольга Иоффе — составили листовки, содержащие протест против реабилитации Сталина.
Это ли не попытка заговорить вслух, закричать, прорвать стену молчания? Но «наши речи за десять шагов не слышны»… Все трое были арестованы, содержались в Лефортовской тюрьме. Потом Бахмин и Каплун были «помилованы» (хотя приговора суда, установившего их виновность, и не было), а Иоффе была помещена в психиатрическую тюрьму (так называемые психбольницы специального типа, находящиеся в ведении МВД).
Простите, но я не верю, что Вы написали «мы… не пытались думать об этом», «вслух никто не размышлял» только потому, что не знали о всех описанных мною и многих других попытках не только думать, не только вслух размышлять, но и писать, и кричать, не страшась репрессий.
О Бахмине, конечно, Вы могли и не знать. Но имена многих выдворенных за границу, подвергавшихся обыскам, допросам, арестам, тяжелым наказаниям, Вы, конечно, знали и знаете. И знаете, что никто из безвинно репрессированных с конца 50-х гг. до начала 80-х гг. ни юридически, ни морально не реабилитирован.
И до тех пор, пока не названы имена этих людей, подвергнутых суровым репрессиям за «размышления вслух» о том самом, о чем мы все сейчас пишем или читаем в газете и журналах, — до тех пор не сказана вся полная правда о нашем прошлом.
5 мая 1988 г.Выступление в Доме культуры МАИ Апрель 1989 г.
В декабре 1906 г. особое присутствие Петербургской Судебной палаты рассматривало дело 167 депутатов 1-й Государственной думы (кадетов, трудовиков, эсеров и социал-демократов), которым были вменены выпуск и распространение обращения к народу, принятого в г. Выборге в качестве протеста против роспуска Государственной думы. Это обращение, впоследствии получившее название Выборгского воззвания, содержало призыв к пассивному сопротивлению: «Ни одной копейки налогов в казну, ни одного рекрута в солдаты», то есть было прямо направлено против царского правительства.
Петербургские адвокаты, защищая подсудимых, требовали их оправдания. В частности, один из лучших судебных ораторов того времени адвокат П. А. Александров говорил в суде: «Господа судьи! Мы не можем защищать, мы можем только преклоняться перед ними. Они наши защитники, а не мы их защитники! Нам ли их защищать, нам ли защищать тех людей, в сердцах которых сосредоточилась вся жизнь целого народа… Мы гордимся ими, мы обожаем их за то мужество, за ту стойкость, за те страдания, которые они испытали… Вот почему адвокаты выступают здесь не как защитники преступников, а как граждане своей страны».
А в 1969 г. один из лучших советских адвокатов Борис Андреевич Золотухин был исключен из Московской коллегии адвокатов за смелую, принципиальную и с правовой точки зрения обоснованную защиту Александра Гинзбурга, которого осудили по ст. 70 УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) за составление и распространение «самиздатского» сборника материалов по делу Ю. Даниэля и В. Синявского — «Белой книги». Золотухин начал свою речь словами: «Товарищи судьи! Я имею честь защищать Александра Гинзбурга». И дальше он сказал, что считает более гражданственной позицию человека, не промолчавшего при виде того, как невиновных людей, — он имел в виду Даниэля и Синявского, — уводят под конвоем.
За годы сталинского террора мы полностью утратили лучшие традиции русской адвокатуры. В те страшные времена любая независимая речь адвоката в суде была просто немыслима. Не говоря уже о том, что подавляющее большинство репрессий осуществлялось не только без участия защиты (закон 1934 г.), но и помимо суда вообще. Основным чувством адвокатов, выступавших в судах по делам, которые имели хоть какой-то политический оттенок, был страх. Этот страх не успел выветриться за короткие годы так называемой хрущевской оттепели (в процессе реабилитации жертв сталинизма в 50-х гг. адвокатура никакой роли не играла).
И правозащитники 60-х, 70-х, начала 80-х гг., в массовом порядке (правда, не миллионами, а тысячами) привлекавшиеся по ст. ст. 70, 190-1 и 190-3 УК РСФСР (и по соответствующим статьям УК других республик), по существу остались без всякой, или по крайней мере, без полноценной защиты в суде.
Вспоминается анекдотический разговор, в действительности имевший место в компании адвокатов в 60-х гг. Говорили о русских судебных ораторах. Кто-то упомянул фамилию Бобрищева-Пушкина. И тогда один из моих коллег сказал: «Бобрищев-Пушкин! Он императора не боялся, а я милиционера боюсь — как же я буду речи произносить?» Смешно? Нет, трагично. Защитники Даниэля и Синявского, хорошие московские адвокаты, не осмелились закончить свои защитительные речи в суде просьбой об оправдании. И это при том, что оба подсудимых не признавали себя виновными по ст. 70 УК РСФСР. И сколько раз мы потом слышали адвокатов, которые в судах лепетали жалкие слова о смягчении наказания людям, не признающим себя виновными. А это противоречило не только адвокатской этике, но и закону (презумпция невиновности!).
Только очень небольшое число московских адвокатов (об адвокатах других городов я не знаю) решалось на смелую, независимую защиту по политическим процессам в судах. Среди них такой прекрасный адвокат, как Дина Исааковна Каминская, и еще несколько человек позволяли себе выступать с полной защитой. Остальные вели себя так, как добрые прокуроры. Злой прокурор просит много наказания, а добрый прокурор — просит мало наказания. И вплоть до того, что людям, не признающим себя виновными, просит смягчить наказание (как в процессе Даниэля и Синявского). При этом давление на адвокатов несомненно оказывалось, и надо было этому давлению противостоять.
Чтобы не быть голословной, сошлюсь хотя бы на примеры из собственной практики 1967 г. Мое первое дело — по ст. 190-3 УК РСФСР (активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок). Судили рабочего Хаустова за участие в митинге в защиту арестованных Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой.
В перерыве перед моей защитительной речью секретарь суда вызывает меня в совещательную комнату. Там судья, прокурор и некто «в штатском». Судья меня спрашивает, что я собираюсь говорить в защитительной речи. Я отвечаю: «Это вы услышите через десять минут». «Штатский» замечает, что лучше договориться об этом сейчас. Разумеется, я «договариваться» отказываюсь. В защитительной речи я обоснованно доказываю отсутствие в действиях Хаустова состава преступления и прошу об оправдательном приговоре. Приговор — три года лишения свободы.
21 августа 1968 г., как известно, были введены в Чехословакию советские войска и войска некоторых стран Варшавского договора. Событие это взволновало общественность не только в нашей стране, но и во всем мире. 25 августа небольшая группа московских правозащитников <…> вышла к Лобному месту на Красной площади с плакатами <…> и простояла у Лобного места всего пять минут. <…>
Защитниками обвиняемых были адвокаты Д. Каминская, Ю. Поздеев, Н. Монахов и я. За несколько дней до суда нас, адвокатов, поочередно вызывали в Президиум Московской городской коллегии адвокатов, предлагая дать свои выступления в письменном виде заранее. Разумеется, я отказалась, так как: а) своих речей я никогда не пишу, б) речь окончательно складывается только после рассмотрения дела и выступления прокурора и в) закон не обязывает меня предоставлять письменный текст защитительной речи кому бы то ни было. Меня пытались уговорить, высказывали сомнение, смогут ли они меня допустить до участия в деле. На это я ответила, что отказываться от защиты не буду, а как они сумеют устранить меня от дела — не знаю. Потом я узнала, что такая же беседа была проведена с адвокатом Д. И. Каминской. Она ответила то же, что и я. (Ей-Богу, мы заранее не сговаривались.)
От участия в процессе нас все-таки не отстранили (законный предлог найти было невозможно). В защитительных речах Каминская, я и наши коллеги адвокаты Поздеев и Монахов дружно (и с правовой точки зрения совершенно обоснованно) требовали оправдать наших подзащитных. Приговор был, конечно, обвинительный, и все пятеро осужденных полностью отбыли назначенные судом наказания.
Иногда меня спрашивали, ради чего было рисковать, наживать «неприятности», для чего «речи произносить», если было все впустую и обвинительные приговоры выносились неукоснительно. На эти вопросы мне хочется ответить двумя цитатами. Первая — из песни «Адвокатский вальс» талантливого поэта и барда, известного правозащитника 60-х-70-х гг. Юлия Кима:
Ой правое русское слово, Луч света в кромешной ночи! Пусть все будет вечно хреново… И все же ты вечно звучи!Вторая — из последнего слова на суде поэта Ильи Габая <…> «Факты, которые я считал необходимым довести до сведения моих соотечественников, казались мне вопиющими, и умолчание в некоторых случаях было для меня равносильно соучастию».
Да, добиться подлинного правосудия мы не могли, но свободное слово звучало с судебной трибуны и вызывало некоторый общественный резонанс.
Многие адвокаты отказывались под разными предлогами принимать защиту по политическим делам. Один вполне уважаемый мною адвокат как-то сказал мне: «Вы можете меня презирать, но я говорю откровенно — боюсь». Я не презираю его. Такое тяжелое было время. Гораздо хуже поступали те, кто принимал защиту и фактически выступал в процессе в роли второго, правда, «доброго», прокурора.
С каждым годом было все труднее найти адвокатов для защиты привлеченных к суду правозащитников. Дело осложнялось тем, что существовал неписанный закон, по которому защита по ст. 70 УК РСФСР разрешалась не всем адвокатам, а только имеющим «допуск», то есть включенным в списки, согласованные с КГБ. И я, и адвокат Каминская, и многие другие, «допуска» не имеющие, не могли принимать защиту по ст. 70 УК и выступали только в процессах по ст. 190-1 и 190-3 УК. Позднее и по этим статьям стали требовать «допуск».
Многие подсудимые сами отказывались от назначенных им адвокатов с «допусками», не надеясь на полноценную защиту. Тех же немногих адвокатов, которые в политических процессах держались независимо, так или иначе «укрощали» либо устраняли. Об исключении из адвокатуры Б. А. Золотухина я уже упоминала. Он только теперь восстановлен и вновь стал блестящим судебным оратором. У Д. И. Каминской, талантливого, смелого и принципиального адвоката, сделали обыск, пригрозили привлечением к уголовной ответственности, вынудили ее уйти из адвокатуры и впоследствии эмигрировать из страны.
Со мной поступили проще и «гуманнее». В один прекрасный день заведующий юрконсультацией, где я работала, сообщил мне, что он от начальства получил приказ (по телефону!): «Адвокату Каллистратовой ни одного ордера на выступления в суде по политическим делам не выдавать». Я пошла к председателю Коллегии протестовать против беззакония и дискриминации. Очень доброжелательно мне улыбнувшись, председатель сказал: «Знаю, что незаконно, а вы, Софья Васильевна, пожалуйтесь на меня!» Вот так. Жаловаться явно было бесполезно. Я ушла из адвокатуры, благо возраст был уже солидный.
К уголовной ответственности меня привлекли значительно позже и не как адвоката, а как члена Московской Хельсинкской группы. Когда я ушла из адвокатуры на пенсию и вступила в Хельсинкскую группу, начались вызовы на допросы, обыски (у меня их было пять), изъятия при обысках моих личных архивов, переписки, магнитофонных кассет, пишущих машинок, фотографий (в частности, у меня изъяли два больших фотоальбома с фотографиями, которых было более пятисот, некоторые из них уникальные), машинописных сборников стихов Гумилева, Мандельштама, Коржавина и многое другое. Кроме пишущих машинок и фотоувеличителя мне так ничего не возвратили до сих пор.
Наконец, в декабре 1981 г. против меня было возбуждено уголовное дело по ст. 190-1 УК РСФСР. Но это уже другая тема. Замечу только, что мне повезло: под стражу меня не взяли. Дело висело над моей головой годы. И только в 1988 г., превратившись в адвоката в своем собственном политическом деле, мне удалось добиться прекращения его «по реабилитирующим основаниям», то есть за отсутствием в моих действиях состава преступления.
Сейчас остро стоит вопрос о реабилитации необоснованно осужденных в годы застоя правозащитников, отбывших наказания или «помилованных» в 1987–1988 гг. Ведь большинство из них были осуждены за инакомыслие, за смелое открытое слово, за протесты против беззакония и нарушения прав человека, за высказывание тех или иных мыслей, которые сейчас широко обсуждаются в печати, на телевидении, на собраниях официальных и неофициальных организаций, звучат с различных, в том числе и с высоких трибун.
Будем надеяться, что перестраивающаяся и приобретающая подлинно новое правовое мышление адвокатура активно возьмется за работу по реализации права осужденных правозащитников 60-80-х гг. на полную реабилитацию. <…>
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1989 г. изменена коренным образом ст. 7 Закона от 25 декабря 1958 г. «Об уголовной ответственности за государственные преступления». Отныне нет состава преступления, именуемого «антисоветской агитацией и пропагандой», а наказуемыми являются только такие действия, как «публичные призывы к свержению государственного и общественного строя или к его изменению способом, противоречащим Конституции СССР».
Но одновременно с этим Указом введена новая ст. 11-1 того же закона о наказуемости за оскорбления или дискредитацию определенных государственных и общественных органов и некоторых категорий должностных лиц. В тот же день принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, которым соответственно изменена ст. 70 УК РСФСР, введена новая ст. 74-1 и отменена ст. 190-1 УК РСФСР. (Очевидно, такие же указы приняты или будут вскоре приняты и в других союзных республиках.)
Эти указы, уже вступившие в действие, но нуждающиеся в утверждении съездами народных депутатов, очень важны для нашей работы и заслуживают самого серьезного обсуждения и критики.
В рамках данной темы необходимо отметить: 1. Изменение ст. 70 УК и отмена ст. 190-1 УК не снимают вопроса о необходимости реабилитации людей, неправосудно осужденных ранее по этим статьям при отсутствии в действиях осужденных состава преступления. 2. Введение новой статьи — 74-1 взамен отмененной ст. 190-1 УК — это катастрофа на пути к правовому государству. Если ст. 190-1 в качестве обязательного элемента состава преступления содержала указание на заведомую ложность «измышлений», то есть клевету, то новая статья такого указания не содержит и, если она будет применяться и станет законом, то окажется буквально петлей на шее всякой критики и непреодолимым препятствием на пути дальнейшего развертывания демократии и гласности.
И тогда потребуется изрядное мужество адвокатов в новых политических процессах по этой статье. И если наши худшие предположения подтвердятся и ст. 74-1 УК станет законом и будет действовать, то новому поколению адвокатов предстоит большая работа в новых политических процессах.
Вот, собственно говоря, первая часть моей темы.
Теперь о работе Хельсинкской группы.
Хельсинкская группа в Москве была создана в мае 1976 г. членом-корреспондентом Армянской Академии наук Юрием Федоровичем Орловым, одним из первых, блестящих и самых активных участников правозащитного движения. В нее вошли прекрасные люди не только из Москвы. Эта группа объявила своей целью содействовать правительству СССР в выполнении решений Хельсинкского акта по гуманитарным вопросам.
Вот здесь кто-то из выступавших до меня сказал, что были репрессированы почти все члены Хельсинкской группы. А я скажу гораздо больше: все! До одного! И не только нашей, Московской Хельсинкской группы, но и созданных следом за ней Украинской, Литовской, Грузинской, Армянской. Все подчистую! Остались на свободе только те, кого вынудили уехать за границу. Причем это коснулось не только Хельсинкской группы, но и членов других неформальных организаций (тогда мы этого слова не употребляли), к ней присоединившихся. Это коснулось «Комиссии по расследованию злоупотреблений психиатрией», это коснулось «Комитета защиты прав верующих», «Инициативной группы инвалидов».
Вы не можете себе представить, — молодежь, которая здесь присутствует и сейчас меня слушает, не может себе представить той атмосферы постоянной слежки, которую мы не могли не видеть, постоянных вызовов на допросы, постоянных обысков. Это была атмосфера, в которой мы чувствовали, что действуем в одиночку, что нас не миллионы, не десятки тысяч, что нас только сотни, но эти сотни старались все-таки как-то изменить общественную атмосферу в сторону открытости, в сторону свободы личности, свободы слова, свободы воли.
Какими были методы нашей работы? Мы выпускали документы по целому ряду вопросов. Всего было выпущено 196 документов этой группы. Из них 19 до ареста Юрия Федоровича, а дальше мы уже работали без него. Людей сажали, люди уезжали, к нам приходили новые, и мы продолжали свою работу. Это были документы о равноправии народов, документы о свободе совести, то есть религии, о праве на справедливый суд (это была очень большая тема), праве на статус политзаключенных, о положении в лагерях. Это были документы о социально-экономических правах, то есть вопросы права на труд и права на пенсии. Это были предложения Белградской и Мадридской конференциям СБСЕ. Наконец, еще документ, один из очень важных: Хельсинкская группа — это единственная организация, которая протестовала против ввода войск в Афганистан.
И вот здесь идет речь о том, что у нас не было единой политической платформы, не было лидеров. Формальных лидеров у нас не было, но я не согласна, что у нас не было лидера. Лидер у нас был, и когда я назову его, вы сразу поймете, что это был лидер: академик Андрей Дмитриевич Сахаров. Он был неформальным лидером, но к нему тянулись сердца и тех, кто пытался защищать права человека, и сердца тех, кто был обижен и кто искал своих прав. Он получал сотни писем со всех концов Советского Союза, и на каждое письмо он отвечал. Мы смотрели ему в глаза и по выражению его глаз понимали, правильно или неправильно мы поступаем в том или другом случае. Но, конечно, это был не лидер в формальном смысле. И он даже не был членом нашей Хельсинкской группы.
Итак, методы нашей работы заключались в том, что мы писали документы. Больше мы ничего не делали. И первоначально эти документы по почте рассылались главам тридцати пяти правительств стран, которые подписали Хельсинкское соглашение, в том числе первый экземпляр посылался в Президиум Верховного Совета СССР. Но потом мы убедились, что обратные расписки мы получаем только из Президиума Верховного Совета, и мы поняли, что наши документы не доходят до глав правительств других стран. И тогда мы прибегли к другому способу: к открытой, совершенно открытой передаче наших документов иностранным корреспондентам и, таким образом, добивались их звучания на международной арене. Тут важно отметить принципы нашей работы: их было три-четыре. Во-первых, это полная легальность и открытость. Мы никогда не позволяли себе ни одного анонимного документа, мы ставили подписи, мы указывали телефоны и адреса. Мы всегда действовали открыто и легально, несмотря на репрессии, которым мы подвергались. Второе: мы никогда не прибегали ни к чьей материальной помощи. Пишущая машинка и шариковая авторучка — вот были наши орудия, таким образом мы работали. И даже деньги на рассылку наших документов брали из своего кармана. Злобные инсинуации, когда нас, Хельсинкскую группу, обвиняли в том, что мы чуть не наемники ЦРУ и других враждебных ведомств в других государствах, — это была полная и настоящая клевета. Мы всегда работали бескорыстно и открыто. И, наконец, последний наш принцип был тот, что мы никогда, ни в какой форме, ни в какой степени не призывали к насилию и отрицали всякую возможность насилия. И мы всегда и всюду действовали только словом. А против слова, против идеи на нас действовали тюрьмами, ссылками и арестами, допросами, обысками.
Я сейчас заканчиваю. Хочу сказать только два слова о том, почему эта группа прекратила свою деятельность, свою работу. А прекратили мы ее в сентябре 1982 г. Дело в том, что к этому моменту на свободе оставалось три человека в СССР: профессор Н. Н. Мейман, Е. Г. Боннэр и я. И против меня (против Боннэр впоследствии было возбуждено уголовное дело, которое слушалось в Горьком) было возбуждено уголовное дело Московской городской прокуратурой. И вот тогда мы издали последний наш документ, в котором написали: репрессии, полный разгром, полностью связанные руки, мы вынуждены прекратить свою работу. <…>
Я не исчерпала своей темы, но боюсь, что мы все вместе исчерпали ваше терпение, и я заканчиваю вот чем: когда поэт Габай произносил свое последнее слово в суде, он сказал: «Сознание своей невиновности, убежденность в своей правоте исключают для меня возможность просить о смягчении приговора. Я верю в конечное торжество справедливости и здравого смысла и уверен, что приговор, рано или поздно, будет отменен временем».
Мы дожили до этого времени. Не все дожили (И. Габай был реабилитирован посмертно), но мы с вами дожили до того времени, когда эти несправедливые и неправосудные приговоры отменены самим временем. И дай вам Бог, чтобы вы, молодые, сегодняшние, которые привыкли к тому, что на демонстрации можно выходить тысячами, которые привыкли к тому, что можно размножать документы в свободных журналах, что они расходятся в тысячах экземпляров, дай Бог, чтобы к вам никогда не вернулось то время, которое мы пережили.
Мы, может быть, сделали мало, но мы сделали то, что сделало возможным сегодняшнее развитие событий.
Выступление в Центральном доме медиков «Трибуна общественного мнения у Никитских ворот». Июнь 1989 г.
Друзья мои! Прежде чем я начну свою беседу с вами, свой разговор с вами, я хочу познакомить вам с теми, кто присутствует здесь, на сцене.
Рядом со мной сидит Борис Андреевич Золотухин, один из самых блестящих адвокатов Москвы, участник правозащитного движения как защитник политзаключенных. Лариса Иосифовна Богораз, ее, думаю, даже и не надо представлять, — это одна из тех мужественных женщин, которые в 1968 г. вышли в составе немногочисленной демонстрации на Красную площадь, чтобы протестовать против оккупации Чехословакии. Леонард Борисович Терновский, один из тех, кто защищал интересы, может быть, наименее защищенной группы людей, людей, называемых психически больными и заключаемых в психиатрические тюрьмы, хотя эти люди зачастую были так же здоровы, как мы с вами. Отец Глеб Якунин — человек, который руководил «Комитетом защиты прав верующих». Об этом он вам расскажет сам. Феликс Светов — религиозный писатель, вам не надо его представлять. Сергей Ковалев — один из первых правозащитников, человек, который одним из первых вошел в первую неформальную организацию — «Инициативную группу защиты прав человека». Татьяна Великанова, которая за свою правозащитную деятельность отбыла пять лет лагерей и ссылку. Александр Павлович Лавут — один из правозащитников, в частности защитник интересов крымских татар. И, наконец, Смирнов, которого я привыкла называть просто Алеша, но могу сказать, что он Алексей Олегович. Тоже бывший узник лагерей. О себе и о своей работе они все вам расскажут сами.
Мы с вами будем говорить о правозащитниках прошлого, но говорить мы о них будем для того, чтобы думать о будущем. Депутат Власов на I съезде Советов сказал: «Ответственность ныне списывается одной безбрежной, вместительной фразой: «Все мы вышли из того времени»», — и тут же сам себя прервал: «Нет, не все!»
О тех, кто не молчал в годы застоя, кто, несмотря на репрессии, поднимал свой голос громко, открыто и требовал гласности, демократии, защиты прав человека, о тех, полузабытых сегодня людях, которых можно назвать до известной степени предтечами перестройки, я хочу рассказать в своем кратком выступлении.
После ледяного страха сталинских лет, когда только отдельные герои поднимали свой голос протеста и тотчас же погибали в подвалах Лубянки или на островах архипелага ГУЛАГ, после XX съезда последовавшая короткая передышка — хрущевская оттепель — не успела растопить эти льды страха. И вскоре начались опять преследования инакомыслящих, новые политические процессы, которые и продолжались в течение всех лет застоя.
Так вот, первые громкие голоса, которые раздались в нашей стране, мы не столько услышали, сколько прочли в «самиздате». Это был голос Солженицына, это был голос Сахарова. Это были совершенно разные голоса, но они одинаковы в том смысле, что будили мысль, давали нам стимул к тому, чтобы обретать собственные голоса.
Все знают процесс Ю. Даниэля и А. Синявского. Я не стану говорить о них. Они хорошо известны. Этот процесс повлек за собой первые отзвуки гласности и первые процессы за вслух прозвучавшую речь (мысль).
В те времена мы читали «самиздат», и те люди, которые постарше, помнят это время. Мы читали «самиздат», мы читали книги В. Гроссмана, Л. Чуковской, братьев Медведевых. Мы делились разрозненными страницами этих рукописей, как крупинками драгоценностей. А потом появились первые независимые журналы: «Хроника текущих событий», «Поиски» и другие; первые неформальные организации — «Комитет по защите прав человека», «Инициативная группа защиты прав человека», Московская Хельсинкская группа <…> Украинская, Литовская, Грузинская, Армянская группы, а потом началось образование Хельсинкских групп во всем мире, в европейских странах и в Америке <…>
Особое место, особое значение в правовой работе неформалов имели судебные дела, по которым лагеря и тюрьмы заменялись психиатрическими больницами. Я лично по таким делам защищала Ивана Яхимовича, Наталью Горбаневскую, Петра Григоренко. Это три человека, которые были признаны сумасшедшими, невменяемыми. <…> И их долгие годы содержали в психиатрических больницах, где к ним применялось принудительно лечение. И все-таки ни одного из этих трех человек, которых я защищала, не сломили, не превратили в сумасшедших, и все они после освобождения из психиатрических тюрем продолжали работать.
Многие не вернулись из лагерей и ссылок. Я не могу вам перечислить всех. Как мне ни хочется, но я не могу превращать свою беседу с вами в длинный перечень имен, Я только вспомню: член Украинской Хельсинкской группы Олекса Тихий — умер в заключении, Юрий Галансков — умер в заключении, Василь Стус — умер в заключении. И все знают трагическую судьбу Анатолия Марченко, который погиб в Чистопольской тюрьме уже в годы, когда снова началась оттепель, когда началась перестройка; погиб, чтобы ценой своей жизни облегчить жизнь других политзаключенных.
Отбыли длительные сроки люди, отбыли ссылки. В 1986 г. около двухсот человек были помилованы и освобождены из тюрем и ссылок. Большинство — в 1987–1988 гг. Но ни один из этих людей не реабилитирован. Почему мы и сегодня должны смириться с тем, что несправедливость осталась несправедливостью, с тем, что люди, которыми мы можем только гордиться, носят на себе клеймо судимости? Чтобы руководители государства, как раньше, говорили: «У нас нет политзаключенных, это — уголовные преступники»? Тем более имеет колоссальное значение разрешение вопроса об их реабилитации.
Весной я, наблюдая за ходом съезда народных депутатов СССР, слушала и ждала: кто же, наконец, скажет о правозащитниках тех лет? И услышала: поэт Е. Евтушенко сказал, что он предлагает специальным Указом Верховного Совета аннулировать приговоры по так называемым диссидентским делам, вернуть советское гражданство тем, у кого оно было несправедливо отобрано. Он предлагал лишить права на медицинскую практику тех психиатров, которые, нарушая клятву Гиппократа, под видом больных запихивали в психушки нормальных, свободомыслящих людей. Но Евтушенко поэт, а не юрист, и он не мог знать того, что нельзя указом, законом Верховного Совета отменить судебные приговоры. Существует только один способ реабилитации: пересмотр судебных дел и отмена тех несправедливых приговоров.
Только тогда, когда мы увидим, что все несправедливые приговоры отменены, когда мы увидим, что все люди, безвинно пострадавшие в годы так называемого застоя, восстановлены в своих гражданских правах как полностью невиновные и являющиеся предтечами перестройки, а не уголовными преступниками, только тогда мы можем до какой-то степени считать себя гарантированными от повторения тяжелого прошлого. <…>
Вспоминая прошлое, надо думать о будущем. Сегодня противостоять всяким попыткам ограничить демократию и гласность — это задача каждого из нас. Аплодисменты, которые прозвучали на съезде после выступления генерала Громова, показывают, что опасность еще есть, что перестройка еще не стала необратимой, что гласность и демократия еще стоят впереди перед нами как идеал, к которому мы должны стремиться. Надо стремиться к тому, чтобы никому не удавалось свободомыслящий народ выдавать за экстремистов, алкоголиков, наркоманов, поднимать неразумный бунт.
Надо стремиться к тому, чтобы мы могли широко мыслить, чтобы мы могли свободно говорить, чтобы мы могли не бояться слежки, арестов, допросов, тюрем только за слово, за идею и за убеждения.
«ДЕЛО» КАЛЛИСТРАТОВОЙ
Протокол обыска
1981 г. м-ца декабря, дня 24 ст. следователь Титов Прокуратуры города Москвы с соблюдением требований ст. ст. 168–171, 176, 177 УПК в присутствии понятых 1) Грибкова Николая Николаевича прож. ул. Кожевницкая, дом 5, кв. 58 2) Наикиной Любови Александровны прож. Московская обл., г. Калининград, пос. Первомайский, ул. Советская, дом 31 на основании ордера постановление от 24 декабря 1981 года выданного прокурором города Москвы по следственному делу 49129/65-81 произвел обыск у гр-на Каллистратовой Маргариты Александровны проживающей г. Москва, ул. Удальцова, дом 10, кв. 131, где были изъяты документы Московской Хельсинкской группы, письма и многое другое. Перед началом производства обыска Каллистратова М. А. была ознакомлена с постановлением от 24 декабря 1981 г. и Каллистратовой было предложено выдать литературу, документы и материалы, содержащие заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй. На данное предложение гр-ка Каллистратова ответила, что у нее не имеется каких-либо документов, порочащих советский государственный и общественный строй.
После этого в квартире Каллистратовой М. А. был произведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято:
1. Блокнот «Еженедельник» в красной обложке
2. Записная книжка в темно-синей обложке
3. Алфавит в светло-синей обложке
4. Записная книжка в темно-красном переплете
5. Алфавит в темно-синей обложке
6. 6 (шесть) писем из Франции на имя Каллистратовой М. А.
7. 2 (два) письма из Польши на имя Каллистратовой М. А.
8. Письмо в конверте Каллистратовой М. А. от Каллистратовой С. В.
9. Конверт на имя Широкова Ю. М. от Толоконникова Г.
10. Документ на Каллистратову М. А. на въезд во Францию на 12 (двенадцати) листах в целлофановом пакете
11. Приглашение во Французское посольство на первое апреля 1981 г. на 1 листе
12. Перепечатанное собрание сочинений Н. Гумилева (том 1) издательство… Вашингтон, 1962 г. в 20 подборках
13. Отпечатанные на машинке «Песни» А. Галича. СВОХ 1973 г. на 8 листах
14. Стихи Н. Горбаневской «Не спи на закате», август-декабрь 1974 г. в самодельном переплете желтого цвета на 54 листах
15. Перепечатанные стихи А. Галича «Кадыш» 1970 г. в самодельном переплете на 16 листах
16. Самодельная брошюра в белом переплете «Избранные дацзыбао» на 24 листах
17. Магнитофонная кассета с пленкой тип А 4402-6 (тип 10) 210 метров. На упаковке имеется подпись: Галич
18. Магнитофонная пленка на металлической катушке в картонной упаковке оранжевого цвета
19. Лист с текстом на иврите и с переводом с иврита о посадке деревьев в Израиле в честь адвоката Каллистратовой — на 2-х листах
20. 3 листа бумаги с французским текстом
21. Клочок бумаг с адресом Якубенко
22. Пишущая машинка «Эрика» зеленого цвета 51570 в сером футляре с русским шрифтом
23. Пишущая машинка «Эрика» зеленого цвета 17205 с латинским шрифтом в сером футляре.
Гражданка Каллистратова М. А. после проведения обыска заявила, что обнаруженные материалы, письма и вещи никаких измышлений, порочащих советский государственный строй не содержат и что их изъятие она считает незаконным; других заявлений, замечаний и протестов о проведении обыска она не имеет.
Каких-либо замечаний и заявлений от понятых не поступило.
Обыск начат в 8 час 30 мин, окончен в 14–00.
Протокол прочитан следователем вслух, записано верно.
Понятые: 1) Грибков
2) Наикина
Ст. следователь Титов
Копию протокола получила 24/XII-81 г. Каллистратова.
Допрос С. В. Каллистратовой 26 апреля 1982 г.
26.04.82 г. С. В. Каллистратова была вызвана повесткой в Мосгорпрокуратуру к 12-ти часам на допрос к следователю Ю. А. Воробьеву по делу 12948/65-81.
Следователь: «Вам предъявляются две пишущие машинки: «Ундервуд»… и «Москва»… которые изъяты у вас на обысках. Принадлежат ли эти машинки вам? Печатали ли вы на этих машинках какие-либо документы Хельсинкской группы? Печатал ли эти документы кто-либо другой на этих машинках?
Каллистратова: Машинка «Ундервуд» принадлежит мне лично. На все остальные вопросы отвечать отказываюсь.
Следователь: Вам предъявляется пишущая машинка «Ремингтон»… изъятая 24.12.81 г. на обыске у Кизелова. Принадлежит ли эта пишущая машинка вам? Печатали ли вы на ней или кто-либо документы группы «Хельсинки»?
С.В.: Отвечать отказываюсь.
Следователь: Почему вы отказываетесь отвечать?
С.В.: Потому что отказываюсь принимать участие в этом деле.
Следователь: Вам предъявляются две пишущие машинки, обе марки «Эрика», изъятые на обыске у вашей дочери Каллистратовой М.А…. Кому они принадлежат? Печатали ли вы на этих машинках документы Хельсинкской группы? Печатала ли на них эти документы когда-либо ваша дочь?
С.В.: Машинки эти приобретены мужем моей дочери, покойным профессором МГУ Ю. Широковым. Я печатала на этих машинках только документы о жилплощади, садовом участке. Кроме того, эта машинка использовалась моей дочерью и моим покойным зятем для печатания и перепечатки их научных работ.
(Без протокола. Следователь: вы уверены, что вы и ваша дочь действительно ничего не печатали на этих машинках? С.В.: Почти уверена, но какое-то сомнение есть.)
Следователь: Вам предъявляется текст, написанный от руки (копия документа 121 МГХ о годовщине высылки Сахарова. — Сост.). Вы ли писали этот текст?
С. В. Отказываюсь отвечать.
(Без протокола. Следователь: Ясно же, что ваша рука… С.В.: Вот и устанавливайте сами.)
После допроса С. В. Каллистратова спросила следователя, определило ли следствие за четыре месяца (с 24.12.81), против кого возбуждено дело. Воробьев ответил, что не секрет, и показал папку с надписью «Наблюдательное производство по делу Каллистратовой С. В.» — дело это возбуждено 23.12.81 по мотивам «распространения заведомо ложных измышлений…» С. В. Каллистратова удивилась, что за четыре месяца еще не решено, предъявлять ли ей обвинение или нет, и предположила, что следствие ждет указаний. Следователь сказал: «Ну, пока все, Софья Васильевна… Я вызову вашу дочь».
Допрос С. В. Каллистратовой 6 сентября 1982 г.
Следователь Воробьев предъявил С. В. Каллистратовой постановление о назначении экспертизы машинописи и почерка от 2 мая 1982 г.
С. В. Каллистратова записала в протокол: «Так как постановление о назначении экспертизы предъявлено мне только сегодня, 6.09.82 г., а заключение экспертизы уже получено, я была лишена возможности пользоваться правами, предоставленными законом обвиняемому».
Далее были составлены два одинаковых протокола об ознакомлении обвиняемой с актами экспертизы машинописи и почерка С. В. Каллистратовой.
В протоколах она записала: «С заключением экспертизы ознакомлена, показаний давать не буду».
Затем следователь составил протокол о назначении меры пресечения — у С. В. Каллистратовой была отобрана подписка о невыезде.
Наконец Воробьев оформил протокол допроса обвиняемой от 6.09.82 г.
Вопрос: Вам предъявлено обвинение. Какие показания вы хотите дать по существу дела?
Ответ: Никаких показаний давать не буду.
В тот же день в 15 час. следователь Воробьев предъявил С. В. Каллистратовой постановление о привлечении в качестве обвиняемой на пяти машинописных страницах. В постановлении было написано: «…Являясь на протяжении длительного времени членом так называемой нелегальной «Московской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР», в 1978-81 гг. лично и совместно с другими лицами систематически изготовляла, размножала и распространяла среди своего окружения «документы» указанной группы, в которых помещала заведомо ложные сведения, которые вообще не имели места в жизни, либо излагала отдельные явления в явно искаженном виде, имея при этом цель опорочить, выставить в отрицательном свете либо в целом весь советский государственный и общественный строй, либо исказить сущность и функционирование отдельных государственно-правовых институтов, отдельных звеньев государственной и общественной системы.
В тот же период поддерживала преступные отношения с рядом аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов капиталистических стран, через которых направляла указанные «документы» для массового распространения во враждебных Советскому Союзу целях на Запад, где они были активно использованы антисоветскими антикоммунистическими организациями, издательствами и радиостанциями во враждебной нашей стране пропаганде.
Так: 08.12.78 г. совместно с Осиповой и другими лицами подготовила и передала за границу для широкого распространения документ 69 (30 лет Всеобщей декларации прав человека), в котором содержатся клеветнические измышления о наличии в СССР узников совести, психиатрических репрессий по политическим мотивам, национальной и идеологической дискриминации в труде и образовании, несоблюдении тайны переписки и неприкосновенности жилища, гонениях за убеждения.
Док. 86 б/д — Судебные расправы, 89 от 20.05.79 г. — Психиатрия, 91 июль 79 г. — Эмиграция, 111 03.11.79 г. — Правозащитное движение, 117 06.01.80 г. — то же, 118 19.01.80 г. — Верующие, 119 21.01.80 г. — Афганистан, 120 29.01.80 г. — Поляк, 121 29.01.80 г. — Сахаров, 122 15.02.80 г. Эмигранты, 124 19.03.80 г. — Суды, 132 26.05.80 г. — Фабрикация уголовных дел, 133 28.95.80 г. — Гражданские свободы, 140 09.08.80 г. — Нарушение Хельсинкского Акта, 141 23.09.80 г. — Верующие, 142 25.09.80 г. — О жалобах, 143 сентябрь 80 г. — Инакомыслие, 144 02.10.80 г. — Суды, 145 10.10.80 г. — Суды, право на защиту, 147 13.11.80 г. — Суды, 148 13.11.80 г. — Повторные суды, 150 12.12.80 г. — Суды».
Список документов приведен не до конца. Их названия в постановлении о привлечении в качестве обвиняемой приведены в формулировке следователя. С. В. Каллистратовой инкриминированы документы Московской группы «Хельсинки» с 69 по 181 c отдельными пропусками, а также написание статьи о ссылке академика А. Д. Сахарова «Беззаконие».
С. В. Каллистратова расписалась в прочтении постановления. Был составлен протокол ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемой.
Вопрос: Вам предъявляется обвинение. Понятно ли оно вам? Признаете ли вы себя виновной?
Ответ: В чем меня обвиняют — мне понятно. Виновной себя не признаю, показаний давать не буду.
Следователь предложил С. В. Каллистратовой искать адвоката — и, по возможности, быстрее — для проведения процедуры окончания следствия выполнения требований ст. ст. 201–203 УПК РСФСР.
С. В. Каллистратова сказала, что будет знакомиться с делом с адвокатом, которого найдет в течение трех дней, даст ему телефон Воробьева, и они договорятся.
Вся процедура продолжалась около 1,5 часов. С. В. Каллистратова заключила договор с адвокатом Е. А. Резниковой.
Допрос Т. Н. Трусовой 6 сентября 1982 г.
В тот же день Воробьев допросил Т. Трусову.
Вопрос: Знакомы ли вы с С. В. Каллистратовой, как можете ее охарактеризовать? (и далее, по устному настоянию свидетельницы): вам разъясняется, что вы вызваны в качестве свидетеля по уголовному делу С. В. Каллистратовой, обвиняемой в изготовлении и распространении материалов, содержащих заведомо ложные клеветнические измышления, и т. д. по ст. 190-1 УК РСФСР.
Ответ: Мне кажется, что словосочетание «заведомо ложные измышления», синонимичным которому является слово «клевета», не может быть применено к С. В. Каллистратовой, человеку, безусловно, абсолютно честному, порядочному. Я считаю заведение дела по ст. 190-1 против С. В. Каллистратовой несправедливым. Заведение такого дела — это, на мой взгляд, или профессиональная ошибка, или заведомое нарушение закона. Кроме того, заведение дела против 75-летней больной старухи я нахожу просто бесчеловечным. Не хочу принимать в этом никакого участия.
Вопрос: Как вы оцениваете деятельность «Московской группы «Хельсинки»»?
Ответ: Я считаю появление такого рода группы и закономерным, и полезным (см. работу Ленина «Государство и революция»).
Вопрос: Читали ли вы документы Московской группы «Хельсинки»?
Ответ: См. ответ на первый вопрос.
Вопрос: Видели ли вы подпись С. В. Каллистратовой под подобными документами?
Ответ: См. ответ на первый вопрос.
После этого следователь поинтересовался без протокола: «Наверное, дальше задавать вопросы бесполезно?» Трусова ответила: «Разумеется».
Допрос продолжался около 20 мин.
Допрос Ю. А. Шихановича 6 сентября 1982 г.
На допрос к следователю Мосгорпрокуратуры Воробьеву был вызван Ю. Шиханович.
Вопрос: Давно ли вы знакомы с С. В. Каллистратовой, как можете ее охарактеризовать?
Ответ: С Каллистратовой я знаком очень давно, не помню, с каких пор. Я знаю ее как кристально честного человека, как бесстрашного, честного человека, который высказывает свое мнение независимо от того, к каким последствиям это приведет. Поэтому обвинение С. В. Каллистратовой в «клеветнических измышлениях» я считаю ложным, более того, заведомо ложным, и люди, предъявившие ей это обвинение, знают, что оно ложное. По всему вышесказанному я прошу привлечь этих людей к уголовной ответственности по ст. 176 УК РСФСР и отказываюсь отвечать на какие-либо вопросы по «делу Каллистратовой».
Вопрос: Что вы думаете о деятельности так называемой группы «Хельсинки» и выпущенных ею документах?
Ответ: Отвечать отказываюсь.
Вопрос: Почему вы считаете, что обвинение, выдвинутое против Каллистратовой, по вашему мнению заведомо ложное?
Ответ: Потому что я не считаю людей, выдвинувших это обвинение, дураками.
Вопрос: Знакомила ли вас С. В. Каллистратова с документами группы «Хельсинки»? Предлагала ли вам подписывать или собирать для них материалы?
Ответ: Отказываюсь отвечать.
Вопрос: Что вам известно о роли С. В. Каллистратовой в деятельности группы «Хельсинки»?
Ответ: Отказываюсь отвечать.
* * *
С. В. Каллистратова явилась в Мосгорпрокуратуру 10.09 со своим адвокатом Е. А. Резниковой для выполнения требований ст. ст. 201–203 УПК РСФСР, причем адвокат приехала на два часа раньше и приступила к чтению дела. Около 12 часов приехала С. В. Каллистратова. Почти одновременно следователь Воробьев пришел в кабинет, где адвокат знакомилась с делом, извинился перед ней и обвиняемой — С. В. Каллистратовой и сказал, что окончание предварительного следствия откладывается до конца сентября.
В десятых числах октября следователь Мосгорпрокуратуры Ю. А. Воробьев сообщил адвокату Е. А. Резниковой, что дело С. В. Каллистратовой приостановлено. (Уголовное дело по советскому законодательству может быть приостановлено только в двух случаях: 1) Обвиняемый скрылся; 2) Обвиняемый тяжело болен.)
А. Сахаров, лауреат Нобелевской премии мира
В защиту Софьи Каллистратовой
Среди тех, кто подвергается преследованиям за деятельность в защиту прав человека, последние годы я все чаще слышу имя Софьи Васильевны Каллистратовой, адвоката, члена Московской Хельсинкской группы. Недавно у нее был третий обыск. Получилось так, что я до сих пор не выступал в ее поддержку. Причина тут чисто психологическая — Софья Васильевна настолько «своя», что выступать за нее — это почти что выступать за самого себя. А она продолжает активно действовать в защиту других и очень мало афиширует собственное положение. И все же нам пора подумать об этом. Три обыска в СССР не шутка.
За плечами у Софьи Васильевны десятилетия активной работы в адвокатуре, активной борьбы за справедливость. Кто-то из диссидентов или зарубежных друзей иронически усмехнется, исходя из предвзятых представлений о советском адвокате. Но дело обстоит именно так. На счету у этой женщины немало спасенных человеческих судеб. В конце 60-х годов она одна их тех адвокатов, которые берутся защищать диссидентов. Софья Васильевна делает это с блеском, отдавая всю душу. И не менее важна для подзащитных ее человеческая теплота, когда она встречается с ними после многих месяцев изоляции в тюрьме для подследственных. Положение ее становится все более трудным. А она все тесней связывает себя с гласной открытой борьбой за права человека — естественно и просто продолжая свою жизненную линию. И вот она член Хельсинкской группы.
Я лично знаю Софью Васильевну вот уже более десяти лет. Много лет она несла добровольно принятое на себя бремя — помогать мне в переписке с людьми, обращающимися за юридической помощью. В большинстве это были люди, отчаявшиеся добиться справедливости в других местах — старики, не имеющие пенсии или жилья, несправедливо осужденные — жертвы судебных ошибок и предвзятости, а иногда и самооговора в результате избиений или страха, несправедливо уволенные с работы и другие преследуемые. Это действительно была трудная и мучительная работа, в которую Софья Васильевна вносила много знаний, человеческой теплоты, такта и своеобразного жизненного опыта. А я носил ей такие письма целыми авоськами. Архив переписки по этим делам отобран у нее на обыске, так же как и документы ее законной открытой общественной деятельности.
Я призываю честных людей во всем мире и в первую очередь юристов выступить в защиту замечательной женщины, так много сделавшей и делающей для других во имя справедливости и добра.
24 февраля 1982 г.Защитите защитника
Главам правительств, подписавших Хельсинкский заключительный акт, главам делегаций, участникам Мадридского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, Международной ассоциации адвокатов, Ассоциации адвокатов Америки и Канады
Тревожные вести из Москвы. Нависла угроза ареста над Софьей Васильевной Каллистратовой. Три обыска с изъятием архивов, личной переписки и книг, вызовы в КГБ — это не шутки. Чем же навлекла на себя гнев властей эта семидесятипятилетняя тяжело больная женщина, пенсионер, адвокат по профессии?
Мы лично знаем ее с 1967 г. В мае 1970 г. она блестяще защищала Петра Григоренко на ташкентском процессе. Ее заявление по поводу заключения психиатрической экспертизы Григоренко Институтом им. Сербского получило мировую известность и послужило одним из оснований для решения международной конференции психиатров в Гонолулу об осуждении советской практики злоупотреблений психиатрией в политических целях. С. Каллистратова защищала также Наталью Горбаневскую и Ивана Яхимовича, которых психиатрическая экспертиза признала, как и Григоренко, невменяемыми.
Все мы знаем и любим Софью Васильевну. Это человек большой души и адвокат Божией Милостью.
Трудной дорогой шла она по жизни. Взявшие власть большевики не только уничтожили законы Российской империи, но и растоптали римское право. Презумпцию невиновности подменили презумпцией виновности: не обвинение обязано было доказать вину подсудимого, а он — свою невиновность. Состязательность из процесса удалили.
По господствующей теории защитник обязан был помогать обвинению, вместо защиты обвиняемого лишь просить о снисхождении к нему. Нарушителей строго карали. Поэтому подавляющее большинство адвокатов уклонялось от участия в политических процессах. Но жизнь требовала другого.
Правозащитное движение, громко заявившее о себе в 60-е гг., подвергалось жестоким ударам. Требования правозащитников соблюдать законы не содержало состава преступления, однако правительство не могло допустить раскрытия того факта, что оно правит методами произвола. Начались аресты. Но так как арестованные не совершали уголовно наказуемых преступлений, их судили по сфабрикованным обвинениям.
Чтобы бороться с юридическим крючкотворством, нужна была искушенная в юриспруденции защита. И она появилась. Адвокаты — Каллистратова, Каминская, Золотухин, Залесский, Ария, Монахов, Резникова, Швейский, Сафонов и еще не стали брать на себя защиту в таких делах, смело разоблачая фальсификации, и требовали оправдательного приговора. Суды, не считаясь с разоблачениями, выносили несправедливые жестокие приговоры, но разоблачения не пропадали даром. «Самиздат» создал и двинул в мир огромную правозащитную разоблачительную литературу, которая пригвоздила советскую судебную практику к позорному столбу. Иногда удавалось добиться оправдания или переквалификации обвинения на статью уголовного кодекса с меньшими сроками заключения.
Софья Васильевна как адвокат пользуется огромным авторитетом. Уйдя на пенсию, она, несмотря на тяжелую сердечную болезнь, продолжает оказывать юридическую помощь, консультируя тех, кто к ней обращается. А обращаются многие. Это и академик Сахаров и другие правозащитники, и просто труженики. Вступлением в Московскую Хельсинкскую группу Софья Васильевна подчеркнула законность создания и деятельность всех Хельсинкских групп и их правозащитный характер. Вся ее жизнь — подвиг во имя торжества закона. За это ее и хотят покарать те, кто правит, опираясь на произвол.
Адвокаты мира! Все люди, не желающие терпеть произвол! Поднимите голос протеста против подготавливаемой расправы над Софьей Васильевной Каллистратовой, мужественной защитницей людей от беззакония. Защитите защитника!
Зинаида и Петро Григоренко, Вероника и Юрий Штейн, Татьяна и Валентин Турчины, Светлана и Владлен Павленковы, Джемма и Паве Сарра и Борис Закс, Майя и Павел Литвиновы, Людмила и Сергей Со Надия Свитлычна, Владимир Буковский, Николай Вильямс, Борис Дорен, Екатерина Милютина, Виктор Боровский, Сергей Мюге, Юрий Ярым-Агаев, Галина и Ольга Гастевы,
Открытое письмо
Софью Васильевну Каллистратову, известного адвоката и правозащитника, ждет суд. В течение 15 лет — того же срока, что существует правозащитное движение в СССР, она мужественно выступала в защиту законности не только как адвокат, выполняющий свой профессиональный долг, но и как человек, для которого превыше всего гуманность и честь.
Она защищала многих правозащитников: Хаустова, Яхимовича, Григоренко, Горбаневскую, Делоне, группу крымских татар, Нашпица, Шапиро, Малкина и др. Фактически за эту благородную деятельность ее выпроводили на пенсию и отчислили из Московской коллегии адвокатов.
Софья Васильевна — один из старейших (с 1977 г.) членов Московской группы «Хельсинки», положившей начало всемирному движению общественного контроля над выполнением Хельсинкских соглашений, подписанных и нашим государством. Ныне, когда в СССР разгромлены все Хельсинкские группы, когда жестоко преследуется всякая попытка правозащитной деятельности, органы КГБ, очевидно, сочли момент подходящим, чтобы окончательно расправиться с Каллистратовой.
В течение многих месяцев ее систематически мучали допросами и обысками. Сегодня Софье Васильевне предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. Ей инкриминируются документы, рассылавшиеся Московской группой «Хельсинки» правительствам всех стран, подписавшим Заключительный Акт, и прежде всего советскому правительству. Это означает угрозу лишения свободы, отрыва от семьи — дочери, внуков, правнуков — в тяжелейших условиях заключения или ссылки.
Случайно или преднамеренно это совпало с кануном ее 75-летия.
Старый, тяжело больной человек, переживший инфаркт, инсульт, представляет, очевидно, по мнению властей, великую угрозу государству.
Неужели никто, кроме небольшой группы ее друзей, не выступит в ее защиту? Неужели мировое общественное мнение допустит и эту расправу!?
Раиса Лерт, Георгий Владимов, Татьяна Трусова, Елена Боннэр, Алексей Смирнов, Андрей Сахаров, Юрий Кублановский, Владимир Тольц, Ида Фридлянд, Борис Смушкевич, Сергей Ходорович, Наталья Насина, Валерий Борщов, Юрий Шиханович, Александр Грибанов
6 сентября 1982 г.Постановление о прекращении уголовного дела
г. Москва 31 августа 1984 года
Следователь по особо важным делам Прокуратуры г. Москвы Пономарев Г. В., рассмотрев материалы уголовного дела 49129/66-81 по обвинению Каллистратовой Софьи Васильевны по статье 191-1 УК РСФСР
Установил:
Настоящее уголовное дело возбуждено прокуратурой г. Москвы 23 декабря 1981 года по материалам, поступившим из УКГБ СССР по г. Москве и Московской области. В результате проведенного расследования установлено, что проживая в г. Москве гр-ка Каллистратова С. В., являясь на протяжении длительного периода времени членом нелегальной Московской группы «Содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР», лично и совместно с другими лицами изготавливала, размножала и распространяла «документы» указанной группы, в которых помещала заведомо ложные сведения, которые либо вообще не имели места, либо излагались в явно искаженном тенденциозном виде, с целью опорочить советский государственный и общественный строй и отдельные звенья советской государственной и общественной системы.
Составленные и размноженные материалы в виде «документов» группы распространялись Каллистратовой и другими лицами как на территории СССР, так и передавались через зарубежных корреспондентов и нелегально переправлялись через границу, где распространялись зарубежными антисоветскими издательствами, организациями и радиостанциями типа «Посев», радио «Свобода» и др. во враждебной нашей стране пропаганде.
Так в декабре 1978 года Каллистратова совместно с Осиповой Т. И. и другими лицами изготовила и распространила так называемый документ 69 под названием «30 лет Всеобщей декларации прав человека», в котором содержатся клеветнические измышления о наличии в СССР «узников совести», психиатрических репрессий по политическим мотивам, национальной и идеологической дискриминации в труде и образовании и др. В последующий период 1978–1981 гг. Каллистратова С. В. принимала активное участие в изготовлении и распространении других аналогичных документов за 86, 89, 91, 92, 111, 117, 118, 121, 122, 124, 132, 133, 140–145, 147, 148, 150, 151, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 162–164, 169, 172, 175, 177, 178, 180, 182, 183, 185, 186, 190 (от 22 декабря 1981 года), в которых также содержались клеветнические, порочащие советский государственный и общественный строй измышления, в частности, о якобы имеющих место преследованиях верующих, нарушениях гражданских прав, «подавлении независимости Афганистана», «удушении журнала «Поиски»», «беззаконии, допущенном в отношении Сахарова», фабрикации уголовных дел, осуждении невиновных и т. п. Таким образом, более чем в 50 документах непосредственное участие в изготовлении и распространении которых принимала Каллистратова, содержится клевета на советский государственный и общественный строй.
Вина Каллистратовой С. В. в совершении преступления, предусмотренного ст. 190-1 УК РСФСР полностью подтверждается собранными по делу доказательствами, в том числе:
— результатами проведенных по делу обысков у Каллистратовой и ее окружения, при которых изъяты пишущие машинки, принадлежащие ей, а также рукописные и машинописные тексты названных «документов»;
— заключениями криминалистических экспертиз, что большинство из представленных текстов напечатано в большом количестве экземпляров на изъятых пишущих машинках;
— заключениями криминалистических рукописных экспертиз, что ряд рукописных текстов «документов», подготовленных материалов, а также рукописных правок машинописных текстов исполнены рукой Каллистратовой С. В.;
— приобщенными к делу текстами указанных «документов», изъятых при проведении обысков у других лиц, а также выписками из стенограмм радиопередач зарубежных радиостанций и опубликованными на Западе текстами тех же документов, где прямо указано, что автором или одним из авторов является Каллистратова С. В.
На основании собранных доказательств 6 сентября 1982 года Каллистратовой С. В. предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР, которая отказалась от дачи личных показаний по делу, однако не отрицала в период следствия своей личной причастности к изготовлению и распространению инкриминируемых ей документов.
Избранная мера пресечения — подписка о невыезде.
Собранными по делу характеризующими документами установлено, что Каллистратова С. В., 1907 года рождения, пенсионерка, ранее не судима, по месту жительства жалоб на нее не поступало, на учете в психоневрологическом диспансере не состоит.
23 декабря 1982 года уголовное дело в отношении Каллистратовой С. В. приостановлено на основании ст. 195 п. II УКП РСФСР в связи с ее заболеванием. Из приобщенных к делу медицинских документов, в частности, истории болезни поликлиники 92 Киевского РЗО г. Москвы по месту жительства установлено, что Каллистратова С. В. находится под постоянным амбулаторным наблюдением по состоянию здоровья, последние годы неоднократно находилась на стационарном лечении в больнице.
27 августа 1984 года настоящее уголовное дело возобновлено производством и в результате проведенной проверки установлено, что по сообщению из Управления КГБ СССР по Москве и Московской области с момента приостановления уголовного дела Каллистратова С. В. прекратила свою преступную деятельность.
Учитывая возраст Каллистратовой С. В., которой в настоящее время 83 года, ее состояние здоровья, установленное имеющимися в деле справками медицинских учреждений, а также, принимая во внимание прекращение ею распространения клеветнических, порочащих советский государственный и общественный строй документов, следствие считает возможным в настоящее время прекратить в отношении нее уголовное дело вследствие изменения обстановки, признав, что Каллистратова С. В. перестала быть общественно опасным лицом.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 6 УПК РСФСР
Постановил:
Прекратить уголовное дело в отношении Каллистратовой С. В. 19 сентября 1907 года рождения, уроженки с. Александровка Рыльского района Курской области, беспартийной, образование высшее, разведенной, пенсионерки, проживающей в г. Москве, ул. Воровского, дом 18, кв. 17, ранее не судимой, вследствие изменения обстановки.
Следователь по особо важным делам Пономарев Г. В.
«Согласен»
Зам. прокурора г. Москвы ст. советник юстиции Еженкин В. П.
Жалоба на действия начальника следственной части прокуратуры г. Москвы
Ваш 18-65-81 Прокурору г. Москвы от 4 ноября 1987 г. от Каллистратовой Софьи Васильевны <…>
9 октября 1987 года я обращалась к начальнику следственного отдела Вашей прокуратуры с заявлением о возврате мне имущества, изъятого у меня при обысках.
Ответа на свое заявление я до настоящего времени не получила. Начальник следственной части В. П. Конин прислал мне копию своего ответа на заявление моей дочери Каллистратовой М. А.
Я дееспособный человек, мое заявление не имеет никакого отношения к моей дочери, и я должна по закону получить индивидуальный вразумительный ответ со ссылкой на соответствующие законы.
Прошу Вас исполнить мою законную просьбу и не вынуждать меня искать пути обращения к общественности с использованием осуществляемой в настоящее время гласности и законности.
21 ноября 1987 г. Каллистратова С. В.Заявление
Ваш 18-65-81 Прокурору г. Москвы от 7/XII-87 г. от Каллистратовой Софьи Васильевны <…>
В конце ноября 1987 года я направила Вам жалобу на действия начальника следственной части прокуратуры г. Москвы В. П. Конина.
Вместо проверки жалобы и принятия соответствующих мер Вы передали мою жалобу на действия В. П. Конина ему же самому. Отношением от 7/XII-87 г. 18-65-81 В. П. Конин сообщил мне, что его действия не нарушают закона. Однако добавил: «В настоящее время по Вашему заявлению проводится проверка с целью установления местонахождения изъятых ранее материалов, о результате которой Вам будет сообщено дополнительно».
Вот уже скоро полгода я жду дополнительного сообщения. Сколько ждать еще? А вопрос очень простой. При обыске 24/XII-81 по делу 49129/65-81 у меня был изъят ряд вещей и материалов. Они находились в Вашей прокуратуре. Кроме того, в Вашу же прокуратуру были переданы вещи и материалы, изъятые при обысках следственного отдела КГБ г. Москвы (подробно об этом в моем заявлении от XI-1987 г.).
6/IX-82 года мне было предъявлено обвинение по статье 190-1 УК РСФСР. Через несколько дней мне было устно сообщено, что дело приостановлено. С тех пор производство по делу не возобновлялось.
В соответствии с ч. V ст. 195 УПК РСФСР и п. 3 ст. УК РСФСР мое дело по ст. 190-1 УК РСФСР, приостановленное и не возобновленное в течение 5-ти лет, должно быть прекращено.
Следовательно, мне должны возвратить все изъятое при обысках имущество.
Это имущество должно храниться до прекращения дела, и почему следственной части Вашей прокуратуры потребовалось полгода для выяснения вопроса, где это имущество, — понять невозможно.
Прошу Вас дать мне исчерпывающий ответ на вопрос, где и когда я могу получить свое имущество.
21/V-1988 г. С. В. КаллистратоваЗаявление
Ваш 18-65-81 Первому заместителю от 24.06.88 прокурора г. Москвы Ю. А. Смирнову от Каллистратовой Софьи Васильевны <…>
Возвратясь с дачи, я нашла дома подписанное Вами письмо от 24/VI-88 г. Содержание этого письма указывает на противоправность действий должностных лиц прокуратуры. Прежде чем обратиться с жалобой в вышестоящие инстанции, я хочу попытаться добиться от Вас устранения допущенных нарушений.
I. Никакого уведомления о прекращении уголовного дела против меня 31/VIII-1984 г. по основаниям ст. 6 УПК РСФСР я не получала и очень сомневаюсь, что оно мне было послано. Я прошу: а) Сообщить мне, когда (точную дату), из какого отделения связи, по какой квитанции (номер и дата) было отправлено мне извещение. Эти сведения необходимы мне для возбуждения претензии к почте. б) Выслать мне копию постановления о прекращении уголовного дела, так как я категорически не согласна с мотивами прекращения дела (ст. 6 УПК РСФСР) и хочу это постановление обжаловать и требовать рассмотрения дела в суде по существу.
Обращаю Ваше внимание на то, что я 5 лет ждала истечения сроков, предусмотренных ч. V ст. 195 УПК РСФСР, п. 3 ст. 48 УК РСФСР для прекращения приостановленного дела и только в октябре 1987 года обратилась в прокуратуру с требованием о возврате мне изъятых при обысках вещей и материалов. 8 месяцев потребовалось Вашему аппарату для разрешения столь простого вопроса, и в письмах от 4/XI-87 г. и от 7/XII-87 г. начальник следственного отдела В. П. Конин ни словом не обмолвился о том, что уголовное дело против меня прекращено еще в 1984 году и что об этом было послано извещение.
II. В третий раз (теперь уже в Вашем письме) мне сообщается, что пишущие машинки возвращены моей дочери в апреле 1983 года.
Я уже писала дважды, что до этих машинок мне нет никакого дела, они не мне принадлежат и не у меня изъяты. Сообщите, где мои машинки, изъятые у меня при обысках, произведенных следователем УКГБ СССР по г. Москве Капаевым и переданные впоследствии в следственный отдел прокуратуры г. Москвы. Вы пишете, что сведений о поступлении в прокуратуру г. Москвы «иных материалов», «изъятых в ходе других обысков», не имеется. Это неправда. Вас ввели в заблуждение работники Вашего аппарата. Во-первых, Ваш следователь Воробьев мне лично сказал, что все изъятое у меня при обысках КГБ передано ему. Во-вторых, я сама лично видела в кабинете у Ю. А. Воробьева свои пишущие машинки «Ундервуд» и «Москва», а также чемодан с письмами, адресованными академику Сахарову, и другие материалы, изъятые у меня при обысках следователем КГБ Капаевым. В-третьих, следователь Воробьев проводил экспертизу изъятых у меня машинописных материалов на предмет установления, какие из них напечатаны на моих машинках «Ундервуд» и «Москва». Акт экспертизы в деле. Экспертизу нельзя было бы провести, если бы этих машинок не было у следователя.
III. Вы сообщаете мне, что изъятые у меня при обысках «материалы переданы для изучения в УКГБ СССР по г. Москве» и обратно не поступали. Неужели Вы не понимаете, какое свидетельство о беззаконии, совершенном мосгорпрокуратурой, Вы подписали? Как была решена судьба вещественных доказательств и изъятого у меня имущества в постановлении о прекращении дела (ст. 209 УПК РСФСР)? Почему вещи и материалы, принадлежащие лично мне, являющиеся моей собственностью, подлежащие возврату мне (п. 4 ст. 86 УПК РСФСР) без моего ведома и согласия передаются в УКГБ СССР по г. Москве «для изучения»? Какое указание в каком законе или нормативном акте дало право прокуратуре так бесцеремонно распорядиться моим личным имуществом?
Если прокуратура незаконно распорядилась моим имуществом, то прокуратура же должна позаботиться о возврате мне моей собственности.
Уголовное дело против меня было возбуждено при полном отсутствии законных оснований. Меня привлекли к уголовной ответственности за то, что я говорила и писала то, что сейчас миллион людей говорят с больших и малых трибун, пишут в журналах и газетах.
Я никакого преступления не совершала, и прекращение моего уголовного дела по ст. 6 УПК РСФСР — продолжение беззакония.
Я требую выслать мне сведения об отправке извещения о прекращении дела, а также копию постановления о прекращении уголовного дела.
Я требую вернуть изъятое у меня при обыске имущество. Надеюсь, что для рассмотрения этих требований не потребуется многомесячной волокиты.
14 августа 1988 г. С. В. КаллистратоваЖалоба на постановление от 31/VIII-84 г. О прекращении уголовного дела
Ваш 49129/65-81 Прокурору г. Москвы Л. П. Баранову от Каллистратовой Софьи Васильевны <…>
Только теперь мне стало известно, что уголовное дело, по которому мне было предъявлено обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР, возбужденное еще 23/XII-81 г., постановлением следователя по особо важным делам Пономарева Г. В. от 31/VIII-84 г. было прекращено по ст. 6 УПК РСФСР. Никакого извещения о прекращении дела в 1984 г. я не получала. Никаких данных о том, что о прекращении дела мне было объявлено, в Вашей прокуратуре нет. Моей подписью на копии постановления, находящейся в наблюдательном производстве, удостоверено, что с постановлением я ознакомилась только 4/XI-88 г.
Считаю основания прекращения дела неправильными. Обвинение было предъявлено мне необоснованно, так как никакого преступления я не совершала. Мне поставлено в вину изготовление, размножение и распространение документов «нелегальной» Московской группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР и преступные отношения с аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами. Других обвинений не предъявлено.
Я действительно была членом указанной группы с 1977 г. и активно участвовала в ее деятельности. Однако эта группа никогда не была нелегальной, действовала публично, гласно, в пределах, определенных Конституцией для добровольных ассоциаций и объединений граждан СССР. Никаких преступных, нелегальных отношений с иностранными корреспондентами у меня не было. Встречалась я с корреспондентами только на открыто проводившихся пресс-конференциях, главным образом в квартире академика А. Д. Сахарова. На этих пресс-конференциях иностранным корреспондентам открыто передавались документы группы, адресованные не издательству «Посев», не газете «Русская мысль» и не радиостанции «Свобода», а главам правительств 35 государств, подписавших Хельсинкские соглашения, в том числе в Президиум Верховного Совета СССР.
За то, как и кем использовались эти документы на Западе, я по действующим законам нести ответственности не могу.
Ни в постановлении о предъявлении мне обвинения, ни в постановлении о прекращении дела не указано ни одного примера того, какие заведомо ложные измышления содержались в инкриминируемых мне документах. В обвинении содержится голословное утверждение, что я помещала в документах «заведомо ложные сведения, которые либо вообще не имели места, либо излагались в явно искаженном, тенденциозном виде, с целью опорочить советский государственный и общественный строй и отдельные звенья советской государственной и общественной системы» (см. текст постановления о прекращении дела). При этом не сделано даже попытки указать цель, которую я, якобы, стремилась достичь.
Я, как и другие члены Хельсинкской группы, стремилась не опорочить советский строй, а привлечь внимание общественности к необходимости бороться с имевшими в действительности место нарушениями и извращениями, искажающими социалистический строй. Другими словами, мы говорили и писали тогда, в годы застоя то, что сейчас пишут во всех газетах и журналах и говорят с самых высоких трибун. Мы писали в документах только о фактах, в действительности имевших место, а не «измышляли» клеветнические небылицы.
Содержащиеся в документах оценочные суждения не могут быть признаны заведомо ложными. Убеждения человека, личная оценка того или иного явления могут быть спорными, дискуссионными, но по внутренней своей сути не могут быть заведомо ложным измышлением.
В тексте постановления о прекращении дела после перечня документов группы написано, какие утверждения с точки зрения обвинения являются клеветническими измышлениями. Я не знакома с материалами дела. У меня изъяты при обысках и не возвращены копии документов группы. Поэтому я не могу подробно проанализировать все эти документы, чтобы показать явное отсутствие криминала в их содержании. Да наверно, это и не нужно. Достаточно взять несколько наиболее ярких «измышлений» из текста постановления о прекращении дела: а) «Фабрикация уголовных дел, осуждение невиновных» — не только все средства массовой информации полны сегодня этим «измышлением», но и сами «измышления» официально признаны фактом в постановлении Президиума Верховного суда СССР, опубликованном в прошлом году в газете «Известия». б) «Удушение журнала «Поиски»» — неоспоримый факт, почти все члены этого самодеятельного журнала были арестованы и осуждены. В издании этого журнала не было ничего криминального, сейчас такие журналы выходят десятками (если не сотнями). в) «Подавление независимости Афганистана». Ввод наших войск в Афганистан и участие их там в гражданской войне — неоспоримый факт. Вопрос о том, вмешательство ли это в суверенные дела независимого государства или интернациональная помощь, это вопрос субъективной оценки, основанной на внутреннем убеждении, и такое оценочное суждение не может быть признано заведомо ложным. Это осуждение можно считать дискуссионным, отзвуки дискуссии об Афганистане мы сегодня читаем в официальной печати. г) «Беззакония, допущенного в отношении Сахарова» — это не измышление, а факт, удостоверенный отменой всех дискриминировавших А. Д. Сахарова указов Президиума Верховного Совета СССР. Нет криминала в том, что я на семь лет раньше громко сказала: «Ссылка Сахарова без судебного приговора нарушает ст. 159 Конституции СССР».
И так можно опровергнуть обвинение по любому из инкриминируемых мне документов Московской Хельсинкской группы.
Я не была «социально опасной» и не совершала никаких преступлений. Если прокуратура г. Москвы придерживается иной точки зрения, то почему же дело прекращено по основаниям, предусмотренным ст. 6 УПК РСФСР? Мои убеждения не изменились. Я и сегодня смогу подписаться под любым из вменяемых мне документов. В сентябре 1982 г. я не «прекратила» свою правозащитную деятельность, изменились лишь формы этой деятельности. Это изменение произошло потому, что все члены Московской Хельсинкской группы, кроме Н. Н. Меймана, были либо так или иначе репрессированы, либо вынуждены покинуть Родину. После предъявления мне обвинения три члена группы, находившиеся в Москве, — я, Боннэр и Мейман — составили, размножили и распространили последний документ группы (даты, номера не помню, но он есть в моем уголовном деле), которым объявили о том, что группа под давлением репрессий вынуждена прекратить свою деятельность. Группа прекратила свою деятельность, но я продолжала и продолжаю бороться с нарушениями законности.
На основании вышеизложенного прошу: 1) Постановление от 31/III-84 о прекращении моего уголовного дела по основаниям, предусмотренным ст. 6 УПК РСФСР, — отменить. 2) Либо прекратить это дело по основаниям, предусмотренным п. 2 ст. 5 УПК, т. е. за отсутствием в моих действиях состава преступления. 3) Либо составить обвинительное заключение и передать дело в суд для гласного рассмотрения по существу предъявленных мне обвинений.
10 ноября 1988 г. С. В. КаллистратоваПостановление
г. Москва 9 декабря 1988 года
Первый заместитель прокурора города Москвы, государственный советник юстиции 3 класса, Смирнов Ю. А., рассмотрев материалы уголовного дела 49129/65-91 по обвинению Каллистратовой С. В. по ст. 190-1 УК РСФСР
УСТАНОВИЛ:
Настоящее уголовное дело было возбуждено прокуратурой г. Москвы 23 декабря 1981 г. по материалам, поступившим из УКГБ СССР по г. Москве и Московской области в отношении Каллистратовой С. В.: занимающейся систематическим изготовлением и распространением заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.
Проведенным по делу расследованием было установлено, что Каллистратова С. В. в период 1978–1981 гг. систематически изготавливала, размножала и распространяла среди своего окружения, а также передавала через корреспондентов капиталистических государств документы так называемой «группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР», в которых содержались клеветнические измышления о наличии якобы в СССР так называемых узников совести, психиатрических репрессий по политическим мотивам, национальной и идеологической дискриминации, нарушении прав граждан и иных, порочащих советский общественный и государственный строй сведений. Переданные за рубеж, эти сведения использовались антисоветскими издательствами и радиостанциями во враждебной нашей стране пропаганде.
Вина Каллистратовой, которая отказалась от дачи показаний по делу, подтверждалась изъятием значительного количества экземпляров изготовленных и подписанных ею и иными лицами документов, заключениями почерковедческих и криминалистических экспертиз по исследованию рукописных и машинописных текстов, отпечатанных на принадлежащих ей пишущих машинках, имеющих ее рукописные правки. Распространение документов подтверждалось результатами проведенных обысков, так и текстами зарубежных изданий и передач зарубежных радиостанций.
После предъявления Каллистратовой обвинения по ст. 190-1 УК РСФСР уголовное дело было вначале приостановлено в связи с заболеванием обвиняемой, а затем прекращено 31 августа 1984 г. на основании ст. 6 УПК РСФСР с учетом возраста Каллистратовой, которой исполнилось 83 года, наличием у нее ряда заболеваний и прекращением преступной деятельности, то есть в связи с изменением обстановки, так как она перестала быть общественно опасным лицом.
14 ноября 1988 г. в прокуратуру г. Москвы поступило заявление гр. Каллистратовой, где она, признавая свое участие в деятельности названной группы по подготовке «документов» и передаче их иностранным корреспондентам, ставила вопрос о прекращении в отношении ее уголовного дела за отсутствием состава преступления, либо направлении дела в суд, так как своей деятельностью «стремилась не опорочить советский строй, а привлечь внимание общественности к необходимости бороться с имевшими в действительности место нарушениями и извращениями, искажающими советский строй». По мнению Каллистратовой, содержащиеся в документах «оценочные суждения» не могут являться заведомо ложными измышлениями и в настоящее время аналогичные сведения излагаются «во всех газетах и журналах и о них говорят с самых высоких трибун».
Оценивая собранные доказательства, которыми подтверждается участие Каллистратовой в изготовлении и распространении названных документов и учитывая, что в настоящее время многие из перечисленных в них проблем, в том числе война в Афганистане, высылка А. Д. Сахарова и другие действительно нашли отражение в официальных изданиях и передачах, следует прийти к выводу, что с учетом этих публикаций и изменением в них оценки ряда вопросов внешней и внутренней политики СССР, нельзя утверждать, что Каллистратовой распространялись заведомо для нее ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй.
При отсутствии же этого признака в диспозиции ст. 190-1 УК РСФСР и ее действиях отсутствует состав преступления.
Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 5 п. 2, 208 ч. I УПК РСФСР,
ПОСТАНОВИЛ:
Отменить постановление о прекращении уголовного дела в отношении Каллистратовой Софьи Васильевны от 31 августа 1984 г. на основании ст. 6 УПК РСФСР. Прекратить уголовное дело в отношении Каллистратовой С. В. за отсутствием в ее действиях состава преступления, о чем уведомить заявительницу.
Первый заместитель прокурора г. Москвы
Государственный советник юстиции 3 класса
Ю. А. Смирнов
Прокуратура СССР г. Москва 121069 ул. Воровского, Прокуратура г. Москвы д.18, кв.17 Каллистратовой С. В. 12.12.88 18-65-81
Сообщаю, что постановлением от 9 декабря 1988 года изменены основания прекращения в отношении Вас уголовного дела и оно прекращено по ст. 5 п. 2 УПК РСФСР за отсутствием состава преступления.
Начальник следственной части В. П. Конин
Мы не молчали
В «Известиях» от 3 мая 1988 г. была опубликована статья Чингиза Айтматова «Подрываются ли основы».
Тогда я послала в «Огонек» открытое письмо Чингизу Айтматову, рассказав о тех, кто не только «думал» и «вслух размышлял», но и писал, размножал, распространял информацию об этом, не страшась репрессий.
«Огонек» не напечатал мое открытое письмо. Не ответил мне и Чингиз Айтматов. Бог с ними…
Вспоминаю об этом, потому что хочу рассказать о людях, которые не молчали. Речь идет о деятельности уже полузабытой сегодня организации правозащитников 70-х — начала 80-х гг.
В ту пору надо было иметь изрядное мужество для создания открытой неформальной организации, поставившей своей целью защиту прав человека. Такое мужество проявил член-корреспондент Армянской Академии наук, проживавший в Москве, ученый-физик Юрий Федорович Орлов. 12 мая 1976 г. он вместе с другими правозащитниками создал «Московскую группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР». В первом документе этой группы (подписанном Юрием Орловым, Еленой Боннэр, Петром Григоренко, Анатолием Марченко, Людмилой Алексеевой, Александром Гинзбургом, Анатолием Щаранским, Мальвой Ланда, Виталием Рубиным, Александром Корчаком, Михаилом Бернштамом) указывалось, что своей первоначальной целью группа содействия считает информирование всех глав правительств, подписавших Заключительный акт от 1 августа 1965 г., а также информирование общественности о случаях прямых нарушений гуманитарных статей Заключительного акта.
Вскоре у нас были образованы Украинская, Грузинская, Литовская и Армянская Хельсинкские группы. А затем стали возникать аналогичные организации и в других государствах — участниках Хельсинкского совещания.
В последовавших вскоре судебных процессах членов Хельсинкской группы обвиняли в «преступных связях» с корреспондентами капиталистических стран. Это же было записано и в предъявленном мне 7 сентября 1982 г. обвинении (до суда мое дело не дошло).
Между тем с иностранными корреспондентами мы встречались открыто. Такие действия находятся в рамках Конституции СССР, Декларации прав человека ООН и Заключительного акта Хельсинкского соглашения. Сама необходимость прибегать к помощи иностранных корреспондентов была вызвана двумя обстоятельствами. Во-первых, мы пробовали рассылать свои документы обычной почтой в Президиум Верховного Совета СССР и в посольства стран — участниц Хельсинкского совещания, но вскоре убедились, что расписки о вручении нам приходят только от Верховного Совета (и никогда ни слова в ответ!), а посольства нашей почты просто не получают. Во-вторых, мы были полностью лишены возможности довести информацию, содержащуюся в наших документах, до общественности нашей страны. Нам приходилось говорить со своими гражданами через средства массовой информации Запада. При этом члены группы не прикрывались псевдонимами, каждый документ подписывался авторами с указанием адресов.
Работала группа независимо, убежденно, без оглядки на какое-либо «родное» или «заморское» начальство. Никогда ни от каких организаций или частных лиц мы не получали никаких материальных средств. Нашим оружием было слово. А нашими инструментами — шариковые ручки, бумага и копирка, покупаемые за свои личные деньги, да старенькие пишущие машинки, на которых мы сами (кто четырьмя, а кто и двумя пальцами) отстукивали свои документы. Десятки этих машинок, отобранных при многочисленных обысках, еще и сейчас пылятся на складах Московского УКГБ и Мосгорпрокуратуры.
И вот на это наше оружие, на слово, на мысль, информацию власти отвечали слежкой (а что было за нами следить — мы не скрывались!), допросами, обысками, арестами, неправосудными приговорами, тюрьмами, лагерями, ссылками, «выдворениями» за пределы Родины, психиатрическими лечебницами. В 70-х гг. были так или иначе репрессированы все члены Хельсинкской группы и примыкавших к ней неформальных организаций. Размеры журнальной статьи лишают меня возможности назвать все имена. Да и судьбы этих людей заслуживают особо внимательного и объективного изучения. Это «белое пятно» нашей еще совсем недавней истории должно быть и будет стерто.
Нет, мы не молчали в тяжелые годы брежневского застоя. За время с 1975 по 1982 г. было составлено, размножено и распространено 196 документов Московской Хельсинкской группы. Круг тем, освещаемых в этих документах, очень широк. Равноправие народов (в частности, документы в защиту крымских татар); свобода передвижения и выбора места проживания; проблемы эмиграции; свобода совести и религии (в том числе документы в защиту преследуемых баптистов и пятидесятников); право на свободный информационный обмен; право на законный и справедливый суд; протесты против преследований и арестов инакомыслящих; положение политзаключенных в лагерях, тюрьмах и ссылках; нарушения социально-экономических прав трудящихся и пенсионеров; протесты против беззаконной ссылки академика Сахарова; протест против введения советских войск в Афганистан… Таков далеко не полный перечень.
Правление Советско-американского фонда «Культурная инициатива» на своем заседании 23 марта 1989 г. одобрило проект, предусматривающий полную реабилитацию граждан, незаконно осужденных по ст. 70 и ст. 190-1 УК РСФСР и выделило на эти цели 61 тысячу рублей. Сейчас, когда демократия и гласность становятся нормой нашего времени, когда печать, радио и телевидение поднимают и свободно обсуждают вопросы, за гласную постановку которых поплатились те, кто не хотел и не мог молчать в годы застоя, — необъяснимо замалчивание истории правозащитного движения 1960–1980 гг. Необходимо добиться опубликования в широкой печати всех правозащитных документов тех лет и полной реабилитации (а не просто помилования) всех узников совести.
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
В указатель включены имена людей, названия неофициальных объединений и «самиздатских» периодических изданий, упомянутых в книге. Псевдонимы не раскрываются.
Использованы сокращения:
ВС — Верховный Совет
ВСХСОН — Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа
ГД — Государственная дума России
ИГ — Инициативная группа по защите прав человека в СССР.
Звенигородская станция ИФА — Звенигородская научная станция Института физики атмосферы АН СССР, РАН, Новошихово Московской обл.
КСП — клуб самодеятельной песни
МХГ — Московская Хельсинкская группа
ОВД — особо важные дела
ПБ — психиатрическая больница
РК — Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях при МХГ
ФИАН — Физический институт им. А. Н. Лебедева АН СССР, РАН
«Хроника» — Хроника текущих событий
Абдулгазиев Энвер (р.1940), инженер, активист крымско-татарского движения. В 1968 за участие в праздновании в г. Чирчик УзССР годовщины со дня рождения Ленина осужден на 1.5 года лагерей
Абибуллаев Ибраим (р.1926), активист крымско-татарского движения, в 1968 за участие в праздновании в г. Чирчик УзССР годовщины со дня рождения Ленина осужден на 2 года лагерей
Абрамкин Валерий Федорович (р.1947), инженер-химик, один из инициаторов КСП, ответственный редактор журнала «Поиски», за издание которого осужден в 1979. В лагерях до 1985. В настоящее время занимается правозащитной деятельностью
Абушахмин Борис Фатыхович (р.1938), адвокат, защищал диссидентов
Аверьянова, свидетель по делу А. Михайлова
Авторханов Абдурахман (1908–1997), узник сталинских лагерей, в 1943 эмигрировал, историк, политолог
Айтматов Чингиз Торекулович (р.1928), писатель
Александр Альбер см. Фрешар Шарль
Александров Петр Акимович (1836–1892), адвокат, защищал народников, добился оправдания В. И. Засулич
Александров Анатолий Петрович (1903–1994), физик, президент АН СССР с 1975
[Л.М. Алексеева] Алексеева Людмила Михайловна (р.1927), историк, с середины 60-х участвовала в помощи политзаключенным, выпуске «Хроники», одна из организаторов МХГ. В 1977 вынуждена была эмигрировать, на Западе выпустила книгу «История инакомыслия в СССР» (N.-Y.: Khronika press, 1984; Вильнюс-Москва: Весть, 1992). Вернулась на родину в 1993, в настоящее время занимается правозащитной деятельностью
Алтунян Александр Генрихович (р.1958), канд. филол. наук, участник правозащитного движения. Сын Г. О. Алтуняна
Алтунян Генрих Ованесович (р.1933), инженер-майор, член ИГ. В 1969 в Харькове осужден на 3 года лагерей, в 1981 — на 7 лет. Депутат ВС Украины с 1990
Альбрехт Владимир Янович (р.1933), математик, участник правозащитного движения, автор «самиздата». В 1983–1987 в лагерях. В 1988 эмигрировал
Альперович Евгений (р.1927), друг дома С.К.
Альтшулер Борис Львович (р.1939), физик, канд. физ. — мат. наук, сотрудник ФИАН, участник правозащитного движения. В 1982–1987 вынужден был работать дворником. В настоящее время занимается правозащитной деятельностью
Амальрик Андрей Алексеевич (1938–1980), писатель, автор «самиздата». В 1964–1966 в ссылке, 1970–1976 в лагере и ссылке в Магаданской области. В 1976 эмигрировал
Андреев С. Р., в начале 80-х старший следователь Московской городской прокуратуры, проводил обыски у А. П. Лавута, Ф. Ф. Кизелова
Андропов Юрий Владимирович (1914–1984), председатель КГБ СССР (1967–1982), Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982–1984)
Антонов-Овсеенко Антон Владимирович, узник сталинских лагерей, писатель
Анцупов Евгений Михайлович (р.1940), автор «самиздата». В 1981–1987 в лагерях и тюрьмах. В 1987 эмигрировал
Апраксин Констнтин Николаевич (1916–1986), председатель Президиума Московской городской коллегии адвокатов в 1967–1985
Ария Семен Львович (р.1922), адвокат, защищал диссидентов, в том числе В. И. Лашкову, Г. О. Алтуняна
Арманд Елена Давидовна (р.1937), географ, участница правозащитного движения
Артемов Вячеслав Петрович (р.1940), композитор
Архангельский Михаил Иванович, школьный учитель С.К., преп. истории и латыни в бывшей Шелеховской гимназии, Рыльск Курской губ.
Ахматова Анна Андреевна (1889–1966), поэт
Ахтемов Эшреф (р.1927), механик, активист крымско-татарского движения, в 1968 за участие в праздновании в г. Чирчик УзССР годовщины со дня рождения Ленина осужден на 3 года условно
Бабенышев Александр Петрович (р.1938), геолог, автор «самиздата», редактор журнала «Поиски и размышления». В 1981 эмигрировал
Бабицкая Юлия Константиновна (р.1958), дочь К. И. Бабицкого и Т. М. Великановой
Бабицкий Константин Иосифович (1929–1993), лингвист, участник демонстрации 25 августа 1968 на Красной площади. В 1968–1971 в ссылке в Коми АССР
Бабич (урожд. Квачевская) Джемма Борисовна, врач, участница правозащитного движения, член РК. Эмигрировала; Бабич Павел — муж Д. Б. Бабич
Баева Татьяна Александровна (р.1947), участница правозащитного движения, демонстрации 25 августа 1968 на Красной площади
Банщиков Василий Михайлович, заведующий кафедрой психиатрии 1-го Московского медицинского ин-та
Баранов Л. П., в конце 80-х прокурор г. Москвы
Барятинские, князья
Бауман Николай Эрнестович (1873–1905), большевик
Бахмин Вячеслав Иванович (р.1947), участник правозащитного движения, член РК. В заключении в 1969–1970, 1980–1984, 1985. В настоящее время работает в фонде Сороса
Беккариа Чезаре (1738–1794), итальянский просветитель, юрист, выдвинул принцип соразмерности наказания и преступления
Белов Юрий Сергеевич (р.1942), автор «самиздата». В лагерях, ссылке и ПБ 1963–1968, 1968–1971, 1971–1979. В 1979 эмигрировал
Белогородская Ирина Михайловна (р.1938), инженер, участница правозащитного движения. В 1968–1969 в лагере. В 1975 эмигрировала
Белявская Винцентина Домениковна (р.1939), сотрудница Звенигородской станции ИФА
Беляков, грузчик, свидетель по делу А. Михайлова
Березовский Б. И., в конце 60-х-начале 80-х старший следователь по ОВД при прокуроре УзССР
Берия Лаврентий Павлович (1899–1953), сов. гос. и парт. деятель, нарком, министр внутренних дел (1938–1945, 1953), член политбюро ВКП(б)
Бернштам Михаил Семенович (р.1940), искусствовед, историк, ориенталист, автор «самиздата», член подпольного кружка. В 1973–1974 содержался в ПБ. Член МХГ. В 1976 эмигрировал
Биргер Борис Григорьевич (р.1923), художник-нонконформист, знакомый А. Д. Сахарова
Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт
Бобрищев- Пушкин Александр Михайлович (1851–1903), судебный деятель и писатель, автор книги «Эмпирические законы деятельности русского суда присяжных» (М., 1896)
Богданов В. В., в 60-х-80-х судья Московского городского суда, вел суды над диссидентами, в том числе А. Э. Левитиным (Красновым), М. Х. Нашпицем, А. Н. Твердохлебовым, А. П. Лавутом, И. В. Гривниной, Ф. А. Серебровым, И. С. Ковалевым
Богораз Иосиф Аронович (1896–1985), писатель, экономист, узник сталинских лагерей, автор «самиздата». Отец Л. И. Богораз
[Л.И. Богораз и А. Т. Марченко] Богораз-Брухман Лариса Иосифовна (р.1929), филолог. Была замужем за Ю. М. Даниэлем, позже — за А. Т. Марченко. За участие в демонстрации 25 августа 1968 на Красной площади приговорена к 5 годам ссылки. В настоящее время занимается правозащитной и просветительской деятельностью
Бойко А. С., в конце 80-х заместитель председателя Куйбышевского областного суда
Бойцова Людмила Юрьевна (р.1940), жена С. А. Ковалева
Болонкин Александр Александрович (р.1932), инженер, д-р техн. наук, автор «самиздата», состоял в подпольной группе. В 1972–1987 в лагере и ссылке. Эмигрировал
Боннэр Елена Георгиевна (р.1923), врач. Жена А. Д. Сахарова. Участница правозащитного движения, член МХГ. В 1984–1986 находилась в ссылке в Горьком. В настоящее время занимается общественной деятельностью
Боннэр Руфь Григорьевна (1900–1987), мать Е. Г. Боннэр
Борисов Владимир Евгеньевич (р.1943), электрик, участник правозащитного движения, член ИГ. В 1964–1967 и 1969–1977 содержался в ПБ. В 1980 выслан из СССР
Борисов Владимир Ильич (1945–1970), рабочий, основатель «Союза независимой молодежи» (Владимир, 1968). В 1969 арестован. Покончил с собой в Бутырской тюрьме
Боровский Виктор Иванович (р.1952), участник правозащитного движения, преследовался КГБ. В 1977 эмигрировал
Бородин Леонид Иванович (р.1938), историк, педагог, писатель, Член ВСХСОН, редактор «самиздатского» «Московского сборника». В 1967–1973, 1982–1987 в лагерях и тюрьме. В настоящее время главный редактор журнала «Москва»
Борщев Валерий Васильевич (р.1943), участник правозащитного движения. Депутат ГД с 1993
Бочаров, прокурор, обвинитель на суде над И. Я. Габаем и М. Джемилевым
Брежнев Леонид Ильич (1906–1982), Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1964–1982
Бродский Иосиф Александрович (1940–1995), поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе (1987), переводчик, эссеист. В 1964–1965 в ссылке. В 1972 эмигрировал
Буденный Семен Михайлович (1883–1973), сов. воен., парт. и гос. деятель
Буис Антонина — сопредседатель советско-американского фонда «Культурная инициатива» (Фонда Сороса) в конце 80-х
[В.К. Буковский] Буковский Владимир Константинович (р.1942), участник правозащитного движения. В лагерях, тюрьмах и ПБ в 1963–1965, 1965–1966, 1967–1970, 1972–1976. В 1976 обменян на Л. Корвалана
Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940), писатель
Бунин Иван Алексеевич (1870–1953), писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1933)
Бурлацкий Федор Михайлович (р.1927), референт ЦК КПСС. В 1989–1991 Народный депутат СССР
Бурмистрович Илья Евсеевич (р.1938), математик, участник правозащитного движения. В 1968–1971 в лагере
Бутеневы
Бюлетень «В» — оперативный самиздатский информационный бюллетень, 105 номеров которого были выпущены в 1980–1983 годах. Редакторами «В» были И. С. Ковалев, А. О. Смирнов, С. И. Григорьянц.
Вальдек Роше см. Роше Вальдек
Ван $IВан Гогог Винсент (1853–1890), голландский художник
Вахтангов Евгений Багратионович (1883–1922), режиссер, организатор театра
Великанова Екатерина Михайловна (р.1949), гидрогеолог, литератор. Сестра К. М. и Т. М. Великановых
Великанова Ксения Михайловна (Ася) (1936–1987), биолог, участница правозащитного движения, преследовалась КГБ. Сестра Е. М. и Т. М. Великановых
[Т.М. Великанова] Великанова Татьяна Михайловна (р.1932), математик, член ИГ, редактор «Хроники». В 1979–1987 в лагере и ссылке. В настоящее время преподает в школе. Сестра Е. М. и К. М. Великановых
Венжер, адресат письма И. В. Сталина
Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861–1928), писательница
Верн Жюль (1828–1905), французский писатель
Вертинский Александр Николаевич (1889–1957), автор и исполнитель песен. В 1919–1943 жил в эмиграции
«Вести из СССР», — правозащитный бюллетень, выходивший в 1979–1992 в Мюнхене 2 раза в месяц. Издавался бывшим политзаключенным Кронидом Аркадьевичем Любарским
Вильямс Николай Николаевич (р.1926), математик, узник сталинских лагерей. В 1987–1993 жил в эмиграции. Муж Л. М. Алексеевой
Винс Петр Георгиевич (р.1956), баптист. В 1978–1979 в лагере. В 1979 эмигрировал
Виньковецкий, автор «самиздата»
Владимир Святославович (?-1015), русский князь
Владимов Георгий Николаевич (р.1931), писатель, автор «самиздата», преследовался КГБ. В 1983 эмигрировал
Власов Юрий Петрович (р.1935), спортсмен, литератор, в 1989–1991 Народный депутат СССР
Власова, свидетель по делу А. Михайлова
Волков Олег Васильевич (1899–1996), писатель, узник сталинских лагерей
Воробьев Юрий Андреевич, в 1968 следователь прокуратуры, в Ташкенте вел дела крымских татар; в конце 70-х-начале 80-х в Москве проводил обыски у Т. С. Осиповой, А. Я. Романовой, вел дело С.К.
Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа (ВСХСОН), в 1964–1967 подпольная группа в Ленинграде, занимавшаяся распространением религиозно-философской литературы и ставившая целью изменение существующего строя. Союз с самого начала попал в поле зрения КГБ, на процессах 1967–1968 был осужден 21 человек, в том числе И. В. Огурцов и Л. И. Бородин
Выходцев Александр Николаевич — школьный учитель С.К., преп. математики в бывшей Шелеховской гимназии, Рыльск Курской губ.
Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954), сов. парт. и гос. деятель, зам. Генерального прокурора, Генеральный прокурор СССР (1933–1939)
Габай Галина Викторовна (р.1937), педагого-дефектолог, участница правозащитного движения. В 1974 эмигр. Жена И. Я. Габая
Габай Илья Янкелевич (1935–1973), филолог, учитель, поэт, участник правозащитного движения. В 1967 в тюрьме, в 1969–1972 в лагере. Покончил с собой
Гавин Владимир Павлович (р.1924), адвокат
Галансков Юрий Тимофеевич (1939–1972), рабочий, поэт, составитель «самиздатских» сборников «Феникс». Содержался в ПБ, с 1967 в лагере. Умер в лагерной больнице
Галич Александр Аркадьевич (1919–1977), драматург, актер, режиссер, бард. В 1974 эмигрировал
Галиченко, свидетель по делу А. Михайлова
Гамсун Кнут (1859–1952), норвежский писатель
Ганнушкин Петр Борисович (1875–1933), психиатр, с 1918 руководил кафедрой психиатрии 1-го Московского медицинского ин-та
Гастев Юрий Алексеевич (1927–1993), математик, философ, литератор, узник сталинских лагерей, участник правозащитного движения. В 1981 змигрировал; Гастева (урожд. Кучай) Галина Анатольевна (р.1930), редактор, жена Ю. Гастева. В 1981 эмигрировала; Гастева Ольга Юрьевна (р.1955), дочь Ю. А. Гастева.
Гдлян Тельман Хоренович (р.1940), следователь Генеральной прокуратуры по ОВД. В 1989–1991 Народный депутат СССР, с 1995 депутат ГД
Геворкян Наталья Павловна (р.1956), журналистка, автор статей о правозащитном движении и деятельности спецслужб
Генкин Сергей Ефимович (р.1933), математик, участник правозащитного движения. В 1984 эмигрировал
Герасименко Станислав Никитич, журналист, сотрудник газеты «Районные будни», Рыльск
Германов Алексей Алексеевич, сын М. Н. Ланда
Гершуни Владимир Львович (1930–1995), узник сталинских лагерей, участник правозащитного движения, автор «самиздата», член редколлегии журнала «Поиски». В 1969-19974, 1982–1987 содержался в ПБ
Гилярова Елена Николаевна
Гинзбург Александр Ильич (р.1936), составитель «самиздатских» сборников «Синтаксис», «Белой книги» по делу Синявского и Даниэля, распорядитель Фонда помощи политзаключенным. В лагерях и тюрьмах в 1960–1962, 1967–1973, 1977–1979. Вместе с М. Ю. Дымшицем, Э. С. Кузнецовым и др. обменян на советских разведчиков. В настоящее время журналист, сотрудник газеты «Русская мысль».
Гинзбург Евгения Семеновна (1906–1977), узница сталинских лагерей, автор мемуаров «Крутой маршрут»
Гитлер Адольф (1889–1945)
«Гласность» — неофициальный бюллетень, издававшийся с 1987 редакцией, возглавляемой бывшим политзаключенным Сергеем Ивановичем Григорьянцем. Преобразован сначала в информационное агентство, в настоящее время Общественный фонд «Гласность»
Глебов Евгений Николаевич, школьный учитель С.К., преп. математики в бывшей Шелеховской гимназии, Рыльск Курской губ.
[С.Ф. Глузман] Глузман Семен Фишелевич (р.1946), психиатр, участник правозащитного движения. В 1972–1982 в лагере и ссылке. В настоящее время занимается правозащитной деятельностью
Горбаневская Наталья Евгеньевна (р.1936), поэт, переводчик, первый редактор «Хроники», участвовала в демонстрации на Красной площади 25 августа 1968, член ИГ, подзащитная С.К. В 1969–1972 содержалась в ПБ. В 1975 эмигрировала
Горбачев Михаил Сергеевич (р.1931), сов. гос. и парт. деятель, в 1985–1991 Генеральный секретарь ЦК КПСС, в 1990–1991 Президент СССР
Горький Максим (1868–1936), писатель
Грибанов Александр Борисович (р.1943), филолог, участник правозащитного движения. В 1987 эмигрировал
Грибков Николай Николаевич, понятой на обыске у М. А. Каллистратовой
Гривнина Ирина Владимировна (р.1945), программист, член РК. В 1980–1985 в ссылке. В 1985 эмигрировала
Григоренко Андрей Петрович (р.1945), инженер, участник правозащитного движения, автор Самиздата, в 1964 арестовывался. В 1975 эмигрировал. Сын З. М. и П. Г. Григоренко.
[П.Г. и З. М. Григоренко] Григоренко (урожд. Егорова) Зинаида Михайловна (1909–1994), жена П. Г. Григоренко. В 1977 эмигрировала.
Григоренко Петр Григорьевич (1907–1987), генерал-майор, участник правозащитного движения. В 1964–1965, 1969–1976 содержался в ПБ. Член МХГ. В 1977 эмигрировал. Автор мемуаров «В подполье можно встретить только крыс…»
Грин Александр Степанович (1880–1932), писатель
Грингольц Исидор Абрамович (1928–1986), юрист, друг дома, сын Л. А. Грингольц
Грингольц Ланна Александровна, близкая приятельница С.К.
Гринев Виктор Иванович (р.1941), художник, участник правозащитного движения. В 1982–1985 в лагерях
Громов Борис Всеволодович (р.1943), генерал-полковник, в 1987–1989 командовал советскими войсками в Афганистане, с 1989 Народный депутат СССР, России
Гроссман Василий Семенович (1905–1964), писатель
Губинский Александр Георгиевич, в конце 70-х-начале 80-х следователь КГБ, участвовал в следствии по делам А. Б. Щаранского, Т. С. Осиповой
Гумилев Николай Степанович (1886–1921), поэт. Расстрелян
Гусейнова Леннара (р.1939), инженер, активист крымско- татарского движения, неоднократно арестовывалась, в 1968 была осуждена условно
Гюго Виктор Мари (1802–1885), французский писатель
Даниэль Юлий Маркович (1925–1988), писатель, поэт, переводчик, участник Великой Отечественной войны. За публикацию на Западе своих произведений в 1965–1970 в лагерях и тюрьме
Даурбеков, подзащитный С.К. по делу о хищениях
Дворенков Александр, санитар Сычевской специальной ПБ. Ошибочно упоминается также как Дворников Александр
Делоне Вадим Николаевич (1947–1983), поэт. В 1967 арестован за участие в демонстрации в защиту А. Гинзбурга и др. За участие в демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 осужден на 3 года лагерей. В 1975 эмигрировал
Демин, свидетель по делу А. Михайлова
Детенгоф Федор Федорович, в конце 60-х-начале 70-х главный психиатр г. Ташкента, участник комиссии, обследовавшей П. Г. Григоренко
[М.Джемилев] Джемилев (Абдулджемиль) Мустафа (р.1943), до настоящего времени лидер крымско-татарского движения. Член ИГ. В лагере в 1966–1967, 1969–1972, 1974–1976, в ссылке 1979–1982, в лагере 1983–1986
Джилас Милован, югославский политический деятель, политзаключенный, историк, автор книги «Новый класс», распространявшейся в СССР в «самиздате»
Добровольский Алексей Александрович (р.1938), участвовал в подпольных группах. В тюрьмах, лагерях и ПБ 1958–1961, 1965–1965, 1967–1969. В настоящее время активист националистического движения языческого толка
Дозмарова Галина Сергеевна, знакомая Е. Г. Боннэр
Домбровский Юрий Осипович (1909–1978), писатель, узник сталинских лагерей
Дорен Борис
Дремлюга Владимир Александрович (р.1940), рабочий. За участие в демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 в лагерях до 1974. В 1974 эмигрировал
Дубровская Сильва Абрамовна (р.1923), адвокат, защищала А. Б. Щаранского
[Д.С. Дудко] Дудко Дмитрий Сергеевич (р.1922), священник, узник сталинских лагерей. До ареста в 1980 участник правозащитного движения
Дымшиц Марк Юльевич (р.1927), летчик. В 1970 с Э. С. Кузнецовым и др. готовил захват самолета и бегство из СССР. Приговорен к смертной казни, замененной на 15 лет лагерей. В 1979 вместе с А. И. Гинзбургом, Э. С. Кузнецовым и др. обменян на советских разведчиков
Дядькин Иосиф Гецелевич (р.1928), геофизик, кандидат наук, участник правозащитного движения, автор «самиздата». В 1980 приговорен к 3 годам лагерей
Евлинов Виктор, соученик С.К. по бывшей Шелеховской гимназии, Рыльск Курской губ.
Евнина Елена Марковна, филолог, соседка С.К. по даче
Евтушенко Евгений Александрович (р.1933), поэт
Егидес Петр Маркович (1917–1997), философ, участник Великой Отечественной войны, узник сталинских лагерей. Автор «самиздата», участвовал в выпуске журнала «Поиски». В 1970–1972 содержался в ПБ. В 1979 эмигрировал. Последние годы сторонник коммунистической оппозиции
Еженкин В. П., в 1984 зам. прокурора г. Москвы
Ельцин Борис Николаевич (р.1931), Президент РФ с 1991
Еремин Василий, журналист
Есенин Сергей Александрович (1895–1925), поэт
Есенин- Вольпин Александр Сергеевич (р.1924), математик. В 1949–1953 за «антисоветские» стихи содержался в ПБ. Один из основателей правозащитного движения, автор «самиздата». В 1972 эмигрировал. Сын С. А. Есенина
Желудков Сергей Алексеевич (о. Сергий) (1909–1984), священник, теолог, публицист, участник правозащитного движения
Желябов Андрей Иванович (1851–1881), народоволец, организатор покушений на Александра II. Казнен
Жирнова, свидетельница по делу А. Михайлова
Жолковская (по первому мужу; урожд. Лаврова) — Гинзбург Ирина (Арина) Сергеевна (р.1937), филолог, участница правозащитного движения, Фонда помощи политзаключенным. В 1980 эмигрировала. Зам. главного редактора газеты «Русская мысль». Жена А. И. Гинзбурга
Закерьяев Идрис (р.1939), инженер, активист крымско-татарского движения, крымско-татарского движения. В 1968 за участие в праздновании в г. Чирчик УзССР годовщины со дня рождения Ленина осужден на 1 год лагерей
Закс Борис Германович (р.1908), журналист, критик, работал редактором в журналах «Знамя» и «Новый мир», участник правозащитного движения. В 1979 вынужден был эмигрировать; Закс (Твердохлебова) Сарра Юльевна, жена Б. Г. Закса,$IЗакс С. и Б. мать А. Н. Твердохлебова, участница правозащитного движения. В 1979 эмигрировала
Залесский Александр Вениаминович (1902–1971), адвокат, защищал А. Э. Левитина (Краснова)
Замятин Евгений Иванович (1884–1937), писатель. В 1932 эмигрировал
Засимов Валентин Иванович (р.1939), военный летчик. В 1976 угнал самолет в Иран, был выдан. Осужден на 12 лет лагерей
Заславский Валерий Анатольевич (р.1941), адвокат
Затикян Степан Саркисович (1946–1979), студент, участник подпольной националистической организации, Ереван. В 1968–1972 в лагере. В 1977 арестован по обвинению в терроризме, по приговору закрытого суда расстрелян
Захаров Евгений Ефимович (р.1952), математик, участник правозащитного движения; Захарова Инна Борисовна (р.1951), филолог, поэт, жена Е. Е. Захарова
Зеленеев Альберт Львович, в 70-х начальник 4-го отделения Сычевской специальной ПБ
Зиновьев Александр Александрович (р.1922), филоософ, участник Великой Отечественной войны, автор «тамиздата». В 1978 эмигрировал
Золотой, свидетель по делу А. В. Малкина
Золотухин Борис Андреевич (р.1930), адвокат, защищал диссидентов. В 1993–1995 депутат ГД
Зотов Михаил Васильевич (р.1923), художник, писатель, инвалид Великой Отечественной войны, автор «самиздата», сотрудник журнала «Поиски». В 1981–1983 содержался в ПБ
Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958), писатель
Иван IV Васильевич (Грозный) (1530–1584), царь
Иванов Николай Вениаминович (р.1952), следователь Генеральной прокуратуры по ОВД. Народный депутат СССР в 1989–1991
Игорь Святославович (1150–1202), князь
[Инициативная группа: С. Ковалев, Т. Ходорович, Т. Великанова, Г. Подъяпольский, А. Краснов-Левитин] Инициативная группа по защите прав человека в СССР (Инициативная группа, ИГ), образованное в мае 1969 первое в СССР неофициальное объединение правозащитников, обнародовавшее общие заявления, но не имевшее четкой структуры и устава. В ИГ вошли Г. О. Алтунян, В. Е. Борисов, Т. М. Великанова, Н. Е. Горбаневская, М. Джемилев, С. А. Ковалев, В. А. Красин, А. П. Лавут, А. Э. Левитин (Краснов), Л. И. Плющ, Г. С. Подъяпольский, Т. С. Ходорович, Ю. Г. Штейн, П. И. Якир, А. А. Якобсон и другие. Члены ИГ подвергались репрессиям
Иоффе Евгений
Иоффе Ольга Юрьевна (р.1950), студентка, участница правозащитного движения, в 1966 и 1969 арестовывалась за изготовление листовок, в 1970–1971 содержалась в ПБ. В 1978 вынуждена была эмигрировать
Калашник Яков Михайлович, д-р мед. наук, сотрудник Ин-та им. Сербского
Каллистратов Василий Акимович (1866–1937?), настоятель Покровского собора, Рыльск Курской губ., отец С.К., репрессирован
Каллистратов Дмитрий Васильевич (1905–1945), инженер, участник Великой Отечественной войны, погиб в Германии, брат С.К.
Каллистратов Иван Васильевич (1916–1922), брат С.К.
Каллистратов Михаил Васильевич (1910–1971), инженер, брат С.К.
Каллистратов Федор Васильевич (1903–1983), агроном, брат С.К.
Каллистратова (урожд. Курдюмова) Зиновия Федоровна (1876–1963), мать С.К.
Каллистратова Маргарита Александровна (р.1931), физик, заведующая лабораторией ИФА, дочь С.К.
Каллистратова Надежда Васильевна (1899–1921), сестра С.К.
Каллистратова Наталья Васильевна (1897–1970), экономист, сотрудник Госплана СССР, сестра С.К.
Каллистратова Римма Федоровна (р.1929), юрист, племянница С.К.
Каминская Дина Исааковна (р.1919), адвокат, защищала диссидентов, в том числе В. К. Буковского, Ю. Т. Галанскова, А. Т. Марченко. Была лишена «допуска» к политическим процессам, после обыска в 1977 эмигрировала
Кампанелла Томмазо (1568–1639), итальянский монах, создатель утопии «Город Солнца»
Кампов Павел Федорович (р.1929), математик. В лагере в 1970–1976 по политическому делу, в 1981–1989 по ложному уголовному обвинению
Каневская Елизавета
Капаев В. Н., в конце 70-х-начале 80-х следователь КГБ, капитан. Вел дела И. В. Гривниной, Ю. Ф. Орлова, Ф. А. Сереброва; допрашивал Ю. А. Гастева, А. П. Подрабинека, Б. И. Смушкевича, Л. Б. Терновского, В. С. Тольца; проводил обыски у С.К., В. Д. Кувакина; производил арест Т. М. Великановой
Каплан Марина Абрамовна (р.1928), адвокат, ученица С.К.
Каплун Ирина Моисеевна (1950–1980), студентка, участница правозащитного движения. В 1966 и 1969 арестовывалась за изготовление листовок
Карабчевский Николай Платонович (1851–1925), адвокат, поэт, писатель. Защищал народников и эсеров, мултанских вотяков, М. Т. Бейлиса
Карбаинов Александр Николаевич, в конце 80-х руководитель пресс-центра КГБ
Касимов Идрис (р.1935), строитель, активист крымско-татарского движения. В 1968 за участие в праздновании в г. Чирчик УзССР годовщины со дня рождения Ленина осужден на год лагерей
Каснянский, рижский психиатр, участник комиссии, обследовавшей И. А. Яхимовича
Катков, свидетель по делу А. Михайлова
Кашпировский Анатолий Михайлович (р.1939), психотерапевт, депутат ГД в 1993–1995
Келдыш Мстислав Всеволодович (1911–1978), математик, в 1951–1975 президент АН СССР
Кербиков Олег Васильевич (1907–1965), зав. кафедрой 2-го Московского медицинского ин-та
Кестлер Артур (1905–1983), писатель, философ, до 1937 коммунист. Автор произведений о коммунистическом терроре
Киблицкий Иосиф, художник-нонконформист
Кизелов Федор Федорович (р.1945), биохимик, участник правозащитного движения. В 1987 вынужден был эмигрировать
Ким Юлий Черсанович (р.1936), поэт, драматург, бард, участник правозащитного движения
Киров Сергей Миронович (1886–1934), сов. гос. и парт. деятель
Кирюшкина Александра Александровна, учитель внуков С.К.
Киселев Юрий Иванович (1932–1995), художник, инвалид 1-й группы, участник правозащитного движения, организатор Инициативной группы защиты прав инвалидов
Кобро Владимир Николаевич, адвокат, руководитель Московской областной коллегии адвокатов в 40-х
Ковалев Иван Сергеевич (р.1954), инженер-энергетик, участник правозащитного движения, член МХГ. В 1981–1987 в лагерях и ссылке. В 1987 эмигрировал. Сын С. А. Ковалева, муж Т. С. Осиповой
Ковалев Сергей Адамович (р.1930), биолог, один из лидеров правозащитного движения, член ИГ, редактор «Хроники». В 1974–1984 в лагере и ссылке. Депутат ВС России, ГД с 1990. Правозащитник
Коваль Бэла Хасановна (р.1939), лесовод, участница правозащитного движения
Коган Марк Иосифович (р.1922), адвокат, в конце 80-х член правления Союза адвокатов. Эмигрировал
Коган, главный психиатр Туркестанского военного округа в конце 60-х-начале 70-х
Козлов, свидетель по делу А. Михайлова
Комарова Конкордия Владимировна, знакомая С.К.
Комитет прав человека — действовавшая в 1970–1972 группа с формальным регламентом, ставившая целью «консультативное содействие органам государственной власти в области создания и применения гарантии прав человека». В работе Комитета участвовали А. С. Есенин-Вольпин, А. Д. Сахаров, А. Н. Твердохлебов, Б. И. Цукерман, В. А. Чалидзе
Кони Анатолий Федорович (1844–1927), адвокат и гос. деятель
Конин В. П., в 1987 начальник следственной части Прокуратуры г. Москвы
Константинов Сергей Сергеевич (1921–1995), адвокат
Кораблев В. П., адвокат, в 1981 защищал Г. О. Алтуняна
Коржавин Наум (р.1925), поэт, драматург, литературный критик, узник сталинских лагерей, автор «самиздата». В 1973 эмигрировал
Коркина Марья Васильевна, психиатр, заведующая кафедрой психиатрии в Ун-те дружбы народов
Короленко Владимир Галактионович (1853–1921), писатель, общественный деятель
Корчак Александр Алексеевич, астрофизик, член МХГ
Корягин Анатолий Иванович (р.1938), врач-психиатр из Харькова, с 1979 эксперт РК. В 1981–1987 в лагерях. В 1987 эмигрировал
Кошкин, свидетель по делу А. Михайлова
Крамаренко Глеб Борисович (1903–1937), историк, философ, профессор Ростовского ун-та; муж двоюродной сестры С.К., Л. А. Поповой. В 1935 репрессирован. Расстрелян
Красильникова Татьяна Георгиевна (р.1942), сотрудник Звенигородской станции ИФА
[П.И. Якир и В. А. Красин] Красин Виктор Александрович (р.1929), экономист, узник сталинских лагерей, член ИГ, один из лидеров правозащитного движения. Арестован в 1972, после покаяния приговорен к ссылке. В 1975, до окончания срока ссылки, эмигрировал. Вернулся в Россию в 1991
Красноямский, рижский психиатр, участник комиссии, обследовавшей И. А. Яхимовича
Кристи Ирина Григорьевна (р.1937), математик, участница правозащитного движения. В 1985 вынуждена была эмигрировать
Крупская Надежда Константиновна (1869–1939), сов. гос. и парт. деятель, жена В. И. Ленина
Кублановский Юрий Михайлович (р.1947), поэт, критик, эссеист, автор «самиздата». В 1983 эмигрировал. В 1991 вернулся в Россию
Кувакин Всеволод Дмитриевич (р.1942), юрист, участник правозащитного движения, член МХГ. В 1981–1987 в лагерях и ссылке
Кудрейко, друг фаворита Н. А. Щелокова
Кудрейко Анатолий (р.1907), поэт
Кузнецов Виктор Васильевич (р.1936), художник-график, сотрудник АПН, участник правозащитного движения. В 1966 и 1969–1971 содержался в ПБ
Кузнецов Дмитрий Юрьевич (р.1956), физик, канд. наук, внук С.К.
Кузнецов Сергей Юрьевич (р.1955), физик, канд. наук, внук С.К.
Кузнецов Эдуард Самуилович (р.1939), поэт. Готовил покушение на Н. С. Хрущева. В 1961–1968 в лагере. Активист еврейского движения за выезд из СССР, в 1970 с М. Дымшицем и др. готовил захват самолета и бегство из СССР. Приговорен к смертной казни, замененной на 15 лет лагерей. В 1979 вместе с А. Гинзбургом, М. Дымшицем и др. обменян на советских разведчиков
Кузнецова Наталья Евгеньевна, жена Г. Н. Владимова
Кузнецова Татьяна Георгиевна (р.1925), адвокат, защищала В. Я. Тарсиса
Купер Джеймс Фенимор (1789–1951), американский писатель
Куприн Александр Иванович (1870–1938), писатель
Курдюмов Георгий Вячеславович (р.1902), физик, академик, соученик С.К. по бывшей Шелеховской гимназии, Рыльск Курской губ.
Кустов Борис, режиссер Свердловской киностудии
Кутяков Иван Семенович (1897–1938), сов. военачальник, муж сестры С. К. Репрессирован
Кушев Евгений Игоревич (р.1947), поэт, участник правозащитного движения. За участие в демонстрациях протеста арестовывался в 1965 и 1966. В 1974 эмигрировал
Лавуазье Антуан Лоран (1743-94), французский химик
[А.П. Лавут] Лавут Александр Павлович (р.1929), математик, участник правозащитного движения, член ИГ, редактор «Хроники». В 1980–1986 в лагере и ссылке
Ланда Мальва Ноевна (р.1918), геолог, участница правозащитного движения, автор «самиздата», распорядитель Фонда помощи политзаключенным. В 1977–1978 и в 1980–1984 в ссылке
Лапенис Владас сын Антанаса (р.1906), экономист, органист, участник литовского национального движения. В 1976–1981 и в 1984–1987 в лагере и ссылке
Ларин, свидетель по делу А. Михайлова
Латышевы, купцы, Рыльск Курской губ.
Лашкова Вера Иосифовна (р.1944), участница правозащитного движения. В 1967–1968 в тюрьме. В 1983 административно выселена из Москвы
Лащивер Ася Абрамовна, в 80-х участница правозащитного движения
Левин Михаил Львович (1922–1992), физик, узник сталинских лагерей. Был близок к правозащитному движению
Левитин
Ленин Владимир Ильич (1870–1924)
Леонтович Михаил Александрович (1903–1981), физик-теоретик, академик. Был близок к правозащитному движению
Лернер Александр Яковлевич (р.1913), кибернетик, профессор. Отказник, активист еврейского движения за выезд из СССР
Лерт Раиса Борисовна (1906–1985), журналист, автор «самиздата», сотрудница журнала «Поиски»
Лисовская Нина Петровна (р.1917), биохимик, участница правозащитного движения, Фонда помощи политзаключенным
Лисовский Вадим Иванович, профессор Московского финансового ин-та, научный редактор учебника «Международное право» (М., 1970)
[М.Л. и П. М. Литвиновы] Литвинов Павел Михайлович (р.1940), физик, участник правозащитного движения, редактор «самиздатских» сборников. За участие в демонстрации 25 августа 1968 на Красной площади до 1973 в ссылке. В 1974 эмигрировал
Литвинова (урожд. Копелева) Майя Львовна
Литинский Леонид
Литке Зинаида Васильевна и Марта Васильевна, сестры, школьные учительницы С.К. в бывшей Шелеховской гимназии, Рыльск Курской губ.
Ломадзе Сергей Амерович (р.1936), сотрудник Звенигородской станции ИФА
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765), русский ученый, поэт
Лондон Артур (1915–1986), боец интербригад, участник Сопротивления, узник Маутхаузена. Зам. министра иностранных дел Чехословакии. Арестован по ложному обвинению, в тюрьме в 1951–1955. Автор мемуаров «Признание», распространявшихся в СССР в «самиздате» (опубликовано: Иностранная литература. 1989. 4)
Лотко $IЛотко. И., член Верховного суда Латв. ССР, в 1970 вел суд над И. А. Яхимовичем
Лоубер Гарри, член Королевского Колледжа психиатров, сотрудничал с диссидентами в сборе информации о психиатрических репрессиях
Лукашев, свидетель по делу А. Михайлова
Лунц Даниил Романович (ум.1977), психиатр, д-р мед. наук, заведовал отделением экспертизы в Ин-те им. Сербского. Один из самых исполнительных проводников политики КГБ, направленной на признание инакомыслящих душевнобольными
Лурье Юлий Александрович (р.1941), адвокат
Мавродин Владимир Васильевич (1911–1987), д-р ист. наук, профессор ЛГУ, крупнейший специалист по русскому средневековью. Одноклассник С. К. по бывшей Шелеховской гимназии, Рыльск Курской губ.
Майданник Лев Абрамович, юрист. Репрессирован в 30-х
Макаров Андрей Михайлович (р.1954), адвокат, депутат ГД с 1993
Максимов Владимир Емельянович (1932–1995), писатель, участник правозащитного движения. В 1974 вынужден был эмигрировать
Малаев Ахмет, активист крымско-татарского движения, был осужден
Малкин Анатолий (Натан) Владимирович (р.1954), активист еврейского движения за выезд из СССР. В 1975 осужден на 3 года лагерей. В 1979 эмигрировал
Мальцман Борис Самойлович, революционер, отец жены брата С.К.
Мальцман Татьяна Борисовна, юрист, жена брата С.К., Дмитрия
Маляров Михаил, в начале 70-х зам. Генерального прокурора СССР
Мандельштам Надежда Яковлевна (1899–1980), вдова О. Э. Мандельштама, автор мемуаров
Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938), поэт. Репрессирован, умер в лагере
Мартис, рижский психиатр, участник комиссии, обследовавшей И. А. Яхимовича
[Л.И. Богораз и А. Т. Марченко] Марченко Анатолий Тихонович (1938–1986), рабочий, писатель, участник правозащитного движения. В лагерях, тюрьмах и ссылке 1958–1959, 1960–1966, 1968–1971, 1975–1978, 1981–1986. Умер в тюрьме
Матицин, потерпевший по делу А. Михайлова
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930), поэт
Медведев, свидетель по делу А. Михайлова
Медведев Жорес Александрович (р.1925), биохимик, участник Великой Отечественной войны, автор «самиздата». В 1970 содержался в ПБ. В 1973 эмигрировал; его брат-близнец Медведев Рой Александрович (р.1925), историк, автор «самиздата», участник правозащитного движения. В 1989–1991 Народный депутат СССР, в 1990–1991 член ЦК КПСС
Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874–1940), режиссер. Репрессирован
Мейланов Вазиф Сиражудинович (р.1938), математик, автор «самиздата», в 1980 в Махачкале один вышел на площадь с плакатами в защиту Сахарова. Осужден на 7 лет лагерей
Мейман Наум Натанович (р.1911), математик, физик, участник правозащитного движения, член МХГ. В 1988 эмигрировал
«Мемориал» — Международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество. Возникло осенью 1987 как общественная инициатива по увековечению памяти жертв политических репрессий. В 1988–1991 одно из самых массовых демократических движений. В настоящее время конфедерация нескольких десятков региональных организаций, научно-исследовательских, просветительских и правозащитных центров в разных странах
Меркулов, подозреваемый по делу А. Михайлова
Мешко Оксана Яковлевна (1905–1990), узница сталинских лагерей, участница украинского национального движения. В 1980 осуждена на 5 лет ссылки
Микушевич Владимир, поэт, философ, знакомый С.К.
Милошевич Владимир Александрович, инженер-гидролог, участник правозащитного движения
Мильгром Ида Петровна, мать А. Б. Щаранского
Милютина Екатерина
Митрейкин Константин Никитич (1905–1934), поэт
Михайлов, подзащитный С.К., обвинялся в убийстве
Михалков Сергей Владимирович (р.1913), детский поэт
Михоэлс Соломон Михайлович (1890–1948), актер, режиссер. Убит сотрудниками госбезопасности
Мнюх Юрий Владимирович, физик, участник еврейского движения за выезд из СССР, член МХГ. В 1977 эмигрировал; Мнюх (урожд. Панфилова) Нелли — жена Ю. В. Мнюха
Модильяни Амедео (1884–1920), итальянский живописец
Мокринский Александр Дмитриевич, первый муж С.К.
Монахов Николай Андреевич (р.1935), адвокат
Морозов Георгий Васильевич, психиатр, д-р мед. наук, академик АМН, директор Ин-та им. Сербского Один из проводников политики КГБ, направленной на признание инакомыслящих душевнобольными
Морозов Николай Александрович (1854–1946), народоволец
Морозов Павлик (Павел Трофимович) (1918–1932), в ходе коллективизации донес на отца и был убит «кулаками». Культовая фигура сталинской эпохи
Москальков В. В., врач Сычевской специальной ПБ, свидетель на суде над А. П. Подрабинеком
«Московская трибуна» — общественное объединение либерольной интеллигенции, действовавшее в период перестройки; в его работе принимал участие А. Д. Сахаров
Московская Хельсинкская группа (МХГ) — «Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР», первая легальная неофициальная ассоциация правозащитников, созданная в мае 1976 Ю. Ф. Орловым и выпустившая до самороспуска (сентябрь 1982) 195 документов, в составлении многих из которых С.К. принимала активное участие. Группа преследовалась КГБ, большинство ее членов были арестованы или вынуждены эмигрировать; в разное время в нее входили Л. М. Алексеева, М. С. Бернштам, Е. Г. Боннэр, П. Г. Григоренко, И. С. Ковалев, А. А. Корчак, В. Д. Кувакин, Н. Н. Мейман, Ю. В. Мнюх, В. А. Некипелов, Т. С. Осипова, С. М. Поликанов, В. С. Слепак, А. Б. Щаранский, Ю. Н. Ярым-Агаев. Позже Хельсинкские группы возникли в республиках СССР. В Украинскую ХГ входили Н. Д. Руденко и А. И. Тихий
Мостинская Сима Борисовна (р.1928), математик, жена А. П. Лавута
Мстиславский Сергей Дмитриевич (1876–1943), писатель, эсер
Мурадели Вано Ильич (1908–1970), композитор
Мюге Сергей Георгиевич (р.1925), биолог, инвалид Великой Отечественной войны, узник сталинских лагерей, участник правозащитного движения. В 1973 вынужден был эмигрировать
Мясковский Николай Яковлевич (1881–1950), композитор
Набоков Владимир Владимирович (1899–1977), писатель, в эмиграции с 1919
Наджаров Рубен Александрович, заместитель директора Ин-та психиатрии АМН СССР
Назаров, член Московского областного суда
Наикина Любовь Александровна, понятая на обыске у М. А. Каллистратовой
Насина Наталья
Нашпиц Марк Хаимович (р.1948), врач, активист еврейского движения за выезд из СССР. В 1975–1979 в ссылке
Невзорова Тамара Александровна, проф. кафедры психиатрии 1-го Московского медицинского ин-та
Недоступ Александр Викторович, врач-кардиолог, помогал диссидентам
Некипелов Виктор Александрович (1928–1989), фармацевт, поэт, участник правозащитного движения, член МХГ. В лагере, тюрьме и ссылке в 1973–1975 и 1979–1987. В 1987 эмигрировал
Некипелова (Комарова) Нина Михайловна — фармацевт, жена В. А. Некипелова
Некрасов Виктор Платонович (1911–1987), писатель, участник Великой Отечественной войны. Был близок к правозащитному движению. В 1974 эмигрировал
Немирович- Данченко Владимир Иванович (1858–1943), режиссер и организатор театра
Новодворская Валерия Ильинична (р.1950), участница правозащитного движения. Неоднократно арестовывалась, в 1971 и 1978 содержалась в ПБ
Норштейн Юрий Борисович (р.1941), режиссер-мультипликатор
Обухов Александр Михайлович (1921–1989), академик, директор Институт физики атмосферы АН СССР
Овалов
Огурцов Вячеслав Васильевич, отец И. В. Огурцова
Огурцов Игорь Вячеславович (р.1937), филолог-востоковед, лидер ВСХСОН. В 1967–1987 в тюрьмах, лагерях и ссылке. В 1987 эмигрировал
Огурцова (Деревенскова) Евгения Михайловна, мать И. В. Огурцова
Окуджава Булат Шалвович (1924–1997), поэт, писатель, автор и исполнитель песен
Определенная Т.Г., мать клиента С.К., автор ложного доноса на С.К.
Орлов
[Ю.Ф. Орлов] Орлов Юрий Федорович (р.1924), физик-теоретик, д-р наук, чл. — корр. АН Арм. ССР. Один из лидеров правозащитного движения, организатор МХГ. В 1977 осужден на 7 лет лагеря и 5 лет ссылки. В 1986 выслан из СССР
Орловский Эрнст Семенович (р.1928), математик, участник правозащитного движения
Осипова Татьяна Семеновна (р.1949), инженер-программист, участница правозащитного движения, член МХГ. В 1980–1986 в лагерях. В 1987 эмигрировала. Жена И. С. Ковалева
Остапец, в начале XX в. управляющий имением князей Барятинских в Рыльском уезде Курской губ.
Островский Александр Николаевич (1823–1886), драматург
Павленков Владлен Константинович (1929–1991), историк, автор «самиздата», руководитель подпольного кружка. В 1969–1976 в лагере. В 1979 эмигрировал; Павленкова (урожд. Панкратова) Светлана Борисовна, жена В. К. Павленкова.
Павлов Владимир Яковлевич (р.1923), с 1962 секретарь, в 1965–1971 2-й секретарь МГК КПСС
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960), поэт, писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958). В СССР его роман «Доктор Живаго» распространялся в «самиздате»
Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968), писатель
Пахмутов А. Н., в 1990 прокурор Управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности, ст. советник юстиции
Пахомова Татьяна, няня внуков С.К.
Петр I (1672–1725), царь
Петренко — Подъяпольская Мария Гавриловна, геолог, участница правозащитного движения. В 1988 эмигрировала
Петрова, свидетель по делу А. Михайлова
Печуро Евгения Эммануиловна, историк, ветеран Великой Отечественной войны, участница правозащитного движения
Пильщикова Татьяна Григорьевна, классный руководитель внука С.К.
Пименов Револьт Иванович (1931–1990), д-р физ. — мат. наук, организатор подпольной группы, автор «самиздата», участник правозащитного движения. В тюрьмах, лагерях и ссылке в 1957–1963, 1970–1974. Депутат ВС России (1990).
Писаренко, пред. на суде над И. Я. Габаем
Платонов Андрей Платонович (1899–1951), писатель
Плевако Федор Никифорович (1842–1908/09), юрист, адвокат
Плиссонье Гастон, секретарь французской компартии, руководитель делегации на XXVI съезде КПСС
Плющ Леонид Иванович (р.1939), математик, участник правозащитного движения, автор «самиздата», член ИГ. В 1972–1976 содержался в ПБ. В 1976 эмигрировал
Подгорный Николай Викторович (1903–1983), сов. гос. и парт. деятель, пред. Президиума ВС СССР (1965–1977)
Подрабинек Александр Пинхосович (р.1953), фельдшер, организатор РК, автор книги «Карательная медицина». В 1978–1983 в ссылках и лагерях. С 1987 главный редактор газеты «Экспресс-Хроника». Сын П. А. Подрабинека, брат К. П. Подрабинека
Подрабинек Кирилл Пинхосович (р.1952), преследовался КГБ с целью давления на брата (А. П. Подрабинека). В 1977–1983 в лагерях и тюрьмах. Занимается правозащитной деятельностью. Сын П. А. Подрабинека, брат А. П. Подрабинека
Подрабинек Пинхос Абрамович (р.1918), канд. мед. наук, узник сталинских лагерей, участник правозащитного движения. Отец А. П. и К. П. Подрабинеков
Подъяпольский Григорий Сергеевич (1926–1976), геофизик, поэт, участник правозащитного движения, член ИГ
Поздеев Юрий Борисович (1930–1994), адвокат, защищал диссидентов
«Поиски» («Свободный московский журнал»), 8 номеров которого вышли в «самиздате» в 1978–1980, Состав редакции был объявлен, в выпуске журнала участвовали В. Ф. Абрамкин, В. Л. Гершуни, П. М. Егидес, Р. Б. Лерт, В. В. Сокирко, В. М. Сорокин. Выпуск был прекращен в связи с репрессиями против редакции
«Поиски и размышления», публицистический журнал, 8 номеров которого вышли в «самиздате» в 1980–1981. Анонимная редакция нового журнала считала его преемником «Поисков», нумеруя выпуски двойной нумерацией с 1(9), до 8 (16).
Покровский Дмитрий, в 70-х организатор фольклорного ансамбля
Поликанов Сергей Михайлович (р.1926), физик, чл. — корр. АН СССР, «отказник». После заявления о желании эмигрировать (1977) исключен из КПСС. Вступил в МХГ. В 1978 эмигрировал; Поликанова Александра Ивановна, жена С. М. Поликанова; Поликанова Екатерина Сергееевна, дочь С.М. и А. И. Поликановых
Померанц Григорий Соломонович (р.1918 г.), филолог, культуролог, участник Великой Отечественной войны, узник сталинских лагерей. Автор ряда книг и статей, распространявшихся в «самиздате»
Пономарев Г. В., в конце 70-х-начале 80-х следователь по ОВД Московской городской прокуратуры. Вел дела диссидентов, в частности В. И. Бахмина, Л. Б. Терновского; проводил обыски у Т. М. Великановой, И. М. Каплун, В. В. Сокирко; допрашивал Ю. А. Гастева, И. В. Гривнину, Ю. Ф. Орлова, Т. С. Осипову, М. Г. Петренко-Подъяпольскую, А. Я. Романову, Ф. А. Сереброва, Т. С. Ходорович
Попов Леонид Максимович, в 60-х заведующий юридической консультацией
Попова Лидия Александровна (р.1903), хирург, участница Великой Отечественной войны, двоюродная сестра С.К.
Прибытков Лев С., правозащитник
Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953), композитор
Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях при МХГ (РК), была образована в 1977, собирала и предавала гласности сведения о психиатрических репрессиях, осуществляла независимую экспертизу. В РК работали В. И. Бахмин, И. В. Гривнина, А. И. Корягин, А. П. Подрабинек, Ф. А. Серебров, Л. Б. Терновский и другие. Они были подвергнуты репрессиям, в 1981 деятельность РК прекратилась
Радченко, заключенный, умерший в Казанской специальной ПБ
Рапопорт Виталий
Рапопорт Сусанна Ильинична (1910–1970), психиатр, жена В. И. Финкельштейна, знакомая С.К.
Расинов Юсуф (р.1908), пенсионер, активист крымско-татарского движения, в 1968 осужден условно
Рахлин Л. П., психиатр, профессор, участник комиссии, обследовавшей П. Г. Григоренко
Резникова Елена Анисимовна (р.1923), адвокат, защищала диссидентов, в том числе Е. Г. Боннэр А. И. Гинзбурга, А. П. Лавута, М. Х. Нашпица, Ф. А. Сереброва, Л. Б. Терновского, Ю. А. Шихановича
Рекунков Александр Михайлович (р.1920), с 1981 первый зам. Генерального прокурора, с 1988 Генеральный прокурор СССР
Ривкин Михаил Германович (р.1954), инженер-нефтяник, участвовал в подпольной группе. В 1982–1989 в лагере и тюрьме. Эмигрировал
Рихтер Елена Николаевна (?-1957), мать Т. Рихтер
Рихтер Тамара, соседка С.К., репрессирована в 30-х
Романов Пантелеймон Сергеевич (1884–1938), писатель
Романова, судья Ташкентского горсуда, вела суд над П. Г. Григоренко
Романова Августа Яковлевна, математик, участница правозащитного движения
Ромм Владимир Борисович (р.1934), адвокат, защищал крымских татар. В 90-х эмигрировал
Ротштейн Григорий Абрамович, д-р мед. наук, зам. директора Ин-та психиатрии министерства здравоохранения СССР
Роше Вальдек (1905–1983), французский коммунист, в 1964–1972 Генеральный секретарь ФКП
Рубин Виталий Аронович (1923–1981), синолог, участник Великой Отечественной войны, узник сталинских лагерей. «Отказник», участник правозащитного движения. В 1976 эмигрировал
Руденко Микола (Николай) Данилович (р.1920), украинский поэт, писатель, инвалид Великой Отечественной войны. Автор «самиздата», участник правозащитного движения. В 1977–1987 в лагере и ссылке. Муж Р. А. Руденко
Руденко Раиса Афанасьевна (р.1939), участница правозащитного движения. В 1981–1987 в лагере и ссылке. Жена Н. Д. Руденко
Руденко Роман Андреевич (1907–1981), Генеральный прокурор СССР с 1953
Русинов, рижский психиатр, участник комиссии, обследовавшей И. А. Яхимовича
Салетдинов Халил (р.1910), инженер, активист крымско-татарского движения, в 1968 за участие в праздновании в г. Чирчик УзССР годовщины со дня рождения Ленина осужден на 2 года лагерей
Самсонова Тамара Васильевна (р.1927), философ, сотрудничала в журнале «Поиски». В 1980 эмигрировала. Жена П. М. Егидеса
Санина А. С., адресат письма И. В. Сталина
Санникова Елена Никитична (р.1959), участница правозащитного движения. В 1984–1987 в лагере и ссылке
Сарри Юрий Яковлевич (1917–1985), адвокат, защищал диссидентов, в частности П. М. Егидеса
Сартр Жан-Поль (1905–1980), французский писатель, философ-экзистенциалист
Сафонов Николай Степанович (р.1937), адвокат, защищал крымских татар. Уволен из адвокатуры
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989), физик, академик, трижды Герой соц. труда, лауреат Нобелевской премии мира (1975). Один из лидеров правозащитного движения. В 1980–1986 в ссылке. Депутат ВС СССР (1989)
Светов Феликс Григорьевич (р.1927), писатель, критик, участник правозащитного движения. В 1985–1987 в лагере
Свитлычна (Светличная) Надия (Надежда) Алексеевна (р.1936), филолог, участница правозащитного движения. В 1972–1976 в лагере. В 1978 эмигрировала
Святослав Ольгович — племянник Игоря Святославича, первый рыльский князь
Севдияр Мехмет
Сейтаблаев Шевкет (р.1941), прораб, активист крымско-татарского движения. В 1968–1969 в лагерях
Сейтмеров Сейтабла (р.1938), шофер, активист крымско-татарского движения. Арестован в 1968, на суде с участием С.К. была доказана ложность обвинений, оправдан
Семенова Тамара Петровна, в 80-х главврач московской поликлиники 118
Сергеев, член Ташкентского областного суда, участвовал в суде над крымскими татарами
Сергеева, свидетель по делу А. Михайлова
Серебров Феликс Аркадьевич (р.1930), узник сталинских лагерей, участник правозащитного движения, член РК. В 1981–1987 в лагерях и ссылке
Сеферов Ридван (р.1935), служащий, активист крымско-татарского движения, в 1968 за участие в праздновании годовщины со дня рождения Ленина в г. Чирчик Уз. ССР осужден на 2,5 года лагерей
Симонов Константин Михайлович (1915–1970), писатель
Синявский Андрей Донатович (псевдоним Абрам Терц) (1925–1997), писатель и литературовед. За публикацию своих произведений на Западе в 1965–1971 в лагерях. В 1973 вынужден был эмигрировать
Склярский Исаак Израилевич (1919–1982), в 70-х заместитель председателя Московской городской коллегии адвокатов
Слепак Владимир Семенович (р.1927), радиоинженер, активист еврейского движения за выезд из СССР, «отказник», член МХГ. В 1978–1983 в ссылке. Эмигрировал
Смирнов Алексей Олегович (р.1951), инженер, участник правозащитного движения. В 1982–1987 в лагерях и тюрьме. В настоящее время занимается правозащитной деятельностью
Смирнов Ю. А., в конце 80-х заместитель прокурора г. Москвы
Смушкевич Борис Исаевич (р.1948), программист, участник правозащитного движения, редактор «Хроники»
Снежневский Андрей Владимирович (1904–1987), психиатр, с 1961 директор Ин-та психиатрии АМН СССР, глава медицинской школы, разработавшей теорию вялотекущей шизофрении, на основе которой многие инакомыслящие были признаны душевнобольными и насильственно госпитализированы
Сокирко Виктор Владимирович (р.1939), инженер-экономист, автор «самиздата», член редколлегии журнала «Поиски». Арестовывался в 1980. В настоящее время занимается правозащитной деятельностью
Солдатовы $IСолдатовы Л. и С… и С.: Солдатов Сергей Иванович (р.1933), инженер, автор «самиздата», организатор таллинской подпольной группы «Демократическое движение Эстонии». В 1975–1981 в лагерях. В 1981 эмигрировал; Грюнберг-Рославцева Людмила Ильинична, жена С. И. Солдатова
[А.И. Солженицын] Солженицын Александр Исаевич (р.1918), писатель, узник сталинских лагерей, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). В 1974 выслан из СССР. Основатель Фонда помощи политзаключенным. Вернулся в Россию в 1994
Сорокин Виктор Михайлович (р.1941), преп., автор «самиздата», сотрудничал в журнале «Поиски». В 1980–1981 в лагере. В 1982 эмигрировал
Сорокина Сеитхан (Соня) Юсуповна (р.1939), участница правозащитного движения. В 1982 эмигрировала, работает в газете «Русская мысль». Жена В. М. Сорокина.
Сорос Джордж (р.1930), американский мультимиллионер, в 1979 основал Фонд, через который ведет широкую благотворительную программу. С конца 80-х Фонд Сороса действует в России
Софиева Имма Эльханоновна, врач, знакомая С.К.
Спасович Владимир Данилович (1829–1906), адвокат, защитник на 13 политических процессах; современники называли его «королем адвокатуры». Автор «Учебника уголовного права» (СПб., 1863), впоследствии запрещенного
Сталин Иосиф Виссарионович (1878–1953)
Степанова Алла Ивановна (р.1940), режиссер, художественный руководитель Московской международной киношколы, жена А. М. Томашпольского
Стивенсон Роберт Льюис (1859–1894), английский писатель
Стус Василий (Василь) Семенович (1938–1985), украинский поэт, критик, публицист, участник правозащитного движения. В 1972–1979 и в 1980–1985 в лагерях. Умер в лагере
Тарасова Ксения, ученица бывшей Шелеховской гимназии, Рыльск Курской губ., заслуженная артистка РСФСР
Тарковский Арсений Александрович (1907–1989), поэт
Тарсис Валерий Яковлевич (1906–1983), писатель, переводчик, участник Великой Отечественной войны. За публикацию своих произведений на Западе в 1962–1963 содержался в ПБ. В 1966 эмигрировал
Твердохлебов Андрей Николаевич (р.1940), физик, основатель Комитета прав человека, секретарь Советской секции «Международной амнистии». В 1975–1980 в ссылке. В 1980 эмигрировал
Темкин Александр Яковлевич (р.1930), физик, «отказник»; Темкина Марина Александровна, дочь А. Я. Темкина
Терновская Людмила Николаевна (р.1931), врач, жена Л. Б. Терновского
Терновская Ольга Леонардовна (р.1960), медик, дочь Л.Б. и Л. А. Терновских
Терновский Леонард Борисович (р.1933), врач, участник правозащитного движения, член РК. В 1980–1983 в лагере
Тиме Сергей Александрович (1904–1981), инженер-железнодорожник, отец сотрудницы М. А. Калистратовой
Тимонов Михаил Иванович, директор бывшей Шелеховской гимназии, Рыльск Курской губ.
Тимофеев Николай Николаевич, д-р. мед. наук, генерал мед. службы, главный психиатр Советской Армии в 60-х-70-х
Титов, следователь Московской городской прокуратуры, вел дела диссидентов, в частности проводил обыски у М. Г. Петренко-Подъяпольской и Ю. А. Шихановича
[О.Тихий] Тихий Олекса (Алексей) Иванович (1927–1984), учитель, участник правозащитного движения. В 1957–1964 и с 1977 в лагерях. Умер в лагере
Ткачевский Юрий Михайлович, д-р. юр. наук, автор учебника «Советское исправительно-трудовое право» (М., 1971)
Толкиен Джон Рональд Руэл (1892–1973), английский филолог, писатель
Толконников Г.
Толстой Алексей Константинович (1817–1875), писатель
Тольц Владимир Соломонович (р.1944), историк, участник правозащитного движения. В 1982 вынужден был эмигрировать
Томашпольский Анатолий Миронович (р.1936) инженер, муж А. И. Степановой
«Трибуна общественного мнения у Никитских ворот», дискуссионный клуб интеллигенции, организованный М. В. Уздиной в период перестройки при Центральном доме медиков
Трусова Татьяна Николаевна (р.1939), филолог, педагог, участница правозащитного движения. В 1983–1986 в ссылке
Турчин Валентин Федорович (р.1931), математик, кибернетик, участник правозащитного движения, автор «самиздата», председатель Советский секции «Международной амнистии». В 1977 эмигрировал
Турчина Татьяна Ивановна (р.1932), инженер, жена В. Ф. Турчина
Тюренн Анри де ла Тур д? Овернь (1611–1675), полководец, маршал Франции
Уздина Майя Владимировна, руководила клубом «Трибуна общественного мнения» при Центральном доме медиков
Ульянов, свидетель по делу А. Михайлова
Умаров Люман, активист крымско-татарского движения. В 1968–1969 в лагере
Урусов Александр Иванович (1843–1900), адвокат, литературный и театральный критик. Защитник на первом главном политическом процессе (нечаевцев), за связь с которыми выслан на 4 года
Усманова, народный заседатель на суде над И. Я. Габаем и М. Джемилевым
Файнберг Виктор Исаакович (р.1931), участник демонстрации на Красной площади 25 августа 1968. В 1968–1973 содержался в ПБ. В 1974 эмигрировал
Федоров, свидетель по делу А. Михайлова
Федоров М. М., в 70-х главврач Сычевской специальной ПБ
Филимоновы, купцы 1-й гильдии, Рыльск Курской губ., строители церковных зданий
Финкельштейн Владимир Исакович (1910–1970), психиатр, заведующий психдиспансером N 11, муж С. И. Раппопорт, знакомый С.К.
Флажолет Франсуаза, французская коммунистка, участница Сопротивления, знакомая Ш. Фрешара
Фонд помощи политзаключенным, был основан в 1974 А. И. Солженицыным и по сути легализовал работу, составлявшую основное содержание правозащитного движения с середины 60-х. Официальными распорядителями Фонда были А. И. Гинзбург, М. Н. Ланда, Т. С. Ходорович, К. А. Любарский, С. Д. Ходорович и другие. Фонд был разгромлен КГБ в 1983, но помощь политзаключенным продолжалась
Фрейдин Юрий Львович (р.1942), психиатр, участник правозащитного движения, знакомый С.К.
Фрешар Шарль (1898–1981), французский коммунист (партийный псевдоним Альбер Александр), участник Сопротивления, узник Дахау. Муж С.К.
Фридлянд Ида Григорьевна (р.1919), жена И. А. Чердынцева
Фушберг Я. Д., американский юрист
Харитонов Марк Сергеевич (р.1937), прозаик
Хармс Даниил Иванович (1905–1942), поэт, прозаик-абсурдист. В 1941 репрессирован. Умер в заключении
Хаустов Виктор Александрович (р.1938), поэт, рабочий, участник демонстрации в защиту А. И. Гинзбурга. В лагерях в 1967–1970, 1973–1977. В настоящее время священник в Иркутске
Хемингуэй Эрнст Миллер (1889–1961), американский писатель
Ходорович Сергей Дмитриевич (р.1940), инженер-программист, распорядитель Фонда помощи политзаключенным в 1977–1983. В 1983–1987 в лагере в Норильске. В 1987 эмигрировал. Двоюродный брат Т. С. Ходорович
Ходорович Татьяна Сергеевна (р.1921), лингвист-диалектолог, участница правозащитного движения, член ИГ, автор «самиздата», распорядитель Фонда помощи политзаключенным. В 1977 эмигрировала. Двоюродная сестра С. Д. Ходоровича
Хромых Татьяна Сергеевна (р.1909), школьная подруга С.К.
Хроника текущих событий («Хроника»), — выпускавшийся в 1968–1983 подпольный правозащитный информационный бюллетень. Всего вышло 64 номера. Все 15 лет КГБ преследовал издателей «Хроники», и состав редакции часто менялся. Редактировали бюллетень в разное время Н. Е. Горбаневская, С. А. Ковалев, А. П. Лавут, Е. М. Сморгунова, Б. И. Смушкевич, Т. М. Великанова, Ю. А. Шиханович, А. А. Якобсон и другие. Публикации: вып.1-27 Фонд им. Чехова, Амстердам, 1979; вып.28–59 и 60–64 изд. Хроника, Нью-Йорк, 1974–1983; вып.65 не издавался.
Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971), сов. гос. и парт. деятель
Царапкин, представитель СССР в ООН в 40-х
Цветаева Марина Ивановна (1894–1941), русская поэтесса
Цукерман Борис Иосифович, физик, инженер, участник правозащитного движения. В 1971 эмигрировал
Чаковский Александр Борисович (р.1913), писатель, с 1962 главный редактор «Литературной газеты»
Чалидзе Валерий Николаевич (р.1938), физик, автор «самиздата», инициатор создания Комитета прав человека. В 1972 эмигрировал. Возглавлял издательство «Хроника» (Нью-Йорк)
Чапаев Василий Иванович (1887–1919), герой гражданской войны, командир 25-й стрелковой дивизии Красной Армии
Чердынцев (Курганский) Иван Алексеевич (1938–1993), учитель, участник «Демократического союза социалистов». В 1964–1973 в лагере
Черненко Константин Устинович (1911–1984), сов. парт. и гос. деятель, в 1984–1985 Генеральный секретарь ЦК КПСС
Чернухин, зам. председателя Харьковского областного суда; вел суды над Г. О. Алтуняном в 1969 и 1981
Черный Саша (1880–1932), поэт, в 1920 эмигрировал
Черных Борис Иванович (р.1937), юрист, писатель, журналист, автор «самиздата», организатор независимого литературного семинара «Товарищество» в Иркутске. В 1982–1987 в лагере
Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель
Чуковская Лидия Корнеевна (1907–1996), редактор, писатель и публицист, участница правозащитного движения, автор «самиздата». В 1974 исключена из Союза писателей. Дочь К. И. Чуковского
Чуковский Корней Иванович (1882–1969), писатель, литературовед
Чхиквадзе Виктор Михайлович, юрист, чл. — корр. АН СССР, проф. Ин-та государства и права, руководитель редакции издания: Курс международного права: 6 т./Под ред. В. И. Кожевникова и др. М.,1967
Шальман Евгений Самойлович (р.1929), адвокат, защищал Ю. Ф. Орлова, А. П. Подрабинека
Шапиро Габриэль Яковлевич, инженер, активист еврейского движения за выезд из СССР. В 1973 эмигрировал
Шапорин Юрий Александрович (1887–1966), композитор
Швейский Владимир Яковлевич (1919–1982), адвокат, защищал диссидентов, в том числе А. А. Добровольского, А. А. Амальрика, В. К. Буковского, В. А. Красина, М. Джемилева, Т. С. Осипову, В. Д. Кувакина, И. С. Ковалева
Шебалин Виссарион Яковлевич (1902–1963), композитор
Шебалин Николай Виссарионович (1927–1996), физик, друг дома С. К. Сын В. Я. Шебалина
Шекспир Уильям (1564–1616?), английский драматург
Шелехов Григорий Иванович (1747–1795), мореплаватель
Шелеховы, купцы гостинной сотни, Рыльск Курской губ.
Шелков Владимир Андреевич (1895–1980), глава церкви адвентистов 7-го дня с 1949. В 1931–1954, 1957–1967 в лагере. Находился на нелегальном положении. В 1978 арестован. Умер в лагере
Широков Юрий Михайлович (1925–1980), физик, муж М. А. Каллистратовой
Широкова Галина Юрьевна (р.1971), физик, внучка С.К.
Шиханович Юрий Александрович (р.1933), математик, редактор «Хроники». В 1972–1974 содержался в ПБ, в 1983–1987 в лагере. В настоящее время преп. математики
Шихановичи $IШихановичиля и Катя: Плюснина Алевтина Петровна (р.1932), математик, жена Ю. А. Шихановича; Шиханович Екатерина Юрьевна (р.1956), педагог, дочь Ю. А. Шихановича и А. П. Плюсниной. В настоящее время сотрудница Архива А. Д. Сахарова
Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975), композитор
Штейн Вероника и Юрий: Штейн Юрий Генрихович (р.1926) кинорежиссер, участник правозащитного движения, член Инициативной группы. Эмигрировал в 1972; Штейн Вероника, жена Ю. Г. Штейна
Штеренберг Эрих Яковлевич, психиатр, руководитель отделения геронтопсихиатрии Ин-та психиатрии АМН СССР
Шуберт Франц (1797–1828), австрийский композитор
Щаранский Анатолий (Натан) Борисович (р.1948), физик. Активист еврейского движения за выезд из СССР, член МХГ. В 1977–1986 в тюрьмах и лагерях. В 1986 выслан из СССР
Щедрин
Щелоков Николай Анисимович (1910–1984), с 1966 министр охраны общественного порядка, внутренних дел СССР
Щерба Лев Владимирович (1880–1944), лингвист, академик
Эйнштейн Альберт (1879–1955), физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии (1921)
«Экспресс- Хроника», — выходящий с 1987 года еженедельник, основанный в группой участников правозащитного движения во главе с А. П. Подрабинеком
Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967), писатель, общественный деятель
Якир Ирина Петровна (р.1948), историк, участница правозащитного движения. Дочь П. И. Якира, жена Ю. Ч. Кима
[П. И. Якир и В. А. Красин] Якир Петр Ионович (1923–1982), историк, узник сталинских лагерей, член ИГ, один из лидеров правозащитного движения. В 1972 арестован, в 1973 вместе с В. А. Красиным на суде покаялся, помилован
[А. А. Якобсон] Якобсон Анатолий Александрович (1935–1978), поэт-переводчик, литературовед, преподаватель литературы, автор «самиздата», член ИГ, редактор «Хроники». В 1973 вынужден был эмигрировать
Яковенко Людмила Георгиевна (р.1918), одна из руководителей Московской городской коллегии адвокатов
Яковлев Николай Николаевич (р.1927), советский историк-публицист, автор более двадцати «контрпропагандистских» книг, в частности «ЦРУ против СССР»
Яковлев Сергей Николаевич, журналист, издатель
Якубенко
Якунин Глеб Павлович (о. Глеб) (р.1934), священник, участник правозащитного движения, основатель Христианского комитета защиты прав верующих в СССР. В 1979–1987 в лагере и ссылке. Депутат ВС России, ГД (1990–1995). Отлучен от церкви (1997)
Ярым-Агаев Юрий Николаевич (р.1948), физико-химик, участник правозащитного движения, член МХГ. В 1980 вынужден был эмигрировать
Ясипович Я. Г., рус. юрист
Ястреба Евгения Николаевна, свидетель на суде над участниками демонстрации 25 августа 1968
[И.А. Яхимович] Яхимович Иван Антонович (р.1931), председатель колхоза в Латвии, участник правозащитного движения, подзащитный С.К. В 1969–1971 содержался в ПБ

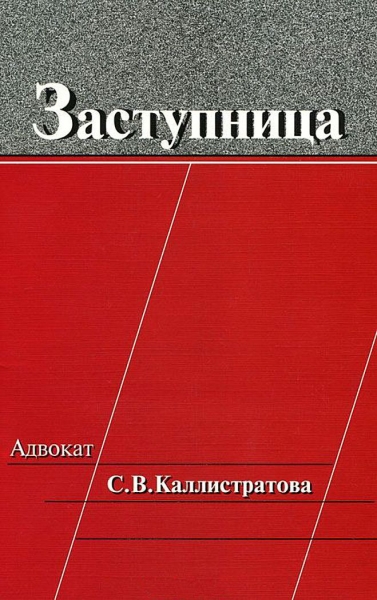




Комментарии к книге «Заступница: Адвокат С. В. Каллистратова», Коллектив авторов
Всего 0 комментариев