Эрвин Бартман Тяжелые бои на Восточном фронте. Воспоминания ветерана элитной немецкой дивизии. 1939– 1945
Erwin Bartmann
Für volk and Führer
Серия «За линией фронта. Мемуары» выпускается с 2002 года
Разработка серийного оформления художника И.А. Озерова
Введение
Меня зовут Эрвин Вальтер Бартман. Мои родители поженились 14 февраля 1914 года, и этот союз произвел на свет четырех сыновей. Трагедия впервые пришла в их жизнь, когда их первенец, Хуберт, умер от легочной инфекции. Мой брат Хорст родился летом 1920 года, за ним – малютка Гейнц, который в возрасте полутора лет также умер и был похоронен рядом с Хубертом на кладбище Вальдфридхоф в Шлохау[1]. Как самый младший из братьев, я знаю Гейнца и Хуберта лишь по фотографиям и из грустных воспоминаний матери.
Из Шлохау мы в 1927 году переехали в Берлин, где мои родители сняли комнату у одной еврейской семьи. Затем отец, который по состоянию здоровья оставил почтовую службу, задумал открыть овощную лавку. Мы поселились в крошечной квартире на Либихштрассе, где он устроил магазин. Каждое утро на скрипучей тележке он возил продукты с рынка на Александерплац, а мать продавала их в киоске на обочине. Бизнес этот, однако, потерпел крах, и отец оставил мечту стать предпринимателем. Чтобы как-то сводить концы с концами, он устроился на работу в бакалейный магазин на Лихтенбергерштрассе и точно так же, как и в ту пору, когда пытался наладить собственное дело, каждый день рано утром отправлялся на тот же самый рынок на Александерплац, чтобы загрузить тележку овощами и фруктами. В конечном счете ему, однако, удалось сэкономить достаточно денег, чтобы снять двухкомнатную квартиру по адресу Штраусбергерштрассе, 38, в районе Берлина Фридрихехайн, да к тому же чуть ближе к центру города. В нашу новую квартиру вела железная лестница с потертыми перилами. Туалет находился рядом с лестничной клеткой, и его приходилось делить с тремя другими семьями, в том числе и с еврейской семьей, проживавшей по соседству на той же площадке. В этой семье было две девочки, одна моего возраста, другая – несколько старше. К концу 1929 года отец потерял работу. Чтобы поддержать скудный семейный доход, моя мать, по профессии швея, шила блузки для зажиточных дам и убирала на лестнице. Это давало возможность немного сократить арендную плату.
Я ходил в местную фольксшуле[2], которая была расположена на противоположной стороне улицы. С самого начала моей учебы там герр Верт, директор школы, был еще и моим учителем в классе. Это был маленький человек, искренне влюбленный в музыку. Он рассказывал нам о своей детской мечте стать музыкантом и всячески призывал не повторять его ошибки. «Всегда следуйте за своей мечтой», – советовал он. Он был всегда бодр и весел и стремился помогать ученикам. Эти его качества не могли не вызывать должного уважения. Во время его частого отсутствия, вызванного необходимостью выполнять официальные обязанности в кабинете директора, дисциплина в классе поддерживалась волонтерами из числа тетушек или матерей учеников, а также угрозой телесных наказаний для любого мальчика, который переступит границы приемлемого поведения.
Вскоре после моего девятого дня рождения к власти в стране пришел Гитлер. Став подростком, я с восхищением наблюдал за отрядом личной охраны фюрера, «Лейбштандартом»[3], на улицах Берлина. В черных мундирах и сверкающих касках их ровные шеренги гордо чеканили шаг, – и мое детское сердечко готово было выскочить из груди от радостного волнения.
На улицах и в прессе голос немецкого народа звенел оптимизмом. Все вокруг были счастливы и жили радостными ожиданиями. Мой мир наполняло все возрастающее ощущение уверенности, и мне казалось, что у нас все хорошо и что каждый человек, в том числе и я, очень дороги своей стране. Для молодого жителя Берлина – еще слишком юного, чтобы проявить интерес к политике, – что могло быть более благородным, нежели стремление присоединиться к элитному формированию «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»? То, что положение отнюдь не было столь идиллическим, как казалось на первый взгляд, мне еще предстояло узнать…
Это отнюдь не рассказ о механизмах войны или о крупных стратегических маневрах. Это моя собственная история – воспоминания юности и о том времени, когда я служил в дивизии «Лейбштандарт». События, которые я описываю, являются переживаниями обычного солдата. С гордостью, во многом, наверное, наивной, я принес присягу Гитлеру и поклялся «быть преданным до самой смерти».
Большинства тех, о ком я здесь пишу, уже давно нет на свете; это товарищи по оружию, которые не раз спасали меня от гибели, это офицеры, завоевавшие преданность своих подчиненных, а также признание горожан и крестьян тех земель, которые мы заняли в борьбе против большевизма. В весьма редких случаях я брал на себя смелость изменить имя, дабы не раскрывать личность того или иного человека. Читателю также следует принять во внимание, что даты, которые я привожу для конкретных эпизодов во время моего пребывания на Восточном фронте, если они не касаются некоторых сугубо личных событий, таких как день рождения, или какая-либо годовщина, или кульминационная дата в календаре, зачастую весьма приблизительны либо взяты из опубликованных источников, таких как серия Рудольфа Лемана «Лейбштандарт». Обычному солдату из «Лейбштандарта» не разрешалось вести дневник, который противник мог бы использовать ради получения полезных разведсведений. Кроме того, ведение подобных записей вполне могло навлечь подозрения в шпионаже.
В возрасте 88 лет я, если перефразировать известную песню, нахожусь у дверей на небеса. Мне нет никакой надобности искажать правду. Этим я ничего для себя не добьюсь. Моя цель проста: правдиво рассказать читателю о жизни мальчика, который впоследствии стал солдатом элитной дивизии Гитлера «Лейбштандарт СС».
Глава 1 Дневник идеологической обработки
Суббота, 1 марта 1930 года
В воздухе висел холодный туман, но даже самая мерзкая погода не могла остановить моего отца. Он торопился.
– Мы ведь идем в парк, папочка? – спросил я, иногда переходя на бег, чтобы успевать за отцом.
– Не сегодня, Эрвин. Мне нужно кое-что тебе показать.
Дважды свернув налево, мы вышли к Лихтенбергерштрассе и остановились неподалеку от двери пивной.
– Смотри, – наклонившись поближе ко мне и почти прижав губы к моему уху, сказал отец, – здесь Хорст Вессель проводил политические митинги, здесь собирались его штурмовики!
– А кто такой Хорст Вессель?
– Герой немецкого народа, Эрвин, национал-социалист. Молодой человек, который, как и Иисус, отдал все ради своих убеждений, пока одна коммунистическая свинья не постучалась к нему в дверь и не застрелила его.
Мы продолжили путь к центру Берлина, влившись в мощный поток людей, направляющийся к Бюловплац. Кто-то напевал коммунистический гимн – Интернационал.
– Красивая мелодия, папочка!
– В коммунизме нет ничего красивого, сынок.
Мы вышли на Бюловплац и увидели здание Коммунистической партии, а на нем – лозунги, написанные огромными буквами. Вскоре пение заглушили язвительные выкрики и насмешки. Началась перебранка.
– Что происходит, папочка?
Отец повысил голос, чтобы я мог расслышать его на фоне общего шума:
– Сегодня день похорон Бесселя. Я не ожидал, что здесь будет так шумно, должны были запретить всякие сборища и флаги. Должно быть, эти коммунистические головорезы снова хотят всех взбаламутить.
На противоположной стороне улицы полицейские в сверкающих черных кожаных касках изо всех сил пытались сдержать рвущихся в драку противников, пока мимо проезжал кортеж, во главе которого шел отряд оркестрантов, играющих траурную музыку.
– Папочка, а кто эти люди в коричневых рубашках?
– Почетная охрана, Эрвин, люди из СА, штурмовых отрядов Гитлера. Эх, заткнуть бы глотку этим коммунистическим идиотам. Мы тогда смогли бы услышать музыку!
Катафалк, который тянула упряжка лошадей, укрытых черными мантиями и украшенных черными перьями на головах, медленно катился за колоннами штурмовиков. Внезапно в кортеж полетели вырванные из мостовой булыжники. Женщины в ужасе закричали, когда демонстранты прорвались через полицейский кордон и бросились на людей СА в попытке захватить гроб. В толпу, размахивая дубинками, врезалась полицейская кавалерия. По улицам, визжа шинами, носились бронемашины. Я притаился в дверном проеме за спиной отца. Мы дождались, пока полиция восстановит порядок.
– Теперь, сынок, ты и сам видишь, что за люди эти коммунисты. Это предатели и хулиганы, которые несут на наши улицы только разруху и хаос. Они не успокоятся, пока не разрушат жизнь каждого из нас.
Хотя во время похорон Хорста Весселя мне было всего шесть лет, я вспоминаю события того дня с абсолютной ясностью – страх глубоко выжег в моей памяти картины всеобщего хаоса на улицах Берлина.
Лето 1930 года
По пути домой из Фридрихсхайна, парка, расположенного недалеко от нашей квартиры, мы немного отклонились, чтобы присоединиться к толпам, заполнившим тротуары на Палисаденштрассе. Зеваки вытягивали шеи или стояли на цыпочках, чтобы получше рассмотреть, как марширующий отряд СА поет знаменитую «Die Fahne Hoch» («Пусть выше будет знамя»). Слова песни написал Хорст Бессель, и, переложенная на народную мелодию, она стала нацистским гимном.
– Постоим здесь немного, – сказал отец, – но только смотри, веди себя тихо.
На противоположной стороне дороги стояла женщина, которая жила в квартире над нами. Когда шеренги штурмовиков подошли поближе, я махнул рукой, чтобы привлечь ее внимание. Она ответила на приветствие, а потом, к моему удивлению, повернулась спиной и задрала вверх юбку. Раздались взрывы смеха, когда она стянула вниз панталоны и выставила напоказ все прелести, которые всякая женщина должна беречь от посторонних глаз. Она совершила большую ошибку. Она тщетно пыталась вырваться, когда ее подхватили под руки два дюжих штурмовика, а их товарищи принялись лупить ее обнаженную плоть, которая быстро покрылась красными пятнами.
– Сама напросилась, – заметил отец.
Спустя несколько дней после этого инцидента с женщиной один ярый коммунист зашел в нашу квартиру, чтобы продемонстрировать моей матери фиолетовые синяки от рук штурмовиков СА.
Понедельник, 30 января 1933 года
В стране стал править Гитлер, которого президент Пауль фон Гинденбург назначил рейхсканцлером. В тот вечер я, мои родители и мой брат Хорст находились на Унтер-ден-Линден, на углу Вильгельмштрассе, чтобы стать свидетелями факельного шествия от Тиргартена до рейхсканцелярии, ныне официальной резиденции Гитлера, через Бранденбургские ворота. Все началось поздно вечером и продолжалось до утренних часов следующего дня. Хотя это происходило в разгар зимы, не припомню, чтобы я хоть капельку замерз, наблюдая за тем, как штурмовики СА и ветераны войны – члены правой организации «Штальхельм» («Стальной шлем»)[4] – гордо маршируют, вздымая свои знамена. Позади них шли колонны факельщиков и оркестры, играющие военные марши. Все зрители широко улыбались. Полицейские, тесными рядами оцепившие улицы, смеялись и не давали восторженной толпе прорваться к участникам шествия. Шум волнами нарастал, в ушах зазвенело, и вскоре я слышал лишь одно могучее:
– Хайль! Хайль! Хайль!..
Мать ненадолго отвернулась от зрелища и пристально посмотрела на меня. Ее серо-голубые глаза заблестели в факельном свете. Она улыбнулась, слегка сжав мою руку. Я тоже коснулся ее руки и улыбнулся, как бы говоря, что тоже чувствую всю важность этого момента. Мы вместе подняли правые руки и присоединились к всеобщему скандированию:
– Хайль! Хайль!..
После парада мы присоединились к ликующим зрителям, собравшимся на Вильгельмплац, прямо перед рейхсканцелярией, и дружно кричавшим:
– Хотим видеть нашего фюрера!
Гитлер появился в освещенном прожектором окне на первом этаже (в то время в рейхсканцелярии еще не было балкона) и ответил на зов народа характерным жестом поднятой и отброшенной назад правой руки.
Казалось, настроение всего города изменилось к лучшему. Впервые стало безопасно на улицах, можно было не бояться того, что насилие захлестнет целый район.
Повседневная жизнь превратилась в упорядоченную трудовую рутину. Я конечно же не обратил никакого внимания на то, что Гиммлер объявил о необходимости строительства концентрационных лагерей по всему рейху для умиротворения немецкого населения. Какое мне было дело, если туда сажали марксистов, уголовных преступников или гомосексуалистов? Кто мог тогда вообще предвидеть, не говоря уже о девятилетием мальчике, что это лишь первый шаг к ужасам лагерей смерти?
Весна 1934 года
По мере того как Гитлеру сопутствовал успех, на улицах появились мальчики в аккуратных шортах и рубашках. Некоторые ездили на велосипедах, у которых к рулю были прикреплены картонные таблички с призывом вступать в «юнгфольк»[5]. Вскоре пошли слухи, что состоящие в этой организации (сокращенно DJ) мальчишки ездят на выходные в лагеря, где занимаются спортивными играми и смотрят кино. Очень скоро большинство мальчиков старше 10 лет из моего класса вступило в «юнгфольк», а некоторые еще состояли в организации социалистической рабочей молодежи (SAJ)[6], эквиваленте «юнгфолька» левого толка. Эти две организации во многом предлагали аналогичные занятия, но «юнгфольк» был организован все-таки лучше, и, в отличие от SAJ, который, по сути, являлся рабочей организацией, в него входили мальчики из всех слоев общества, от фольксшуле до гимназии. Социальный класс больше не являлся барьером для товарищества, и знакомый мне к тому времени лозунг скандировали абсолютно все: «Один народ, один рейх, один фюрер».
Отец с матерью искренне одобрили мое вступление в «юнгфольк».
– Для молодежи гораздо лучше и полезнее состоять в какой-нибудь организации, нежели бесцельно шататься по улицам, – напутствовали они меня.
Одна из первых вещей, которая поразила меня, когда я стал членом этой организации – а в то время участие было добровольным, – это то, что мне предоставили определенную степень свободы и доверия, которые заставили меня почувствовать себя взрослым и ответственным за собственные поступки. Вообще, инструкторами здесь были старшие мальчики. Юность же ценилась сама по себе, что было прекрасно.
Летние выходные были полны разных приключений, и проводили мы их в лесах вокруг Берлина. Над лагерем всегда развевался флаг «юнгфолька», на котором, словно яркая вспышка молнии на черном небе, красовалась угловатая белая «зигруна» – символ победы.
Я всегда с нетерпением ждал «Битвы флагов», своего любимого развлечения. Это было соревнование между конкурирующими группами «юнгфолька», зачастую из различных округов Берлина. Цель состязания была весьма проста – захватить флаг соперника. Но выполнение такой с виду простой задачи требовало навыков стратегического планирования. Разумнее ли было оставить самых высоких и крепких мальчиков для охраны знамени и должны ли они возглавить вылазку в лагерь соперников? И кто среди нас лучше проявил себя как вожак? Я уверен, что инструкторы следили за подобными вещами, но вместе с тем понимал, что все заключалось в чисто физической активности, и зачастую наши игры выливались в довольно жесткие схватки. Нередко я возвращался домой в воскресенье вечером с ушибами – метками чести, гордо показывая их родителям как доказательство того, что и я внес свою лепту в победу. В моих наивных юношеских глазах такие события казались не чем иным, как интенсивными спортивными занятиями. Не было никаких тренировок с оружием, и поэтому мне и в голову не приходило, что это, по сути, подготовка к суровой службе в вооруженных силах.
Барабаны, флаги и походы были нашими постоянными спутниками в «юнгфольке», но я ни о чем не задумывался, когда мы неустанно носились по залитым солнцем лесным тропинкам и маршировали через деревни, приковывая взгляды восхищенных зевак. Мы радостно пели Die Fahne flattert uns voran («Знамя ведет нас вперед»). А то, что путь, на который я гордо ступил, мог разрушить все то, чем я дорожил, я осознал намного позже. Тогда же я совершенно не задумывался о чем-то серьезном и смотрел на мир через розовые очки.
В наши дни можно прочитать, что такие организации, как «юнгфольк», сознательно ожесточали немецкую молодежь. Действительно, занятия в этих лагерях помогали укрепить физическую силу, дисциплину, лояльность и повиновение; мы учились проявлять уважение к женщинам и быть готовыми умереть за свою страну. Но точно такие же признаки описаны Баден-Пауэллом в его книге «Scouting for Boys» («Скаутство для мальчиков»), изданной в 1909 году, где обычные мальчишки становятся центром внимания всей Британской империи. Это просто знамение времени, в котором мы жили.
Все, чем мы занимались в качестве членов «юнгфолька», встречало искреннее участие наших родителей. Это делалось с одобрения государства, рейха. Сильного государства, по которому немцы давно соскучились и которое нашло место для каждого «истинного» немца. Наши родители были членами партии Гитлера, Немецкой национал-социалистической рабочей партии (НСДАП), или нацистской торговой организации, Немецкого рабочего фронта (DAF), либо и той и другой. Поощряемые властями, наши матери занимались полезной социальной работой на благо местной общины. Так, моя мама, напевая народные мелодии, шила флаги, которые украшали горны моего отряда DJ. Раз в месяц, в воскресенье, мой отец собирал «антопф-дотации» (деньги, сэкономленные каждой семьей за счет приготовления густого супа и идущие на пожертвования нацистской партии)[7] у жителей квартир дома номер 38 по Штраусбергерштрассе. Мы же, молодежь «юнгфолька», были просто другой частью этой мозаики.
Лето 1936 года
В берлинских парках и на улицах вызывающий английский язык богатых американцев смешивался с оживленной болтовней итальянцев. В магазинах после ухода француженок в воздухе сохранялся притягательный аромат изысканных духов. Цветочные корзины на фонарных столбах и балконах центральной части города сверкали всеми красками радуги. Общественные здания украшали длинные алые полотнища с черными свастиками внутри белых кругов. Берлин представлял собой захватывающее зрелище, и жизнь била здесь ключом.
В один из таких дней мы с братом Хорстом направились к Нойе-Вахе, зданию в классическом стиле, построенному в память о немецких солдатах, которые отдали свою жизнь во время Великой войны.
– Эй, ребята, вы что тут делаете?
Не обращая внимания на возгласы, Хорст протолкнул меня через толпу туристов, собравшихся посмотреть на смену караула. Чувствуя на плечах руки старшего брата, я пристально наблюдал за тремя солдатами из «Лейб-штандарта». Они приближались. Облаченные в безупречные черные мундиры, в белоснежных ремнях и перчатках, они всем своим видом внушали почтение. Турист, стоявший рядом со мной, вытащил карманные часы, одобрительно кивнул и заметил:
– Точно вовремя.
Остановившись всего в нескольких метрах от нас, солдаты из «Лейбштандарта» энергично повернулись и промаршировали в направлении двух часовых, ожидающих смены. Смена караула – с моей точки зрения, невероятно сложная – прошла безукоризненно.
– Хорст, как ты думаешь, мог бы я когда-нибудь попасть в «Лейбштандарт»?
– Тебя возьмут, если только ты высокого роста. И если пройдешь очень строгий медосмотр.
– А я пройду медосмотр?
– Сомневаюсь, Эрвин, ведь шрамы от твоей операции после аппендицита полностью не зажили. Ты ведь даже пропускал уроки плавания в школе, – ответил Хорст. А потом потрепал меня по плечу. – В «Лейбштандарт» принимают только самых высоких и самых крепких.
В день открытия Олимпийских игр мы с другими учениками моего класса – как часть огромного хора из 3000 учащихся берлинских школ – путешествовали по городу, и я надеялся внести собственный вклад в важное историческое событие.
Мы заняли места на великолепном новом стадионе, на противоположной стороне арены, с которой Гитлер должен был объявить об открытии игр. В самых важных местах группы операторов готовились впервые в мире вести прямые телерепортажи главного спортивного события. Когда до заветных 16:00 оставалось совсем немного, на больших каменных пьедесталах, установленных по обе стороны от Марафонских ворот, затрубили горнисты. Взволнованный шум ста тысяч глоток разом стих, превратившись в едва слышный шепот. Ровно в 16:00 под шумные аплодисменты на стадион въехал Гитлер. Все встали, чтобы получше рассмотреть фюрера. Даже иностранные гости, как будто ведомые той же невидимой силой, которая управляла нами, немцами, взметнули правую руку вверх в характерном нацистском приветствии.
На беговой дорожке стояла девочка 6 или 7 лет в белом летнем платьице. Когда к ней подошел Гитлер, ее загорелая на солнце ручка взметнулась вверх. В левой руке она держала букет цветов. Когда Гитлер нагнулся, чтобы принять цветы, девочка вежливо поклонилась. Затем под звуки «Deutschland Leid» и «Die Fahne Hoch» Гитлер и приглашенные гости уселись на свои места на отдельном балконе. Стадион ненадолго погрузился в тишину, а потом голос в громкоговорителе объявил: «Поднять флаги», и вдоль высокой стены по наружной окружности стадиона были подняты флаги стран-участниц под величественный перезвон специально отлитого к этому случаю олимпийского колокола. Словно призыв к молитве, это, казалось, требовало подчинения чьей-то великой воле. В знак очередного подтверждения своей верности мы искренне ответили:
– Зит хайль… Зит хайль!
И эти слова, резонируя в чаше огромного стадиона, слились в единый хор приветствия нашего фюрера.
Одна за другой, в красочной процессии, на беговой дорожке под звуки прусского марша выстраивались национальные команды. Команду спортсменов каждой страны-участницы вел знаменосец, опуская флаг напротив балкона, где стоял Гитлер. Исключение составили лишь американцы, флаг которых ни разу не опустился, а члены команды вместо приветствия сняли свои соломенные шляпы и прижали их к груди. Такая дерзость вызвала недовольство толпы, приветствия которой резко сменились на неодобрительное бормотание.
После речи председателя Олимпийского комитета Гитлер, как и положено, объявил Игры открытыми. После артиллерийского салюта в небо были выпущены тысячи голубей, которые, покружив над Марафонскими воротами, растворились в летнем голубом небе. Эти чудные голуби являли собой символ мира, но мира невероятно хрупкого. Пройдет совсем немного времени, и этот мир рухнет, а большая часть Европы погрузится в сумрак войны. Все это навсегда изменит мою жизнь.
Сводный хор запел Олимпийский гимн Рихарда Штрауса, и я тоже пел, пел от всего сердца, гордый тем, что я немец…
И снова наступило томительное ожидание, когда взоры всех присутствующих обратились к ступеням у главного входа на стадион, чтобы засвидетельствовать то, что в будущем станет олимпийской традицией. Там с олимпийским факелом в руках появился Фриц Шильген, популярный немецкий атлет, образец арийской мужественности. Под приветственные возгласы Шильген спустился вниз, к беговой дорожке. Он элегантно миновал балкон фюрера, взбежав по ступеням наверх, к чаше, расположенной над Марафонскими воротами в западной части эллиптического стадиона.
Достигнув цели, Шильген поднял руку с олимпийским факелом. Увлеченные церемонией, мы сидели, раскрыв рот, и молчали. Когда Шильген опустил факел и зажег пламя, которому предстояло гореть в течение всех Игр, напряженная тишина взорвалась восторженными аплодисментами.
Стадион еще раз накрыла тишина, когда немецкий чемпион по тяжелой атлетике, Рудольф Исмайр, схватил уголок олимпийского флага, чтобы дать олимпийскую клятву. Этот акт напомнил присягу тевтонских рыцарей, о которых я узнал в школе. Затем под великолепный припев из «Аллилуйи» Генделя команды покинули арену через Марафонский туннель. Завершение церемонии открытия мюнхенских Олимпийских игр выдалось настолько замечательным, что стало образцом для последующих. Этот день останется в моей памяти до самой смерти. Когда я покидал стадион, то не сомневался, что живу в лучшей стране в мире. Толком не осознав, что произошло, я целиком подчинился духу времени, взращенному фюрером.
Входные билеты стоимостью около двух – пяти рейхсмарок были слишком дороги для того, чтобы наша семья могла посещать соревнования на Олимпийских играх. Однако по всему Берлину были организованы телевизионные комнаты (в Германии появилась первая в мире общественная телевизионная вещательная служба), доступ в которые был свободный – по бесплатным билетам. Едва узнав о доступности таких билетов, отец тут же отправился в почтовое отделение на Палисаденштрассе, где был оборудован ближайший к нашей квартире зал телевещания.
– У нас проблема, – сообщил отец с озабоченным видом, когда вернулся домой. – Мне удалось достать лишь три билета, и они дают право на просмотр зрителям не младше четырнадцати лет.
– Я присмотрю за Эрви, – предложила мать. – Отправляйся с Хорстом.
– Нет, погоди-ка, папа, – попросил я.
У меня появилась одна идея, и я исчез в спальне родителей. Когда я вернулся, то на мне были длинные брюки брата.
Мать засмеялась:
– Эрви, тебя никуда не пустят в таком виде.
– Но все же стоит попробовать, – подмигнул мне Хорст. – Он ведь достаточно высок для своего возраста.
Когда мы подошли к двери почтового отделения, чиновник с серебристой бородой и усами взял у меня билет и нагнулся вперед, чтобы посмотреть мне в глаза. Затем с кривой улыбкой он кивнул и взъерошил мне волосы большой грубой рукой, от которой пахло свежим табаком.
Ведомые толпой, мы зашли в затемненную комнату, где на полке, высоко у стены, стоял телевизионный приемник. Мы ждали в тишине, пока техник, встав на табурет, крутил ручки управления. Когда на экране появилась картинка с олимпийского стадиона, раздался всеобщий вздох облегчения. И мой отец удовлетворенно объявил:
– Какое же чудо дал Гитлер немецкому народу!
Глава 2 Ученик
В течение моего последнего года в школе, два раза в неделю, первый урок проводился в зале округа евангелистской церкви Воскресения, где мы изучали Библию в подготовке к церемонии конфирмации 1938 года. Я и еще около двадцати других учеников стали зарегистрированными членами конгрегации, в которой старостой служил мой отец. В конце месяца я покинул школу, чтобы занять свое место в мире труда.
* * *
– Твоему деду было хорошо там работать, – объявила мама, склонившись над раковиной, – значит, и тебе будет неплохо.
– Но в школе мне нравилось мастерить из дерева. У меня к этому были способности, – запротестовал я. – Ведь Хорст – плотник, и если ему хорошо…
Мама оторвалась от тарелок, выпрямилась и, уперев мокрые костяшки пальцев в бока, резко развернулась, словно русская балерина.
– Ты мне дерзишь, Эрви. Посмотри на своего дедушку. Он работал пекарем больше сорока лет и все еще здоров и неплохо выглядит. – Она пригрозила мне пальцем. – Больше такого не потерплю! Пекарское дело – достойное занятие. И ты никогда зимой не замерзнешь, если устроишься в ту пекарню на Мемелерштрассе. Это совсем недалеко. На велосипеде ты доберешься туда за десять минут. Подумай о деньгах, которые ты сможешь сэкономить на оплате за электричку. Ох, чуть не забыла! Тот добрый польский господин наверху предложил отремонтировать твой велосипед, да еще и покрасить, чтобы он выглядел как новый!
Пятница, 1 апреля 1938 года
Подчинившись наставлениям матери, я ровно к 6:00 утра явился в пекарню Глазеров. Фрау Глазер, невысокая полная женщина с румяными щеками, смерила меня взглядом.
– К тебе новенький! – крикнула она через плечо.
В дверном проеме из-за прилавка появился сам герр Глазер, крупный, плечистый мужчина с широким лицом.
– Ах, Эрвин! Хорошо, ты как раз вовремя. Я отведу тебя в подсобку, чтобы ты познакомился с Фрицем. Будете работать вместе. Он хороший парень и тоже только что окончил школу.
Я проследовал за господином Глазером в коридор.
– Рядом с входом в пекарню дверь в мою гостиную. И хорошенько запомни то, что я сейчас скажу: дверь в пекарню справа, а туалет – в дальнем конце коридора. Не перепутай, какая дверь куда ведет, – добавил герр Глазер.
В подсобке радиоприемник надрывался от военных маршей. Герр Глазер подвел меня к груде 50-килограммовых мешков с мукой.
– Только что с мукомольного завода, – с довольным видом проговорил он, хлопнув широкими ладонями. В воздух полетело облако белой пыли. – Ну-ка, давай, – многозначительно кивнул он мне и ткнул пальцем верхний мешок, – подними-ка вот этот.
Ухватив мешок обеими руками, я потащил, но смог сдвинуть его всего на несколько сантиметров.
– Не волнуйся – скоро твои родители получат более крепкого Эрвина, – хрипло засмеялся господин Глазер. – Я-то сам не могу ничего таскать, старые ноги подводят…
После знакомства с Фрицем я чистил противни, а он замешивал следующую партию теста.
– А что, у хозяина и в самом деле что-то с ногами? – спросил я.
– Трудно сказать, но он никогда не берется за тяжелую работу, – ответил Фриц.
– А почему он все время напоминает мне про двери?
– Да это все весна, Эрвин! Когда становится потеплее, ему нравится трахаться в гостиной. А его дочь спит вместе с ними в одной спальне. Вот и получается: где же ему этим еще заняться? Только бы он не разбрасывал свои презервативы в туалете…
Четверг, 10 ноября 1938 года
Проработав почти восемь месяцев учеником пекаря, я ненавидел каждый поворот педалей своего велосипеда, когда в полнолуние снова спешил в пекарню, чтобы провести там очередной занудный день.
Господин Грюнфельд, еврейский мясник, был точен, как хронометр, но в то утро на Палисаденштрассе его почему-то не было видно. Может быть, в этот день я опоздал? Людей на улицах было больше обычного. Боясь, что проспал, я посильнее надавил на педали…
Въехав на Франкфуртер-аллее, я заметил толпу, собравшуюся у обувного магазина Лейзера. Я замедлил ход, чтобы получше рассмотреть происходящее. Зрители молча наблюдали, как горстка людей сидела на обочине, примеряя сверкающие новенькие ботинки из сваленных вокруг коробок.
– Будь осторожнее, сынок, – предупредила меня одна из женщин, стоящих на краю тротуара. – Они разбили витрину, и повсюду рассыпаны битые стекла.
Я надавил на тормоза, остановив велосипед.
– А что случилось?
– Это худший вид воровства, – громко ответила женщина, чтобы ее слышал мужчина, примеряющий пару украденных ботинок, – мародерство.
– Они сами напросились, – огрызнулся мужчина. – Эти евреи – а многие из них убийцы – они возомнили, будто могут убивать немецких дипломатов где угодно. Сначала это был Густлофф в Давосе в 1936 году, а теперь вот Рат в Париже – ну ничего, пора им показать, кто хозяин в Германии.
– Но ведь это полный идиотизм, – возмущалась женщина, – если дипломатов и в самом деле убили сумасшедшие, оказавшиеся евреями, разве это делает виновными всех евреев?
Хотя из сводок новостей люди узнавали о многих других примерах народного гнева в Германии и Австрии, я лично был свидетелем лишь еще одного инцидента. Позже в тот же день, возвращаясь домой после посещения торгового колледжа на Фридрихштрассе, я проезжал мимо Новой синагоги на Ораниенбургерштрассе. Главная дверь была обуглена, что было явным свидетельством попытки поджога. Однако никаких других следов или повреждений на здании не было.
Прощай, детство!
К моему пятнадцатому дню рождения – 12 декабря 1938 года – я уже достаточно окреп, чтобы поднимать тяжелые мешки с мукой, не съеживаясь от одной только мысли, что придется это делать. В тот день герр Глазер с важным видом объявил, что теперь мой рабочий день увеличен и теперь – за исключением субботы – я должен с 18:00 до 21:00 чистить противни и готовить тесто для замеса на следующее утро. Вообще чистка и уборка, как я выяснил, являлись очень важной частью работы в немецкой пекарне.
Как 15-летний юноша, я официально перешел из «юнгфолька» в «гитлерюгенд», но из-за долгих часов работы в пекарне был избавлен от необходимости посещать частые митинги. Однако с меня взимали такие же членские взносы, как и с прочих участников, и поэтому я был своего рода почетным членом организации. Стоит к этому добавить, что я крайне отрицательно относился к тому, что моя работа в качестве пекаря, по сути, не давала мне возможности стать активным членом «гитлерюгенда». Когда я состоял в «юнгфольке», то участвовал в певческих конкурсах и спортивных состязаниях в летних лагерях с командами других регионов Германии. Однако по закону я был обязан являться в контору Немецкого рабочего фронта, нашего профсоюза. Ежась от холода в длинной очереди ожидающих регистрации, я неожиданно познакомился и разговорился с Робертом Леем, министром труда, и посетовал на свои бесконечные часы, которые проводил в пекарне.
Пробормотав что-то о ценности каждого рабочего, он нечленораздельно, заикающимся голосом произнес:
– Все должны упорно трудиться. Германии нужен хлеб. Ты должен быть доволен своей работой.
Неспособный трезво смотреть на мир, Лей, как всегда, выглядел несколько потрепанным.
Ходили слухи, что его заикание стало результатом ранений, полученных после жесткой посадки самолета во время Первой мировой войны. Но я лично считал, что всему виной была все-таки непомерная тяга к спиртному. Я с удивлением и даже некоторым смущением наблюдал, как, усевшись на заднее сиденье своего государственного автомобиля, он достал из кармана флягу и отпил из нее. Эта случайная встреча оставила в моей душе довольно плохое впечатление об одном из представителей нашей политической элиты.
В апреле следующего года господин Глазер отметил завершение моего первого года в качестве ученика, увеличив мой рабочий день.
– В субботу ты по-прежнему полностью свободен, – сказал он с усмешкой, – но по воскресеньям ты должен будешь являться сюда к 10:00, чтобы разогреть печи.
Я вкалывал целую неделю ради краткой передышки в субботу, которая маячила передо мной, словно морковка для ослика. Работа доминировала над всей моей жизнью, оставляя слишком мало времени, чтобы помечтать о том, что занимает голову мальчика, вступающего в пору возмужания…
Пятница, 1 сентября 1939 года
После влажной и душной ночи, когда толком поспать не удалось, я уже исправно крутил педали. Потная рубашка прилипла к спине. Небо было темным, и казалось, вот-вот грянет гром. Неохотно переступив порог двери, ведущей в пекарню, я распахнул ее пошире, надеясь, что ветерок хоть немного ослабит жар от печей. Но не было даже намека на ветер. В желтом свете электрических ламп в воздухе висел туман из мучной пыли. Как обычно, мой рабочий день начался с мешка булочек на плече и длинного списка адресов, по которым эти булочки нужно было развозить. Для этих булочек были предназначены сумки, висящие на ручках дверей наших клиентов. Что касается меня, то это была долгожданная отсрочка от духоты и жара внутри пекарни. Только в этот момент я вдруг заметил, что из открытого окна квартиры в доме номер 52 по Мемелерштрассе, Доме переплетчиков, как его называли, не слышно обычной перебранки. Кругом стояла зловещая тишина…
Я вернулся к себе в пекарню. По радио передавали какую-то музыку. Следуя примеру Фрица, я разделся до пояса и помог ему замешать новую порцию теста. Вдруг радиопередачу прервали звуки фанфар. Это был явный признак того, что будет сделано какое-то важное сообщение. Мы остановили работу и подошли поближе к радиоприемнику. Ранее тем же утром Гитлер выступал перед немецким парламентом с речью, в которой сообщил, что наши войска начали боевые действия в Польше. Закончил он свое выступление декларацией:
– Нас поддержат наша несокрушимая воля и немецкая сталь.
Фриц покачал головой.
– Я знал, что так и будет, – вздохнул он.
В те выходные Великобритания и Франция объявили войну Германии.
В понедельник утром я, как обычно, помахал еврейскому мяснику на Палисаденштрассе.
– Доброе утро, господин Грюнфельд! – крикнул я.
А тот сквозь свою длинную вьющуюся седую бороду проворчал:
– Гм… Доброе-то доброе, да только не для нас, евреев…
Декабрь 1939 года – весна 1940 года
Сразу после моего шестнадцатого дня рождения температура воздуха резко опустилась, ознаменовав начало более холодной, чем обычно, зимы. Дневные температуры редко поднимались выше нуля. На этот раз перспектива работы в жаркой пекарне казалась более чем соблазнительной. Я крутил педали энергичнее, чем прежде, стараясь держаться поближе к белым линиям у обочин, чтобы несколько обезопасить себя в отсутствие уличного освещения.
Я добрался до пекарни, чтобы отыскать Фрица, теперь уже вполне состоявшегося пекаря. Он работал один. Как обычно, мы обменялись рукопожатиями.
– Где хозяин? – спросил я.
Фриц рассмеялся:
– А его-то как раз забрали в числе первых. В вермахт. Фрау Глазер сказала, что он назначен в военную пекарню где-то за городом.
– Интересно, когда настанет наша очередь, – размышлял я вслух.
– Кто знает? Но потеря старика Глазера – это для нас дурные вести. Как-никак, на одну пару рук меньше. Мне кажется, эта война – дело слишком серьезное. Попомни мои слова, Эрвин: бомбы, которые взорвались на Ландсбергерштрассе, – это только цветочки. Ты видел, что там произошло?
– Да, я ходил туда с родителями на выходные. Там собрались большие толпы, но ничего толком рассмотреть было нельзя – разве что несколько сбитых с крыши черепиц. Да еще полицейские собирали сброшенные с самолета листовки.
С приближением рождественских праздников работы в пекарне прибавилось, как никогда. И к тому времени, когда нужно было все чистить и убирать в конце дня, запах свежеиспеченного хлеба выворачивал мне наизнанку все внутренности.
– Хорошо потрудился, парень, – с поддельным американским акцентом сказал Фриц. До недавнего времени он частенько ходил в кинотеатр на Потсдамерплац, где крутили американские фильмы. Однако рейхсминистр Геббельс положил этому конец, объявив такое кино слишком чуждым для арийских глаз.
– Увидимся завтра, – сказал я, поворачиваясь к двери.
Когда моя рука уже сжимала дверную ручку, Фриц тихо позвал меня:
– Эрвин…
Я остановился, слегка приоткрыв дверь, нетерпеливо ожидая, когда мне наконец удастся вырваться из пекарни и застать хоть кусочек дневного света в этом холодном декабре.
– Эрвин, – повторил он, – ты ведь еще не слышал важных новостей.
Тон его голоса был почти музыкальным, но вместе с тем полон иронии.
– Каких еще новостей?
– Завтра мы приступаем к работе в три часа утра…
Бедняга Фриц был всегда так занят, что у него порой даже не было времени сходить домой. Некоторое время я тоже ночевал в пекарне, но это меня так доконало, что дальше так продолжать я не мог. Чтобы добираться до работы вовремя, я теперь должен был уговаривать свое утомленное тело отрываться от постели без четверти два. И так продолжалось вплоть до одного весеннего утра, когда я, приехав на работу, с удивлением обнаружил там господина Глазера, который уже замешивал тесто для булочек.
– Доброе утро, Эрвин, – приветствовал меня герр Глазер, указывая на свои ноги, – кажется, они все-таки не приучены для армейских сапог.
Мои сомнения относительно того, говорит ли правду господин Глазер, ссылаясь на проблемы с ногами, рассеялись, а перспектива более короткого рабочего дня немедленно подняла мне настроение. И точно: в конце того же дня господин Глазер объявил:
– Завтра начинаем работу в 4:00 – и продолжаем до тех пор, пока не оформим все заказы.
Несколько недель спустя, как будто для того, чтобы восполнить потерю в лице господина Глазера, вермахт призвал в свои ряды Фрица. Когда я вернулся домой тем же вечером, мое лицо, должно быть, было мрачнее тучи.
– Чем это ты озабочен, Эрви? – спросила мама.
– Фрица забрали в армию – и завтра мы опять приступаем в 3:00 утра. – С этими словами я бессильно плюхнулся в отцовское кресло, уже придвинутое поближе к печи. – Мама, я уже по горло сыт проклятыми булками!
– Но ведь это вполне достойное занятие, Эрви, – укоризненно заметила она. – Да к тому же ты привык к долгому рабочему дню.
Я утешал себя мыслью о том, что по субботам вечером я все еще был в состоянии встретиться с лучшими друзьями – Хорстом Мушем и Гюнтером Шмидтом. Вместе мы были «три мушкетера», одноклассники, которые стали неразлучны с первых дней учебы в школе. Муш умел здорово рисовать и устроился учеником к одному худож-нику-графику. Шмидт работал на рейхсбане, Германской государственной железной дороге. Большинство суббот мы проводили в «Театре Плаза», где играли варьете. Иногда мы пробовали закрутить с местными девочками, но все наши заигрывания оказывались не слишком успешными.
Глава 3 Претендент
Летом 1940 года «Лейбштандарт»[8] проводил вербовку новобранцев. Разочарованный и совершенно разбитый долгой и изнурительной работой в пекарне, я зашел в здание военного министерства на Бендлерштрассе и взял бланк заявления. В нем нужно было указать альтернативные варианты прохождения воинской службы на тот случай, если претендент не сможет соответствовать квалификационным требованиям элитного подразделения Гитлера. Мой брат Хорст, который уже служил телефонистом люфтваффе в министерстве авиации, советовал мне в качестве второго варианта назвать части зенитной артиллерии люфтваффе. Я аккуратным почерком заполнил бланк и через неделю получил предписание явиться в зал на Александерплац для медицинского осмотра.
В солнечный июньский день я направился в зал, где ранее взял несколько уроков бальных танцев в надежде когда-нибудь произвести впечатление на будущую подружку. В зале находилось еще около сотни юношей. Возраст большинства из них составлял 16 или 17 лет, хотя некоторые были явно старше. К нам протиснулся унтершарфюрер из «Лейбштандарта», и с его помощью мы выстроились в ровные шеренги. Зал погрузился в тишину, когда на сцене появился старший офицер в безупречном мундире.
– Снимите одежду, завяжите ее в узел и поставьте у ног, – громко объявил офицер.
Публичное раздевание донага было для меня чем-то новым. Я почувствовал прилив крови к щекам, когда покосился на других потенциальных новобранцев, некоторые из которых все еще стояли в трусах.
– Повторяю: всю одежду – всю! – рявкнул унтершарфюрер. – И нечего пялиться друг на друга – здесь вам не конкурс красоты, черт вас побери! Вам отдан приказ, извольте выполнять!
Офицер покинул сцену и начал осмотр. Клянусь, я почти физически ощущал, как его глаза тщательно исследуют каждый дюйм моей голой плоти, когда он проходил у меня за спиной. Парень, стоявший рядом, слегка дернулся вперед.
Закончив осмотр, офицер объявил:
– Те из вас, кого похлопали по плечу, свободны и могут уйти. Не забудьте подстричься, прежде чем предпримете еще одну попытку.
Волна надежды и некоторого облегчения подняла мне настроение; выходит, я преодолел первый этап отбора и мог помечтать о том, что занудная работа в пекарне скоро закончится. Затем начался настоящий осмотр. Врач измерил окружность моей груди, спросил о перенесенных ранее болезнях и каждый ответ тщательно зафиксировал в своем журнале. Затем, все еще голый, я должен был оттянуть крайнюю плоть, чтобы дать возможность врачу обследовать мой член. Да уж, признаться, не такого осмотра я ожидал, когда прокручивал в голове предстоящий путь в «Лейбштандарт». Задавая бесконечные вопросы, офицер изучил все стороны моей жизни, чтобы удостовериться, что у меня нет связей с евреями.
– А почему вы хотите вступить в «Лейбштандарт»? – спросил он наконец.
– Потому что я – берлинец и высокого роста, – ответил я с юношеской наивностью.
В снежный январский день 1941 года пришло письмо из военного министерства. Мать наблюдала, как дрожащими пальцами я вскрыл коричневый конверт. Пока я читал, кровь отхлынула от моего лица. Я не мог скрыть своего разочарования.
– Что там пишут, Эрви?
– Люфтваффе, мама… зенитная артиллерия.
– Так это же хорошо, Эрви. Твой отец будет счастлив. Он очень волновался, думая, что тебя заберут в «Лейбштандарт». Их ведь всегда бросают в самое пекло боев.
Но я быстро оправился от разочарования и бросился к двери.
– Куда ты, Эрви?
– На призывной пункт, мама. Должно быть, произошла ошибка…
Добравшись до призывного пункта, я увидел, что в приемной полно народу. Я покорно занял место в медленно движущейся очереди. Дежурный офицер спросил меня о причине явки, и я рассказал ему всю историю с получением призывных документов из люфтваффе. А потом произошло нечто совершенно неожиданное. В кабинет вошел сам рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, по сути, второй по популярности человек в Германии. Он остановился, обменявшись несколькими словами с людьми, стоявшими в очереди. К моему удивлению, он спросил, где я живу и хочу ли стать новобранцем «Лейбштандарта». Исполненный надежды, я не удержался и сбивчиво рассказал ему все, добавив, что в призывной комиссии меня, видимо, по ошибке записали в подразделение зенитной артиллерии.
– Хорошо, посмотрим, что можно сделать, – сказал он мне, прежде чем удалиться в соседний кабинет.
Я уже почти смирился с тем, что придется носить голубой мундир люфтваффе, когда Гиммлер вновь появился и направился прямиком ко мне.
– Не волнуйтесь. Скоро вас известят о принятом решении, – сказал рейхсфюрер.
В моей душе вновь загорелась надежда…
В феврале 1941 года поступили призывные документы из «Лейбштандарта». Я был вне себя от радости, понимая, что с проклятой пекарней скоро будет покончено и что с этого времени жизнь моя принимает куда более захватывающий оборот. Специальные радиовыпуски один за другим вещали о наших новых военных успехах. Что мне было терять? Я отчаянно пытался сыграть свою собственную небольшую роль в достижении «Endsieg», нашей окончательной и неизбежной победы…
Я чувствовал себя студентом, который только что получил заветное место в элитном университете, и в каждом моем шаге – несмотря на хмурое небо – играла весна, когда утром 1 мая 1941 года я шел по Финкенштейн-аллее. Я остановился на мгновение перед главными воротами к казармам, чтобы еще раз полюбоваться «Ewigen Rottenführer» (Вечными оберефрейторами). Приблизительно в 4 метра высотой, эти статуи производили внушительное впечатление. Я глубоко вдохнул, прежде пройти внутрь. Часовой у ворот коротко кивнул, как бы приветствуя меня в совершенно новом для меня мире. Направившись к сборному пункту, я присоединился к новобранцам, столпившимся перед четырьмя центральными столбами главного здания. Выше, на парапете, красовалась надпись: «ЛЕЙБШТАНДАРТ СС АДОЛЬФ ГИТЛЕР». Над парапетом высилась огромная статуя орла с наполовину распущенными крыльями. Орел, застывший в грозной позе, словно проверял, насколько силен ветер, и зорко осматривал свои владения. Теперь-то наконец я смог поверить, что мои дни в пекарне закончились, и вот-вот начнется мое превращение в солдата самого элитного формирования Германии.
Пока я с другими новичками томился в нетерпеливом ожидании, откуда ни возьмись появился солдат в бриджах для верховой езды. Единственный серебристый квадратик на темном «зеркале» его погона означал, что перед нами унтершарфюрер.
– Меня зовут Смеющийся Дьявол, – прокудахтал он, пошевелив перед лицом устрашающе длинными пальцами, словно дирижируя невидимым оркестром. – На сегодня я ваш дежурный унтер-офицер. Следуйте за мной.
Дежурный унтер-офицер препроводил нас в большой спортивный зал, где пахло свежим воском. В центре зала был боксерский ринг, а возле стен был разложен различный спортивный инвентарь. Почти час мы бродили вокруг, застенчиво поглядывая друг на друга. А потом Смеющийся Дьявол вернулся, чтобы проводить нас в столовую, где нас накормили бутербродами с колбасой. После еды мы возвратились в спортивный зал, где офицер объяснил нам правила поведения в казармах. Нам раздали одеяла, и внезапно прозвучала команда «Отбой». Я и еще две сотни других взволнованных юношей, явившихся в этот знаменательный для нас день на сборный пункт, улеглись прямо на полу. Но многие, в том числе и я, едва ли смогли сомкнуть глаза…
Ровно в 7:00 появился Смеющийся Дьявол, который показал нам, где находятся уборные.
– Всем побриться и тщательно привести в порядок ногти. Когда с мытьем будет покончено, вас распределят по взводам и казармам.
1-й взвод составляли самые высокие ребята, настоящие великаны, рост которых был не менее 190 сантиметров. С моими 186 сантиметрами я попал во 2-й из четырех взводов, расквартированных в блоке «Герман Геринг». Вообще, четыре взвода носили имена выдающихся деятелей рейха. В спальные помещения на верхнем этаже вели три лестницы. Подниматься наверх можно было по левой и средней лестницам, в то время как третья клетка служила только в качестве выхода. Это, объяснил Смеющийся Дьявол, сделано во избежание беспорядка, на случай внезапной команды немедленно покинуть казармы. В каждой комнате было по шесть сдвоенных коек. Между ними стояли металлические шкафчики.
– Шкафчики оставлять открытыми! Военнослужащий «Лейбштандарта» – человек честный и заслуживает всяческого доверия, – пояснил Смеющийся Дьявол. – Он никогда не позарится на вещи у своего товарища по оружию. Верность и честь – вот ваши руководящие принципы. Отныне и навсегда. Свою форму вы будете хранить в особом порядке – сначала шинель, потом первая униформа, вторая униформа и сверху – тренировочный костюм. Тренировочный костюм будет вашей одеждой на время тренировок. Место в нижней части шкафчика предназначено для хранения обуви. Одна пара – для ношения во время дежурств и вторая пара для тренировок.
И еще пара ботинок, которая всегда должна быть чистой.
В верхнем отделении шкафчика вы развесите свои рубашки и нижнее белье. Каски и вещмешки хранятся на самом верху. Ремни и шнурки должны быть развешаны на крючках на оборотной части дверцы. Наконец, слева еще есть немного места, где можно хранить хлеб, масло и прочую еду. В этой части шкафчика вы также складываете тарелки, столовые приборы и кружки. И помните – я ежедневно проверяю, чтобы убедиться, что все содержится в чистоте и лежит на своем месте.
Позже в тот же день мы забрали на складе у интенданта свою одежду и постарались вспомнить перечень инструкций, который нам сообщил Смеющийся Дьявол. Я с благоговением рассматривал надпись «Адольф Гитлер», вышитую серебряными нитями на манжете левого рукава моего кителя.
На следующее утро мы явились на медосмотр, на котором врачи определили, у кого какая группа крови. У меня оказалась группа крови I (0). Врач нацарапал «0» скальпелем на изгибе моей левой руки, около подмышки. Эта отметина все еще различима, несмотря на то, что с тех пор прошло больше семидесяти лет.
Я получил солдатскую книжку и алюминиевый жетон; и на том, и на другом было краткое обозначение моей части: 17. Kompanie Nummer 15 0 SS Verfugungs Тшрре. У эллиптического жетона было три разреза посередине, вдоль длинной оси. Это позволяло быстро и легко отломить половину жетона, в то же время оставив другую половину на шее погибшего солдата, личность которого иначе установить было бы трудно. Конечно, мой еще очень юный разум не зацикливался на таких ужасных вещах…
Обучение с самого начала было серьезным. На первой перекличке новобранцев приветствовал лично наш командир роты оберштурмфюрер Ганс Бекер. Несмотря на то что 1941 год еще не перевалил за половину, Бекер к тому времени уже был опытным боевым командиром, который воевал в Польше, во Франции и Греции.
Затем инструкторы проверили у нас ногти, обувь, внимательно осмотрели лица, чтобы на них не было и следов запрещенной щетины, проверили, достаточно ли коротко мы подстрижены и содержим ли в чистоте носовые платки. Они открыли наши ранцы, чтобы проверить принадлежности для умывания, зубные щетки и прочие вещи, которые нам понадобятся на действительной службе. Наконец, офицер объявил нам пароль на текущий день.
В течение последующих нескольких недель проводились бесконечные тренировки и учения, после чего нашу роту объединили еще с одной и сформировали 5.Wachbataillon Berlin – подразделение для несения караульной службы внутри города и за его пределами. Жизнь новобранца пришлась мне по душе, и должен признать, что последующие месяцы стали одними из самых счастливых в моей жизни. Хотя к тому времени, когда объявляли отбой, я зачастую оказывался совершенно измотан и, возможно, был ближе к тому, чтобы заплакать, а не рассмеяться…
Четыре раза я стоял часовым на южном конце Лихтерфельде, неподалеку от транспортных мастерских и от клетки, в которой жил бурый медведь. Этот зверь был подарком «Лейбштандарту» во время недавней кампании в Греции, и за ним было иногда забавно наблюдать. В другом случае я нес службу в штаб-квартире группенфю-рера СС Лео фон Йены, очень высокопоставленного и награжденного многочисленными медалями и орденами офицера, весьма типичного представителя плеяды ветеранов Первой мировой войны. Когда звонили в дверной звонок, я открывал дверь и проверял документы каждого посетителя, внося их фамилии в журнал – даже если бы это был лично фон Йена. Таковы были инструкции, и я выполнил их все без исключения. Лишь дважды расписание моих дежурств предусматривало несение караульной службы в садах рейхсканцелярии.
На 500-метровой асфальтированной полосе за казармами, известной среди новобранцев как Платфусс-аллее, проводились учения по строевой подготовке, зачастую длящиеся по нескольку часов.
– Смотреть вперед. Оружие на плечо. Марш!
И мы маршировали до тех пор, пока все команды не вошли к нам в подсознание и мы не научились выполнять их автоматически. Затем унтер-офицер громко рявкал: «Смирно!» – и мы должны были вытягивать носки ног как можно выше и переходить на торжественный марш (обычно это называлось «строевым шагом»). Наших инструкторов сопровождали музыканты полкового оркестра, которые играли Баденвейлерский марш, выбранный самим фюрером в качестве главной мелодии для «Лейбштандарта». Публично ее исполняли лишь тогда, когда он пребывал в своей берлинской резиденции.
Если кто-нибудь из нас показывал неудовлетворительные результаты, то ему назначали дополнительные «уроки». Припоминаю, как один из новобранцев не мог держать голову под правильным углом. Тогда унтер-офицер взял шнурок и привязал к уху бедняги кусок кирпича, который тот носил, пока не преодолел свой недостаток.
По вечерам, если оставалось свободное время, мы могли пойти в одну из двух столовых при казармах, где можно было купить кое-что для личного потребления – например, зубную пасту, лезвия или те же булочки. Как и многие из моих товарищей, я купил себе кепку и сразу же удалил из нее шнур, чтобы придать ей более небрежный вид. Можно было купить и пиво, и если к нам приходили посетители, то мы могли бы взять их с собой в столовую и угостить пивом. Мой брат Хорст, который был уже унтер-офицером в люфтваффе, обычно сопровождал меня до казармы. Здесь также был кинотеатр, оборудованный в длинном, узком помещении на первом этаже главного здания. Кинозал вмещал несколько сот человек, и здесь показывали все последние фильмы, включая фильм «Штуки» (пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87»), в котором мелодия из «Гибели богов» Рихарда Вагнера наполняет новыми эмоциями пресыщенного молодого пилота, и тот вновь готов рисковать жизнью ради будущего родины. Хотя картина содержала захватывающие сцены воздушных боев, ее главный посыл был очевиден: мы тоже должны продемонстрировать такой же дух самопожертвования, как и молодой герой.
* * *
Я был среди первых новобранцев, кому предоставили увольнительные. Это все благодаря моему брату, который однажды в воскресенье явился к нам в казармы со своей новой невестой. В медпункте он попросил дежурного унтер-офицера выдать мне пропуск, и я получил возможность провести несколько часов за пределами казарм. Разрешение было выдано, он подписал бумагу, заявив, что несет ответственность за мое возвращение к указанному времени. Мы отправились в местный бар на Лихтерфельде, где заказали себе кофе с пирожными. Я даже выпил пива, но позволил себе всего один-единственный бокал, так как солдатам «Лейбштандарта», элитного вооруженного формирования Германии, запрещалось потреблять слишком много алкоголя вне казарм. В столовой это правило не соблюдалось, и я провел несколько приятных вечеров, выпивая пиво и напевая солдатские песни вместе со своими новыми товарищами.
Мы прошли между огромными каменными барельефами обнаженных мужчины и женщины по обе стороны от двойных деревянных дверей, ведущих в плавательный бассейн при казармах на Лихтерфельде. Внутри инструктор выдал нам плавательные шорты.
– Надевайте – через пять минут будете нырять, – сказал он.
И здесь наконец дали о себе знать те долгие часы, которые я, будучи школьником, потратил на то, что просто стоял и дрожал от холода у бассейна, в то время как мои одноклассники с удовольствием плавали. Из-за операции по поводу аппендицита я так и не научился плавать…
В дальнем конце бассейна нас с планшетом в руках поджидал обершарфюрер, очень крупный и высокий мужчина с суровым и светлым лицом.
– Внимательно наблюдайте за инструктором, – приказал обершарфюрер. – Ничего сложного – просто повторяйте его движения.
Инструктор быстро взобрался на вершину 10-метровой вышки. Он замер на мгновение на краю самой высокой платформы, а потом спрыгнул ногами вниз. Он нырнул в воду всего в нескольких метрах от меня. Через несколько мгновений, показавшихся мне вечностью, он вынырнул на поверхность и подплыл к боковой лестнице.
– Постройтесь у основания вышки, – скомандовал обершарфюрер. – Если кто-то из вас не умеет плавать, не волнуйтесь. Инструктор вытащит вас, если что.
Если что… Мое сердце ускоренно забилось. Я не любил воду, а высоту – и того меньше. Присутствие инструктора не слишком меня успокаивало.
Обершарфюрер заглянул в свой планшет.
– Бартман, вы первый.
Ухватившись за перила, я начал подниматься вверх по ступеням, уверенный, что вышка качается под моими ногами. Оказавшись наверху, я неохотно отпустил перила и подошел к краю пропасти. Далеко внизу отраженный свет из высоких окон в дальнем конце бассейна весело играл на поверхности воды. Колебание, даже секундное, означало бы мгновенное увольнение с военной службы в ваффен СС. Я глубоко вздохнул, задержав воздух в легких твердо сжатыми губами, и ступил в неведомое…
Порыв воздуха… потом давление воды на барабанные перепонки… Кожа покрылась крошечными пузырьками. Когда я открыл глаза, все вокруг показалось размытым, погруженным в молочный голубой свет. Стояла тишина. Мои руки инстинктивно забились, закрутились, проталкивая меня наверх с мучительной медлительностью. Наконец легкие потребовали новой порции воздуха, и я триумфально выдохнул, когда моя голова оказалась на поверхности воды!
Оружием новобранцев «Лейбштандарта» на период обучения стал пистолет Лютера Р08 («Парабеллум»). Он удобно размещался в кобуре и в качестве личного огнестрельного оружия был весьма сносным, хотя и мог заклинить, если в механизм попадали грязь или песок. Отвлекшись от обычной рутины, инструктор показал нам это оружие в казарме.
– Теперь слушайте внимательно, – сказал он. – На стрельбище я каждому выдам по пять патронов. Вставьте их в магазин и считайте, когда будете стрелять, – предупредил инструктор серьезным тоном.
После обеда мы взяли пистолеты и отправились в приказарменный тир, где стреляли в мишени с расстояния 25 метров. Сначала все мои выстрелы прошли мимо, но вскоре я значительно улучшил результаты.
Когда практическая стрельба была закончена, инструктор собрал нас вместе.
– Прежде чем вернетесь в казармы, чтобы почистить оружие, должен вас предупредить, что пистолет Р08 несколько отличается от других. Когда ствол отделяется от рукояти, высвобождается небольшая пружинка, которая при нажатии отпускает затвор. Если в пороховой камере остался патрон – а такое вполне может произойти, если вы не потрудились сосчитать число выстрелов, – затвор ударит по патрону.
Вернувшись в спальное помещение, мы принялись чистить оружие. И вдруг раздался громкий хлопок. В ошеломленной тишине все принялись судорожно озираться по сторонам. Воздух наполнился сильным запахом кордита[9]. Сидя на койке прямо напротив меня, Макс, новобранец с белокурыми волосами, родом откуда-то из-под Киля, сжимал обеими руками колено. Между его пальцами медленно сочилась кровь.
Привлеченный звуком выстрела, в помещение ворвался Смеющийся Дьявол.
– Что здесь, во имя всего святого, произошло?! – закричал он. Увидев, что произошло, он сурово предупредил: – Всегда убедитесь, что сосчитали все выстрелы. Я же предупреждал! – Осмотрев рану Макса, он несколько смягчился. – И помните: боль исходит из головы…
Нам выдали винтовки Gewehr 98 (7,92-мм винтовка Маузера образца 1898 г.). Эта модель применялась еще во время Первой мировой войны, но, поскольку все новобранцы «Лейбштандарта» были, как правило, рослыми ребятами, это крупное старомодное оружие подходило нам как нельзя лучше. У винтовки, которая досталась мне, был самый красивый рисунок на прикладе[10], который, отполированный до блеска за все эти годы, вызывал восхищение моих товарищей.
На стрельбище в окрестностях Берлина мы занимались стрельбой по мишеням из положений лежа, с колена и стоя. После каждого выстрела мы докладывали инструктору, который наблюдал мишень через бинокль, сообщая, в какое место, по нашему мнению, попала пуля. После нескольких дней тренировок я научился неплохо стрелять.
Освоив навыки стрельбы, мы начали боевую подготовку. Однажды во время отработки атаки на окопы противника я бросился на землю и начал стрелять из положения лежа. И вдруг мои ноги пронзила боль.
– Пятки нужно плотно прижать к земле, – рявкнул инструктор, надавивший сапогом на мои лодыжки, – если вы не хотите, чтобы они попали под пули или шрапнель.
Едва способный двигаться, на следующее утро я отправился в медицинский пункт. Врач обследовал мои распухшие лодыжки и спросил, что со мной произошло. Я подробно описал все обстоятельства, которые привели к таким травмам. Врач прописал мне два дня постельного режима. За это время я узнал, что командир роты Бекер вызывал к себе инструктора и обсуждал с ним этот инцидент. Несколько дней спустя я наткнулся на инструктора в коридоре.
– A-а, Бартман, – проговорил он, и в глазах его блеснул злобный огонек. – Через десять минут прошу явиться в мое спальное помещение в полной парадной форме.
Мой приход инструктор встретил насмешливым взглядом.
– Разве я не сказал, что нужно явиться в спортивном костюме? Живо переоденьтесь и через десять минут ко мне!
Когда я возвратился, он садистски улыбнулся:
– Пятьдесят приседаний, рядовой.
Я уже знал, что меня ждет: приседания, парадная форма; приседания, отжимания, снова парадная форма… бесконечный цикл, после которого я просто истекал потом. То, как долго я должен был терпеть это наказание, целиком зависело от настроения моего мучителя. Лишь через час он потерял интерес к пыткам. Бал-маскарад, как мы иногда здесь называли его, был закончен, но передышка оказалась недолгой.
– Теперь, – сказал инструктор, – мне нужно, чтобы ты вычистил всю обувь в этом помещении. До блеска!
После трудного дня на плацу все мои товарищи уже крепко спали к тому времени, когда я закончил уборку. Только после того, как унтер-офицер проверил мою работу и остался доволен результатом, он счел возможным разрешить мне отправиться спать. С трудом удерживая глаза открытыми, я вдруг услышал звук шагов на лестнице. Дверь открылась, и я увидел Смеющегося Дьявола. Он изящным жестом вытащил из кармана пару белых хлопковых перчаток.
– Ну что ж, теперь посмотрим, как ты выполнил работу, – несколько зловеще произнес он, засовывая в перчатки свои длинные пальцы.
С характерной усмешкой на лице он поочередно открыл дверь каждого шкафчика, чтобы тщательно проверить содержимое… и не нашел оснований для претензий. Даже кофейник на столе был вычищен до блеска. Я принял все меры, чтобы не дать ему ни малейшего повода помешать мне упасть в койку. И тут вдруг он указал на железную скобу, которая поддерживала балки крыши. Она была расположена высоко в углу комнаты.
– Посмотрю-ка там, – сказал он, оглядывая комнату, – принесите мне стол.
Даже если он встанет на стол, подумал я, не достанет. Однако все же подтащил стол.
Смеющийся Дьявол вскарабкался на стол и начал осматривать скобу.
– Мне нужно еще на что-то встать. Принесите мне что-нибудь подходящее.
Я принес небольшой столик, на котором мы играли в карты или в шахматы, и поставил на большой стол, прямо под железной скобой.
Унтер-офицер забрался наверх и снова осмотрел скобу.
– Нужно еще что-нибудь. Табурет.
Взобравшись на табурет, Смеющийся Дьявол провел облаченной в белую перчатку рукой по верхней части железной скобы. Вообще, учитывая высоту и непрочность конструкции, на которой он стоял, это был довольно смелый поступок. Когда он не спеша спустился вниз, то подошел поближе и молча поднес руку прямо к моему носу. В этот момент он был похож на актера пантомимы.
– Что, – спросил он снова, слегка наклонив голову набок, – что это такое?
– Пыль, унтершарфюрер, – стыдливо ответил я.
В «Лейбштандарте» мы, в отличие от вермахта, никогда не добавляли к званию вышестоящего начальника слово «господин»…
Раздался хлопок, и мне в лицо ударило небольшое облако пыли. Я закашлял и чихнул.
– Вымыть здесь все. Дочиста! Позже я вернусь и все проверю.
Я покачал головой, провожая взглядом унтершарфюрера, шаги которого постепенно стихли на лестнице. А потом, вздохнув, попробовал как-то настроиться на выполнение сверхзанудного задания. Я вытер все скобы, все балки, потом освободил от вещей каждый шкафчик и тоже начисто все протер. Я вымыл полы. Соседи по комнате начали жаловаться на шум, и я спешил закончить все поскорее, чтобы не мешать их отдыху. Полностью измученный и опустошенный, я наконец присел, вслушиваясь в храп моих товарищей и ожидая прихода Смеющегося Дьявола. Около 3 часов утра появился командир роты Бекер и спросил, почему я все еще не сплю. Я все ему рассказал.
– Отправляйтесь в постель, – приказал он. – Я сам этим займусь.
Бекер назначил унтершарфюрера дежурным еще на сутки, и на некоторое время я был избавлен от общения с ним.
На плацу, под зорким взглядом каменного орла на парапете, нас построили в шеренги, составляющие три стороны квадрата. Перед нами стояли оберштурмфюрер Ганс Бекер и командир взвода с полковым штандартом. По сигналу Бекера командир взвода опустил знамя, его отделанные золотом края переливались в солнечном свете, пока флагшток не занял горизонтальное положение. Представители от каждого взвода промаршировали вперед, и каждый положил левую руку на древко. Это послужило для всех сигналом вскинуть вверх правую руку.
Оберштурмфюрер Ганс Бекер прочитал текст «Fahneneid», военной присяги, напоминавшей клятву тевтонских рыцарей, о которых мой школьный учитель господин Верт рассказывал в классе несколько лет назад.
– Клянусь тебе, Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру рейха, быть верным и мужественным. Я торжественно обещаю быть преданным тебе и назначенным тобой начальникам до самой смерти, и да поможет мне Бог.
Гордо расправив плечи, я повторил присягу, поклявшись, как и все, отдать свою жизнь за фюрера.
Глава 4 До свидания, Лихтерфельде!
Все до блеска начистили сапоги и вычистили униформу. На них не было ни пятнышка! Мы выглядели просто великолепно. Я с нетерпением ждал своего первого официального отпуска. Позавтракали мы в спальном помещении. Потом появился Смеющийся Дьявол и придирчиво осмотрел каждого, желая убедиться, что мы оправдали высокие надежды «Лейбштандарта». Довольный нашим внешним видом, он одобрительно кивнул и удалился. Помещение наполнил гул ликования, напоминавший шум и веселье на школьном дворе. Полчаса спустя из-за двери вновь появилась голова унтершарфюрера.
– Командир роты Бекер желает с вами поговорить. Общий сбор на плацу ровно через пять минут.
Мы поправили свои головные уборы и помчались вниз по лестнице. Смеющийся Дьявол и командир роты Бекер уже поджидали нас на плацу.
Стуча сапогами, мы энергично построились в ровные шеренги. На бледно-голубом безоблачном небе ярко сияло солнце. Все были бодры, предвкушая скорую встречу с друзьями и родными.
– Смирно! Равнение на середину.
– Солдаты, – торжественно обратился к нам командир роты, – у меня для вас неприятные новости. С сожалением довожу до вашего сведения, что ворота казармы отныне закрыты. Отпуск отменен до особого распоряжения. – После длинной паузы он продолжал: – Сегодня утром наш фюрер выступил со специальным заявлением по радио. У меня есть стенограмма этого заявления, которую я сейчас зачитаю.
Последние слова в этой длинной речи звучали примерно так: «Судьба Европы и будущее рейха теперь в ваших руках, и да поможет нам Бог в этой борьбе!»
Мы стояли в гнетущей тишине, пытаясь осознать всю чудовищность внезапного объявления: мы теперь в состоянии войны с Россией!
– Солдаты «Лейбштандарта»! – громко крикнул Смеющийся Дьявол. Глаза его были широко раскрыты, а голос дрожал от гордости. – Вы знаете, что делать, когда вернетесь в казармы. Вы должны быть готовы в любую секунду выполнить приказ. Рота, разойтись!
Мы тут же поняли, что обучение, строевая подготовка и караульная служба подошли к концу, и взволнованно перешептывались друг с другом, когда направились обратно в казармы. Как раз в этот час разворачивался «План «Барбаросса» – операция по молниеносному наступлению на большевиков. Наши вожди ожидали, что русские, несмотря на соглашение с нами, наверняка воспользуются шансом ударить нам в тыл, когда мы решим вторгнуться в Англию. Чтобы предотвратить эту угрозу, наши войска перешли в наступление на широком фронте, простиравшемся от берегов Балтики до Черного моря[11].
Мы упаковали свои вещмешки и принялись ждать. Поначалу все судорожно бросались к окнам, заслышав рев грузовиков на плацу, но никакого сигнала нам пока никто не подавал. Взволнованная болтовня постепенно уступила место мрачной тишине. Вечерний прием пищи прошел без новостей. Когда стемнело, мы улеглись на койки в полном обмундировании, лишь сняв сапоги.
После утренней переклички мы вернулись к обычной рутине. День прошел без особых происшествий. После наряда я наткнулся на Макса.
– Слышал о Бекере?
– Я был в карауле и ни с кем не разговаривал, – ответил я.
– В него стреляли. Прошлой ночью его отвезли в госпиталь СС на Унтер-ден-Эйхен.
Странные новости…
– А кто это сделал?
– Часовой у рейхсканцелярии. Такие ходят слухи, – ответил Макс.
Подробностей стрельбы никто толком не знал, но в казармах из-за этого уже царило оживление. Позже мы выяснили, что Бекер проверял посты у рейхсканцелярии, прячась среди кустарников. К сожалению, он не смог вовремя ответить, когда часовой окликнул его. Тот взял и выстрелил. Пуля угодила в правую ногу Бекера, возле паха, и вышла наружу.
За безукоризненное исполнение служебного долга часового тут же произвели в обершутце (рядового первого класса). Хотя, конечно, все могло сложиться намного хуже, причем как для него самого, так и для Бекера…
* * *
В начале августа 1941 года мы получили известие о скорой приписке к полевой части. Однако у меня возникли некоторые сложности. Инфекция, развившаяся на правом указательном пальце после небольшого ушиба, требовала вскрытия и последующей медикаментозной обработки. За день до предполагаемого отъезда из Лихтерфельде я явился к нашему ротному врачу.
– Шутце Бартман, я вижу, что палец ваш еще не полностью зажил, – сказал он после осмотра и повторного изучения записей в своем журнале.
– Оберштурмфюрер, это не мешает мне полноценно пользоваться оружием. Боль, скорее, у меня в голове, – бодро ответил я, повторив фразу, которую старательно вдалбливали в каждого новобранца.
На лице врача мелькнула раздраженная улыбка.
– Однако я должен предложить вам шанс остаться в Берлине, пока ваша рана не будет излечена полностью.
– Я предпочел бы находиться со своими товарищами, – ответил я с невольной мольбой в голосе.
Доктор кивнул, взяв ручку из держателя на столе, и дописал несколько строчек в документах.
– Не волнуйтесь, – сказал он. – Вы отправляетесь завтра, на том же поезде, что и ваши товарищи!
После утренней переклички каждый получил большую салями, банку мясных консервов и немного масла и хлеба. Мы упаковали провизию в вещмешки и построились для марша к железнодорожной станции в Лихтерфельде, где перрон был уже переполнен штатскими и военными. Военный оркестр играл какой-то пронзительный марш, укрепляя в нас, на все согласных жертвах, иллюзию неуязвимости. Обергруппенфюрер фон Йена обратился с речью, от которой мы почувствовали себя героями. Героями, которым предстояло «завалить» большевистского «медведя» и спасти европейскую культуру. Когда ободряющая речь фон Йены была закончена, мы с воодушевлением погрузились в вагоны ожидающего нас эшелона.
Все пытались протолкнуться поближе к окну и еще раз увидеть красочную сцену на перроне. 16—17-летние девушки из Союза немецких девушек (Bund Deutscher Madel) махали нам небольшими красными флажками со свастикой, в то время как рота юношей из «гитлерюгенда» выкрикивала лозунги. Праздничное настроение нарушил пронзительный свисток, и военный оркестр заиграл «Прусскую славу» (Preussens Gloria). Паровоз фыркнул, словно черный механический дракон, с нетерпением ожидающий, когда же можно двинуться в путь. Находящиеся в вагонах качнулись в унисон, когда поезд пришел в движение. По перрону, тряся косичками, бежала спортивного вида девушка. С грустной улыбкой на лице она посылала воздушные поцелуи одному из солдат.
Собравшись хаотичными группами, матери прикладывали к мокрым от слез лицам носовые платки. Когда эшелон набрал ход, я пробрался к открытому окну и махнул рукой, успев в последнюю секунду поймать взгляд матери. Она с трудом натянула улыбку на бледное лицо и, взмахнув носовым платком, ответила на мое прощание.
Над шпилями большого города повисло кроваво-красное солнце. Поезд замедлил ход. Скучающие лица моих товарищей посветлели. Мелькнул дорожный знак: «Краков». Еще до полной остановки эшелона унтер-офицеры и офицеры принялись открывать двери вагонов. Мы высыпали на платформу и выстроились повзводно, ожидая дальнейших указаний от командиров.
– Подходящего транспорта нет. Добираться к месту назначения придется пешим порядком, – объяснил один из офицеров.
Вечерний воздух был свеж и приятен, и я надеялся вскоре вытянуть ноги и как следует отдохнуть после долгого перегона. Напевая солдатские песни и стуча сапогами, мы дружно маршировали по мостовой. В голове у меня снова мелькнула мысль о том, что это и есть воплощение юношеской мечты – стать солдатом знаменитого «Лейбштандарта».
Приближались сумерки. Маршируя вдоль трамвайных рельсов, мы прошли по мосту через Вислу. Вскоре рельсы исчезли за двумя массивными деревянными воротами, над которыми виднелась надпись на иврите. На вершине центрального столба, разделяющего створки ворот, красовалась шестиконечная звезда Давида.
Как будто повинуясь собственному тайному желанию, правая створка ворот со скрипом открылась перед нами, словно приглашая в мрачный и зловещий мир. Мы притихли и молча маршировали по темным улицам. Сверху, из открытых окон, на нас испуганно смотрели изможденные лица. Из-за открытых дверей обветшалых домов то и дело раздавались насмешливые выкрики. Чьи-то руки подносили к окнам горшки с нечистотами и выплескивали прямо на улицу, норовя попасть в нас.
– Не обращайте внимания, – приказал офицер, – у них тут свои обычаи и законы…
Покинув район гетто, мы проследовали вверх по дороге, пока не добрались до казарм, где были расквартированы части дивизии ваффен СС «Мертвая голова». Войдя в казарму, мы швырнули вещмешки на койки. Те, на кого все-таки попала вылитая из окон моча, принялись стирать одежду. К счастью, большинство сослуживцев из моего взвода избежало этой малоприятной участи. Пока я дожидался отбоя, в голове у меня то и дело всплывали мрачные картины из гетто. В одночасье война перестала казаться мне такой уж героической…
Утром возобновилась обычная рутина – переклички, новые инструкции, еще больше подготовки. Так продолжалось четыре или пять дней, потом нас снова отвезли на железнодорожную станцию, на этот раз пришлось трястись в вагонах для перевозки скота, сидя на устеленном соломой полу. От торжественного отъезда из казарм на Лихтерфельде нас уже, казалось, отделяла теперь целая вечность. Мы отправились в утомительный путь, все время петляя и куда-то сворачивая, чтобы, как нас проинструктировали, ввести в заблуждение вражеских шпионов.
После нескольких дней пути мы, изнывая от духоты, прибыли на отдаленную железнодорожную станцию. Я в удивлении уставился на окрестный пейзаж – безбрежное море переливающихся на солнце желтых подсолнухов. Мы вышли из эшелона и сели в грузовик, который по петляющей дороге привез нас к какому-то большому амбару. Здесь нам и предстояло провести ночь. К тому времени я уже отбросил мысли о еврейском гетто, загнал их в самые дальние закоулки памяти. Да, неприятно, но, в конце концов, это не мое дело. Ах, эта извечная юношеская наивность!
С наступлением сумерек мы собрали хворост в соседней роще и разожгли большой костер. Усевшись вокруг, мы принялись напевать давно знакомые песни, которые уже пели тысячу раз. Появился пожилой крестьянин. Стоя поодаль, он смотрел на нас и слушал, как мы поем. Дежурный унтершарфюрер, отвечающий за наш небольшой отряд, жестом пригласил его подойти поближе. Крестьянин подошел к нам. Мы улыбнулись. С ним заговорил один из наших товарищей, который знал несколько слов по-русски.
Но старик крестьянин ответил на чистейшем немецком:
– Вы не возражаете, если я послушаю?
Оказалось, что это украинский фольксдойче, этнический немец, предки которого обосновались на Украине много лет назад. Все засмеялись и с надеждой посмотрели на унтер-офицера. Тот кивнул и подозвал украинца:
– Подойдите и садитесь с нами у огня.
Пока мы непринужденно болтали, подошло еще несколько украинцев, и среди них молодая женщина приблизительно 25 лет.
– Еще несколько месяцев назад, – рассказала она, – у меня было три брата. А теперь нет ни одного. Всех увели коммунисты. Пять лет назад мои братья жаловались на колхозные порядки, – объяснила она. – Их тут же осудили, назвали кулаками, врагами народа. Понятия не имею, где они теперь. Мои письма властям остаются без ответа. Сейчас они арестовали почти всех, кто младше шестидесяти лет. Обвиняют в шпионаже. Один только Бог знает, где теперь мои братья.
– Нам всем повезло, что мы выжили, – сказал старик, взмахнув рукой. – Меньше десяти лет назад нас тут морили голодом. Страшные были времена. Даже были случаи людоедства: некоторые похищали детей, чтобы потом съесть их. Иногда, говорят, на это решались даже их родные, доведенные голодом до безумия…
Я с трудом мог поверить, что в таком плодородном крае может случиться голод.
– А вы сами видели что-нибудь подобное? – спросили мы. – Случаи людоедства?
– Самому не приходилось. Открыто такими вещами никто не занимался, тем более на виду у соседей, – ответил старик, опустив глаза. Он поднял ветку, лежащую у костра, с грустным видом поднес к огню и держал, пока та не начала тлеть. – Во время голодомора я потерял четырех внуков. Да, голодомора – так мы называем эти страшные времена. – В его мокрых от слез глазах отражались языки пламени. – А лакеи коммунистов прибивали к стенам и телеграфным столбам плакаты, на которых было написано, что есть детей – это варварство.
– А из-за чего начался голод?
– Да никакого голода не было, – ответил старый крестьянин, и в его хриплом голосе послышались нотки отвращения. – Это делалось преднамеренно[12]. Мы сопротивлялись коллективизации. Доходило до того, что некоторых заставляли собственноручно рыть себе могилы и тут же расстреливали. Они забрали у нас инвентарь и весь урожай. Не было никаких сил смотреть на то, как голодают наши люди: лица матерей почернели, детишки исхудали, их кости сделались тонкими, как барабанные палочки. Я ненавижу Сталина, и пусть Бог услышит мои слова!
Теперь, чувствуя себя скорее освободителем, нежели завоевателем, я был убежден, что наше присутствие в этой части света целиком и полностью оправдано. Я ведь собственными ушами слышал, что рассказывали люди о сталинской жестокости. И решил, что, описывая большевизм, Гитлер нисколько не преувеличивал – или, по крайней мере, так мне казалось в то время…
Мрачное молчание нарушил веселый голос унтершарфюрера:
– Друг мой, теперь здесь мы, и вам больше не стоит беспокоиться о Сталине.
И звучным голосом он запел: «На лугу цветочек маленький расцвел…» – фрагмент из известного нацистского марша «Эрика».
Пение помогло немного смягчить воцарившуюся атмосферу отчаяния. За первой песней последовали другие, как на немецком, так и на украинском языках. Все собравшиеся возле костра наслаждались веселой компанией до тех пор, пока не пришел унтерштурмфюрер (лейтенант войск СС) и не напомнил, что настало время отбоя. Мы умоляли его разрешить нам продолжить эту стихийную вечеринку.
– Нам ведь не повредит немного получше узнать местных жителей, – пробовал объяснить наш унтершарфюрер.
– Когда я подаю команду, – поднял голос унтерштурмфюрер, – то ожидаю немедленного повиновения – без колебаний и ненужных вопросов. Вы понимаете? Вы же солдат «Лейбштандарта»!
– Но, унтерштурмфюрер!.. – рискнул вмешаться кто-то из моих товарищей, но офицер сразу же перебил его:
– Еще одно слово, и каждый из вас предстанет перед военно-полевым судом СС.
С этими словами он круто развернулся и исчез в тени соседних деревьев.
А наш унтершарфюрер – сын фермера с румяным лицом – негромко, но так, чтобы все услышали, проговорил:
– Любитель правил и инструкций… А ладить с людьми так и не научился…
Вообще-то подобное буквоедство было редким явлением: другие командиры, под началом которых мы служили, были все, без исключения, прекрасными людьми и умели расположить к себе простых солдат. Несмотря на приказ унтерштурмфюрера завершить посиделки у костра, наш непосредственный начальник разрешил нам задержаться там до полуночи…
Выспавшись, мы продолжали путь к линии фронта. На синем небосклоне ярко сияло солнце, а мы, словно туристы, внимательно разглядывали проплывающие мимо пейзажи. В полях цвели огромные – выше человеческого роста – подсолнухи.
– Какие красивые, – сказал я нашему унтершарфюреру.
– Да уж, красивые – только это смертельная ловушка для пехоты.
Несколько дней спустя полил сильный дождь. Под колесами наших грузовиков и бронетранспортеров дороги быстро превратились в грязное месиво. Раз за разом мы вынуждены были вылезать из грузовиков, чтобы вытолкнуть их из грязи. Однажды мы никак не могли вытащить застрявший грузовик. Тогда откуда-то подвели колонну военнопленных; это были первые русские солдаты, которых мне довелось увидеть. Их заставили веревками вытаскивать завязшие в грязи грузовики и мотоциклы. На следующий день в небе снова ярко светило солнце. Грязь быстро высохла, и дороги вновь стали проходимыми.
Я был одним из 674 новобранцев, прибывших в составе пополнения, чтобы компенсировать тяжелые потери, понесенные «Лейбштандартом» во время недавнего сражения под Уманью и захвата Киева.
Однажды нас выстроили у ограды прекрасного загородного дома, который служил нашим полковым штабом. Зепп Дитрих, командир «Лейбштандарта», подошел к нам, пожал кое-кому руки и дружески поприветствовал. В это время офицеры начали отбирать личный состав для своих подразделений. Наши ряды быстро редели, и вскоре я оказался в числе десятка молодых солдат, перед которыми стояли Зепп Дитрих, унтерштурмфюрер и роттенфюрер.
– 4-я рота – это хорошо экипированное подразделение атаки. Имеет на вооружении 12 минометов и 12 станковых пулеметов, распределенных по трем взводам, – объяснил унтерштурмфюрер. – В каждый пулеметный расчет входит пять шутце (рядовых). Шутце номер один несет и стреляет из пулемета. Шутце номер два отвечает за лафет, треножник для направления пулеметного огня в определенный сектор обстрела. Каждый из остальных членов расчета несет по два ящика с патронами – по 600 патронов в каждом – и запасной пулеметный ствол. – Посчитав, он отобрал восемь моих товарищей. – Эта группа отправится с роттенфюрером, который сопроводит вас к пулеметным взводам.
Унтерштурмфюрер продолжил речь, а Зепп Дитрих наблюдал за происходящим, пристально вглядываясь в наши лица.
– Остальные войдут в группу управления роты, которая занимается обеспечением связи. Эта задача жизненно важна для нашего боевого успеха. Ваши обязанности будут включать прокладку телефонных кабелей и доставку донесений. Пулеметный и минометный огонь обеспечивает поддержку наших фронтовых пехотных частей, задача которых – вытеснить противника с оборонительных позиций в зоны поражения. Это эффективная боевая техника, зачастую приводящая к тотальному уничтожению противника, но успех во многом зависит от связи, точной связи между…
Нахмурившись, унтершарфюрер взглянул на небо.
Я машинально повернулся, чтобы понять, что происходит, и вдруг заметил пятно в небе, которое стремительно приближалось к нам. Потом услышал гул. От сильного глухого удара в бок я рухнул в мелкую траншею по другую сторону от изгороди. Опомнившись, я увидел, что рядом со мной лежит Зепп Дитрих, а вокруг клубится пыль от пуль, которыми неведомый враг осыпал нас откуда-то сверху.
Над головой проревел русский истребитель…
– В следующий раз, когда увидите подобное, немедленно бросайтесь в укрытие, – с улыбкой проговорил Зепп Дитрих – я ведь не всегда буду рядом, чтобы о вас позаботиться…[13]
Глава 5 Урок практической телефонии
Мы взяли Херсон. Здесь наш обершарфюрер получил ранение в руку. Мы миновали кладбище советских солдат, посмеялись над товарищами из горнострелковой дивизии и их верблюдами. Несколько дней мы нежились на солнце, грызли семечки, поглядывая на Черное море и его чернильную синеву, усиленную могучими пенистыми волнами. А потом нам было приказано отправляться на северо-восток, к Бериславу на берегу Днепра.
Ранним утром 10 сентября 1941 года мы достигли крутого берега, обрывающегося к Днепру. Впереди силуэты солдат, казалось, сливались с землей, когда они начинали спуск в долину, к длинному понтонному мосту, который растянулся на сотни метров к туманным теням на противоположном берегу. Вскоре настала очередь нашей 4-й роты. Шелест обмундирования, лязг металла, возбужденный смех в ответ на чью-нибудь шутку – такие звуки издавали молодые люди, собирающиеся в борьбе с большевизмом рискнуть всем на свете.
Звонкий свист заставил меня встрепенуться. Раздался крик:
– Все в укрытие!
Я тут же растянулся на земле, начав судорожно искать канаву или яму. Ударные волны от взрывов сотрясали каждую косточку в моем теле. Земля и камни летели в воздух, словно из жерла мощнейшего вулкана. Откуда-то с противоположного берега реки русский корректировщик направлял огонь артиллерии прямо на наше расположение. У меня дрожали руки и ноги. Как и другие новобранцы вокруг, я понятия не имел, что делать.
На наше счастье, неподалеку раздался чей-то уверенный голос:
– За мной!
Это был унтершарфюрер Гейнц Новотник. Несмотря на свои 20 с небольшим лет, для нас, еще совсем зеленых новичков, он был «старым зайцем», опытным солдатом, который прошел целым и невредимым через битву под Уманью. Этот человек не понаслышке знал искусство выживания. Доверившись его опыту, мы рванули вперед и бросились на землю под выступ обрывистого берега, с ужасом вздрагивая от рвущихся наверху снарядов.
– Видите, – ревел Новотник, и его голос заглушил шум канонады, – здесь вполне безопасно и можно отсидеться: снаряды ложатся на склоны или поверху.
Пока продолжался обстрел, мне удалось совладать с нервами, и я уже не обращал внимания на крики и стоны раненых, которые, казалось, раздавались отовсюду.
Новотник перекатился на спину и указал на небо:
– «Штуки»!
В этой суете я не расслышал, как подоспели наши самолеты. Уши Новотника, более чуткие и давно привыкшие к шуму войны, в отличие от моих, сразу различили характерный рев моторов немецких пикирующих бомбардировщиков Ю-87 «Штука». Сотни солдат закричали, радостно приветствуя своих, когда «Штуки» ровным строем промчались над нами. Превратившись в едва различимые пятнышки, они спикировали на цели, и мы услышали знаменитые «иерихонские трубы», душераздирающий, наводящий ужас рев, который издают эти самолеты, когда вот-вот сбросят свой смертоносный груз. На противоположной стороне реки раздались взрывы, заклубился дым. Обстрел со стороны противника резко прекратился. Мой первоначальный страх прошел, уступил место экстазу. Я ведь, по сути, только что выжил. А сколько еще раз мне предстояло это повторить?..
Когда мы добрались до реки, то миновали аккуратную прямоугольную конструкцию, слегка приподнятую над общим уровнем земли. Накрест сложенные бревна выступали к реке, словно кучка бледных, серых призраков с вытянутыми руками.
– Румынские инженеры, – объяснил Новотник. – Это они построили мост.
Рядом стоял бронетранспортер с зенитной установкой, скрытой под камуфляжем из веток прибрежных кустарников. Сидевшие у пушки зенитчики невозмутимо всматривались в небо. Пока мы перебирались через реку, внезапно из камышей, хлопая крыльями, вылетела стая водоплавающих птиц. Я следил взглядом за их низким полетом через темное русло реки. Русло, которое наверняка поглотило бы меня, человека, до сих пор не умеющего плавать, если бы я вдруг по неосторожности свалился с этого наспех сооруженного деревянного моста.
Я быстро усвоил, что выжить на Восточном фронте – задача крайне трудная, и здесь никак не обойтись без ангела-хранителя. Его следующего вмешательства долго ждать не пришлось. Нашему продвижению помешало русское боевое подразделение, окопавшееся в мелком овражке. Пехотинцы 1-й роты заняли позиции по дальнему краю поля, приблизительно в 2 километрах от ротного командного пункта, и начали перестрелку с противником. Пробираясь по сухой, покрытой выжженной травой земле, я тянул к ним телефонный кабель.
Я уже почти закончил прокладку линии связи, то и дело замирая от свиста шальных пуль. В общем, управился довольно быстро и был доволен тем, что хорошо выполнил свои обязанности. В 20 метрах впереди меня двигалась горстка наших пехотинцев. Когда мы преодолели уже половину пути, внезапный глухой удар заставил меня броситься на землю и инстинктивно искать укрытия. Подняв голову, я увидел столб тонкой пыли, висящий в воздухе, словно призрак. Когда пыль улеглась, один из пехотинцев закричал:
– Санитара! Санитара!
У меня кровь застыла в жилах. Одному из наших не повезло: бедняга наступил на вражескую мину. Судорожно оглядевшись, я заметил всего в нескольких метрах правее себя травяной дерн, более сухой и желтый, чем остальные. Под ним затаилась еще одна наспех замаскированная противопехотная мина. Я понимал, что без связи с командным пунктом наши минометные и пулеметные расчеты не смогут поддержать пехоту. И тогда она не сможет сдержать возможную контратаку противника. Возвращаться назад было нельзя. Я уже дважды благополучно пересек минное поле. Вручив жизнь своему ангелу – хранителю, я вскочил и, боясь каждого шага, продолжил прокладку кабеля.
Когда я проходил мимо раненого солдата, один из его товарищей уже пытался остановить обильное кровотечение из культей оторванных ног, в то время как другой схватил его за руку, чтобы тот не дергался. Я всеми силами старался не представлять себе ту боль, которую испытает этот несчастный, когда пройдет первый шок.
Когда я добрался до позиций стрелков, меня подозвал офицер. Я поставил ящик с телефоном на землю рядом с ним и воткнул провод заземления в сухую землю.
Офицер взял телефонную трубку и стал набирать командный пункт.
– Плохое заземление! – крикнул он. – Нет связи!
Я стал возиться с проводом заземления.
– Помочись на него! Нет, ну чему они там только учат этих желторотиков?..
Усвоив важный прием из области практической телефонии и не желая более испытывать судьбу и перетруждать своего ангела-хранителя, я на обратном пути к командному пункту все-таки обошел минное поле, совершив пятикилометровый крюк…
Глава 6 На таганрог
Яростно наступая вдоль северного побережья Азовского моря, мы, несмотря на упорное сопротивление русских, взяли Мелитополь, а потом ликвидировали прорыв противником линии фронта на участке наших румынских союзников. Продолжая наступать в восточном направлении, мы взяли Бердянск. Именно здесь после того, как меня прикрепили к пехотному взводу, я впервые ощутил на себе, что значит очистить окопы от Советов. Незаметно добравшись до траншей противника, мы разделились на две группы, и каждая бросилась на выбранный для удара участок. Неуверенность защитников, которые не знали, откуда сейчас ждать беды и кто сейчас вынырнет из соседней траншеи, свой или враг, давала нам решающее преимущество.
Упиваясь сиюминутным успехом, мы запели от радости. Надо отметить, что здесь мы все хорошо загорели, а наши волосы были выбелены жарким украинским солнцем. Мы пели победные марши вплоть до Таганрога, а к тому времени наши глотки уже совсем охрипли…
Наши грузовики остановились, пропуская колонну беженцев. Свои пожитки они несли в больших мешках, перекрученных посередине и перекинутых через плечо – так, чтобы одна половина болталась спереди, а другая – сзади. Такой прием давал возможность нести дополнительный груз в руках.
Три офицера из первого грузовика, до которого от нас было метров пятьдесят, соскочили на землю и закричали на беженцев, чтобы те не мешали нашему движению. Беженцы, главным образом женщины и дети, неохотно посторонились, образовав рваную линию вдоль придорожной траншеи.
Когда мы проезжали мимо них, одна девушка лет восемнадцати опустила свой мешок на землю и ловким движением руки заправила прядь темных волос за ухо.
– Счастливого пути, – произнесла она по-немецки и помахала рукой. Возможно, это были единственные немецкие слова, которые она знала.
– Спасибо, спасибо, – ответил один из солдат, сидящий у борта грузовика, и его загорелое лицо озарила широкая белозубая улыбка. – Боже, да она хорошенькая! – воскликнул он, вытягивая шею, чтобы подольше держать девушку в поле зрения, пока грузовик проезжал мимо офицеров, стоявших у края дороги и наблюдавших за продвижением колонны.
Я уже и не думал, что снова услышу голос этой девчонки, но потом вдруг до нас донеслись ее крики, которые не смог заглушить даже рев моторов. Мы все вскочили со своих мест, чтобы посмотреть, что там стряслось.
– Ради бога, что еще за шутки?! – сердито воскликнул один из товарищей.
В конце колонны девушка изо всех сил пыталась вырваться из объятий одного из крепких немецких солдат. Офицеры, встревоженные происшествием, бросились к девушке, на ходу выхватывая пистолеты. А та, не в силах совладать с насильником, отчаянно кричала и плакала, пока тот срывал с нее одежду, не обращая внимания на приближающихся к нему офицеров.
Трое офицеров с трудом оттащили от перепуганной девчонки одного из ветеранов «Лейбштандарта», участника Греческой кампании[14], и толкнули его на землю. Раздались пистолетные выстрелы, и солдат остался неподвижно лежать на земле. Раскрыв рот от удивления и ужаса, мы провожали взглядами офицеров, которые торопились занять места в головном грузовике нашей колонны. Оставленный гнить у обочины дороги, мертвец больше не был одним из нас. Полученный в тот день урок не потребовал никаких объяснений…
Крупный город на берегу Азовского моря Таганрог, с его металлургическим и авиационным заводами, а также прочими промышленными объектами, был для нас важной стратегической целью. Наше подразделение, изрядно поредевшее от потерь в недавних боях, состояло приблизительно из 300 человек и горстки «штурмгешутце» (самоходных бронированных штурмовых орудий, которые, как и танки, перемещались на гусеницах).
Оставив позади реку Миус, мы двигались походным маршем вдоль железной дороги, ведущей к Таганрогу с юга. Особого сопротивления со стороны русских не было, и мы не снижали скорость, а группа управления роты, в которой состоял я, занимала один из трех грузовиков, выделенных «Лейбштандарту» лично президентом фон Гинденбургом в 1932 году. Наш грузовик двигался примерно в середине колонны.
Однажды мы резко остановились. Вскочив с места, чтобы осмотреться, я увидел, как гауптштурмфюрер Кроха с биноклем в руке осторожно пробрался к краю железнодорожной насыпи слева от нас. Осмотрев местность, он приказал минометным расчетам взять под прицел участок у обочины дороги. Пулеметные расчеты заняли позиции наверху. Распределили боеприпасы. Вдали клубилась красная пыль: по направлению к нам двигался крупный кавалерийский отряд противника – из 300 или 400 всадников и множества повозок.
Тоном человека, которому только что посчастливилось отыскать клад, один из пулеметчиков с улыбкой отметил:
– Мы их сейчас перестреляем, как уток, если только они нас не засекут.
Мы заглушили моторы. С каждой минутой русские были все ближе и ближе. До нас донеслась негромкая песня. Красивая и мелодичная, она звучала то громче, то тише, словно перышко, трепещущее на прохладном ветерке. Совершенно не подозревая о нашем присутствии, русская колонна оказалась прямо перед нашими позициями.
– Огонь!
Люди и лошади смешались в кучу, попав под каскад минометных разрывов. Повозки переворачивались и разбивались вдребезги. Русские, а среди них было немало штатских, в поисках укрытия в панике бросились в тыл. Но щелкнули затворы наших пулеметов, и рассеянные группы противника попали под смертоносный перекрестный огонь. Одному из комиссаров удалось на время восстановить дисциплину и даже организовать подобие кавалерийской атаки, но, ведя огонь из более выгодной позиции, мы безжалостно пресекли эту вылазку.
По мере того как количество целей значительно уменьшилось, наш огонь перестал быть таким интенсивным, как вначале. Вскоре передали приказ прекратить огонь. Пулеметы заглохли так же внезапно, как и начали свой смертельный отсчет. Послышались слабые стоны раненых и хрип лошадей. Несколько ошеломленных русских вскочили на ноги. Подняв руки, они ожидали своей участи.
Один из наших офицеров крикнул:
– Теперь на Таганрог! За нами части вермахта – пусть они занимаются ранеными.
* * *
Нашему продвижению на Таганрог пытались помешать два русских танка, однако мы не были настроены терять время. Четыре пулемета открыли по ним огонь. Вообще, под интенсивным пулеметным огнем неопытный экипаж танка может запаниковать, и к тому же всегда есть вероятность, что шальная пуля возьмет да и залетит в щель между башней и корпусом, повредив механизм, вращающий башню.
Пока русские танки пыхтели и скрипели, а их пушки угрожающе покачивались в нашем направлении, открыло огонь наше самоходное противотанковое орудие из соседнего батальона. Первый танк взорвался изнутри с жутким грохотом. Его башню оторвало, она рухнула на землю и замерла, совершив несколько оборотов. Прежде чем успел отреагировать командир второго танка, наше противотанковое орудие сделало еще один выстрел. Второй танк немного вздрогнул, а потом остановился как вкопанный. Из подбитой машины повалил дым. Несмотря на град пуль наших пулеметов, люк танка открылся, и один из членов экипажа попытался в отчаянии выбраться. Но, качнувшись назад и раскинув руки, он рухнул, сраженный пулями, на стальной остов, который всего несколькими секундами ранее еще считался боевой машиной.
В самом сердце города, вооруженный карабином Gewehr 98, я решил укрыться в магазине на дороге, ведущей к порту. Обходя груды щебня, чтобы случайно не упасть и не подвернуть лодыжку, я для равновесия держал карабин на вытянутых руках. И тут где-то на полпути к цели справа от меня возникла яркая фиолетовая вспышка. Невидимая сила ударила меня по руке и опрокинула на землю. Какое-то мгновение я лежал абсолютно неподвижно, слушая, как бьются о каску маленькие камешки, подброшенные в воздух взрывом.
Подумав, что получил тяжелое ранение в руку, я мысленно повторил правило, которое усиленно вдалбливали мне на Лихтерфельде: «Боль у тебя в голове». В дымке тонкой пыли я с трудом поднялся на ноги и с удивлением обнаружил, что, если не считать нескольких царапин на руках, в целом я еще легко отделался. Я огляделся в поисках своего карабина. Сначала я даже не узнал разбитое оружие в куче щебня. Шрапнель, которая могла бы запросто оторвать мне ногу, напрочь отбила красивый приклад. Да, видно, снова меня выручил мой ангел-хранитель.
Укрывшись в дверном проеме и почувствовав себя в относительной безопасности, я бросил взгляд в сторону порта. Мое внимание привлекло русское судно, которое попало под безжалостный обстрел наших зениток. Над ним клубились облака черного дыма. Через некоторое время оно затонуло, блокировав вход в гавань.
Я вскоре нашел себе другую винтовку, но моя работа в тот день еще не была закончена. Меня и еще пятерых солдат из группы управления роты вызвал к себе унтершарфюрер. Он назначил нам командира, роттенфюрера из 4-й роты. Казалось, этот парень считал своей обязанностью не отбиваться от маленького круга друзей, из которого я был исключен.
– Видите эти постройки? – сказал унтершарфюрер, указывая на вершину крутого холма, выходящего на гавань. – Отведите туда солдат и займите здание рядом с маяком. Это радиостанция.
Мы проверили, достаточно ли у нас патронов в кожаных сумочках на ремнях, и без промедления направились по ступеням импровизированной лестницы вверх по холму. Несмотря на прохладный октябрьский ветер, по запыленным лицам текли струйки пота, оставляя розовые следы. Добравшись до края плато, где возвышались постройки, мы бессильно повалились на землю, чтобы отдышаться и продолжить путь.
Из здания доносились какие-то звуки, похожие на хлопки, и все это сопровождалось звоном битого стекла. Мы вопросительно переглянулись, прежде чем решили, что эти звуки не представляют какой-то особой угрозы. Наш роттенфюрер обратился к самому крупному и физически мощному солдату в нашей группе – двухметровому силачу:
– Выбей дверь. А остальные тем временем прикроют окна и боковые стены. Мы сразу же бросимся вперед, как только ты прорвешься внутрь.
Гигант без малейших колебаний широкими шагами двинулся вперед. Дверь затряслась от его здоровенных ударов. Внезапно звуки бьющегося стекла прекратились. Послышались испуганные голоса, а наш товарищ продолжал долбить дверь, и вскоре та сорвалась с петель.
Я вошел первым и заметил, как русские выскочили через другую дверь в конце длинного, узкого помещения. Я инстинктивно бросился за ними.
– Стойте! Вы же не знаете, что там, за той дверью, – рявкнул мне роттенфюрер.
Мне еще предстояло многое познать в непростой науке выживания…
Остальные солдаты нашей группы подошли к окнам в дальней части постройки и начали осторожно осматривать окрестности.
– Никого, – доложил один из солдат.
Держа автомат наготове, роттенфюрер кивнул в сторону дальней двери:
– Открывайте.
Я дернул за ручку, а роттенфюрер выбежал наружу. Он осмотрел склоны холма с противоположной стороны здания и опустил оружие.
– Все чисто, – объявил он. – Давайте посмотрим, уцелело ли здесь что-нибудь из оборудования. Мне нужно будет доложить унтершарфюреру. Они наверняка расколотили все, что можно было разбить…
Среди осколков стекла на деревянном полу сверкало несметное количество крошечных ярких капель. Это была ртуть из ламп, которые при поспешном бегстве разбили русские.
Вскоре прибыл посыльный из командного пункта с новостями о том, что мы взяли Таганрог. Наш роттенфюрер сообщил посыльному об обстановке и запросил у командования дальнейших инструкций, которые через некоторое время были переданы: удалить в здании всю ртуть – оставить открытыми все двери и окна – мы не хотим терять людей из-за отравления ртутью. Пошарив вокруг, мы отыскали совок и щетку и осторожно переместили тяжелый жидкий металл к дальнему выходу, где образовалась приличная ртутная лужица.
Бо́льшую часть следующего дня мы занимались зачисткой города от русских солдат, скрывающихся в развалинах. Пока мы проверяли кладбище, я наткнулся на тело унтерштурмфюрера, который угрожал нам трибуналом, когда мы распевали песни вместе с группой дружественно настроенных украинцев вскоре после нашего прибытия на Восточный фронт. Скрючившийся у могильного камня на углу кладбища, он был убит пулей в голову. Как это случилось, сказать трудно; на войне подобное происходит постоянно, но я всегда подозревал, что тот смертельный выстрел произвел отнюдь не противник…
Имея перед собой задачу полностью очистить город от противника, избежав потерь и даже ранений кого-либо из нашей небольшой группы управления роты, мы с нетерпением ждали наступления ночи. Едва только мы нашли подходящее место для ночлега, как я получил приказ явиться в местное бывшее отделение Государственного политического управления (ГПУ).
Стоял прекрасный вечер, солнце висело низко, и улицы утопали в золотистом свете. По указанию офицера я присоединился к очереди сослуживцев, большинство которых отправилось на Восточный фронт вместе со мной. Я стоял за Максом, тем самым парнем, который случайно выстрелил себе в ногу в казарме на Лихтерфельде.
– Знаешь, зачем нас собрали? – спросил я у него.
Он кивнул в сторону находящегося рядом колодца:
– Там нашли трупы солдат из разведгруппы 3-й роты. Без жетонов. Нас вызвали, чтобы опознать их.
Я был озадачен. Погибшие числились в разных ротах, и едва ли я мог помочь их опознать.
Внутри здания ГПУ на носилках лежали тела пяти наших товарищей. Они были накрыты простынями. Открытыми оставались только лица. Их выражения не были выражениями лиц мужчин, убитых в бою. На них, скорее, застыло выражение крайнего отчаяния.
Покинув здание, я зажмурил глаза от ослепительного солнечного света. А потом увидел, как опытный солдат сердито матерится, а слушатели из числа новобранцев угрюмо слушают его.
– Перчатки. Ублюдки, гребаные ублюдки, – хрипло повторял солдат.
Я подошел поближе.
– Видел собственными глазами, – продолжал он.
– Перчатки? О чем это вы? – перебил я.
– А-а-а… – объяснил «старый заяц», – это такое развлечение, которое устраивают русские, если им удается захватить в плен солдата СС. Они опускают ваши руки в кипяток, пока те не побелеют. – Он поднял руки, как будто собираясь снять с них перчатки. – А потом надрезают вам кожу вокруг запястьев и сдирают! Когда им надоест издеваться над тобой, то они стреляют тебе в затылок. И это если повезет. А на самом деле пытки продолжаются. Тебя могут подвесить на дереве за руки, а потом развести внизу костер, пока твои пятки не обуглятся, – и они называют это «сталинскими носками»!
Ледяная дрожь пробежала через каждое сухожилие, каждый нерв в моем теле. Мне довелось видеть солдат с жуткими ранениями от пуль или шрапнели, мин или пожара, но намеренно истязать военнопленного? Это выходило за рамки моего понимания.
– Ах, мой друг, – продолжал солдат, – разве тебе еще не рассказывали? Лучше не попадать в плен к русским…[16]
Глава 7 На волосок от смерти
К концу октября 1941 года мы перешли к обороне, чтобы перегруппировать силы и получить передышку. Для наблюдения за русскими вперед были выдвинуты разведгруппы. Мы подозревали, что противник готовит решительное контрнаступление. 4-я рота расположила пулеметные точки на склоне холма, однако из-за того, что они были слишком удалены друг от друга, в линии нашей обороны оставались большие разрывы.
Моим маленьким домом в этот период, который составил около трех недель, стал окоп приблизительно в полметра шириной и полтора метра длиной. Зарядили дожди, и, чтобы как-то уберечься от сырости, я отправился в соседний городок и приволок старую дверь, которой и накрыл свое жилище. В завершение этого строительства я насыпал земли на свою импровизированную крышу, оставив лишь крошечное отверстие, рядом с которым поставил свой телефон и четыре гранаты. Большую часть времени я проводил в одиночестве, укрываясь в своей ячейке от дождя. Жизнь в этой крошечной берлоге явно не отличалась комфортом, но я особо не унывал.
Однажды днем тишину в моем гнездышке нарушил продолжительный артобстрел. Странное это ощущение – корчиться в холодном окопе далеко-далеко от родного дома и четко осознавать, что в любой момент вражеский снаряд, того и гляди, разорвет твое тело на клочки. Еще хуже выглядела вероятность получить какое-нибудь ужасное, мучительное ранение или просто ранение, не позволяющее спастись в случае внезапной атаки русских. А у русских, как я убедился, было в запасе немало весьма изобретательных способов расправиться с военнослужащим войск СС.
Я напряженно ждал, широко раскрыв глаза, пока не утихнет канонада. Недолгую тишину разорвал нарастающий боевой клич русской пехоты, и воздух наполнился свистом пуль. Земля содрогалась от разрывов мин. Я стиснул пальцами дуло винтовки, готовясь выскочить в открытый окоп у входа в мой «бункер». Внезапно раздался сильнейший взрыв. Пришел я в себя в кромешной темноте и абсолютной тишине. В голове мелькнула мысль, что, наверное, я уже мертв и обречен провести вечность в мире, где существует лишь моя одинокая душа. Я отчаянно вцепился в землю у того места, где, как мне казалось, был вход. Вскоре блеснул свет, а потом отверстие сделалось достаточным для того, чтобы я мог просунуть в него голову. Постепенно я стал различать свист пуль, проносящихся над нашими окопами.
Чей-то голос позвал меня:
– Эрвин, Эрвин, ты не ранен?
Наполовину оглушенный, я стал озираться и увидел, как мне машут руками пулеметчики.
– Нет, – ответил я, собравшись с силами.
Они засмеялись. Я очистил развалины у входа в «бункер» и увидел воронку, где за считаные секунды до этого лежали мои гранаты. Должно быть, в них угодила пуля или шрапнель, спровоцировав взрыв, который наверняка погубил бы меня, если бы я вышел оттуда на секунду раньше. Свой телефон я так и не нашел. И снова мой ангел-хранитель уберег меня от беды…
– А мы уж подумали, что тебе конец, Эрвин, – сказал один из солдат пулеметного расчета.
Я махнул ему, чтобы показать, что все еще двигаюсь и нахожусь среди живых.
Ну а потом разгорелся настоящий бой. Как обычно, русская пехота попала в зоны поражения наших пулеметных расчетов, и вскоре образовались груды тел из раненых и убитых. Подобная атака выглядела абсолютно бессмысленной, и за убийственную тактику своих командиров русские солдаты заплатили страшную цену. Но они все равно шли вперед, увязая в грязи, спотыкаясь о трупы и наступая на раненых. Наступление захлебнулось. Огонь с нашей стороны прекратился. Нам приказали закрепить штыки. Обычно такой приказ отдавался при зачистке населенных пунктов, где ожидались рукопашные схватки. Однако русские взметнули руки в воздух и начали сдаваться. Для них война была закончена…
Когда мимо проходили пленные, я выбрался из своей стрелковой ячейки, чтобы поближе рассмотреть их. На лицах многих из них застыла паника, ведь они поняли, что сдались частям ваффен СС. Без сомнения, они верили тому, что написано в советских пропагандистских листовках, и боялись, что вскоре будут все расстреляны[17]. Почти все военнопленные шли опустив глаза, но я все же перехватил взгляд одного из них и сделал ему, как я надеялся, дружественный жест, слегка махнув рукой. Этот русский, высокий, скуластый крепыш, горько кивнул, сунув руки в карманы. Поравнявшись со мной, он тяжело покачал огромной головой, показал мне свои пустые ладони. Я указал на его пилотку. Он молча снял ее с головы и вытащил советскую красную звезду. Он вручил ее мне с кривой улыбкой, и я увидел, что у него нет нескольких передних зубов. Потом он вздохнул и присоединился к своим товарищам. Отойдя немного, он оглянулся. Я махнул ему на прощание, а он тоже махнул в ответ.
У меня сохранилась эта звездочка. Она лежит в одной коробочке со значком за ранение и Железным крестом. Вообще, если оглянуться назад, напрасно я принял этот подарок. Если бы я попал с ним в плен, то, возможно, это побудило бы русских придумать для меня еще более изощренные пытки, чем обычно. Никто бы не поверил, что все произошло именно так, как я описал. Однако в минуты воспоминаний, когда вынимаю эту звездочку из коробки, я мысленно возвращаюсь в тот памятный день и втайне надеюсь, что тот русский бедолага все-таки выжил и вернулся к своей семье…
Черная грязь хлюпала под ногами при каждом шаге. Ледяной дождь барабанил по нашим каскам, разбиваясь на миллионы брызг. Мы подошли к краю поля, выходящего на мрачную, обветшалую деревню с непонятным названием, и ждали возвращения разведывательной группы из шести человек. Капли почти непрерывным потоком стекали с краев моей каски.
Командир нашего взвода начал волноваться и напряженно всматривался в сумрак через бинокль.
– Проклятье, – выругался он. – В такой дождь ни черта не видно! – И добавил: – Без приказа не стрелять!
Но его приказ оказался ненужным: никто из нас не собирался открывать огонь без его команды. Метрах в двухстах от нашей позиции из редкого кустарника вышли какие-то силуэты. Один из них трижды махнул обеими руками, сделал паузу, затем махнул еще два раза.
– Это они, – с облегчением проговорил командир взвода, опуская бинокль.
Вскоре разведгруппа подошла к нам. Проходя мимо нас, они проклинали непрекращающийся дождь.
– Да уж, друзья, – хрипло проговорил один из разведчиков, – сегодня вечером нам предстоит побороться за место на койке!
Наше отделение управления роты прикрепили к одному из пехотных подразделений для поддержки во время наступления. В ожидании уличных боев мы примкнули штыки к своим винтовкам. Когда мы вошли в деревню, то попали под огонь русского пулемета и сразу потеряли несколько человек. Я успел заскочить в ближайший дом. Вражеские пули тут же изрешетили дверь и дверной проем. Во все стороны разлетались куски штукатурки, едва не поранив мне лицо. Вскоре заговорили и наши MG-34. Раздался приглушенный взрыв. Треск пулеметов с обеих сторон резко прекратился. Подождав немного, я осторожно выглянул из своего убежища и увидел, что из окна дома в полусотне метров от меня клубится дым. Одному из наших удалось подобраться поближе и швырнуть в окно гранату…
Так, занимая улицу за улицей, мы вели изнурительный бой под холодным проливным дождем, пока наконец полностью не очистили деревню от противника.
Но не успели мы толком наладить оборону, как русские бросились в отчаянную контратаку, вынудив нас отступить. Перегруппировавшись, мы выдвинулись вперед еще раз, чтобы вернуть потерянные позиции. При этом отдельные дома несколько раз переходили из рук в руки.
К вечеру мы окончательно вытеснили русских. Наша рота понесла лишь незначительные потери. Убитых и раненых оказалось гораздо меньше, чем ожидалось в такой непростой ситуации…
В гостиной дома на углу улицы расположилось всего четверо солдат, и это был единственный дом, занятый немцами в радиусе 100 метров. Надо сказать, что мы находились в довольно уязвимом положении. Однако после изнурительного дня каждый почувствовал большое облегчение от того, что удалось хоть на время укрыться от дождя, который все еще нещадно барабанил по уцелевшим оконным стеклам. У стены напротив единственного окна стояла кушетка с изодранной красной обивкой. Другой мебели в комнате не было. Улучив несколько минут, мы расположились на ней, чтобы перекусить промокшим хлебом и холодной колбасой. А потом стали устраиваться на ночлег – в мокрых, пропахших плесенью гимнастерках…
Когда ночью я сменил на часах Бориса, румына немецкого происхождения, дождь немного ослаб. Борис бегло говорил по-русски, благодаря чему его в роте часто привлекали неофициальным переводчиком для допросов пленных и общения с местным населением. Я наблюдал из окна, как мокрая улица то и дело освещалась лучами серебристого света, если луне удавалось пробиться сквозь плотную завесу облаков. Борис свернулся калачиком в углу комнаты возле двух других наших товарищей и сразу же захрапел. Я поставил винтовку к стене и старался не обращать внимания на урчание своего голодного желудка.
Целый час я отчаянно боролся со сном и чувствовал, что усталость вот-вот одолеет меня. Однако вскоре слабый ветер донес до меня голоса, и сон как рукой сняло. Я осторожно выглянул и стал напряженно всматриваться в даль. Кажется, голоса стали громче? Может быть, это была своего рода слуховая галлюцинация, навеянная усталостью и голодом? Или это были все-таки голоса русских солдат? Я напряг уши. Моя кровь сделалась такой же холодной, как капли дождя, который нещадно терзал нас целый день. Едва дыша, я схватил винтовку.
– Эрвин, – прошептал мне Борис, – что это? Мне показалось, я слышу голоса…
Не сводя глаз с залитой лунным светом улицы, я ответил:
– Сюда идут русские. Не меньше десятка…
Мой палец уже застыл на спусковом крючке винтовки, когда вражеские солдаты остановились прямо у нас под окном. Вооруженные автоматами, они бы наверняка начали штурм, если бы обнаружили меня. Имея в своем распоряжении лишь винтовки и гранаты, мы едва ли смогли бы оказать им достойное сопротивление. Затаив дыхание, я отодвинулся поглубже в тень, но по-прежнему держал противника в пределах видимости.
В этот момент среди русских, вполголоса разговаривавших между собой, возник какой-то спор. Один из солдат энергично указывал пальцем в направлении, откуда они только что прибыли. Внезапно голоса стихли. Кто-то позвал их с дальнего конца улицы. Раздался приглушенный смех. Кто-то похлопал по спине солдата, который только что спорил, и они все скрылись из вида. Опустив винтовку, я с облегчением выдохнул – впервые за несколько минут, показавшихся мне вечностью.
Потом мое внимание привлекло скрипение окна в задней комнате.
– Радуга…
Это был наш пароль, произнесенный голосом Бориса! Разволновавшись, я не заметил, как он исчез. Он вошел в гостиную с улыбкой на лице.
– Эрвин, ты слышал, как русских позвал их командир?
– Еще бы! – ответил я. – Считаю, нам крупно повезло.
Борис захихикал:
– Так вот, никакой это был не командир. Это был я! Теперь ты должен будешь за меня подежурить.
В этот момент проснулись два наших товарища. Продирая глаза и вопросительно поглядывая на нас, они не осознавали, какая страшная опасность подстерегала их всего несколько минут назад…
Глава 8 Бескрайняя степь…
Землю сковали вечерние морозы. Непролазная грязь затвердела. Теперь наши танки, бронетранспортеры и грузовики могли относительно свободно передвигаться по холмистой местности. До Ростова-на-Дону, открывающего путь к кавказским нефтяным месторождениям, было уже рукой подать.
В 3 часа ночи 17 ноября опустился невероятно густой и холодный туман, в котором буквально тонули все звуки и усиливалась темнота. В 6 часов утра к солдатам обратился гауптштурмфюрер фон Вестерхаген.
– Перед нами непростая задача, – сказал он. – Предстоит трудный бой. Напоминаю, что, поскольку возможны ранения в область живота, надо воздерживаться от еды.
Это предупреждение мы уже слышали раньше, и не раз.
Вскоре с первыми лучами солнца туман поднялся, словно занавес, открывая перед нами театр боевых действий. Пехотинцы 1-й и 2-й рот при поддержке минометных и пулеметных расчетов 4-й роты и дивизиона «штурмгешутце» (штурмовых орудий) перешли в наступление. На некотором удалении от пехотинцев 4-й роты заняли позиции танки с намалеванными на броне белыми буквами G (обозначавшими, что эти боевые машины – из 2-й танковой армии Гудериана[18]). Сделав по нескольку выстрелов, танки оставались на месте, вперед не продвигались. А штурмовые орудия без колебаний последовали за передовыми частями пехоты в самую гущу боя.
Мы засели в глубоком противотанковом рву, ожидая дальнейших приказов. Такие рвы, с их крутыми, скошенными склонами, представляли собой опасное препятствие для танков. Не имея пространства для разворота, танк, угодивший в такую ловушку, был, по сути, лишен возможности вести огонь. Естественно, каждый танковый экипаж хотел бы избежать столь уязвимого положения, и танки держались на почтительном удалении. Тем временем наши саперы занимались разминированием. Свое дело они знали хорошо, и вскоре мы снова могли двигаться дальше.
Увидев вдали крыши домов на окраине Ростова-на-Дону, мы с удивлением наблюдали, что танки не сопровождают наше наступление, а держатся вдали от пехоты. Однако мы продолжали выполнять намеченный план, продвинувшись вперед еще на десяток километров. Потом мы стали окапываться, ожидая новых приказов, но противник, ошеломленный нашим стремительным наступлением, поспешно откатывался назад. От планов окопаться мы тут же отказались и бросились преследовать русских, чтобы не дать им времени закрепиться на новых оборонительных позициях.
К тому времени, как мы добрались до окраин Ростова-на-Дону, оторвались от основных сил. У нас не было ни радио-, ни телефонной связи с ними. Зепп Дитрих, командир нашей дивизии, отправил разными маршрутами двух мотоциклистов, чтобы восстановить связь с командным пунктом. Еще связные должны были доложить о том, что мы намерены преследовать русских до Дона, где рядом находились два моста – стальной железнодорожный и деревянный для прочего транспорта. Вскоре мы овладели железнодорожным мостом. Однако недостаток боеприпасов не позволил нам предотвратить отход значительной группы русских войск через деревянный мост. Отступление русских прошло быстро и организованно, и в ближайшие дни нам пришлось пожалеть о том, что нам не удалось им помешать.
Когда, наконец, танки Гудериана[19] появились в Ростове-на-Дону[20], я слышал, как один из офицеров «Лейб-штандарта» выразил свое возмущение командиру танка:
– Куда, черт побери, вы подевались? Где ваши танки?
– О, мы не сопровождаем пехотные части, пока не налажены надежные проходы через противотанковые рвы, – объяснял тот.
Вскоре после того, как наши войска вошли в Ростов-на-Дону, я оказался в группе солдат, среди которых был унтершарфюрер по имени Хан. Мы бродили вблизи уличного перекрестка, делясь друг с другом новостями о том, кто из знакомых выжил, а кто погиб. Когда мы подошли к высокому деревянному забору, окаймляющему одну сторону улицы, ворота – почти неразличимые на фоне самого забора – вдруг резко распахнулись изнутри.
– Внимание! – крикнул унтершарфюрер Хан.
Передо мной мелькнул русский офицер в длинном коричневом кожаном пальто. Он сделал несколько выстрелов из револьвера. Застонав, Хан согнулся. Не успел я опомниться, как русский захлопнул ворота.
Схватившись за живот, Хан прохрипел:
– В погоню за этим ублюдком!
Не задумываясь о том, какая опасность может нас подстерегать на той стороне, мы очертя голову бросились за ворота. Однако русский оказался на редкость проворным, и нам не удалось сделать ни единого выстрела. Возвратившись, мы обнаружили унтершарфюрера лежащим на земле.
Я бросился к нему, опустился на колени и готов был уже наложить повязку. Однако, когда я перевернул раненого на спину, стало ясно, что спасти его не удастся. Было уже поздно. Вся его гимнастерка вокруг живота была в крови. Я застыл на мгновение, беспомощно наблюдая последние движения его губ и растерянно думая, как внезапно может оборваться жизнь любого из нас в этом проклятом городе.
– Вот, накройте его этим. – Один из моих товарищей протянул брезентовый плащ.
– Но мы же не бросим его здесь, посреди дороги, – запротестовал я.
– Оттащим к забору. Кто-нибудь найдет его и потом похоронит, – услышал я в ответ.
Позже в тот же день я протягивал телефонный кабель к пулеметному расчету, который расположился вблизи железнодорожной станции. В этот момент ко мне подошел унтерштурмфюрер.
– Когда закончите прокладку кабеля, явитесь в полевой госпиталь и осмотрите тело Хана. Это всего лишь формальность, но в данных обстоятельствах нам нужно его опознать, – объяснил он.
Отыскать пулеметный расчет не составило труда. Пулеметчики обстреливали русский эшелон, который тянули два тяжелых паровоза, и каждый выбрасывал в стороны облака плотного пара. Пули желтыми вспышками отскакивали от бронещитов ведущего паровоза. Потом в него угодил наш снаряд, раздался взрыв, и эшелон остановился. Второй снаряд поразил первый товарный вагон позади паровоза, в щепки разбив его деревянные стенки. С высокой позиции на холме расчет 88-мм зенитного орудия вел беспрепятственный огонь по беззащитной цели. Дверцы двух пассажирских вагонов в конце эшелона распахнулись. Среди людей, с криками выпрыгивающих на землю, были женщины и дети…
– Черт возьми, да там полным-полно штатских, – проскрежетал зубами пулеметчик, который тут же прекратил огонь.
– Почему они не перебегут на другую сторону? – прошипел я. Было видно, как снаряды продолжают накрывать толпы штатских, разрывая на клочки ту тонкую грань, которая разделяет честь от варварства. В наши дни о таких инцидентах сообщают как о побочном, или косвенном, ущербе…
– Наш орудийный расчет не может видеть их с такого расстояния. Это просто кровавая бойня, – сказал пулеметчик.
Когда огонь прекратился, прибыл на машине командир роты Кроша, и я помог ему осмотреть тела убитых. Позже из найденных при погибших документов выяснилось, что пассажирами тех вагонов были комиссары и высокопоставленные советские чиновники, которые рассчитывали сбежать вместе с семьями.
Завершив эту мрачную миссию, я вернулся в полевой госпиталь, чтобы опознать тело унтершарфюрера Хана.
Один из наших танков пробил злополучный забор и случайно наехал на голову бедняги, и теперь она была плоской, как блин. Любопытно, что его все равно было легко узнать. На расплющенном лице еще сохранились какие-то характерные для него черты…
Прежде чем войти в кабинет командира батальона Фрица Витта, я тщательно расправил гимнастерку. В углу комнаты лежала немецкая овчарка Булли, и ее большие карие глаза следили за каждым моим движением. Четыре младших офицера внимательно слушали Витта, а тот показывал им что-то на карте, разложенной на широком столе.
– Штурмбаннфюрер! – отчеканил я, щелкнув каблуками и вытянув руку в нацистском приветствии. – Шутце Бартман явился по вашему приказанию.
Облаченный в безупречный мундир, на котором красовался Рыцарский крест, штурмбаннфюрер Витт оторвался от карты.
– Ах да, шутце Бартман! Сейчас я кое-что вам покажу, – сказал он, слегка кивнув и приглашая меня следовать за ним.
Четыре младших офицера почти не обратили на меня внимания. Я проследовал за штурмбаннфюрером к окну, из которого были видны два моста через Дон.
– Рота оберштурмфюрера Шпрингера пытается создать плацдарм на противоположном берегу, – объяснил штурмбаннфюрер, – но у нас пока нет с ними связи. Так вот, вы, шутце Бартман, и исправите этот просчет.
– Яволь, штурмбаннфюрер! – бодро ответил я.
– Поскольку нет радиосвязи с 3-й ротой, я поручаю проложить телефонный кабель через мост. – Возвратившись к столу, он обратился к одному из офицеров, унтерштурмфюреру: – Принесите-ка несколько бутылок шампанского. Каждому из присутствующих. – Он повернулся ко мне и сказал: – Шутце Бартман, задержитесь с нами еще ненадолго.
Где-то поблизости, видимо, был неплохой запас шампанского, потому что унтерштурмфюреру понадобилось совсем немного времени, чтобы вернуться с пятью бутылками, которые он держал за горлышки, две в одной руке и три – в другой. У меня в голове мелькнула мысль о том, что, видимо, этот офицер набил руку в этом деле. Не так легко удержать три бутылки в одной руке. Я молча встал в угол комнаты и стоял по стойке «смирно», ожидая дальнейших указаний. Вскоре затрещали пробки. Бокалы наполнились искрящимся напитком, раздался звон. Подняли тост за взятие Ростова-на-Дону, ознаменовавшее собой проникновение вглубь территории противника на 1000 километров.
Фриц Витт оглянулся через плечо.
– Шутце Бартман, а где же ваша бутылка?
– Штурмбаннфюрер, у меня ее нет, – стоически ответил я.
Командир батальона повернулся к незадачливому унтерштурмфюреру и рявкнул:
– Когда я просил принести бутылку каждому из присутствующих, то это значит каждому, черт побери!
Покрасневший унтерштурмфюрер выскочил из комнаты, а Фриц Витт жестом подозвал меня поближе, после чего вручил мне собственную бутылку и бокал.
– Сейчас мы дождемся, когда он вернется сюда с новой бутылкой, и тогда вместе отпразднуем успех, – сказал он.
Все еще усмехаясь про себя, я присоединил конец телефонного кабеля к контактам на станции и принялся прокладывать его через железнодорожный мост. Я уже почти преодолел первый из больших стальных пролетов, когда вдруг услышал, как штурмбаннфюрер Витт громко зовет меня из открытого окна своего кабинета. Я обернулся.
– Шутце Бартман, не переходите через мост! Возвращайтесь немедленно.
Менее чем через час после тоста с шампанским я уже сидел вместе с нашим пулеметным расчетом, охраняющим подходы к станции. Вскоре к нам подошла горстка оставшихся в живых солдат из 3-й роты Шпрингера. Старший пулеметного расчета остановил первого из добравшихся через мост.
– А где оберштурмфюрер Шпрингер?
– Там, позади, – задыхаясь, рассказал стрелок, и в прохладном воздухе его дыхание мгновенно превращалось в белый пар. – Мы угодили в ловушку. Наверху шестеро наших… Оберет Шпрингер вытащил нас оттуда, он швырнул вниз пару гранат. А мы – это все, что осталось от 3-й роты!
До меня дошло, что оберштурмфюрер Витт, вероятно, спас тогда мне жизнь. Он, видимо, заметил, что русские начали штурм плацдарма, и предупредил меня.
Проявление храбрости со стороны офицеров, таких как оберштурмфюрер Шпрингер, вдохновляло и нас, простых солдат, тоже не щадить себя. Шпрингер до последнего оставался в сигнальном бункере с горсткой солдат. Вообще, в «Лейбштандарте» не было места симулянтам – тем офицерам, которые, уклоняясь от своего прямого воинского долга, посылали бы подчиненных на смерть, а сами пожинали плоды «своих» успехов в каком-нибудь безопасном месте. Поэтому неудивительно, что вскоре после этого боя оберштурмфюрер Шпрингер был заслуженно представлен к Рыцарскому кресту.
Словно голодная свинья, живо откликающаяся на стук палки о ведро с помоями, на следующий день после того, как мы заняли Ростов-на-Дону, туда прибыли части СД. Что касается местных жителей, то для них эти военнослужащие мало чем отличались от солдат и офицеров «Лейб-штандарта», за исключением букв «SD», вышитых на ромбовидном шевроне их мундиров. СД быстро настроили против себя гражданское население, угоняя домашний скот и разыскивая повсюду евреев. В их действиях наблюдалась характерная манера, их окружала какая-то аура – подсознательное ощущение того, что они непроницаемы для естественных человеческих инстинктов и абсолютно безжалостны. В своих руках они сосредоточили власть смерти над жизнью. Хотя мы порой по нескольку дней недоедали, ни один из нас не смел пойти к местным крестьянам, чтобы выменять на что-нибудь даже цыпленка, если где-то рядом маячил кто-нибудь из службы СД.
Вскоре после прибытия частей СД, когда только что доставил очередное донесение на командный пункт другой роты, я встретил одного из солдат «Лейбштандарта». Тот сидел в нескольких шагах от входа в здание. Когда я спросил, почему он тут сидит один на холоде, он посмотрел на меня пожелтевшими глазами и рассеянно покачал головой. В нос мне ударил запах какого-то затхлого спиртного. Я пошел дальше, но недоумевал, почему же этот нарушитель дисциплины до сих пор не арестован. Позже в тот же день я обнаружил, что СД «реквизировали» нескольких солдат из той роты помочь им в розыске и отлове местных евреев. Возможно, пьяный солдат и был одним из тех людей. Этого я уже никогда не узнаю наверняка. Но, насколько мне известно, это единственный случай, когда СД привлекали военнослужащих «Лейбштандарта» помогать им в своих грязных делах.
В последние дни ноября 1941 года наступила суровая русская зима. Отступающие русские опустошили все магазины и склады, а из-за растянутых коммуникаций провианта не хватало. Чтобы не замерзло топливо в грузовиках, водители долго не глушили двигатели. Либо, чтобы потом завести моторы, приходилось идти на риск и разводить под ними огонь.
Один раз нам повезло. Водитель из другого взвода рассказал нам о складе продовольствия, расположенном неподалеку от железнодорожной станции. Мы, не теряя времени, помчались туда, каким-то чудом ускользнув от всевидящего ока СД. На складе мы обнаружили металлические фляги с маслом и медом, какими-то консервами, ветчиной и топленым салом (оно было просто восхитительным!). Сложив добычу на пол кузова нашего грузовика, я неловко уселся на канистру с маслом, и ее металлический обод впился мне в бедра. Когда на обратном пути мы заехали на крутой холм, несколько канистр скатились и выпали за борт, но, по крайней мере, в грузовике стало больше места.
Из-за перебоев в снабжении у нас во всем ощущался дефицит, однако, обеспечив себя запасом продовольствия, мы хотя бы могли сосредоточиться на основных потребностях. А они сводились к нехватке боеприпасов. Русские теперь большими группами переходили по деревянному мосту на нашу сторону, а мы встречали их лишь редкими выстрелами… Вообще, заполучив себе в тыл Азовское море, мы оказались в весьма уязвимом положении…
Глава 9 Отступление к рубежу Миус-Самбек
Восточные ветра принесли снегопады. А потом пронесся слух, что нам придется отступить и занять оборону севернее Таганрога. Впервые в поведении наших командиров я ощутил подобие скрытой паники. Раньше у нас не было провалов или крупных неудач, а ведь отступление – это, по сути, тоже навык, своего рода искусство, которому надо учиться. А мы его никогда не обсуждали и тем более не планировали. В действительности, сейчас каждый был сам по себе…
Кружил снег. Наш отряд из группы управления ротой разместился в задней части грузовика, посреди коробок и бочек с провиантом, которые мы загрузили раньше. Покинув Ростов-на-Дону[21], мы догнали последние машины в отступающей колонне наших войск. Неподалеку от Чалтыря, небольшого городка западнее Ростова-на-Дону, мы заметили вдалеке крупную танковую колонну русских.
– Ублюдки пытаются перерезать нам путь, – сказал Борис, наш румынский сослуживец, который несколькими неделями ранее спас меня и еще нескольких солдат, прикинувшись русским офицером.
– А кто у нас отвечает за арьергард? – раздался голос из-за шкафа рядом с кабиной водителя, где хранились карты нашей роты.
– Книттель, – ответил Борис. – Если он сейчас ничего не сделает…
В этот момент наш грузовик дернулся, а потом его мотор «зачихал» и заглох. Машина проехала по инерции еще несколько метров. Под колесами захрустел свежий снег. В этой странной тишине мы переглянулись, и каждый боялся даже подумать, что может произойти. Стукнула дверь кабины. Несколько человек бросились к борту грузовика, вытянув шею и наблюдая, как из машины выскочил водитель с тяжелым гаечным ключом в руке.
– Наверное, замерзло топливо, – сказал он, подняв голову и мельком взглянув на наши встревоженные лица. Он скрючился, словно старик, больной подагрой, и постучал ключом по топливному баку. – Слышите звук? – хрипло проговорил он. – Топливо в баке еще жидкое. А топливопроводы замерзли.
– Вот дьявольщина! Русские уже висят у нас на хвосте, и времени разводить костер просто нет, – простонал кто-то.
– У меня идея, – предложил Борис. – Найдется кусок шланга?
– Вроде да, – кивнул водитель, – но его не хватит, чтобы протянуть от топливного бака до двигателя.
– А трубка?
– Трубка есть.
Борис повернулся к нам и махнул рукой:
– Быстрее! Тащите сюда канистру от противогаза, бутылку из-под воды – что-нибудь, куда можно налить топливо. – А потом передал емкости через борт водителю. – Вот, перекачай сюда топливо – и поскорее!
Борис выбрался из машины и подошел к водителю. А тот вставил резиновый шланг в топливный бак. Потом сунул конец в рот, но тут же сплюнул на снег.
– Губы замерзли, – проговорил он, – не чувствую, сосу я или дую.
Борис выхватил у него шланг.
– Иди-ка лучше встань за колесом.
Наполнив емкости, Борис передал их в кабину и, держа резиновый шланг в руке, обошел грузовик спереди. Очень скоро он вновь подошел к водительской дверце с концом шланга в руке и просунул его через опущенное стекло.
– Другой конец я подсоединил к топливопроводу возле мотора. Вставь сюда трубку. Когда мы поедем, я буду наливать топливо.
Хлопнула дверца со стороны пассажирского места. Борис наконец уселся в кабину рядом с водителем. Мы вернулись на свои места среди бочек и коробок с провиантом.
– Надеюсь, аккумулятор не сядет раньше времени, – сказал кто-то из солдат.
– Не накаркай! – сердито огрызнулся я.
Грузовик немного качнулся, когда заработал стартер, запуская холодный двигатель. Мы впились друг в друга напряженными и немигающими взглядами. Мотор хлопал, пыхтел, но потом все-таки завелся. Мы услышали знакомое хрипловатое ворчание. Тревога сменилась радостью, и мы основательно приободрились, когда машина набрала ход…
Неизбежное предчувствие и ожидание смерти как постоянной угрозы расшатывало нервы, то и дело напрягая их до предела. От дежурств на леденящем холоде немели руки и ноги. Морозный воздух безжалостно жег лицо и кисти рук. Хроническая нехватка сна иссушала резервы организма, и истощение пускало свои вредоносные корни в каждую клетку. В таких условиях сон может возобладать над осторожностью и принести благословенное забвение – или подвергнуть смертельной опасности – независимо от обстоятельств.
И вот в один из дней, когда стоял такой холод, что нельзя было даже дрожать, я подвернул воротник шинели под каской, чтобы защитить лицо от морозного воздуха, и незаметно погрузился в непреодолимую дремоту.
Когда я проснулся, кругом стояла жуткая тишина, на небе ярко светили звезды. Моя шинель просто одеревенела, и на ней сверкали застывшие льдинки. Я прислушался. Ничего. Я лежал в одиночестве в кузове грузовика. Пошевелившись, я выбрался из-под груды коробок с пищей, где беспечно заснул, не смутившись дискомфортом. Обе мои ноги ниже колена, казалось, превратились в деревяшки – в мерзлые оглобли. Я переполз между бочек с маслом и топленым салом в заднюю часть кузова и свесил ноги вниз. Рядом стоял какой-то дом. Оттолкнувшись руками, я сполз вниз, но, совершенно не чувствуя ног, не мог ощутить их соприкосновения с землей. Потеряв равновесие, я повалился вперед, на снег. Используя винтовку в качестве костыля, я с трудом поднялся на ноги и смог доковылять до двери. Толчком я открыл ее.
На меня уставилось множество удивленных лиц. В комнате, перед полыхающим очагом, в компании русских женщин, сидели мои товарищи. Раздетые до пояса, они давили вшей у себя в подмышках и на гимнастерках, щелчками отправляя их в огонь. А хозяева дома молча наблюдали за ними, и на их лицах ощущалась странная неловкость, как будто они за что-то уважали этих маленьких злобных вредителей. Товарищи, ненароком забывшие меня в машине, извинились передо мной и усадили у огня. А я, согревшись, тут же погрузился в глубокий сон…
Когда я проснулся, уже рассвело. В ногах по-прежнему ощущалась тяжесть, но теперь они горели. Я издал мучительный стон. Одна из женщин помогла мне снять сапоги и носки. Кожа на обеих ступнях стала бледной и покрылась багрянистыми пятнами. Осмотрев ноги, она покачала головой.
Стекло в маленьком окошке затряслось в резонанс с мотором нашего грузовика. Я проковылял к окну и протер небольшой кружок на замерзшем стекле. Прежде чем влага вновь успела замерзнуть, я заметил моих товарищей, откидывающих снег из-под колес грузовика. Скоро надо было уезжать. Я подошел к стулу, стоявшему у разогретой печи, не обращая внимания на ноющую боль в ногах, натянул носки и надел сапоги.
Потом из открытой двери раздался голос Бориса:
– На этот раз мы вспомнили о тебе, Эрвин! Поторопись, мы через несколько минут уезжаем! Водитель сказал, что ты можешь сесть в кабину, чтобы отогреться.
Когда водитель, имя которого за эти годы стерлось из моей памяти, спросил про мои ноги, я описал ему симптомы.
– Умеренное обморожение, – констатировал он, усмехнувшись. – Это еще ничего. А вот если бы твои ноги почернели и отказали, то тогда все. У тебя был бы билет домой.
Я подумал, что он преувеличивает, хотя впоследствии узнал, что не очень…
– Видел такие вещи собственными глазами, – продолжал он. – Таких случаев сотни, и иногда все кончается ужасно.
Я был потрясен, когда узнал, как много наших солдат пострадало или даже погибло от обморожения.
– Но ведь должно же у нас быть зимнее обмундирование, – возмущался я, пытаясь перекричать шум мотора. – Только сумасшедший мог вообразить, что одежда, которую мы носили в Берлине, подойдет для русской зимы!
– А ты разве ничего не слышал?
– О чем? – Я покачал головой.
– Ну так вот, поговаривают, будто главный квартирмейстер распорядился о поставке зимнего обмундирования еще в сентябре, но потом оказалось, что на складах нет ничего, кроме комплектов для пустыни. – И, тяжело усмехаясь, добавил: – Ну и как такое могло случиться?
В ту же секунду я пришел к такому же отвратительному заключению, как, наверное, и наш водитель. Но не пожелал ничего уточнять. Поступление на склады обмундирования для войны в пустыне представлялось уже не какой-то ошибкой снабженцев, а настоящим актом саботажа.
Мы продолжили путь, пока не достигли Миуса. Это небольшая река, которая впадает в Азовское море. К этому времени пульсация в ногах достигла неимоверной силы, и я без промедления обратился в лазарет. Он был устроен наспех в неотапливаемом доме. Когда я вошел туда, то стал свидетелем ужасающей сцены. Солдат, обутый в толстые валенки – для защиты ног от мороза во время несения караула, – мучительно стонал, когда врач попытался стянуть их с его ног.
– Эти валенки – сущее проклятие, – посетовал доктор, – они впитывают воду, а потом промерзают. Уже не первый раз я вынужден ампутировать больному ногу. – Он взглянул на двух санитаров, стоявших у стола, возле головы пострадавшего. – Держите его покрепче.
Когда доктор взялся за пилку, обладатель валенок внезапно затих.
– Парню повезло, что он потерял сознание, – сказал доктор, потом продолжил свою работу.
Я сморщился, когда доктору наконец удалось избавиться от первого валенка. Я увидел обрубок белой кости, покрытый почерневшей плотью. Ступня бедняги вместе с частью валенка упала вниз…
Поняв, что по сравнению с этим парнем я еще легко отделался, и немного смутившись оттого, что побеспокоил врача своим легким обморожением, я вернулся к товарищам, в группу управления ротой. Тогда я еще не отдавал себе отчета в том, что «легкие» обморожения на ногах и ступнях будут вызывать у меня серьезные проблемы даже через 70 лет…
Выйдя к берегу Миуса, мы натолкнулись на небольшую группу солдат вермахта. Они собирались окапываться прямо в открытом поле. Пронизывающие до костей ветра надолго определили хмурые взгляды и уныние на их угрюмых лицах.
– Начинайте копать, – сказал один из тех, кто постарше, обер-ефрейтор. Он выглядел на все пятьдесят, хотя на самом деле ему было не больше тридцати лет. Он бросил лопату юноше, который стоял неподвижно, сунув руки в карманы шинели. Лопата лязгнула, ударив о кусок твердого, как камень, льда.
Вытерев глаза, слезящиеся от безжалостного ледяного ветра, юноша бросил взгляд на лопату и иронически ухмыльнулся:
– Земля замерзла. Как тут можно копать?
– Ты быстро передумаешь, когда на тебя дождем польются вражеские снаряды.
Юноша покорно взял лопату и без особого энтузиазма попробовал воткнуть в землю.
– Не могу я копать, – сказал он, отшвырнув лопату.
Назревал спор. Остальные солдаты вермахта исподтишка наблюдали, надеясь, видимо, что это отвлечет их внимание от жуткого холода. А может быть, они втайне надеялись, что вот-вот явится офицер, чтобы сообщить, что отыскал более или менее сносное место для ночлега. Ну и дела…
В «Лейбштандарте» подобных проблем с дисциплиной никогда не было. В отличие от вермахта большинство наших сослуживцев были примерно одного возраста, а командиры, будучи на десять и более лет старше своих подчиненных, демонстрировали превосходные способности к управлению людьми. Это было особенно важно в те минуты, когда становилось трудно, и мы умели сплотиться, чтобы как можно лучше и быстрее преодолеть проблемы или выйти из трудной ситуации. Рытье окопов было, несомненно, трудной задачей в условиях жестокой русской зимы. Пока мы рыли, на ресницах образовались ледяные бусинки. Наши ноги нещадно мерзли, потому что мы были обуты в те же сапоги, в которых маршировали по Платфусс-аллее прошлым летом. Пока мы рыли, окопы заполнились свежим снегом. Вдобавок к нашим неприятностям, под поверхностью мерзлой земли зачастую скрывались большие валуны, и тогда заветную траншею, которая давала хоть какое-то тепло и укрытие, приходилось бросать и пробовать новое место. Однако, все еще опьяненные фантазиями нашей окончательной победы, солдаты «Лейбштандарта» преодолевали все эти тяготы без особых жалоб.
Со своих позиций мы с некоторой завистью поглядывали через заснеженный луг на русских, расположившихся на противоположном берегу реки. Они заняли опушку леса, где подготовили себе надлежащие убежища, чтобы защититься от пронизывающего холода. К счастью, наш тыл работал исправно, и у нас было вдоволь боеприпасов и провианта. Так что время от времени мы обстреливали «Иванов», чтобы хоть немного развлечься в эти хмурые дни.
Чтобы как-то отвлечь себя от малоприятной жизни в окопах, когда несколько наших товарищей стали жертвами обморожения, иногда мы укрывались в глубоких пещерах, которые обнаружили поблизости. Хотя они и защищали от пронзительного ветра, однако в целом там все равно свирепствовал жуткий холод, пробиравший до самых костей.
Эти пещеры напомнили страшные сказки, которые нам рассказывали в детстве. Русские тоже посещали эти места, потому что иногда мы слышали вдали их голоса, эхом проносящиеся через пустоты в скальной породе, и осознание того, что враг где-то неподалеку, не давало нам полностью расслабиться…
Глава 10 С днем рождения! С Рождеством!
Воздух был прозрачен и чист, а холод – таким, что кожа на моем лице покалывала, как будто в нее одновременно воткнули сотни крошечных иголок. Мои кости, казалось, грохочут под дрожащими мышцами, а ноги, обмороженные во время отступления из Ростова-на-Дону, просто онемели и отказывались идти. Для поддержания кровотока я перед входом в свой тесный окоп прыгал с ноги на ногу, сгибал и разгибал руки в локтях, крутился в разные стороны. Это хоть как-то помогало согреться. Сквозь пар от дыхания, дымкой клубившийся вокруг моей головы, я увидел, что навстречу кто-то идет. Хромая от одной стрелковой ячейки до другой, он на несколько минут задерживался и о чем-то разговаривал с солдатами. Когда он подошел поближе, я узнал нашего обершарфюрера, который недавно выписался из полевого госпиталя в Таганроге. Я вытянул руку, чтобы помочь ему забраться в мою траншею.
– Обершарфюрер, вы рискуете…
– Да-а, но сегодня «иваны» вроде бы ведут себя потише, – беспечно ответил он.
На его посвежевшем лице заиграла кривая улыбка. Я заметил, что почти все, кто окружал меня, казалось, постарели лет на десять, с тех пор как в конце ноября в этих местах прочно воцарилась зима. Он откинул воротник маскировочного халата, чтобы показать мне воротник своей шинели. «Зеркальце», где раньше красовались две серебристые полоски, теперь было чистым.
– Шутце (рядовой), а не обершарфюрер (фельдфебель), – с грустью произнес он.
Вскоре мы уже рассказывали друг другу разные истории, и я отважился спросить, почему его все-таки разжаловали в рядовые. Улыбка на его лице исчезла.
– Помнишь ту девчонку, с которой я жил?
До меня доходили кое-какие слухи. В роте знали, что он увлекся одной очень привлекательной молодой украинкой. У нее было бледно-розовое симпатичное лицо и белокурые, с золотистым отливом волосы. Все знали, что происходит между ними. Я кивнул.
– А что такого стряслось?
– Застрелилась. Причем из моего же табельного оружия.
Я покачал головой. Ему еще повезло, что наказание оказалось довольно мягким. Что касается девчонки: было ясно, что местные наверняка расправились бы с ней за связь с врагом. Устроили бы показательный суд, ну, или что-нибудь в этом духе. Возможно, по этой причине она в итоге и покончила с собой. Так или иначе, я не думал, что стоит копаться в этом дальше…
Обершарфюрер – у меня как-то язык не поворачивался считать его рядовым, шутце, – достал солдатскую книжку. Внутри лежала фотокарточка девушки. Печально вздохнув, он передал ее мне. У нее были красивые высокие скулы и широкая привлекательная улыбка. Нетрудно было понять, почему он потерял от нее голову. Когда я вернул ему фотографию, он молча смотрел на нее, а потом разорвал на мелкие кусочки и высыпал на снег.
– Лучше мне о ней забыть, – мрачно сказал он, но внезапно приободрился. – А теперь я могу сделать то, ради чего пришел сюда. С днем рождения, Эрвин! – воскликнул он, и в глазах его сверкнули огоньки. Он похлопал меня по спине. – Наш повар сказал, что сегодня у тебя день рождения.
Сегодня утром, 12 декабря 1941 года, была моя очередь разносить пищу в бачках из походной кухни. Я вспомнил, что шутил с поваром, выпрашивая для себя дополнительную порцию гуляша, потому что сегодня у меня день рождения.
– Сегодня и у меня тоже день рождения, – торжественно объявил мой гость.
Мы начали болтать о том, чем займемся после нашей неизбежной окончательной победы. Когда он собрался уходить, я, охваченный ощущением неловкости, похлопал его по плечу и сказал:
– Ты все же будь поосторожнее. Сегодня ты мог оказаться легкой добычей для русских. Сейчас обстановка просто идеально подходит для снайпера: ветра нет, а значит, не надо делать на него поправку, когда целишься…
– Ты уж слишком переживаешь, – ответил он, пожимая плечами, когда выбирался из окопа.
Пригнувшись, он сделал несколько шагов в ту сторону, откуда пришел, потом замер на мгновение, выпрямился, словно увлеченный какой-то мыслью, и закинул винтовку за плечо. В этот момент раздался металлический звон. Его голова дернулась в сторону, а руки шлепнули по бокам. Винтовка слетела с плеча, и он рухнул на колени, словно разорванный мешок с мукой. Прежде чем уткнуться головой в снег, он простонал что-то. Возможно, это было имя его подруги… Каска слетела у него с головы. Она долго каталась взад-вперед, пока не замерла, наткнувшись на кусок льда. Под его лицом расплылось алое пятно крови, которое в считаные секунды превратилось в замороженную красную массу. В передней части каски, точно по центру, зияло круглое отверстие…
Я проклинал себя за то, что заикнулся про свой день рождения. В тот день я передвигался по окопам, старательно пригибая голову…
Когда великолепное зимнее солнце опустилось за горизонт, санитары забрали замороженное тело моего гостя и отвезли в Таганрог для похорон в могиле, отмеченной характерными «рунами смерти» СС, – на солдатском кладбище. Однако в мстительном характере русских было сравнивать такие кладбища с землей, когда они вновь отвоевывали свои территории. Поэтому совершенно ясно, что сейчас эту могилу не отыскать, и само место навсегда забыто…
Несколько дней спустя мы достигли Самбека, где устроили мощные оборонительные позиции, чтобы защитить восточные подступы к Таганрогу. Мы, оставшиеся в живых солдаты и офицеры 4-й роты, заняли верхнюю часть поселка и получили приказ оборонять участок приблизительно в километр длиной. Для шести десятков измотанных боями и холодом человек такая задача представлялась весьма и весьма непростой…
Нам предстояло разместиться в уцелевших домах, и, хотя жестоко было выселять оттуда местных жителей, они соглашались на это без сопротивления и жалоб. Втайне я надеялся, что им удастся найти себе кров в каких-нибудь крестьянских хатах, рассеянных в округе, подальше от этой деревни, которая теперь, бесспорно, должна была привлечь к себе внимание вражеской артиллерии противника.
Какая-то женщина с ребенком мимоходом похлопала меня по руке.
– По крайней мере, мы снова можем молиться в наших церквах, – сказала она.
Теперь, когда город был очищен от штатских, мы начали строительство глубокого бункера, частично используя для этого фундамент дома на крутом склоне. К счастью, земля кое-где была еще мягкой, и тяжелая физическая работа не давала нам замерзнуть, пока мы усердно насыпали выкопанный грунт сбоку от дома. Время от времени мы натыкались на крупные камни и валуны, и в дело приходилось вмешиваться нашим саперам. Покончив с раскопками, мы собрали неплохой запас досок и дверей, из которых можно было сделать крышу. Опорой служили стволы деревьев, распиленные до нужной длины. Вкопав и надежно закрепив их, мы поверх крыши насыпали большой слой выкопанной земли из кучи. Наконец, мы устроили себе печь, сделав ее из большой бочки, в которой штыками прокололи отверстия для воздуха. Дым от этой драгоценной, даже роскошной печи, которую мы использовали только в темное время суток из-за опасности навлечь на себя артиллерию противника, выходил наружу через трубу от печи одного из брошенных домов. Тем временем пулеметные расчеты тоже строили себе подобные сооружения. Бункеры были связаны между собой сетью траншей. Теперь, после нашего отступления из Ростова-на-Дону, оставалось лишь ждать, что предпримут русские…
* * *
Приближалось Рождество. Из-за внезапных обстрелов наши машины не могли доставлять горячую пищу на линию фронта. Я часто вызывался по собственной инициативе таскать бачки с едой от походных кухонь в бункеры пулеметных расчетов, где в минуты затишья удавалось поучаствовать в двух-трех партиях в скат – популярной среди солдат карточной игре – а заодно и поболтать о жизни в Германии.
– Мой отец как-то притащил домой старинную музыкальную шкатулку, которую нашел в лавке старьевщика, – вспоминал один солдат во время такой игры. – Целые месяцы он провел, разбирая ее на части, чистил, налаживал, пока наконец каждая часть механизма не сверкала как новенькая. Это был рождественский подарок для мамы. Там две балерины танцевали под музыку. Между ними было три колокольчика, и каждый звенел по-разному. На двух колокольчиках сидели маленькие лазурные птицы, а третьей птицы не было. Когда мы уселись за праздничным столом в сочельник, папа вручил ей подарок. Увидев эту шкатулку, мать разрыдалась. «Что такое?» – спросил отец, но бедная мама не могла произнести ни слова. Утирая глаза платком, она встала из-за стола и вышла. А потом возвратилась в комнату с небольшой сумочкой. Открыв ее, она, к нашему всеобщему удивлению, вынула оттуда третью лазурную птицу. «Эту музыкальную шкатулку привез мне из Франции в 1918 году отец, когда был солдатом, – объяснила мама. – Я, бывало, часами играла с ней, когда была маленькой, но мы вынуждены были потом ее продать. Есть было нечего. Я выплакала себе все глаза, когда узнала, что шкатулку должны унести. И тогда отец снял одну из лазурных птиц и отдал мне на память. Он сказал, что она поет песню, которую могут услышать только ее сородичи, и что однажды она их позовет обратно».
Солдат сунул руку в карман шинели и вытащил маленький клеенчатый пакет.
– Послушайте, – сказал он, вынимая оттуда третью лазурную птицу. – Мама сказала, что она благополучно отведет меня домой, когда вернется к своим сородичам.
– Ха! Все это суеверная ерунда, – фыркнул другой пулеметчик. – Если рядом упадет вражеский снаряд, то ты погибнешь так же, как и любой из нас, – добавил он.
Затарахтел телефон. Унтершарфюрер из пулеметного расчета взял трубку.
– Да, он здесь, с нами, – выслушав, ответил он. А потом пододвинул аппарат ко мне.
На линии раздался треск, давая мне время подготовиться к неприятным известиям. Может быть, что-то случилось с родными?..
– Шутце Бартман?
– Так точно!
– Говорит Кроша. Бартман, ведь вы, кажется, работали пекарем на гражданке, до того, как вступили в «Лейбштандарт»?
Я с облегчением вздохнул.
– Яволь, гауптштурмфюрер, так точно! Работал в Берлине – в пекарне Глазера на Мемелерштрассе.
– Тогда у меня к вам особая просьба.
– Конечно, я сделаю все, что смогу, – ответил я, не расспрашивая о подробностях. В конце концов, «просьба» от офицера в звании, которое носил Леопольд Кроша, должна была в любом случае рассматриваться как вежливо замаскированный приказ.
– Ну, вот и отлично. Мне хотелось бы, чтобы вы подготовили какое-нибудь угощение на Рождество – может быть, пироги? Вам разрешается покинуть свой пост, чтобы поискать необходимые ингредиенты. Неподалеку от походной кухни есть дом, он расположен ближе к тылу от ваших нынешних позиций. Он будет в вашем распоряжении, когда вы приступите к выпечке. Удачи!
Бо́льшую часть необходимых ингредиентов для пирога оказалось найти не так уж трудно. Большинство из них, за исключением разрыхлителя, я отыскал в грузовике, в котором мы, собственно, приехали из Ростова-на-Дону. Кроме того, поскольку местные женщины пекли свой собственный хлеб, в каждом доме имелась подходящая печь, и, как я надеялся, там отыщется и немного разрыхлителя. Однако, порыскав в нескольких брошенных домах, я наконец вынужден был признать, что мои поиски этого важного компонента тщетны. И тогда вместо пирога я решил ограничиться печеньем.
Поблизости от моей «кухни» располагался пункт первой помощи, куда направляли легкораненых и откуда они потом возвращались на свои позиции. В этой части деревни располагались также наспех сооруженные убежища – землянки и сараи – для штатских, в основном женщин и маленьких детей. В некоторых из них я узнал тех жителей, которых мы выселили, чтобы соорудить на месте их домов укрепленные бункеры.
Рано утром в сочельник я подготовил тесто с использованием масла, яиц, молока и сахара. Замесив, я раскатал его на столе, а потом с помощью пустой консервной банки разрезал на кружки. Когда я ставил последнюю партию печенья в печь, раздался глухой звук разрыва артиллерийского снаряда. Выскочив наружу, я увидел, что одна из землянок, где укрывались беженцы, окутана дымом. Подбежав и заглянув внутрь, я увидел, что два человека ранены, и отвел их на наш медпункт. Там санитары осмотрели их раны, которые, к счастью, оказались несерьезными. Возвратившись к себе на кухню, я убедился, что партия печенья полностью готова.
Случайный «визит» русского снаряда вскоре превратился в непрерывную барабанную дробь. Это был своего рода рождественский подарок от противника. Русские всегда старались усилить обстрелы в те дни, которые, согласно немецкому календарю, считались праздничными. Со своей стороны, мы, конечно, отплачивали им тем же – в соответствующие дни, важные для русских. Однако передо мной стояла приятная задача в моей временной пекарне, которую нужно было непременно выполнить. Аромат, доносящийся из печи, волей-неволей заставил меня вспомнить те времена, когда я работал учеником пекаря в Берлине у господина Глазера. Это было мое первое Рождество вне родного дома, и на мгновение мной овладела невероятная грусть…
Под вой русских снарядов я вышел из «кухни» с мешком, заполненным печеньем. Потом обстрел внезапно прекратился, и дым от разрывов постепенно растворился в сверкающей небесной синеве. На свежем снегу искрился солнечный свет, и вокруг стояла тишина, такая красивая и умиротворенная…
Словно Дед Мороз, я зашел в каждый бункер, раздавая товарищам мое рождественское угощение.
Когда я добрался до бункера, где обитал солдат с лазурной птицей, то с удивлением увидел, что тот лежит на животе и, оперевшись о локти, широко улыбается. Парень как раз закончил писать письмо домой.
– Послушай, Эрвин, – сказал он и стал воодушевленно читать: – Мне прострелило обе щеки, но я все равно могу говорить. Лазурная птица возвращается домой. До скорой встречи.
– Что случилось? – спросил я.
– Да вот… Снайпер подстрелил меня, пока я справлял нужду…
Вскоре после Рождества русский самолет сбросил на наши окопы целую кучу пропагандистских листовок. Я поднял одну из них. Заголовок гласил: «Покончить с Гитлером!» На ней наш фюрер был изображен пьяным, в каске, сдвинутой набок, и с бокалом. Было написано, что Гитлер упивается кровью немецких солдат.
– Шутце Бартман!
От испуга я чуть не подпрыгнул. Рядом стоял офицер, который незаметно подошел ко мне и рявкнул прямо в ухо. Он поднял одну из разбросанных на земле листовок.
– Грязная ложь! – снова рявкнул он, разорвав листовку на мелкие клочки.
Чувствуя себя непослушным школьником, я смял листовку в кулаке и швырнул через плечо.
В заключительные дни 1941 года русские провели еще несколько атак, каждая из которых захлебнулась у заграждений из колючей проволоки, установленных нашими инженерными частями на берегу замерзшей речки Самбек. Как всегда, наши пулеметы накрывали отступающего противника. Странно, но русские даже не пытались вынести своих раненых. Они бросили их умирать прямо там, на жутком холоде – не позаботившись даже о тех, чьи раны в летние месяцы считались бы незначительными. Они все просто лежали там, где их настигли пули, пока потом не были засыпаны очередным снегопадом.
Наши позиции подверглись необычайно мощному обстрелу: русские старались изо всех сил выбить нас с Самбека. В нас летели снаряды, выпущенные из мощных орудий русских военных кораблей на Азовском море. Ударные волны от разрывов растекались по затвердевшей, как камень, земле и через промерзшие подошвы моих сапог сотрясали каждую косточку в моем теле. Когда однажды я рискнул выглянуть из нашего бункера, то увидел куски острой стали длиной с человеческую руку, с хищным шипением рассекающие воздух. Они разлетались с такой скоростью, что траекторию их полета было нетрудно понять, но невозможно уклониться. Любой, кто оказался застигнут врасплох таким смерчем, рисковал быть разрезан пополам.
Где-то сзади, очень близко, раздался оглушительный взрыв. Я бросился в спасительный бункер. По крыше грохотали черные ледяные валуны. Во время обстрела мы не проронили ни слова. Глаза навыкате и сжатые зубы – таким стало лицо каждого из нас. Лицо, искаженное страхом. Наконец эпицентр обстрела переместился ближе к центру деревни. И снова мой ангел-хранитель поглядел на меня с небес и спас.
– Слава Богу, пронесло. Теперь долбят по церкви. Вероятно, думают, что у нас есть корректировщики на колокольне, – вздохнул один из солдат.
Когда обстрел деревни наконец резко прекратился, я осторожно высунул голову на свет. Ниже, на склоне у реки, дымились разбитые дома.
Унтершарфюрер, отвечающий за наш отряд, осмотрел местность в полевой бинокль.
– Неразорвавшиеся снаряды, – громко объявил он, разглядывая зловещие воронки. – Буквально сотни! – А потом хихикнул: – Глядите, вот сумасшедшие! Наши саперы уже занялись их обезвреживанием.
Глава 11 Весенние улыбки на берегах Самбека
Жалобы поступали отовсюду. В тщетной попытке получить хоть какое-то облегчение, мы делали себе маски из кусков материи и накрывали ими рты и носы. В таком виде мы были похожи на грабителей с Дикого Запада.
– Как можно спокойно поесть с такой вонью в воздухе? Она же пропитала всю еду!
– Да что там еда! Эта вонь поступает мне прямо в желудок, и хочется блевать.
– Я едва дышу – мои легкие просто отказываются работать…
– Этот запах ощущается даже тогда, когда стоишь против ветра. Как такое может быть?..
С каждым днем зловоние усиливалось по мере того, как на фоне оседающего снега обнажались почерневшие части разлагающихся трупов в русском обмундировании. Запах был вездесущ, как-то его приглушить или ослабить было невозможно. Каждый вдох – подсознательный акт при нормальных обстоятельствах – превращался в мерзкое испытание.
Наконец командиры вняли нашим жалобам. Подразделение вермахта пригнало большую группу русских военнопленных, которым предстояло навести здесь порядок. Закрыв нос масками из разодранных тряпок, военнопленные принялись растаскивать кучи гниющей плоти, отделяя один труп от другого и зачастую находя оторванные конечности. А один раз, когда военнопленный потащил очередной труп к соседней яме, он, как обычно, взялся за ноги, но в этот момент от тела оторвалась голова. Все еще держа ноги своего мертвого товарища, военнопленный машинально подставил ногу в попытке удержать голову, но та перескочила через его ногу и, набирая скорость, покатилась по льду прямо к реке. Русские с противоположного берега, должно быть, тоже наблюдали эту жуткую картину, но, не желая стрелять в своих, так и не открыли огонь…
* * *
Поползли слухи, что нас якобы должны отозвать с рубежа Миус – Самбек, но все было тихо до 21 мая, когда прибыли части полицейской дивизии СС[22]. Упаковав свои скудные пожитки, мы приготовились к отъезду. Зима выдалась весьма утомительной, и мы с нетерпением ждали передышки, когда наша транспортная колонна двигалась к Таганрогу.
А к вечеру наши грузовики почему-то снова повернули в сторону Самбека. Никому не нужно было ничего говорить: все было написано на наших разочарованных лицах. Вскоре мы вернулись в деревню, отбив атаку русских, которые прорвались через линии частей полицейской дивизии СС. «Лейбштандарт» снова показал противнику, на что мы способны, энергично отразив прорыв. В тот же вечер мы вернулись в бункер, который сами же и построили себе перед Рождеством.
Почти каждый день с неба к нам летели русские пропагандистские листовки, убеждающие нас сдаться. Но то было пустой тратой бумаги не только потому, что солдаты «Лейбштандарта» давали клятву Гитлеру. Мы ведь хорошо знали, какая участь ждет военнослужащих СС в русском плену. Мы не забыли пытку «перчатками», которой, по рассказам одного из очевидцев, большевики подвергли одного из наших разведчиков под Таганрогом.
Поскольку предложение справедливого обращения в случае сдачи немецких солдат в плен не имело успеха, противник продолжал свою пропаганду через целую сеть громкоговорителей, установленных на столбах. Женский голос часами занудно сверлил нам уши о неверности наших жен и подруг, но лично у меня никогда не было подруги, поэтому меня это совсем не трогало. Напыщенные речи из громкоговорителя закончились фразой: «Желаем «Лейбштандарту» хорошо передохнуть во Франции и с нетерпением ждем новой встречи!»
Мы с усмешкой переглянулись, задаваясь вопросом, возможно ли такое на самом деле. Учитывая то, что мы перенесли за эту зиму, перспектива пребывания во Франции представлялась весьма заманчивой. Хотя нам на тот момент она казалась слишком нереальной, чтобы относиться к ней всерьез.
На несколько дней погода наладилась, и мы снова получили уведомление о том, что будем отозваны с этого участка фронта. Затем под покровом темноты на наши позиции заступило румынское соединение, а мы вновь отправились в сторону Таганрога. Когда снова поступил приказ вернуться, мы едва поверили. После дня напряженных боев мы снова заняли свои прежние позиции у Самбека. В конце концов, мы все-таки уехали оттуда, а деревню остались защищать полицейская дивизия СС и румыны. Несмотря на то что наша часть была серьезно потрепана в боях, «Лейбштандарт» дважды овладевал рубежом, который потом обороняли две другие полноценные дивизии.
Проведя в Таганроге несколько дней, мы двинулись на запад к Мариуполю, крупному порту на Азовском море. Здесь перед нами стояла задача укрепить прибрежную оборону. К тому времени потеплело и подул освежающий бриз, ознаменовав собой долгожданную перемену после пронизывающих зимних ветров. С пользой проводя свободное время, мы выставили свои поразительно бледные тела солнечному свету и плескались в море у крутых утесов. Противник в целом бездействовал, и возможность проспать всю ночь до невероятно поздней переклички в 7:00 утра была для нас настоящим блаженством!
В пункте дезинфекции, развернутом вблизи нашего лагеря, я смог избавиться от целого полчища поселившихся на мне вшей и непрерывной чесотки, которая не давала мне покоя много дней. И снова жизнь стала казаться прекрасной, а холод, поселившийся было в моих костях, наконец уступил солнечному теплу…
Мы переехали в Сталино[23], где стояла невыносимая жара. Ночевали в палатках, а входные створки на ночь привязывали наверху, чтобы малейший ветерок хоть как-то проветривал наше жилище. В это время в роту поступило несколько новобранцев из казарм на Лихтерфельде. От них мы узнали свежие новости о том, что сейчас творится в Берлине и в других местах рейха. Но наше пребывание в Сталино отнюдь не было отпуском: в 6:00 утра всегда проводилась перекличка, а потом мы долго и усердно тренировались.
Однажды, когда выдался особенно жаркий день, обершарфюрер из штаба дивизии поощрил отличившихся в последних боях. Тем из нас, кто участвовал в Ростовской кампании, вручили нагрудный знак «За атаку» (Sturmab-zeichen), который выдавали за 10 дней непрерывных боев. Тем же вечером, гордо показывая значок вновь прибывшему пополнению, я держал его пальцами и, как ребенок у новой игрушки, исследовал все детали его конструкции. Итак, я заслужил свою первую награду и начинал чувствовать себя настоящим ветераном.
Мы валялись на траве и без особого энтузиазма чистили свои ботинки, когда подбежал Борис с обернутым вокруг шеи полотенцем и наполовину не смытой пеной на лице.
– Завтра уезжаем во Францию! Пакуйте вещи.
Я вначале не поверил и спрашиваю:
– А кто это говорит?
– Все официально – унтершарфюрера проинформировал сам Кроша. – Он вытянул руки и мелодично проревел: – Прощай, прощай, мать-Россия!
Как и я, Борис был большим поклонником оперы.
Все сразу воодушевились и вскочили на ноги.
– Слава Богу! Я уже не в силах дальше терпеть эту жару, – вздохнул один из новичков.
– Эй, держись, – предостерег его я. – Помнишь, что говорила женщина через громкоговорители в Самбеке?
Откуда ей было знать, что мы отправляемся во Францию?
– Шпионы, – предположил Борис, – или, может, схватили какого-нибудь бедолагу офицера и допросили его как следует. Тот и проговорился, прежде чем русские вспороли ему живот и выпустили кишки…
В начале июля наши штурмовые орудия и другая техника были погружены на длинные железнодорожные платформы. Солдаты довольствовались товарными вагонами, в то время как для офицерского состава выделили несколько нормальных пассажирских вагонов в начале эшелона. С ликующими сердцами наше отделение управления роты погрузилось в товарный вагон, взяв с собой для компании пару санитаров. Когда эшелон тронулся, Борис принялся болтать о смазливых девочках, с которыми мы скоро познакомимся, и тут же нашел в лице своих сексуально неудовлетворенных товарищей единодушных собеседников.
– Однажды я был в Тулузе. В отпуске, – воодушевленно рассказывал он. – Подумать только, французские девочки так симпатичны… Жду не дождусь, чтобы поскорее туда добраться.
– Неужели они симпатичнее датчанок? – спросил один из санитаров.
– Вот погоди – у тебя глаза из орбит вылезут, когда ты их увидишь, – не унимался Борис.
– Хорошо, а то я до сих пор не использовал ни один из своих презервативов, – вмешался я в разговор.
С того момента, как я переступил порог казарм на Лихтерфельде прошлым летом, у меня попросту не было времени думать о девушках. Хотя теперь мне уже было восемнадцать с половиной лет, я никогда не «спал» с девушкой, а потому несколько стеснялся обсуждать такие вопросы и не хотел раскрывать все тайны своим товарищам.
– Я тоже, – раздался чей-то голос из угла вагона, – тоже никого не трахал. У меня в жизни еще не было ни одной девчонки.
Все рассмеялись. Большинство обычных солдат в «Лейбштандарте» месяцами сражались, не имея ни дня отпуска, ни разу не выспавшись. И так длилось до тех пор, пока мы не покинули Самбек. Сама мысль о женщинах была вне досягаемости наших молодых умов…
Через несколько часов мы остановились в маленьком городке. Из-за жары и духоты нам разрешили выйти из вагона. Шутки о том, чтобы вернуться и спасать румын, то и дело витали в воздухе, хотя мало кто верил, что теперь нас и в самом деле вернут на прежние позиции.
Пока мы бездельничали в тени деревьев, несколько местных жителей скрасили нашу скуку и предложили местный алкогольный напиток, который пили в горячем виде. Из вежливости мы согласились попробовать.
Просвистел свисток, и мы снова забрались в вагоны. Эшелон, по-прежнему устремленный на запад, теперь вышел на обширные сельские просторы. Из каждого вагона доносилось веселое пение. Мы все еще по-прежнему испытывали чувство неиссякаемой верности к нашему фюреру. Душой и телом мы были гордыми инструментами его несокрушимой воли, проявлением духовной силы, которую он пробудил в сердцах немецкого народа.
Когда наступили сумерки, я стоял у открытой двери вагона, наблюдая, как под стук колес с каждым километром высокие дымчатые облака становятся розовыми, а затем краснеют. Что-то очаровывающее было в этом украинском пейзаже – возможно, необъятность неба, – и я задавался вопросом, доведется ли когда-нибудь сюда вернуться. Возможно, после того, как мы выиграем войну. Когда опустилась теплая, бархатная темнота, я занял место среди своих товарищей, которые уже крепко спали на набитых соломой мешках. Это были просто фантастические постели по сравнению с кирпичной крошкой в каком-нибудь полуразрушенном доме или бетоном холодных бункеров, вздрагивающих от артиллерийского огня.
Золотистая соломенная пыль кружилась в почти горизонтальном потоке утреннего солнечного света, который пробивался к нам из вентиляционного отверстия в стенке вагона. Постепенно я пришел в себя после непрерывного восьмичасового сна.
– Доброе утро, Эрвин, – прощебетал чей-то голос рядом.
Эти слова произнес человек, который, засунув руки в карманы, стоял у открытой двери вагона. Я признал в нем одного из санитаров, ветерана боев под Дюнкерком. Все еще сонный, я с трудом поднялся на ноги и смахнул солому со штанов.
– Привет, Ганс. – Я осторожно переступил через своих все еще спящих товарищей. Добравшись до двери, я закрыл глаза рукой, всматриваясь в освещенную солнцем сельскую местность. – Разве мы не должны сидеть внутри на случай, если в окрестностях бродят партизаны?
– Ну что ты! Мы теперь уже слишком далеко от линии фронта.
Опустив руку, я с упоением втянул свежий утренний воздух в свои легкие.
– Прекрасное утро.
– Выспался?
Я широко зевнул и улыбнулся.
– Как никогда, – ответил я, пригладив волосы. – Мне снилась Франция.
– Ах, Франция! Она тебе понравится. После Дюнкерка мне довелось побывать в Париже.
– Как ты думаешь, британцы отважатся высадиться еще раз?
– Вполне возможно. Сомневаюсь, чтобы нас перебрасывали туда просто для того, чтобы дать нам передышку.
Какая-то женщина махнула нам рукой, когда развешивала выстиранное белье у себя во дворе. Мы тоже махнули ей в ответ.
– Англичане не такие дураки. Они же не хотят, чтобы их потом сбросили в море, – сказал я.
– Не стоит недооценивать англичан. У них тоже есть храбрые и умелые офицеры. Наш Зепп Дитрих их уважает. Он как-то распорядился со всеми воинскими почестями похоронить одного британского майора, который не хотел сдаваться в плен. Он выхватил винтовку у одного из наших солдат и ударил его прикладом. Если мне не изменяет память, звали беднягу Тихацки, он был родом из Обералльгоя. Он как раз и обнаружил английского майора, когда тот прятался в сожженном танке. К сожалению, он был потом убит в бою. А англичанина в этой схватке застрелили. Почетный караул набрали из солдат 1-й роты, которые дали салют над его могилой.
Кто-то похлопал меня по плечу. Это был Борис, наш румынский товарищ.
– Отойди-ка, Эрвин. Мне надо отлить.
Встав перед открытой дверью вагона, он расстегнул ширинку…
После нескольких дней пути – а обычно военные эшелоны редко следовали к месту назначения прямыми маршрутами – мы прибыли на сортировочную станцию где-то в немецком Сааре. Здесь мы выскочили из вагонов, чтобы размять ноги. Осмотреться нам мешал двухметровый деревянный забор, на который тут же стал карабкаться санитар Ганс.
– Я просто задыхаюсь без пива! Кто-нибудь составит мне компанию?
Я с удивлением посмотрел на него. Неужели он сможет отлучиться без разрешения?
– Ха. Только скажите им немного подождать, – засмеялся он.
Взобравшись на забор, санитар задержался, чтобы помахать нескольким своим товарищам, которые тоже, посчитав жажду пива нестерпимой, уже перебрались на другую сторону.
– Они с ума сошли, – воскликнул Борис, – если эшелон уедет без них, то их просто отдадут под суд за дезертирство.
Время неумолимо летело. То и дело кто-нибудь из нас вставал на цыпочки, с тоской вглядываясь в сторону пивной на углу улицы. До нее было не так уж далеко.
– Хитрый старый пес, – сказал Борис, – должно быть, он знал, что рядом есть пивнушка.
Когда раздался свист паровоза, у забора появились раскрасневшиеся лица, среди которых было и довольное лицо нашего Ганса.
– У меня для вас кое-что есть, – хихикнул он.
Раздался характерный звон, и над забором одна за другой появились четыре бутылки светлого пива. Мы радостно протянули к ним руки.
– Вот. Дали местные жители, – объяснил Ганс. – А теперь помогите мне поскорей забраться наверх, а то наш эшелон вот-вот тронется…
Глава 12 Парижские красоты
Мы остановились в деревне, расположенной юго-восточнее Парижа, где ночевали на полу деревенского зала. Наши головы смогли наконец отдохнуть от навязчивых мыслей о внезапной смерти или ужасных ранах и страданиях, которые мог принести с собой любой последующий день. Подготовка началась, как обычно, с переклички в 6:00, но, за исключением ночей, проведенных на караульной службе, у нас было много свободного времени, чтобы вдоволь наиграться в карты или в шахматы. Однако возможности познакомиться с привлекательными молодыми француженками пока не было…
Однажды утром, через несколько дней после нашего расквартирования, румяный унтершарфюрер, сын австрийского фермера, провел перекличку и приказал тем, кого он только что назвал, задержаться, а остальным – разойтись. Мое имя тоже оказалось среди названных. Когда остальная часть роты разошлась по своим делам, я огляделся и увидел, что рядом стоят лишь те, кого я не раз встречал на Восточном фронте. И на лице каждого читалось некоторое замешательство.
Румяное лицо унтершарфюрера скривилось в улыбке.
– У меня для вас приятный сюрприз, старые зайцы с Восточного фронта, – объявил он голосом, гремевшим, как альпийский гром. – Сегодня вы осмотрите достопримечательности Парижа. – А потом его рука изящно качнулась в направлении стоявшего неподалеку грузовика. – Господа, прошу занимать места!
Когда мы забрались в кузов, мотор грузовика нетерпеливо затарахтел. Мы проехали через деревню, увидев на углу одной из улиц симпатичную девушку лет восемнадцати. Она стояла, закрывая лицо ладонью от яркого солнца. Улыбнувшись, она махнула нам. Ну а мы, как и полагается молодым людям, ответили на ее приветствие хриплыми одобрительными воплями и громким свистом. Грузовик продолжил путь, а девушка прижимала к лицу свои длинные каштановые волосы, не давая ветру разбросать их в стороны…
По синему небу плыли небольшие ослепительно-белые облака. Солнце согревало нас нежным теплом, и мы были счастливы, чувствуя себя скорее туристами, нежели солдатами.
С приближением к Сене улицы стали пошире, а здания – более приятными для глаз. Какое удовольствие – ехать на машине по добротной дороге и наблюдать, как спокойные жители занимаются своей повседневной жизнью. Какое счастье, что волей судьбы прекрасный Париж почти не пострадал от бомбежек!
Мы пересекли Сену по широкому мосту с декоративными уличными фонарями. Борис вдруг завизжал, как ребенок, указывая пальцем куда-то вдаль:
– Смотрите, Эйфелева башня!
Большинство из нас помнило кадры кинохроники, на которых Гитлер восхищается этим чудом инженерного искусства, и мы с разочарованием увидели, как башня, ненадолго вынырнув из-за домов, скрылась за деревьями. Вскоре наш грузовик притормозил на огромной площади. Как мне показалось, на окраине большого парка. Пассажирская дверца кабины открылась, и у борта грузовика появился наш унтершарфюрер.
– Всем на выход!
Мы спрыгнули вниз и стояли, крутя головой и упиваясь окружающими нас красотами.
– За мной, – сказал унтершарфюрер. – Хочу кое-что вам показать.
Мы последовали за ним, как послушные школьники во время однодневной экскурсии. Унтершарфюрер провел нас к высокому каменному обелиску на краю площади.
– Гранит, – объявил он, встав у основания. – Из Луксора.
Я начал пристально разглядывать таинственные символы, вырезанные на поверхности обелиска.
– Иероглифы повествуют о Рамсесе I и Рамсесе II, фараонах Древнего Египта, – продолжал наш унтершарфюрер. – Этим надписям больше трех тысяч лет. А теперь обернитесь.
Мы остановились не на краю парка, как мне показалось вначале, а у великолепного бульвара, окаймленного по обеим сторонам рядами деревьев.
– Знаменитое авеню Елисейские Поля, – объявил наш унтершарфюрер, словно напыщенный гид. – А роскошные мраморные статуи по обеим сторонам дороги – это Лошади Марли. Как видите, они обузданы грумами, отсюда и замечательная метафора о власти человека над силами природы. Вдали вы видите Триумфальную арку, самую высокую в мире. Скоро вы поближе познакомитесь со всем этим, – добавил он, поворачиваясь к ожидающему нас грузовику, – но не сегодня.
Оставив позади покрытые листвой бульвары, мы проезжали через узкую улицу с многоквартирными домами. Ставни всех окон были открыты, чтобы не упустить никакой, даже самый легкий ветерок, который мог бы хоть как-то ослабить жару. Название этой улицы навсегда врезалось мне в память: Рю д’Амстердам. Повернув, мы оказались на красивом бульваре с разделительной полосой, усаженной деревьями. В их тени могли укрыться местные жители, которые шли по своим делам, не выказывая ни малейшего желания признать, что их страна оккупирована врагами.
– «Красная мельница»! – воскликнул Борис, указывая на красную ветряную мельницу, взгромоздившуюся на вершине низкого здания. Это было знаменитое кабаре «Мулен Руж».
Шины нашего грузовика взвизгнули, когда мы резко остановились на раскаленной мостовой. У борта грузовика стоял человек на трехколесном велосипеде, загруженном метровыми багетами, и тихо сверлил нас взглядом, в котором явно читалось: «Смотрите же, куда вы едете, черт побери».
К нашему восхищению, оставшуюся часть дня мы провели именно в «Мулен Руж», наблюдая, как на сцене танцуют красотки, и потягивая прохладное пиво…
Спустя несколько дней после посещения кабаре «Мулен Руж» мы снова приехали в Париж. Было очень приятно прогуляться в тени деревьев, но вскоре мы забрели в бар, расположенный неподалеку от солдатского клуба вермахта. Как только мы уселись за столики, на нас набросились смазливые девицы. Они прижимались к нам своими гибкими телами, садились к нам на колени, обвивая руками нас за плечи. Это были, естественно, проститутки, но исходящий от них аромат, прохладное прикосновение их мягких пальцев к моей щеке воспламенили ту врожденную страсть, которая заставляет молодых людей искать себе компанию молодых женщин. Мы купили им выпить, смеялись над их ломаным немецким. А потом одна из этих красоток запела «J’attendrai». Мой спинной хребет, казалось, размяк, и по коже прокатилась волна удовольствия. Желание и ностальгия слились в единую замечательную эмоцию, для которой я не нашел названия.
Слабый румянец покрыл бледные щеки девушки, когда последняя нота сорвалась с ее губ. Тишину нарушил взрыв аплодисментов. Хлопали все, кто находился в баре. Девушка скромно улыбнулась и опустила глаза, а мы дружно затянули собственную песню – «Das ist Berlin».
Внезапно дверь бара распахнулась и вошел наш австрийский унтершарфюрер. Под мышкой он нес девушку, которая вопила и крутила ногами. Никто из нас не заметил, как он ушел, но мы от души посмеялись над его новым появлением. Девчонка завопила что-то по-французски, когда он осторожно поставил ее на ноги. Ее подруги, сидящие с нами за столом, вдруг задышали так, как будто стали свидетелями какого-то чуда.
– Что такое? – спросил я у них.
Девушки переглянулись, а потом завизжали от восхищения. Одна из них бросилась к нашему громиле-унтершарфюреру, прикоснулась рукой к его промежности и выдохнула:
– Mon Dieu.
Хотя я знал, что она проститутка, мои мечты в последующие несколько ночей уносили меня обратно в тот бар в Париже, к девушке, которая так красиво пела. «Странно, что такая красавица делает в таком месте?» – ломал я себе голову. В то время я был еще слишком молод, чтобы осознать глупость моего безумного увлечения. Я представлял, как держу ее за руку, целую ее в губы. Даже днем я мыслями часто переносился в тот бар, где она работала…
На утреннюю перекличку к нам явился роттенфюрер от квартирмейстера – с измерительной лентой на плече. С ним пришел помощник с папкой.
– Сегодня я имею честь снять с вас мерку для новых парадных мундиров, которые вы наденете на парад победы в Берлине – когда мы выиграем войну, – объявил роттенфюрер. – Перед фюрером вы все должны выглядеть безупречно. Это будет особенный день для всего мира.
Так как у меня никогда не было такого красивого мундира, я надеялся, что смогу попасть в фотостудию, где сейчас работала моя мать, чтобы сняться там при всем параде.
Покончив с меркой, роттенфюрер сделал еще одно объявление:
– Как вы, должно быть, уже слышали, гауптштурмфюрер Шпрингер был переведен из 3-й роты в 1-ю роту. В знак уважения и благодарности к своим солдатам, он и несколько его коллег-офицеров, подвергнув себя риску, отправились без оружия в неоккупированную зону под видом коммерсантов, чтобы приобрести некоторые из товаров, которых в настоящее время нет в наших магазинах. В свободное от караульной службы время вы можете купить их в ротном магазине.
Такое предложение большинство из нас приняли с радостью. Я купил шелковый шарф и две пары шелковых чулок. Эти сокровища я собирался отослать домой моей матери, которую не видел с тех пор, как отправился на Восточный фронт прошлым летом.
С родины прибывало свежее пополнение. У этих ребят были молодые и нетерпеливые лица, ставшие бронзовыми на жарком французском солнце. Но в нашу группу ни один из новобранцев пока направлен не был. Нам выдали новое обмундирование, мы чистили свои машины, в том числе и новые, которые только что прибыли, пока на кузове каждой не осталось ни пятнышка грязи или пыли. Всю роту охватило радостное волнение.
Во время утренней переклички один из офицеров сделал объявление:
– Как вы, наверное, догадывались, в последние дни велась подготовка одного особого мероприятия. Через несколько дней весь «Лейбштандарт» соберется в Париже, чтобы принять участие в грандиозном параде на Елисейских Полях. Ничто не может помешать этому событию, даже налет английских бомбардировщиков. Каждый должен в этот день позаботиться о том, чтобы выглядеть как можно лучше. Обувь и оружие вычистить до блеска! И никакой грязи под ногтями!
Несколько дней спустя, сложив экипировку и все вещи в грузовик, мы выехали в Париж, чтобы соединиться с другими батальонами «Лейбштандарта», личный состав которого насчитывал около 20 тысяч солдат и множество новых танков, единиц артиллерии и зенитных батарей – все, что должна иметь полностью укомплектованная танковая дивизия[24].
Мы прибыли к месту сбора и ждали, пока займем свои места в транспортной колонне, растянувшейся теперь вдоль всех залитых солнцем Елисейских Полей. Наконец наш грузовик присоединился к параду. Мы расправили плечи и смотрели вперед, стремясь порадовать своего командира, Зеппа Дитриха. Вскоре мы миновали великолепных Лошадей Марли.
По обочинам дороги стояли солдаты вермахта. Позади них, из-за тени деревьев, за парадом наблюдали толпы штатских французов. Когда мы приближались к Триумфальной арке, то я заметил, что с правой стороны от нас стоит генерал-фельдмаршал фон Рундштедт, командующий немецкими войсками во Франции, а рядом с ним Зепп Дитрих в стальной каске. Как только мы поравнялись с ними, то разом энергично повернули головы. Фон Рундштедт приветствовал наш проход взмахом своего фельдмаршальского жезла. После страшных боев в России «Лейбштандарт» снова стал силой, которая способна исполнить волю нашего фюрера.
После парада мы отправились на поле в окрестностях Парижа, где, казалось, собрались все высокопоставленные немцы во Франции: генералы ваффен СС и вермахта, адмиралы кригсмарине и командующие люфтваффе – чтобы стать свидетелями демонстрации нашей наступательной мощи.
По окончании маневров мы упаковали свою экипировку. Когда я передал телефонный аппарат Борису – раздетому по пояс и стоявшему в задней части нашего грузовика, – тот закатил глаза. Я обернулся через плечо и увидел Зеппа Дитриха в сопровождении нескольких старших офицеров. Хотя они стояли от нас слишком далеко, чтобы можно было расслышать их разговор, было ясно, что офицеры хвалят своего командира.
– Любят они нашего Зеппа, – сказал Борис, уперев руки в бока и наблюдая за группой.
– Не только они, но и все мы, – ответил я. – Он – гордость Германии. И я не знаю, удалось бы нам выжить в России без него.
– Он такой маленький по сравнению с нами, – сказал Борис. – Кто ожидал, что маленький человек может стать таким прекрасным командиром?
– Борис, – перебил я его, – но ведь и Наполеон не был великаном.
– Нет, но зато наш унтершарфюрер – гигант во всех отношениях, – засмеялся он.
О нашем забавном австрийском унтершарфюрере, развлекавшем проститутку в Париже ведром с водой, которое держалось на его члене, уже ходили легенды.
– Ну, хорошо, иногда размер действительно имеет значение, – уступил я.
Глава 13 Переброска в Нормандию
Погрузив экипировку на машины, мы отправились на запад, в одну деревушку неподалеку от Франшвиля в Нормандии. Здесь нас разместили в большой комнате над ресторанчиком небольшой гостиницы. Она располагалась рядом с рекой. Несколько дней спустя пришли хорошие вести: я был произведен в штурманы. Это был первый шаг в моей карьерной лестнице. Сам Зепп Дитрих подписал соответствующие документы в Сен-Кантем. Я тут же написал родителям и поделился с ними этой радостью.
Постоянно удрученное выражение на лице хозяина гостиницы выдавало неприязнь, которую ему доставляло наше присутствие, но, видимо втайне надеясь, что мы скоро уедем, он никогда не жаловался, а мы старались поменьше мозолить ему глаза. Вскоре нам подвезли двухъярусные кровати и шкафчики, которые мы установили у себя в комнате, чем еще более омрачили его настроение. Как и в казармах в Лихтерфельде, каждый шкафчик был предназначен для двоих, что еще раз служило подтверждением взаимного доверия, которое соблюдалось и на поле боя. Мы расставили все в комнате так, чтобы оставить свободной торцевую стену. И тогда один из наших товарищей, неплохо владевший кистью, нарисовал там огромного орла со свастикой в когтях – наподобие того, что был вышит у нас на рукавах. Эта картина вызвала неодобрительное ворчание хозяина гостиницы, ну а мы стали чувствовать себя здесь как дома.
Настроение владельца гостиницы еще больше ухудшилось, когда мы приветствовали новобранцев. Среди них были Гейнц Эллере и Гейнц Кёниг, а также Варнике и Брудер. Последнему предстояло стать нашим водителем. Это были ребята, которых мы от души хотели назвать своими товарищами: высокие и крепкие. Но был среди новобранцев один парень, который совсем не вписывался в эти стандарты.
– Ты, должно быть, не туда попал, дружок, – заметил Борис.
Новичок посмотрел на него и прищурился:
– Что ты хочешь этим сказать?
– Это ведь «Лейбштандарт», дурья голова, – сказал Борис тоном, предполагающим, что дальнейшие объяснения не нужны.
– О чем это ты? – не унимался новичок.
– Ну, хорошо, – хмыкнул Борис. – Ты – как бы это помягче выразиться? Гм. Маленький, вот!
– Зепп Дитрих не намного выше меня, – с негодованием выпалил новобранец.
– Ну, ты даешь! Едва ли стоит сравнивать себя с ним, – парировал Борис, заняв агрессивную стойку и повернув к новобранцу свой квадратный подбородок.
Не желая начинать знакомство со ссоры, я решил перейти на более дружелюбный тон:
– Как тебя зовут?
– Хойе, – неохотно ответил новичок.
Лицо Бориса, раздраженного высокомерием новобранца-коротышки, побагровело.
– Хойе… Я, кажется, что-то слышал о человеке с таким именем. Или я ошибаюсь?
– Не знаю. Но мой отец – профессор в университете Штутгарта.
– Ах да, человек со связями, – проговорил Борис, медленно качая головой.
Как только первые волнения улеглись, вновь прибывшие начали потихоньку смешиваться с остальным отделением управления ротой. Хотя большую часть дня занимали тренировки и караульная служба, утренняя поверка проводилась позже, чем обычно, иногда даже в 8:00. В хорошую погоду мы привыкли ужинать – обычно это были какие-то бутерброды – раздетыми по пояс за длинным деревянным столом для пикников. Стол располагался под большим деревом. Однажды безоблачным вечером мы обсуждали, нужно ли заполнять бланки, выданные нам ранее в тот же день. Подписание такого бланка освободило бы нас от членства в церкви, а заодно и от уплаты церковного налога – небольшой суммы, вычитаемой от нашего жалованья и поступающей на содержание церквей в Германии. Хотя я верил – и верю до сих пор – в Создателя Вселенной, я решил тогда, что деньгам все же лучше оставаться в моем собственном кармане, нежели в церковной казне, и подписал бланк заявления. А все католики в нашем подразделении отказались подписывать, решив сохранить преданность своей церкви.
Когда солнце скрылось за деревьями, растущими вдоль соседнего шоссе, тема нашей беседы перешла на девушек – тех, которых мы видели на улицах или в магазинах, но которые, как всегда, были нам недоступны. Справа от меня сидел Гейнц Эллере, а за ним – Ферч, самый симпатичный солдат в нашем подразделении, если не во всей 4-й роте.
– Говорю же тебе, – сказал Эллере, поворачиваясь к Ферчу, – они пялились прямо на меня – прямо в глаза – и, по сути, просили меня поговорить с ними.
Я взъерошил ему волосы.
– Кто бы сомневался! Это ведь наш блондин Вениамин, покоритель юных сердец!
Поскольку Гейнц Эллере был самым юным среди нас, я дал ему прозвище Вениамин – по имени самого молодого из двенадцати сыновей библейского Иосифа.
Подъехал легковой автомобиль. Мы не видели его из-за забора, который огораживал местный сад. Хлопнули две дверцы. Ленивый металлический скрип ржавых ворот, ведущих во двор, машинально привлек наше внимание. Мы насторожились. К нам, убрав руки за спину, направлялся незнакомый офицер. Его сопровождал унтерштурмфюрер из нашего батальона.
– Офицера я видел раньше, – прошептал я Гейнцу Эллерсу. – В штабе роты. Это штурмбаннфюрер из Берлина.
– А что ему от нас нужно?
Мы притихли, увидев, что двое офицеров уже решительно направляются к нам. Листья деревьев весело шелестели, обдуваемые теплым ветерком.
– Штурмбаннфюрер Линге ищет солдат себе в помощь, – объявил унтершарфюрер.
Линге одного за другим смерил нас взглядом. Поразмыслив секунду, он коротко кивнул в сторону Ферча:
– Как вас зовут?
Ферч напрягся.
– Шутце Ферч, штурмбаннфюрер!
– Выйдите из-за стола, чтобы штурмбаннфюрер Линге мог получше вас рассмотреть, – приказал унтерштурмфюрер.
Ферч, покраснев, выскочил из-за стола и промаршировал к двум офицерам.
Линге смерил Ферча с головы до ног, а потом коротко кивнул, повернулся к воротам и отправился к поджидавшему его автомобилю.
Я хлопнул Ферча по плечу.
– Ты счастливчик! Знаешь, кто это такой? – спросил я у него.
Ферч озадаченно покачал головой.
– Линге – главный камердинер Гитлера. До того как ты успеешь сказать «Bon jour», ты уже вернешься в Берлин, в рейхсканцелярию!
Несколько дней спустя Ферчу приказали собрать вещи и явиться в штаб батальона. В тот день я видел его в последний раз.
В середине августа 1942 года союзники высадили десант в Дьепе, приблизительно в 100 километрах к северу. Мы подготовились к бою и выехали из нашей уютной квартиры над рестораном. К счастью для нас, эта высадка превратилась для союзников в сущую катастрофу. Они попытались захватить плацдармы в нескольких местах вдоль побережья, но их танки завязли в прибрежной гальке. Только одному танку удалось забраться на эспланаду, а наша артиллерия потопила один из их военных кораблей. Понеся большие потери, оставшиеся в живых – главным образом канадцы – были взяты в плен частями вермахта[25]. Мы были в восторге: уже во второй раз немецкие войска легко отразили наступление противника на французское побережье.
Хотя «Лейбштандарт» не получал приказа защищать Дьеп, вскоре после этого нас отправили в соседний лагерь, который был приспособлен для приема большого количества военнопленных. Там горстка узников устроила бунт, подожгла бараки и могла вырваться на свободу, но наше вмешательство сорвало их дерзкий побег.
Когда мы возвратились в нашу квартиру над рестораном у реки, то обнаружили, что картина с орлом начисто стерта со стены – так, как будто ее не было. Конечно, мы рассердились и тут же вызвали хозяина.
– Я вовсе не хотел вас оскорбить, господа, но вы тоже войдите в мое положение, – оправдывался он, пожимая плечами и размахивая трясущимися руками.
– Давайте не будем раздувать из этого историю, – вмешался я, несколько сжалившись над французом. – Достаньте нам немного краски, и покончим с этим.
Мы заново намалевали на стене символы СС, но спустя несколько дней съехали оттуда, переселившись в дом садовника, расположенный у изящного замка, окруженного богатыми яблоневыми садами. Перед замком высилось огромное дерево. Поблизости, на лужайке, лежал сломанный флагшток, который мы быстро восстановили. Каждое утро в 8:00 здесь строилась наша рота для утренней переклички и мы поднимали флаг. Однако лично я не извлек для себя никакой пользы из того, что вставали мы позже обычного. Мне ведь приходилось вставать на час раньше остальных, чтобы записать свежий прогноз погоды на нашей радиоточке. Разбудив в 7:00 гауптштурмфюрера Вальдмюллера – нашего нынешнего командира роты – для того, чтобы тот мог выпить свой утренний кофе с круассаном, я читал ему во время завтрака сводку погоды. В один из таких дней я узнал, что представлен к Ostmedaille – медали, которой награждали тех, кто выдержал трудную зиму на Восточном фронте.
Нас с Гейнцем Эллерсом назначили к гауптштурмфюреру Вальдмюллеру в денщики. Командир был очень строг, но в обращении с нами всегда вел себя корректно. После переклички мы чистили его мундир и обувь, а также выполняли любые другие хозяйственные работы, которые нам поручали. Это не было так уж утомительно, как может показаться на первый взгляд, потому что у него было радио, и во время работы мы могли слушать немецкие радиопередачи. Несколько раз мы были свидетелями, как Вальдмюллер настраивал радиоприемник на волну Би-би-си, и он сразу предупредил, чтобы мы держали свои языки за зубами и не смели никому даже заикаться об этом.
Другая наша задача состояла в том, чтобы аккуратно отпаривать и вскрывать письма военнослужащих нашей роты. Вальдмюллер лично перечитывал каждое письмо. Если где-нибудь проскальзывала информация о нашей дислокации во Франции, то он попросту выбрасывал такие письма в мусорное ведро, после чего мы их сжигали.
Одна из моих куда более неприятных обязанностей как денщика командира роты состояла в том, чтобы сортировать имущество погибших солдат. Случилось так, что среди вещей солдата, убитого в самом начале Русской кампании, оказался бельгийский пистолет Браунинга образца 1900 года калибра 7,65 мм. Провалявшись около года в одном из наших грузовиков, оружие находилось в удручающем состоянии, и ствол его сильно ржавел. Чтобы разрядить пистолет, я взял его, прошел в сад, расположенный за квартирой гауптштурмфюрера, и несколько раз выстрелил в землю.
В следующую субботу Вальдмюллер, как обычно, проводил перекличку. Когда настала моя очередь, гауптштурмфюрер нахмурил широкой лоб и во всеуслышание объявил, что я наказан тремя сутками «карцера». «Карцер» представлял собой тесную хижину в соседнем лесу, в которой было четыре стены и прохудившаяся крыша. Каким-то образом Вальдмюллер узнал, что я не стал чистить пистолет, а освободил его магазин более простым способом.
В «карцере» было окно, но только без стекла, поэтому если шел дождь, то приходилось несладко. Кроватью служила обыкновенная деревянная доска, к которой прилагалось одеяло. Делать было нечего, и я приготовился честно отбыть трое суток своего ареста. Кроме того что ночью было довольно прохладно, в остальном пребывание в «карцере» не было таким уж неприятным. В прекрасную летнюю погоду здесь было много прохожих, среди которых попадались даже фламандцы. Они часто останавливались поболтать и даже приносили мне кое-что из еды. А в воскресенье вечером явился унтершарфюрер, чтобы объявить, что я свободен. На сутки раньше срока. Конечно, гауптштурмфюрер освободил меня не из альтруистических соображений, просто он нуждался в моих услугах. Зато в мою солдатскую книжку не внесли никаких упоминаний о моем «преступлении». Я возобновил свою службу в качестве денщика, Вальдмюллер больше ничего не говорил на эту тему, и наши отношения быстро нормализовались.
В следующую субботу гауптштурмфюрер отмечал свое 30-летие – на день раньше срока – и на мероприятие пришли многие его друзья-офицеры из батальона и штаба роты. Веселье, подпитываемое изрядным количеством вина и коньяка, продолжалось в его кабинете в замке почти до самого вечера. В заключение Вальдмюллер привел гостей в сады, где опустошил всю обойму своего пистолета «вальтер» образца 1938 года в стену соседней колокольни. Раздался громкий звон и полетели искры, когда пули попали в колокол. Вскоре к нам в замок явился священник, который едва сдерживал себя от гнева. Но Вальдмюллеру все же удалось умиротворить его. Он объяснил, что решил немного развлечься в свой день рождения. На следующий день я отнес письменное извинение Вальдмюллера местным церковным властям.
* * *
В выходные после ужина мы были предоставлены сами себе, могли делать, что нам вздумается, но возможности познакомиться с местными девушками по-прежнему не было. Не то чтобы это имело для нас большое значение, поскольку немногочисленные встречи не оставили сомнений, что для того, чтобы по-настоящему подружиться с кем-то из местных, шансов крайне мало. Но мы были молоды и на пике своих сексуальных желаний, поэтому сложившаяся ситуация не давала нам покоя.
Желая хоть как-то отвлечься от навязчивых мыслей о противоположном поле, несколько солдат из группы управления роты решили в субботу вечером отправиться в соседнюю деревенскую пивнушку и пропустить пару кружек пива. В пивной уже сидели несколько фламандских парней, которые были настроены весьма дружелюбно. Один из наших товарищей был родом из Кельна и говорил на диалекте, который наши новые приятели понимали без труда. Вскоре мы уселись все вместе за столом, дружно потягивали пиво, поочередно наполняя кружки у стойки.
Один из фламандцев спросил:
– Может быть, заказать всем по кофе?
Не желая обидеть новых приятелей, мы приняли предложение. Вторая чашка, казалось, была на вкус лучше первой, а третья – приятнее второй. Вскоре я уже потерял счет выпитым чашкам кофе. Наконец после приятного вечера настала пора прощаться. Мы поблагодарили своих фламандских друзей за теплое гостеприимство и, пожелав им всего доброго, вышли на прохладный вечерний воздух. Он поразил нас, словно кувалда. Позже мы узнали, что наши фламандские приятели «приправили» свой и наш кофе кальвадосом, яблочным бренди, который здесь был весьма распространен.
Под воздействием изрядной дозы кофеина и алкоголя мы, шатаясь, ковыляли по дороге, держась друг за друга. Каким-то образом мы с Эллерсом оторвались от остальных. Потом мы поняли, что заблудились. Железнодорожная насыпь показалась мне знакомой, и мы поднялись наверх, встали на рельсы и попытались разглядеть окрестности, чтобы хоть как-то сориентироваться. Раздался громкий гудок. Эллере уткнулся в меня сзади, и я, раскинув руки, покатился вниз по насыпи.
– Эрвин, – нетвердо проговорил Эллере, когда мы пришли в себя, – надо быть осторожным, когда идет поезд…
В воскресенье утром я проснулся с сильной головной болью. Я так и не понял, как нам с Эллерсом удалось отыскать дорогу к дому садовника. За завтраком наши товарищи шумно обсуждали наши подвиги в деревне, ни один из которых я сам вспомнить был не в состоянии. Некоторые из этих историй, как я искренне надеюсь, родились только в их ярком воображении и были предназначены для того, чтобы уж совсем сбить нас с толку…
Мы слышали рев двигателей вражеского самолета, даже шипение крыльев, рассекающих сырой вечерний воздух, но сам самолет так и не увидели. Должно быть, им управляли очень опытные пилоты, потому что под прикрытием темноты они летели на минимальной высоте, стараясь сделать свое приближение настолько тихим, насколько это вообще возможно. Несмотря на наши многочисленные патрули в округе, их секретную взлетно-посадочную полосу так и не обнаружили, хотя мы были уверены, что с каждым таким рейсом бойцы французского Сопротивления получали новых агентов и инструкторов.
Чтобы отследить вражеский самолет, гауптштурмфюрер приказал оборудовать наблюдательную площадку. Ее устроили на старом дубе в саду замка. На нижние, почти горизонтальные ветви можно было забраться по лестнице, закрепленной веревкой. Чуть выше ветви были наполовину спилены, чтобы дать возможность по обрубкам подняться на вторую лестницу, ведущую к площадке, устроенной на спиленной кроне дерева. Конечно, подъем на верхнюю крошечную площадку, на которой мог разместиться всего один человек, представлял собой душераздирающее испытание, зато сверху открывался превосходный обзор окружающей местности. Установленный там же телефон позволял быстро передать любые данные, собранные наблюдателем. Наблюдение велось круглосуточно.
Однажды вечером, когда я был на дежурстве в замке, поглазеть на наблюдательную площадку прибыла группа старших офицеров с женами. Среди них был недавно назначенный командир нашего батальона штурмбаннфюрер Альберт Фрей. Родом Фрей происходил из Хайдельберга (Гейдельберга), был сыном хозяина пекарни, так что я, по крайней мере, имел кое-что общее с нашим высокопоставленным командиром. Его жена, Лотта, была очень красивой женщиной с изумительной фигурой. Она настаивала на том, чтобы непременно взобраться на наблюдательную платформу – «просто чтобы посмотреть, как оттуда выглядит мир». Для женщины такой поступок был очень смелым. Даже в дневное время он требовал холодной головы для подъема наверх и еще более холодной – для спуска вниз. Поскольку мне несколько раз пришлось побывать в шкуре такого наблюдателя, я могу лишний раз это подтвердить.
Моя служба денщиком у Вальдмюллера закончилась, когда я был назначен курьером роты. Каждый вечер, в том числе и в выходные, я передавал документы из штаба батальона в штаб той или иной роты, и наоборот. Это занимало порой часа два ходьбы. В один особенно дождливый вечер я узнал о том, что наш командир дивизии, Фриц Витт, съездил в Париж, чтобы выбрать девушек для борделей, предназначенных исключительно для «Лейбштандарта». Проходя мимо местной гостиницы, я заметил стоявший у стены велосипед. Рядом никого не было. Я уставился на него, размышляя о том, что велосипед мог бы сэкономить мне уйму времени. Однако было бы рискованно забирать велосипед без согласия владельца. Если бы меня уличили в краже, то наверняка наложили бы штраф, а возможно, и лишили бы недавнего поощрения. Я поднял голову; серые облака плотно застилали небо и не думали расходиться. Я схватил руль, перекинул ногу через раму и, усевшись, нажал на педали. Я очень надеялся, что меня никто не заметит. Съездив в штаб батальона и выполнив все, что нужно, я помчался обратно к гостинице. Я крутил педали изо всех сил, опасаясь, что если велосипед объявили пропавшим, то военная полиция уже поджидает вора… К счастью, временное отсутствие велосипеда прошло незамеченным, и я поставил его на то же место, где и взял. За время этой гонки я изнывал от жажды, поэтому зашел в гостиницу за пивом. Внутри я обнаружил одного из наших фламандских друзей. Я угостил его пивом и рассказал, как мне удалось незаметно похитить велосипед.
– А-а-а, так это же мой велосипед! – хихикнул он, уже изрядно набравшись. А потом хлопнул меня по плечу. – Не бери в голову: мое нынешнее состояние едва ли позволит мне управиться даже с велосипедом!
Глава 14 Небольшие развлечения для молодых солдат из «Лейбштандарта»
Поездка Фрица Витта не прошла впустую. Проституток, которых он нашел в Париже, переселили в гостиницу, неподалеку от штаба роты. Очевидно, он сделал вывод, что для его солдат гораздо лучше посетить официальный бордель, а не снимать местных проституток где попало с риском подцепить половую инфекцию. В конце концов, больной солдат – неважный вояка.
Уже прошло несколько месяцев с тех пор, как мне исполнилось 19 лет, и я решил, что пора, наконец, покончить со своей невинностью. К тому времени, когда я повернул на улицу, где располагалась гостиница, мои нервы были уже на пределе, а ноги сделались ватными и едва двигались. У двери, покуривая, уже слонялись два солдата из другой роты. Они заметили меня, и поворачивать назад было поздно.
Я отдал свою винтовку дежурному унтер-офицеру и вошел в ресторан. Девушки слонялись вокруг, подмигивая и улыбаясь солдатам СС, сидящим за столиками. Кругом царила расслабленность, и в помещении стоял громкий гул от накачанных спиртным посетителей. Я отправился к барной стойке заказать себе пива.
Полная буфетчица широко улыбнулась:
– А-а-а, новый клиент! Сколько же вам лет?
– Девятнадцать.
Когда она наклонилась вперед, чтобы достать из-под прилавка бутылку, то перехватила мой пристальный взгляд, прикованный к ее декольте.
– Ищете себе девочку?
От этих слов я ощутил покалывания в каждом нерве. Сейчас мне оставалось лишь ответить «да». Подняв голову, я посмотрел ей прямо в глаза, рассчитывая дать утвердительный ответ, но изо рта вырвалось какое-то нечленораздельное кваканье.
Буфетчица подхватила под локоть женщину лет тридцати и подвела ко мне.
– Вот содержательница публичного дома, – сообщила буфетчица, – она и сведет вас с девушкой.
Уперев руки в бедра, дама смерила меня взглядом.
– Есть у меня нужная девочка, – сказала она, поманив за собой. – Больше не ищите.
Я машинально заплатил за зеленый жетон, на котором был написан номер комнаты и имя девушки «Ивонна». Содержательница сопроводила меня к санитару, сидевшему за столиком у подножия лестничного марша. Тот сунул мне в руку свежевыстиранное полотенце.
– Покажите свой билет, – зевнув, попросил он. Взглянув, он лениво улыбнулся. – Ах, Ивонна! Да, она и в самом деле хороша, – сказал он, делая запись ее названия на форме. – Что, в первый раз?
Я кивнул.
– Покажите мне свой презерватив.
Я покопался в карманах и вытащил один из своих трех стандартных презервативов.
– Когда кончите, хочу видеть его заполненным. Так что не выбрасывайте.
Я снова кивнул, на этот раз заметив на столе мелкий поднос, покрытый белой тканью.
– Комната номер 9. У вас 15 минут, – сказал он и, качнув головой, подал знак подниматься наверх.
Едва ли мне хватит этого времени, думал я, а пока изо всех сил старался не бежать по ступенькам. От волнения затаив дыхание, я заторопился по тускло освещенному коридору в поисках нужной мне комнаты. Отыскав, я постучал костяшками пальцев по двери. Щелкнул замок, дверь распахнулась, и я увидел симпатичную молодую женщину. Я показал ей свой билет, а сам подумал, что вижу все это во сне. Ведь передо мной стояла та самая девушка, которая так замечательно пела в парижской пивной! Наивный, я был разочарован, когда она не подала виду, что узнала меня.
– Ивонна? – пробормотал я.
– Oui, – тихо ответила она, а потом взяла за руку и подвела к двуспальной кровати в углу комнаты.
– Дайте мне свой презерватив и раздевайтесь, – сказала она, и я понял, что это была хорошо отрепетированная фраза на языке, который был ей абсолютно чужд и непонятен.
Пока я раздевался, Ивонна расстегнула свою шифоновую ночную рубашку, и стали видны маленькие конические груди. Прежде я никогда не видел обнаженную женщину, не говоря уже о том, что никогда не раздевался в ее присутствии. Еще задолго до того, как я снял нижнее белье, мой член так напрягся, что я был полностью готов к своему первому сексуальному испытанию…
Ивонна присела на краю кровати и достала презерватив из упаковки. Холодными кончиками пальцев она медленно натянула этот резиновый аксессуар на мое изнемогающее мужское достоинство. Это была единственная прелюдия к акту спаривания, который в остальном прошел без обычных любовных ритуалов.
Меньше чем за 5 минут я совершил акт, который раз и навсегда покончил с моей невинностью. Но, как говорят, вы никогда не забудете свой «первый раз». Спустившись с лестницы, я взял использованный презерватив между большим и указательным пальцами, и санитар внимательно осмотрел его. Удовлетворенный тем, что изделие использовано как положено, он достал из-под стола небольшое ведро и протянул мне. Я бросил туда презерватив, и он присоединился к слизистой массе каучука, толстым слоем устилавшего дно.
– Теперь спустите вниз штаны, – приказал санитар, после того как поставил ведро обратно под стол. Ловким движением руки он откинул с подноса ткань, достав большой шприц, заполненный какой-то зловещего вида коричневой жидкостью. Не успел я опомниться, как санитар схватил мой член и засунул тупую иглу глубоко в уретру. Я вздрогнул, когда он медленно выпустил внутрь меня жидкость. Как потом мне объяснили, это был раствор сульфаниламидного препарата. Скажу по правде, ощущения были не из приятных.
– Примерно через час все будет хорошо, – заверил меня санитар, когда процедура была закончена. Он внес в бланк даты и местоположение публичного дома. Вручив его мне, он сказал: – А теперь послушайте меня внимательно. Не теряйте это, положите в солдатскую книжку. Это подтверждение того, что вы прошли надлежащую процедуру дезинфекции. Если у вас обнаружатся какие-нибудь неприятности, покажете это своему ротному врачу. Храните этот листок у себя не меньше десяти недель.
За считаные дни до Рождества 1942 года нам с Эллерсом приказали явиться вечером в местный гараж. Здесь нам предстояло работать ночью, чтобы не нарушить обычный график работы гаража. Во дворе мы обнаружили с полдесятка машин нашей роты. В гараже, возле одного из наших грузовиков с заклеенными фарами и окнами, переминался с ноги на ногу владелец гаража, которому предстояло научить нас работать с окрасочным распылителем.
– Судя по всему, мы собрались в Африку, – проговорил Эллере, когда мы принялись покрывать первый грузовик краской песочного цвета.
– Знаешь, Вениамин, говорят, что там можно жарить яйца прямо на башнях танков, – язвительно заметил я, – но, по крайней мере, нас не станут пытать, если мы попадем в плен к англичанам.
Наша работа в гараже продолжалась несколько ночей. Опьяненные парами растворителей и мыслями об африканской жаре, мы покрасили последний грузовик. А ко г-да убрали окрасочные пистолеты, снаружи раздалось рычание мотора и грохот подъехавшего тяжелого грузовика, от которого затряслись металлические стенки гаража. Внутрь зашел водитель с канистрами краски в руках.
– Цвет поменялся, парни. Придется перекрашивать все грузовики в белый. И без промедления. Похоже, нас снова ждет Восточный фронт…
Новости о возвращении в Россию солдаты нашей роты восприняли с достоинством. В конце концов, мы ведь служили в элитном соединении фюрера, выполняли приказы беспрекословно и сражались с честью…
Мой брат и его невеста решили устроить свадьбу на Рождество 1942 года. Мне дали отпуск, чтобы я мог посетить церемонию в Берлине. И я с нетерпением ждал этого события. Однако моя известность в качестве пекаря, очевидно, распространилась среди офицерского состава, и Вальдмюллер попросил меня на Рождество приготовить угощение для всего личного состава 4-й роты. Делать было нечего, и я, естественно, согласился на эту «просьбу» нашего командира. Будучи человеком справедливым, Ганс Вальдмюллер заверил меня, что мой отпуск просто отсрочен, но вовсе не отменен.
В течение этих трех дней перед Рождеством я готовил пироги и печенье для солдат и офицеров 4-й роты, в то время как французские пекари работали ночью, как обычно. К сожалению, от дрожжей и теста у меня на руках образовалась сыпь. Зная, что солдатам с любой инфекцией не разрешается отпуск на родину, я старался не думать об этом и просто наслаждался самым незабываемым Рождеством в своей жизни. Это были счастливые дни, проведенные в компании боевых товарищей, с которыми мне довелось делить и радость, и горе. Обедали мы, как короли. У нас был жареный поросенок и вдоволь гарниров в виде жареного картофеля и овощей. К нашему немалому удивлению, Гейнц Кёниг оказался превосходным пианистом и без конца развлекал нас приятной музыкой.
На следующий день я явился к ротному врачу. Хотя сыпь немного спала и осталась лишь небольшая краснота между пальцами, он все-таки отказался подписать мой пропуск. А я и так уже пропустил свадьбу Хорста и знал, что перспектива не получить вообще никакого отпуска наверняка разобьет сердце моей несчастной матери. Она ведь не видела меня с тех пор, как я покинул казармы в Лихтерфельде летом 1941 года. Когда я рассказал о потерянном отпуске гауптштурмфюреру Вальдмюллеру, он вошел в мое непростое положение.
– Дайте мне свой пропуск – и никому ни слова, – сказал он. – Когда-то я был полицейским детективом.
Он с усмешкой вручил мне пропуск с подделанной подписью врача, не объяснив обстоятельств, при которых этот опыт пригодился ему во время работы сыщиком. Хотя догадаться было нетрудно…
В понедельник вечером 28 декабря, прежде чем отправиться на железнодорожную станцию в Эврё, я купил в столовой бутылку кальвадоса. Казалось, на этом поезде собралась ехать половина гарнизона вермахта. Возникла даже давка при посадке в вагон. Весь путь до Берлина, который занял 12 часов, я вынужден был провести стоя…
Так получилось, что, когда я подходил к дому, мать как раз выглянула на улицу из окна нашей квартиры. Заметив меня, она вскрикнула и, захлопнув окно, бросилась вниз по лестнице. Несмотря на ледяной ветер, она выбежала на улицу без пальто.
– О, Эрви, как же долго… – зарыдала она сквозь слезы радости, когда бежала мне навстречу. – Мы с отцом так переживали за тебя. Надеюсь, звонок Хорста не доставил тебе неприятностей – это ведь я его подговорила, ты же знаешь…
– Нет, мама, все нормально.
Больше года назад в Таганроге я плотно занимался телефонной связью. Именно тогда мне позвонил Хорст. По причине нашего быстрого и немного суматошного наступления у меня не было возможности написать домой, и родители, боясь худшего, попросили Хорста как телефониста министерства авиации попробовать связаться с нашей ротой. Каким-то чудом ему удалось дозвониться.
Когда я поднял трубку, то тут же передал ее одному из наших офицеров со словами: «Звонок из Берлина». Я чуть не упал с табурета, когда тот вручил мне трубку обратно, добавив, что звонят лично мне! Услышать голос Хорста и узнать, как нелегко ему было связаться со мной, – все это тронуло мое сердце, и некоторое время я не мог опомниться и был охвачен непреодолимой тоской по дому. Как мне тогда хотелось вернуться в Берлин, к своим родным!
Я обнял мать за плечи и сказал:
– Мамочка, как все-таки хорошо оказаться дома…
Канун Нового года я провел с родителями. На сам Новый год мы отправились в Эркнер, у юго-восточной окраины Берлина, навестить новых родственников со стороны супруги Хорста. К сожалению, свою квартиру во Франции я оставил слишком рано и не получил традиционный рождественский подарок в виде бутылки шнапса, которую фюрер за собственный счет дарил каждому солдату и офицеру «Лейбштандарта». Этот жест благодарности повторился и на Пасху. Однако у меня была бутылка кальвадоса, которую я купил перед отъездом из Франции. Ее я и захватил в подарок хозяевам. Вскоре приехали Хорст, который получил отпуск от министерства авиации, и его молодая жена. Они привезли много вкусных булочек и пирогов. До отъезда в Берлин мы провели прекрасный день, рассказав друг другу все новости.
– Сынок, сынок, просыпайся! Тебе срочная телеграмма!
Я протер глаза. Наступил первый день нового 1943 года.
– Что в ней написано?
– Ты должен возвратиться в расположение своей роты к 4 января.
Означало ли это, что я должен отбыть во Францию в тот день или что я уже через три дня должен быть на месте? Мы с отцом склонялись к мысли о том, что ехать нужно немедленно, но мой брат Хорст, который навестил меня позже, сказал, что можно все-таки подождать до 4-го, поскольку на выходные едва ли можно будет найти подходящий поезд.
В конце концов я решил, что предписание содержит двусмысленность, которая вполне позволяет мне провести с родными еще три дня…
Утром 4 января я прибыл на вокзал и с облегчением обнаружил там еще одного солдата из нашей роты. Он тоже дожидался поезда. Вскоре появился другой, потом еще один. Наконец ожидающих транспорта во Францию набралось восемь человек. Поскольку доступных поездов не было, мы явились в казармы на Лихтерфельде, где слонялись целый день. Потом нас отправили в Магдебург, где ожидала переправки в Россию одна из частей дивизии «Мертвая голова».
По прибытии в Магдебург мы получили все необходимые документы, чтобы предотвратить любые трудности, которые могли бы возникнуть, если нас остановит полиция. Вообще, этот вопрос был очень важен, поскольку мы всегда были обязаны объяснить свое текущее местонахождение. И вновь нам пришлось бездействовать несколько часов, пока нам не сообщили, что можно сесть на поезд, который отправлялся из Берлина на следующий день.
Мы находились в своего рода подвешенном состоянии, когда никто нами не командовал, но при этом нам нечего было есть и пить. В отчаянии мы решили на время оставить свои вещи в доме моих родителей. А потом отправились в концентрационный лагерь Ораниенбург, расположенный севернее, приблизительно в часе езды. Мы знали, что там есть столовая для военнослужащих дивизии «Мертвая голова». Мы доложили о себе местным офицерам, предъявили документы и сказали, что нуждаемся в продуктах для поездки в нашу часть. Они выдали нам еду и питье. Нам даже достались несколько бутылок шнапса и две пачки сигарет. Так как денег у нас совсем не было, нам пришлось оставить расписку за полученные продукты, но кто в конечном счете заплатил за них, мне узнать так и не довелось.
Мы покинули Ораниенбург и провели ночь у меня дома. Там мы сдвинули кровати моих родителей (в то время в семьях не было необычным спать в отдельных кроватях) – и четверо из нас легли поперек, в то время как остальные мои сослуживцы (и мои родители) провели ночь на полу.
На следующий день мы отправились в Эврё. А по приезде увидели, как от платформы на противоположной стороне станции отходит эшелон с грузовиками и бронетранспортерами, окрашенными в белый цвет. Наведя справки, мы выяснили, что это и был эшелон, на котором мои сослуживцы, как и вся дивизия «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», перебрасывались обратно в Россию. К счастью, через пару дней нам удалось сесть на другой эшелон, следующий тем же маршрутом.
Глава 15 Возвращение в Россию
Тянулись дни, и от снега пейзаж неуклонно становился все белее и белее. Примерно в середине января 1943 года наш эшелон остановился в Полтаве, на Украине. Здесь мне удалось пересесть на другой эшелон, перевозящий танковую часть, которая следовала к месту дислокации моей 4-й роты. Через несколько часов эшелон остановился на небольшой станции, где были выгружены боевые машины, причем некоторые, как бы жалуясь на сильные морозы, упорно отказывались заводиться. Я переходил от танка к танку или бронетранспортеру, расспрашивая водителей, направляются ли они на участок, где располагается 4-я рота, но мне не везло. Когда грузовики и бронетанковая техника скрылись в снежной круговерти, мне не оставалось ничего иного, кроме как дожидаться утра в компании еще полусотни солдат из танковой части. Когда солнце, такое же бледное, как полная луна, зашло за облака, начался жгучий мороз. С наступлением сумерек стало еще холоднее, и мои щеки ощутили знакомое покалывание.
Зимнюю тишину нарушил сердитый свист пуль. Позиции нападавших выдавали лишь вспышки выстрелов из их оружия. Мы внезапно оказались в самой гуще боев.
– До ублюдков меньше полукилометра, – крикнул наш единственный офицер. – Надо организовать оборону периметра, иначе здесь, на платформе, мы станем легкой добычей для противника.
Нам удалось укрыться за большими ящиками, разбросанными по станции. Через несколько минут противник прекратил огонь так же внезапно, как и начал. Мы с тревогой ждали, что будет дальше, зорко всматриваясь в углубляющийся мрак.
– «Иваны» за рельсами! – раздался чей-то крик.
Я смог разобрать отдельные группы похожих на призраки фигур в белых маскировочных халатах. Находясь на расстоянии менее 100 метров, они бежали прямо на нас через глубокий снег. Два наших пулемета открыли огонь, нарушив ночную тишину своим треском. Имея вдоволь боеприпасов, мы продолжали стрелять до тех пор, пока всякие перемещения у путей прекратились. На запах свежепролитой русской крови стали собираться волки. Их глаза сверкали в морозной ночи. Раздался выстрел, за ним последовал жалобный вой. Наутро с лицами, посиневшими от холода, мы радостно приветствовали возвращение танковой части. Была быстро установлена радиосвязь с 4-й ротой, а час спустя приехал грузовик, который доставил меня в мое подразделение.
Несмотря на атаку русскими железнодорожной станции, мне удалось сохранить бутылку шнапса и несколько коробок сигарет, которые я раздобыл в Ораниенбурге. Большую часть я продал, когда прибыл на командный пункт роты. Однако несколько пачек сигарет и бутылку шнапса я все же сберег для своих товарищей. Наконец, я отыскал местонахождение своего подразделения в добротном бункере.
– Никак не мог расстаться со своими французскими подружками, а, Эрвин?
– Как там дела в Берлине?
Один за другим ко мне подходили мои боевые товарищи, пожимали руку, хлопали по спине, смеялись, как взволнованные школьники. Наконец-то я был «дома» и с облегчением узнал, что за время моего отсутствия подразделение не понесло потерь. Я передал бутылку шнапса по кругу, и каждый смог сделать приличный глоток и на время забыть о холоде. Затем порылся в карманах маскхалата, нащупал нетронутую пачку сигарет и сунул Борису в руку.
Его лицо озарила широкая улыбка.
– А я уж подумал было, что одна из бомб угодила тебе по башке.
– В Берлине царил какой-то переполох, – объяснил я, – нас посылали то туда, то сюда. В итоге мне все-таки удалось добраться до Эврё. А потом наконец я сел в эшелон, перевозящий одну из танковых частей СС, но ты не поверишь, как же медленно он тащился!..
Расположившись на высотах, выходящих на покрытый коркой льда Северский Донец, 4-я рота обороняла один из участков фронта на восточных подступах к Харькову. Я проложил линии телефонной связи, которые мы называли «нитками марионеток», чтобы связать рассредоточенные пулеметные расчеты с командным пунктом роты.
Через несколько дней после того, как я благополучно устроился на новом месте, русские начали артподготовку, во время которой телефонная связь с командным пунктом была нарушена. Моей задачей было восстановить связь как можно быстрее. Задача крайне опасная во время интенсивного боя. Я шел вдоль телефонной линии по глубокому снегу, и ноги то и дело проваливались, ломая тонкую ледяную корку. По спине и бровям ручьями стекал пот. Лицо обволакивали белые облака пара из выдыхаемого воздуха. Я отыскал разорванный конец кабеля, но целый его участок, ведущий к командному пункту, был утрачен во взрытом разрывами снегу. Под свист пуль, никак не дававший чувствовать себя в безопасности, я начал систематический поиск, пока не нашел недостающий конец кабеля. Однако он оказался слишком коротким для соединения с кабелем, идущим от линии фронта.
Пришлось восстанавливать обрыв куском кабеля с катушки, которую нес с собой. Из кожаной сумки на поясе я достал инструмент для зачистки проводов, опустился на колени возле перебитого кабеля и снял перчатки. Прежде чем я закончил с первым контактом, мои пальцы онемели. Я выронил инструмент, потом снова нашел его в прозрачном снегу. Пока я трудился над вторым контактом, мои пальцы стали синими и ими было больно пошевелить. Когда я закончил ремонт, то оглянулся вокруг и заметил группу русских на расстоянии около сотни метров. Один из них позвал меня. Я едва мог поверить собственным глазам: солдат был в каске и… в юбке! Девушка! И не одна – целое женское отделение. По какой-то причине они не стали стрелять, хотя я, должно быть, представлял весьма заманчивую цель. Видно, снова вмешался мой ангел-хранитель и спас меня от верной гибели…
Когда я вновь оказался в нашем теплом и удобном бункере, то рассказал товарищам о том, что натолкнулся на русский женский отряд. Внимательно выслушав меня, они стали посмеиваться. И каждый для полноты картины добавлял свой комментарий.
– Должно быть, ты отчаянно нуждался в девочке, Эрвин! Неужели та малютка из Парижа так запала тебе в душу?
– А ты не назначил с ними свидание?
– Я же говорю, ты просто ослеп, приятель. И тебе повсюду мерещатся одни только бабы.
Все засмеялись, и, по правде говоря, я уже и сам начал сомневаться в том, что увидел. Однако на следующий день они смогли лично убедиться в том, что я не плел небылицы.
В темное вечернее небо с шипением устремились наши сигнальные ракеты, разорвавшиеся миллионами ярких звездочек. На освещенных вспышками заснеженных полях у Северского Донца двигались многочисленные зловещие тени… К нам приближалась русская пехота.
– Беглый огонь! – крикнул наш командир взвода.
Наши пулеметчики пустили в дело свои новенькие MG-42. Их интенсивный огонь помог сорвать еще одну ночную атаку противника. Днем русские принялись обстреливать нас из своих гаубиц. У их снарядов был весьма характерный звук, и мы их побаивались, потому что они взрывались через долю секунды после того, как мы слышали свист. Времени для того, чтобы укрыться, не было. Но еще больше пугал вид бесконечных колонн русской пехоты, которые черными змеями день за днем тянулись через заснеженные поля на противоположном берегу Северского Донца, пробивая себе путь вокруг нашего южного фланга и стремясь замкнуть смертельную петлю…
Измотанные бесконечными боями, не имея ни малейшей возможности выспаться и испытывая проблемы с провиантом, мы понимали, что не сможем выдержать еще одну массированную атаку. В сумерках, при температурах ниже минус 30 градусов, мы оставили свои хорошо подготовленные позиции и отступили на юго-восток, к поселку Рогань, пригороду Харькова.
Едва мы успели организовать оборонительные позиции в центре Роганя, как русские вновь пошли в атаку. Временами интенсивность огня была так высока, что невозможно было выглянуть в окно или из-за стены, не рискуя получить дырку в голове. Танки Т-34 при поддержке крупных сил пехоты прорвали нашу оборону. После трех или четырех дней непрерывных боев мы отступили на открытую холмистую местность между Харьковом и Роганем, и силы каждого из нас были уже на пределе. На правом фланге, по ту сторону большого оврага, тяжелые потери несла наша 1-я рота. Она занимала позиции на ключевой высоте, выходящей на главную дорогу к Харькову. Русские постепенно теснили нас все ближе к центру города, готовясь к решающему удару.
К счастью, нами командовал не кто-нибудь, а «Папа» Хауссер. Хорошо усвоив урок Сталинграда, он отдал приказ отступить из города. Сразу после полудня 15 февраля – эту дату я помню хорошо потому, что это был день после годовщины свадьбы моих родителей, – мы отступили через коридор шириной всего в несколько сот метров, устроенный на западной окраине города.
Вскоре пошли слухи, что Хауссер, рискуя навлечь на себя самое серьезное наказание, по сути, спас нам жизнь. Он ведь отважился проигнорировать приказ Гитлера защищать Харьков до последнего солдата. Иметь такого командира, который заботится о своих солдатах, было для нас большой честью. Мы знали, что он никогда не пожертвует нами, своими «мальчишками», ради того, чтобы выполнить какой-нибудь ненужный приказ сверху.
К началу марта 1943 года положение улучшилось. Русская угроза на юге была устранена[26]. Мы собирались вернуть себе Харьков, отчаянно стремясь нанести смертельную рану противнику, желая воздать должное «Папе» Хауссеру за его верность офицерскому долгу, исполненные решимости отомстить русским за наше унизительное отступление несколькими неделями раньше[27].
С дивизиями ваффен СС «Дас Райх» и «Мертвая голова» на флангах мы пробивались через молочный туман, который закрыл горизонт, стерев различие между небом и землей. Все предметы вокруг сделались серыми, окружающий мир лишился перспективы и цвета. Мы двигались вперед день и ночь, останавливаясь только для того, чтобы сбить намерзший лед с колес и гусениц. Там, где русские оказывали сопротивление, лежали их трупы. Глаза и рты погибших покрылись ледяной коркой, а лица застыли в холодных объятиях смерти. То тут, то там из снега, словно прося о помощи, торчали дула автоматов или винтовок. Для меня они больше не были большевиками, а просто парнями, которые погибли, защищая свою страну.
Ствол одного из проходящих рядом новейших танков «Тигр» дернулся, изрыгнув вспышку. Раздался выстрел, и внезапно рев сражения прекратился. Так я на собственном опыте узнал, какой эффект производит выстрел из могучей пушки «Тигра». Ударная волна сотрясла мои барабанные перепонки, оглушив меня и сделав неспособным слышать подход боевых машин, вой летящих снарядов и предупредительные крики моих товарищей. На поле боя такое было крайне опасно. Я с облегчением вздохнул, когда через несколько часов мой слух все-таки восстановился…
По заснеженным полям наша боевая группа штурмбаннфюрера (майора СС) Фрея приближалась к Харькову по главной дороге, соединяющей город с Белгородом. Трассирующие снаряды поджигали соломенные крыши домов, в которых засели русские. От пожаров даже плавился лед на заборах соседних домов. От моей шинели поднимался пар, когда я проходил мимо горящей мельницы. Ее крылья продолжали движение, пока вся постройка не обрушилась, поглощенная пламенем и дымом…
Русские отчаянно пытались остановить наше наступление. Они предприняли внезапную атаку в районе аэродрома в северной части города. Расположенные в нескольких километрах справа, наши «Небельверферы» (реактивные минометы) засыпали обороняющихся градом мин. А впереди «Тигры» вступили в бой с русскими Т-34, и контратака противника захлебнулась. Отмеченные свастикой бронетранспортеры продвинулись ближе к центру города.
Мы наблюдали, как снаряды наших танков разрушают здания, подавляя гнезда русского сопротивления. Мимо проносились курьеры на мотоциклах, доставляя важные донесения и взрывая колесами грязный, обледеневший снег. Продвинувшись вглубь города, мы обнаружили, что обороняющиеся забаррикадировали улицы разбитой техникой и устроили ловушки для танков. Поэтому наши танки вынуждены были выстроиться в очередь на дорогах, ведущих к центру, и ждать, пока саперно-инженерные подразделения не очистят дороги от мин и не оборудуют безопасные проходы.
Уличные бои в зимних условиях всегда таили в себе опасность, причем в Харькове эта опасность носила исключительный характер. Возможно, это было как-то связано с планировкой города, или, может быть, противник разработал новую тактику ведения боя. Так или иначе, русские упорно дрались за каждый дом, каждый квартал, каждую улицу. Местами наше продвижение замедлял глубокий, по колено, снег, и резко возрастал риск поражения от снайперского огня.
Мы проходили один дом за другим. Нашу группу возглавлял находчивый обершарфюрер, с которым мы не раз добивались успеха в боях. Внезапно нас обстреляла горстка русских. Наш командир в тот момент находился на противоположной стороне дороги. Он открыл огонь, вынудив русских отступить. Мы начали преследовать их и успели сделать несколько выстрелов, прежде чем они скрылись в каком-то здании. Возможно, раньше это была фабрика или какой-то склад. Наш обершарфюрер бросился за ними. Мы помчались через дорогу, чтобы нагнать его, и оказались у какой-то лестничной клетки. Перескакивая через несколько ступенек, мы понеслись наверх. Услышав наверху какой-то металлический грохот, мы резко остановились. Переглянувшись, мы молча согласились продолжить безумный подъем, независимо от опасности, которая могла нас подстерегать наверху.
А там путь нам преградила тяжелая металлическая дверь. Я дернул за ручку, но дверь оказалась заперта. Один из товарищей отодвинул меня в сторону и пнул дверь ногой. Я присоединился к нему и принялся бить в дверь прикладом, однако дверь все равно не поддавалась. Поскольку наша атака в центре города не закончилась, нам не оставалось ничего другого, кроме как оставить тщетные попытки проникнуть внутрь. О судьбе нашего храброго обершарфюрера можно было лишь гадать. Ясно одно: в тот день мы, скорее всего, потеряли надежного товарища.
На второй день боев в Харькове я получил приказ явиться на командный пункт роты.
– Штурман Бартман, – сказал дежурный офицер, – у меня к вам небольшое поручение. – Он вручил мне конверт и добавил: – Это донесение связано с доставкой боеприпасов, поэтому удостоверьтесь, чтобы оно добралось до базы снабжения. Уверен, вы понимаете, что выполнение этой задачи жизненно важно для нашего успеха в этом сражении.
У меня было лишь смутное представление о местонахождении соответствующей части снабжения.
– Унтерштурмфюрер, а куда именно я должен доставить пакет?
Но офицер скорчил гримасу и покачал головой без каких-либо объяснений, потом неопределенно махнул рукой.
– Полагаю, вам удастся отыскать.
Когда я отправился в путь по улицам, на которых целый день шли ожесточенные бои, начало темнеть. Раз за разом – так уж мне казалось – я получал весьма опасные поручения. Но я проглотил свое раздражение: все-таки приказ есть приказ, и теперь моим долгом было его исполнить. Независимо от риска.
Используя любые прикрытия, я осторожно проходил мимо груд щебня, домов с выбитыми окнами, и в каждом таком окне мог притаиться вражеский снайпер. Так, пройдя несколько километров в направлении, противоположном тому, в котором мы двигались днем ранее, я вышел к окраине города. Из дома у обочины пробивался тусклый свет. Я подумал, стоит ли зайти туда, чтобы спросить у жителей дорогу. Однако недолгие размышления привели к выводу, что подобное любопытство будет слишком рискованным для солдата-одиночки. Я решил двигаться дальше через темноту, пока в конце концов не подошел к развилке. Куда мне нужно было повернуть? Несколько минут я колебался, потом все же решил взять правее. Пройдя еще с километр вдоль пустынной дороги, я заметил вдали темные фигуры солдат. Кто это, русские или немцы? Я замер как вкопанный. Одна из фигур двинулась ко мне, махая рукой и показывая жестом подойти поближе. А потом незнакомый голос позвал меня. Русский голос. По спине у меня пробежала холодная дрожь. Хотя мое сердце бешено заколотилось, я, сохраняя спокойствие, медленно повернулся, делая это настолько беспечно, насколько было возможно, и пошел обратно. Ноги мои дрожали. Русский позвал еще раз, но я, не обращая внимания, все шел и шел, пока не удалился на безопасное расстояние.
Все-таки мой ангел-хранитель снова оказался на моей стороне…
Когда я достиг развилки, то свернул налево. Вскоре в синей дымке замаячили силуэты боевых машин. На этот раз я вел себя более осторожно, лег на землю и прополз вперед, пока точно не убедился, что это свои.
Тогда я крикнул пароль:
– Утренняя заря!
Возбужденный часовой позволил мне пройти, адъютант сопроводил меня к командиру, который крепко спал. Адъютант похлопал офицера по плечу.
– Оберштурмфюрер, сожалею, что вынужден вас разбудить, но здесь срочное донесение по поводу поставки боеприпасов.
Протерев глаза, оберштурмфюрер взял протянутый мной пакет и начал читать.
– Вот дьявол, – выругался он, – мне придется поднять на ноги весь личный состав. – Встав с постели и накинув китель, он повернулся к адъютанту: – Не стойте тут, как истукан. Всех поднять! Мы выступаем!
Я подъехал с ними до развилки, затем пешком возвратился на свой командный пункт. Когда я рассказал о своем приключении офицеру, который дал мне это опасное поручение, тот просто ответил:
– Вам повезло.
На одном из фонарных столбов городской площади Харькова висел огромный плакат. На нем вручную была аккуратно выведена надпись: «Площадь Лейбштандарта».
То, что подобное переименование городской площади в Украине наполняло меня гордостью, может сейчас показаться абсурдным. Однако этот случай свидетельствовал об отношении к нам, простым солдатам, со стороны наших командиров, к которым лично я испытывал искреннее уважение. Они не прятались от опасностей, перед которыми оказывались их подчиненные.
Хотя дивизия «Лейбштандарт» понесла огромные потери, исчисляемые тысячами погибших и раненых, в битве за Харьков я лично не получил ни единой царапины. Понятие «ангел-хранитель» перестало быть просто синонимом удачи. Я был теперь твердо убежден, что ангелы-хранители существуют на самом деле и один из них выбрал меня в качестве своего подопечного…
После нашей победы в Харькове мы двинулись на запад, на Олынаны, где инженерные части устроили нам душевые и пункты дезинфекции. Настоящим счастьем в жизни солдата, воюющего на Восточном фронте, было ощущение чистоты. Которое, по понятным причинам, посещало нас крайне редко. Наступила долгожданная передышка… Мы отдыхали и набирались сил. Прибывали пополнения. В общем, все говорило о том, что нас «откармливают» для еще одной колоссальной битвы.
Однажды нам предложили на выбор либо посетить солдатские казармы в Харькове – с девушками и прочими развлечениями, либо пойти в оперу. Я предпочел оперу, где как раз играли «Бориса Годунова». Постановка была превосходная, и актерский состав тоже играл прекрасно. Наши солдаты и офицеры с большим удовольствием шли в театр, это была долгожданная отсрочка от бед и опасностей войны.
Чтобы несколько разнообразить привычную рутину, наши офицеры устроили соревнования по стрельбе между командами от разных взводов. В качестве безопасного стрельбища был выбран соседний большой овраг со скалой. Цели были установлены на расстоянии 100, 200 и 500 метров от места стрельбы. Призом служила коробка сигар, пожертвованная ради такого случая одним из офицеров. К участию в состязании допускалось лишь по шесть лучших стрелков от каждого взвода. Оберштурм-фюрер Фриц Лоттер, наш юный командир роты, стал первым, кто продемонстрировал свои навыки, после чего началось состязание. Один за другим к барьеру выходили члены каждой команды. Я был приятно удивлен, что стал вторым после Лоттера, причем я особенно отличился в стрельбе на 500 метров. Футбольный матч между командами унтер-офицерского и офицерского составов также способствовал укреплению духа дружеского состязания. За неимением спортивной формы, чтобы зрители могли как-то различать соперников, участники унтер-офицерской команды играли раздетыми до пояса и в кальсонах.
Привлекательная украинская женщина в красочном традиционном головном уборе приветствовала Эллерса, Брудера, Кёнига и меня в своем доме – нашей нынешней квартире – традиционными хлебом и солью. Еще довольно молодая, с лицом таким же свежим и румяным, как подсолнух, она заботилась о нас как родная мать, готовя нам пищу и стирая нашу одежду. И она, кстати, сносно владела немецким. По крайней мере, мы поняли, что муж ее служит летчиком в советских ВВС. Она спала в единственной спальне, в то время как мы вчетвером делили гостиную, окно которой выходило к дому на противоположной стороне дороги, где размещался штаб нашего батальона.
Хотя поначалу они умудрялись делать это тайно, вскоре стало очевидно, что между нашей украинской хозяйкой и Брудером, нашим водителем, возник роман. И вот однажды утром, отправляясь на двор ремонтировать машину, он объявил, что эту ночь проведет в ее спальне.
– Пообещайте мне все, – попросил он, – что не потревожите нас сегодня ночью.
– Обещаем, – пропели мы в унисон.
Как только Брудер удалился, Эллере принялся лихорадочно шарить по шкафам и сервантам.
– Вот здорово! Наша хозяйка, оказывается, варит варенье, – радостно объявил он, схватив несколько пустых стеклянных банок. – Теперь мне нужно лишь несколько веревок, чтобы привязать их к кроватным пружинам.
Вечером Брудер, широко улыбаясь, с видом победителя направился с хозяйкой в спальню. Эллере едва не прыснул со смеху, но Кёниг вовремя прикрыл ему рот. Едва сдерживая веселье, мы молча слушали и ждали. Вскоре раздался звон стекла, а потом все стихло.
– Дьявольщина, он все-таки нашел их, – прошептал Эллере, разочарование которого было быстро рассеяно целым переливом роскошных перезвонов, когда банки, частично наполненные водой, начали стукаться друг о друга.
Брудер сердито выругался, но его протесты утонули в нашем дружном смехе. Прошло несколько дней, прежде чем наш водитель перестал хмуриться на Эллерса…
Наша жизнь в Олынанах протекала хорошо, пока не была омрачена трагедией. Это произошло однажды днем, когда я доставлял очередное донесение в штаб батальона. Привлеченный безумными криками, я повернулся и увидел нескольких женщин посреди целой толпы детей. Все они возились с перевернувшимся тяжелым немецким мотоциклом. Мотоциклист связи, который только что вышел из штаба, метнулся мимо меня прямо в толпу, где две женщины, прижав к щекам руки, замерли в ужасе. Я подошел посмотреть, что случилось.
– Черт побери, под ним же ребенок, – простонал мотоциклист, когда с трудом поднял опрокинувшийся мотоцикл.
Женщина нагнулась к ребенку, мальчику лет шести или семи, и в безумном порыве вернуть его к жизни хлопнула по лицу. Ее бесплодные усилия закончились криком горя, который болью отразился в моем сердце. Она взяла обмякшее тело на руки и принялась качать, приговаривая:
– Коля, Коленька…
Привлеченные всеобщим волнением, вокруг незадачливого мотоциклиста собрались женщины из близлежащих домов. Он пытался их перекричать, а они набросились на него с кулаками. Напрасно он пытался объяснить, что его мотоцикл, должно быть, опрокинулся, когда мальчик играл рядом. Нам едва удалось отбить его от разъяренной толпы.
Штурмбаннфюрер Фрей позаботился о том, чтобы для погибшего ребенка изготовили гроб, и издал приказ о том, чтобы мы держались подальше, когда в соседней церкви пройдет отпевание, а затем похороны на кладбище…
Глава 16 Огонь по своим
Мы двигались на север к Белгороду[28], и на лицах моих товарищей отражалось радостное победное возбуждение. Поддавшись ложному чувству собственной неуязвимости, возникшему благодаря тому, что просто выжили, мы с легкостью забыли призраков, оставленных в руинах Харькова, а также о том, что капризная фортуна по-прежнему является вершителем наших судеб и решает, кому предстоит жить дальше, а кому умереть.
Наша колонна остановилась на дне глубокой балки. Сквозь клубы пыли, окутывавшей нас непроницаемым покрывалом, к нашему грузовику подошел обершарфюрер и позвал:
– Штурман Бартман и ты, Кёниг! Пройдите до конца этого оврага и посмотрите, не ждут ли нас тут «иваны». Не хочется угодить в западню. Тут не очень удобно тянуть телефонный кабель. Если что-то заметите, то немедленно несите ваши задницы сюда!
В его голосе звучала легкая насмешка, словно ему доставляло удовольствие отправить меня с моим молодым напарником на это опасное задание.
Мы быстрым шагом отправились по дороге, время от времени оглядываясь, чтобы оценить, насколько удалились от своих боевых товарищей. Вскоре наша колонна скрылась за густыми зарослями деревьев, которыми поросли крутые склоны балки. Мы были одни на вражеской территории, где отовсюду могла грозить опасность. Через пару километров мы с приятелем остановились, чтобы перевести дыхание, у места, где склон оврага понижался и открывался вид на широкую ровную долину.
– Никаких признаков «Иванов». – Кёниг сдвинул на затылок каску и вытер пот рукавом кителя.
– Признаков нет, зато могут быть снайперы. Мы их ни за что не заметим, они слишком хорошо маскируются.
Я указал на одинокий стог сена посреди открытого поля:
– Давай-ка заберемся туда и осмотримся.
Кёниг находился метрах в двадцати впереди меня, почти у самого стога, когда сзади донесся нараставший гул приближавшегося самолета. Мой напарник встревоженно посмотрел в небо.
– Не волнуйся, – мимоходом бросил я, – скоро ты научишься различать звук русских самолетов.
– Не могу разобрать тип самолета! – крикнул в ответ Кёниг и пригнулся.
– «Хейнкель-112»[29], – ответил я.
По высокой густой траве пробежали волны от пролетевшего самолета. Сделав широкий разворот, «Хейнкель» вновь направился в нашу сторону. Кёниг приветственно помахал летчику, однако я инстинктивно почувствовал, что тот заходит на атаку.
– Давай в укрытие! – завопил я и бросился на землю. Кёниг тут же бросился в стог и зарылся в сене так, что только ноги остались снаружи.
«Совсем как страус!» – подумал я и, не удержавшись, громко расхохотался.
В это мгновение заработали пулеметы. Взлетели комья земли, а свист пуль почему-то показался мне даже музыкальным. Потом что-то ударило меня в переднюю часть бедра, что было довольно странно, потому что я лежал на земле лицом вниз. Когда стих гул авиационного мотора истребителя, в стогу сена началось движение. Ноги Кёнига скрылись, а спустя секунду из сена появилась его голова.
– Вот гадство! Очередь прошла совсем рядом! – Он свистнул от облегчения.
– Ближе, чем ты думаешь, – сказал я, вставая во весь рост. Ноги у меня дрожали, однако боли не было. Случилось невозможное – меня ранили.
Кёниг, весь в сене, подбежал ко мне и полез в карман кителя за индивидуальным пакетом.
– Кажется, ничего опасного, – пробормотал он. – Выглядит не очень страшно.
Казалось, он испугался больше меня. А я дотронулся до раны и слегка прижал ее.
– Должно быть, пуля попала в камень и рикошетом прошла параллельно земле. – Я испытывал настоящий шок.
Затем мне удалось нащупать под кожей небольшую выпуклость, что несколько меня приободрило: судя по всему, пуля не задела кость. Кровь стекала по правой ноге, пропитывая штанину. С помощью Кёнига я кое-как перевязал рану, и мы отправились назад по оврагу к нашей колонне.
Всполошенные авиационными пулеметами, солдаты нашей части заняли оборону. Кёниг крикнул пароль. Едва наш обершарфюрер увидел мою окровавленную штанину, он немедленно вызвал санитаров, находившихся в хвосте колонны.
Я залез в санитарный автомобиль и оказался под опекой медиков. Санитар аккуратно промыл мою рану изрядной порцией йодного раствора, и мне пришлось сцепить зубы, чтобы не зашипеть и не морщиться, когда он начал рыться щипцами у меня в ноге.
– Ранение в мякоть, – сказал доктор, наконец закончив свою операцию и передавая мне пулю. – Через несколько дней заживет, старайтесь держать в чистоте, чтобы не занести инфекцию. Как это случилось?
Я рассказал ему об атаке «Хейнкеля».
– А! Жаль-жаль, вас нельзя будет внести в список ранений, потому что вы пострадали не от вражеского огня. Ладно, я отмечу этот случай в своем рапорте.
Мои товарищи по роте, узнав о моем ранении, немало повеселились. Ну, как же – несколько сантиметров в сторону, и я мог бы лишиться возможности стать отцом. Но я, естественно, не находил для себя в этом ничего забавного. Рана изрядно побаливала, и сидеть в трясущемся грузовике было просто невозможно. Как оказалось, боль в паху постоянно давала о себе знать. Судя по всему, ангелы-хранители на время оставили меня…
Примерно через неделю наш обершарфюрер собрал разведотряд, чтобы выяснить наконец точное местонахождение русских войск. На голубом небе не было ни облачка, когда мы отправились в неизвестность за линию фронта. Я сидел в коляске мотоцикла, положив на колени автомат и дорогую камеру с телескопическими линзами. Управлял мотоциклом роттенфюрер. Некоторое время мы ехали по извивающейся проселочной дороге, а позади, в полукилометре от нас, двигались еще три наших автомобиля. Дорога пошла вверх, и на самом гребне холма роттенфюрер внезапно ударил по тормозам, останавливая мотоцикл. Несколько мгновений мы, раскрыв от изумления рот, во все глаза смотрели на русское самоходное орудие с угрожающе направленным в нашу сторону стволом.
Роттенфюрер заглушил мотоцикл.
– Если бы там кто-то был, нас бы уже разнесли в клочья, – сказал он. – Пошли-ка посмотрим.
Я оглянулся назад на наши три автомобиля, стоявшие неподвижно у подножия холма, затем передал спутнику автомат и вылез из коляски. Мы осторожно начали приближаться к орудию, как вдруг краем глаза я заметил какое-то движение в поле, в стороне от дороги. Я схватил роттенфюрера за плечо и указал в ту сторону.
– Проклятье! Да они тут чаек попивают!
В этот момент шесть русских солдат повернули к нам свои изумленные лица, видимо только сейчас сообразив, что перед ними немцы. Мы развернулись на месте и помчались к мотоциклу, а русские бросились к своей боевой машине. Это были гонки на время, в которых первым призом было спасение.
Задыхаясь от быстрого бега, я добрался до вершины холма и прыгнул в коляску. Роттенфюрер принялся заводить мотоцикл, отчаянно нажимая на стартер. Двигатель застучал, а затем и вовсе заглох. К счастью, русские тоже не успели зарядить свое орудие. Роттенфюрер снова попытался завести мотор, однако тот по-прежнему отказывался подавать признаки жизни.
Силы начали оставлять моего спутника, роттенфюрер сдался и соскочил с мотоцикла. Не сказав мне ни слова, он повернулся и побежал вниз к ожидавшим нас машинам, оставив меня в коляске. Честно признаюсь, я поддался панике и последовал его примеру. Мы бежали изо всех сил, и один из автомобилей, набирая ход, выехал нам навстречу. Внезапно он резко остановился, двигатель его взревел. Возле нас встревоженный водитель развернулся на месте прежде, чем мы успели вскарабкаться. Однако кто-то из разведчиков все-таки помог нам взобраться на борт…
На командном пункте отряда мы с роттенфюрером доложили о потере мотоцикла и дорогой камеры. И меня нисколько не удивило, когда офицер приказал нам той же ночью попытаться вернуть потерянное…
На передних сиденьях той самой машины, на которой мы спасались сегодня днем, нас дожидались два наших товарища из другого взвода.
– Сегодня так ярко светит луна, что мы поедем без света, – сказал водитель. – И русские нас не увидят.
Мы поехали, стараясь держаться в чернильной тени, которую отбрасывали холмы, пока не добрались до места, где, по нашим расчетам, еще должен был находиться наш мотоцикл. Водитель заглушил мотор, когда мы оказались у вершины холма, и воцарилась полная тишина. В такой обстановке щелчок дверных ручек напоминал выстрел.
– Надо развернуть машину, – прошептал водитель, – но заводить двигатель и устраивать шум мы не будем.
Нам с роттенфюрером пришлось вылезти и вручную толкать машину вперед-назад, пока не удалось ее поставить так, чтобы потом было легче возвращаться. Едва отдышавшись от толкания автомобиля, мы направились на гребень холма и обнаружили мотоцикл там же, где его оставили. Может, его заминировали? Может, русские затаились где-нибудь неподалеку и готовы открыть огонь, едва мы подойдем к мотоциклу? Я задавал себе эти вопросы, усаживаясь в коляску, в то время, как роттенфюрер склонился над стартером. Резкий толчок, и ночную тишину прорезал мощный рокот мотора. Мой напарник резко развернулся и направил мотоцикл вниз в долину, туда, где нас дожидались товарищи. Мы вернулись целыми и невредимыми. Мой ангел-хранитель снова вернулся ко мне…
Глава 17 Летний день
С закатанными до локтей рукавами мы прошли мимо заброшенного деревенского дома, а затем направились через холмистую равнину, поросшую густой луговой травой, в которой обитали одни жаворонки. Всего несколько месяцев тому назад, в разгар холодной зимы, эти симпатичные птички стайками порхали вдоль дорог и на обочинах, где колеса наших машин выбивали из мерзлой земли кусочки корма. Борис насвистывал мелодию, которая понравилась ему, пока мы стояли во Франции.
Внезапно послышался свист пуль, а следом за ним раздался хрип кого-то из товарищей, которому не повезло. Я тут же бросился на поиски укрытия. Обершарфюрер, командовавший нашим разведотрядом, краснолицый фермер из Австрии, который показывал нам красоты Парижа, спас ситуацию. Взяв бинокль, он смог обнаружить противника. Наши снайперы тут же открыли ответный огонь по вражеским пулеметчикам.
Словно оказавшись в кошмарном сне, я пополз к тому месту, где видел последний раз Бориса. Сердце мое остановилось, когда я обнаружил его лежащим на спине в высокой траве. Алая кровь заливала ему ноги, руки дрожали. Видно, пули перебили ему обе бедренные кости. Я отчаянно закричал: «Санитары! Санитары!» Буквально через несколько мгновений, показавшихся мне целой вечностью, прибежали два санитара с носилками.
Пулеметный огонь прекратился так же внезапно, как начался. Возможно, нашим стрелкам удалось подавить его. Пользуясь затишьем, мы организовали оборону, пока санитары эвакуировали наших раненых в тот самый деревенский дом. Вскоре на поле боя появилась русская пехота, которая с невысокой гряды холмов, находившихся на безопасном расстоянии, принялась обстреливать нас из винтовок и минометов. Снова оживились русские пулеметы, обрушившие на нас ливень разрывных пуль[30]. Мы оказались в очень уязвимом положении. Обершарфюрер приказал отступить к деревенскому дому, где в большой комнате теперь расположился наш временный госпиталь. Прошло немного времени, и приближение вражеской пехоты при поддержке танков помешало оказанию первой помощи нашим раненым. Не имея противотанкового оружия и без собственной бронетехники, мы оказались в совершенно безнадежном положении. В сложившейся ситуации обершарфюрер принял отчаянное решение оставить дом и отходить к своим, бросив на произвол судьбы тяжелораненых. Кое-кто из нас предлагал занять оборону в доме и держаться до подхода подкреплений, однако обершарфюрер все-таки решил, что ввиду подавляющего численного превосходства врага наше сопротивление будет быстро сломлено. Испытывая отчаяние и беспомощность, я попрощался с Борисом…
С первыми лучами солнца мы перешли в атаку при поддержке минометов и пулеметного огня и вскоре вернули всю территорию, оставленную вчера. Вскоре разнеслась новость, что русские убили всех раненых, оставленных нами при отступлении. Поскольку мы с Борисом воевали в одном подразделении, то предложение пойти в деревенский дом и опознать его не стало для меня неожиданностью.
Во дворе временного госпиталя воздух был наполнен тошнотворным запахом свернувшейся крови. Повсюду летали тучи мух. Здесь уже находился товарищ из минометного расчета. Несколько секунд мы стояли, молча глядя на мертвые тела наших однополчан, лежавших на полу с изуродованными половыми органами. «Ублюдки… мерзкие ублюдки!» – прорычал мой спутник. Его переполняла ярость. Он изо всех сил пнул стоявший рядом стол так, что стоявший на нем таз слетел на пол. «Смотри, – сказал он, кивнув на мертвецов, раздетых ниже пояса. – Эти твари отрезали им яйца. Посмотри, сколько крови. Они были все еще живы, когда над ними издевались».
– Я словно сам присутствовал при всем этом, – проговорил я в ответ. – Русские заставляли живых смотреть, как мучают товарищей, пока не наступал их черед.
В углу комнаты лежало еще несколько убитых. Их головы были разрублены чем-то тяжелым, возможно топором.
– Эти, по крайней мере, недолго мучились, – сказал минометчик.
– Они торопились, – предположил я. А потом обнаружил Бориса. Мой боевой товарищ, должно быть, долго мучился перед смертью.
Конечно, после всех этих лет мне были известны все ужасы войны, но даже сейчас у меня холодеет спина при мысли о том, какие муки довелось ему тогда испытать…
Глава 18 «Швейные машинки» и Т-34
Мы смеялись, когда впервые увидели биплан По-2 (до 1944 года назывался У-2) конструкции Н. Поликарпова. Этот самолет для опыления полей представлял собой набор деревянных реек, скрепленных между собой металлической проволокой, обтянутых тканью и оснащенных двигателем, тарахтевшим так, будто его собрали из запчастей, найденных на свалке. Когда я впервые услышал звук этого мотора, мне сразу пришел на память образ матери, нажимающей ногой на педаль швейной машинки, а рукой удерживающей кусок ткани под иголкой. Однако очень скоро звук моторов этих «швейных машинок», как мы их называли, стал приводить нас в ужас. Это были выносливые маленькие «птицы», совершенно безнаказанно обстреливавшие нас винтовочным или пулеметным огнем. При благоприятном ветре они могли подлетать к нам практически беззвучно. Удивительно, но даже невысокая скорость этих машин не доставляла им большого неудобства. Наши Me-109 пролетали мимо, не успевая толком прицелиться. А к тому времени, когда наш самолет делал второй заход, русские летчики зачастую успевали ловко сманеврировать и избежать опасности. По ночам тарахтенье их двигателей внезапно замолкало в темноте, а потом из мрака совершенно бесшумно, словно вылетевшая на охоту сова, появлялся самолет. Ветер посвистывал в его обшивке, словно прелюдия к тому урагану пулеметного огня и осколочных бомб, который обрушивался на нас без всякого предупреждения. Рейды этих самолетов ослабляли нас не только потому, что мы несли потери, но еще и просто потому, что не давали нам поспать. А летчиц, управлявших этими адскими машинами, мы вскоре начали называть «ночными ведьмами».
Однажды на рассвете мы оказались на краю высокой равнины у изгиба дороги, которую обороняли два вездесущих Т-34. Пока мы ждали следующих приказов, за танками в небе появились три черных пятнышка. Приблизившись к вершинам деревьев, они исчезли из вида, скрытые маскировочной окраской.
– Скоро эти сучки будут над нами, – выругался мой сосед.
В ожидании бомбежки мы начали искать укрытие. Отдаленный звук авиационных моторов нарастал. Наш редкий ружейный и пулеметный огонь едва ли мог помешать вражескому налету. В следующее мгновение из канистр, сброшенных с самолетов, полилась какая-то жидкость. Вначале она превратилась в белый дым, который потом вспыхнул языками пламени. Когда вся эта адская смесь достигла земли, трава загорелась. Раздались крики:
– Фосфорные бомбы!
Несколько огненных гранул попали на моего товарища, лежавшего рядом. Едва пламя прожгло ему кожу, он издал ужасающий крик. К тому моменту опыт уже научил нас тому, что даже относительно небольшие ожоги, вызванные фосфором, приводят к мучительной смерти.
После того как стук авиационных моторов стих вдали, наш обершарфюрер вызвал добровольцев, чтобы уничтожить танки на дороге. Я немедленно вызвался выполнить это задание вместе с роттенфюрером и унтершарфюрером из моей роты. Они оба были постарше и держались несколько особняком от остальных, менее опытных солдат, возможно, в целях самосохранения.
Вооружившись автоматами и засунув связки гранат за пояс, мы на мотоцикле с коляской направились к советским танкам. Пока мы спускались с пригорка, я, как младший по званию, молча слушал, как мои товарищи обсуждали наши дальнейшие действия.
– Мы легко справимся! – кричал роттенфюрер в ухо водителю мотоцикла. – Оставим мотоцикл подальше от танков и пешком подойдем поближе, чтобы посмотреть, что там и как.
Унтершарфюрер резко развернул мотоцикл и заглушил мотор, а роттенфюрер повернулся ко мне и ухмыльнулся:
– У тебя появляется шанс заработать нашивку за уничтожение танка. Я останусь возле мотоцикла, потому что нам придется быстро отсюда удирать. Но вы и вдвоем с ними справитесь.
Мы с роттенфюрером оставили мотоцикл в зарослях кустарника и приблизились к танкам метров на пятьдесят. Мы старались прислушаться к голосам русских, но вокруг слышалось только жужжание насекомых, да раскаленный воздух дрожал над вражескими танками, издалека похожими на двух Микки-Маусов. Это забавное сходство было не результатом особенности их конструкции – его придавали им открытые люки на башнях, напоминавшие уши этого забавного мультяшного героя.
– Запомни, – прошептал мне роттенфюрер, – надо сделать все сразу. Одновременно подрываем оба танка.
Я кивнул и вытер пот со лба тыльной стороной ладони.
– Обойдем их сзади, чтобы убедиться, что там нет охраны. А ты держись поближе ко мне.
Пользуясь естественными неровностями земли, скрываясь в высокой траве, мы ползли, пока не оказались на расстоянии метров двадцати. Теперь от цели нас отделяла только полоса открытого пространства. Приподнявшись на одно колено, роттенфюрер поправил ремень автомата на плече и поглубже засунул за пояс гранаты.
– Смотри не урони, – прошептал он и изогнулся, словно кошка, приготовившаяся прыгнуть на ничего не подозревающую мышь.
Инстинктивно я сделал то же самое. На одно короткое мгновение мой напарник посмотрел на меня своими бледно-голубыми глазами, словно желая убедиться, что у меня хватит смелости последовать за ним.
– Тот, что на той стороне дороги, твой… встретимся возле мотоцикла, – произнес роттенфюрер перед тем, как выпрыгнуть из укрытия.
Я бросился к своей цели. Мое сердце было готово выскочить из груди, когда я ухватился за ручку на залитой мазутом корме танка и взобрался на плоскую поверхность моторного отсека позади башни. Пальцы у меня дрожали, когда я отвинчивал металлическую крышку на конце ручки гранаты, чтобы сломать фарфоровый капсюль, приводивший в действие взрыватель. Держа гранату в одной руке, другой я ухватился за люк. Танковый экипаж оказался чрезвычайно беспечен. Судя по всему, они заснули на своих боевых постах. Выдернув чеку, я бросил в люк связку гранат, и та упала прямо на колени русскому танкисту. Он еще успел открыть рот от удивления и посмотреть на меня, когда люк у него над головой захлопнулся. Могу только представить, какой ужас он испытал в свои последние секунды.
Из башни танка, которым занимался роттенфюрер, вырвался сноп огня в тот самый момент, когда я спрыгнул на землю. В следующую секунду в спину ударил грохот взрыва, и волна нестерпимого жара окутала меня, когда взорвался «мой» танк. Все прошло точно как мы запланировали. А я возвратился к ожидавшему нас мотоциклу в состоянии легкой эйфории. В конце концов, я выполнил условия, которые требовались для получения наградной нашивки за уничтоженный в одиночку вражеский танк.
Удовлетворенные, мы возвратились в штаб роты, чтобы доложить командиру об успешном выполнении задания. Но он тут же объяснил, что у нас проблема: русских танков было всего два, а в операции по их уничтожению мы участвовали втроем. В правилах о награждении ясно было сказано, что нашивка на рукав с металлическим изображением танка может быть вручена только одному солдату. Короче, вскоре я узнал, что эти награды получили роттенфюрер и унтершарфюрер, а мне осталось лишь утешать себя тем, что моя роль в ликвидации вражеских танков не осталась незамеченной…
В тот же самый жаркий день в начале июня по телефону сообщили, что наши саперы обнаружили и нейтрализовали химический снаряд. Из предосторожности мы все достали противогазы. Поскольку снаряд упал неподалеку от того места, где мы находились, я решил сходить туда и посмотреть поближе. Наполненный примерно наполовину своей длины какой-то коричневой жидкостью, этот снаряд, насколько мне было известно, не успел никому причинить вреда. Тем не менее наши командиры по радиосвязи связались с советским командованием и выразили свои претензии. По странному этикету войны на Восточном фронте, наши противники принесли извинения за ошибочное использование химического снаряда. Мы в свою очередь выразили сожаление за то, что произвели по ним залп из наших «Небельверферов» (реактивных минометов). Оставляя за собой огненный след, ракеты с визгом улетели к холмам за несколько километров от наших передовых позиций. Шесть ракет, запущенных из одной установки, накрыли участок падения с интервалом в одну-две секунды с совершенно катастрофическими последствиями для всех, кто там оказался. Впоследствии, когда мы проходили через вражеские позиции, я увидел результаты нашего артобстрела. Русские солдаты в аккуратной полевой форме с значками сталинской гвардии лежали там, где их застали наши реактивные мины. Казалось, что они в любую секунду готовы вновь броситься заряжать свои пушки. Нигде не было заметно крови, не было изуродованных трупов. Мощные взрывы наших ракет убили всех на месте.
Через несколько дней я принял командование двумя пулеметными расчетами. Эллере и Кёниг также перешли в пулеметчики, так что я не чувствовал себя чужаком среди новых товарищей по моему взводу.
Глава 19 Прохоровка
Мы углубились в лес по просеке, когда у нас над головой появился русский истребитель. Пронзительный вой его двигателя быстро превратился в отдаленное нудное жужжание, словно летчик увел свой самолет, не желая нас замечать. Вскоре истребитель превратился в темную точку высоко в небе, которая потом, стремительно увеличиваясь, помчалась к нам. Я приказал двум своим пулеметным расчетам приготовиться к отражению атаки с воздуха. Как предписывал устав в подобных обстоятельствах, специально назначенный боец пулеметного расчета, «второй номер», становился своеобразной «пулеметной турелью», удерживая у себя на плече ствол пулемета, ведущего огонь по самолету. Однако в этом случае едва авиационные пушки открыли огонь, как в самый критический момент у злополучного «второго номера» сдали нервы. Он нагнулся, стараясь укрыться от огня, и схватился за ствол пулемета, который держал на плече. Каким-то образом ствол уперся ему в затылок в ту секунду, когда раздалась очередь. Солдат повалился ничком на землю, очередью ему снесло полголовы, но он все еще был жив. Его товарищ, нажавший на гашетку пулемета, жалобно закричал: «Санитары! Санитары!»
Через несколько секунд к тяжелораненому солдату подбежал санитар. Затем по телефону вызвали из тыла мотоцикл с коляской и попросили поторопиться. Пулеметчик с мертвенно-белым лицом мог только наблюдать за тем, как его товарища укладывали в коляску и оказывали первую помощь. В очередной раз небольшая дистанция между жизнью и смертью дала себя знать в этом несчастном случае.
Обычно мы вели боевые действия и тренировались маленькими отделениями, в которых солдаты были связаны друг с другом узами доверия и дружбы, и бойцы каждого отделения были очень привязаны к своим товарищам. Поэтому потерять товарища так, как это случилось сейчас, означало страшное потрясение для солдата, нажавшего на спусковой крючок. Поэтому во избежание подобных инцидентов в дальнейшем при отражении воздушных атак солдат, державший пулемет на плечах, всегда стоял лицом к тому, кто вел огонь. Благодаря этому «второй номер» не видел атакующий самолет и был менее подвержен риску впасть в панику.
3 или 4 июля мы заняли позиции в окопах, из-за проливных дождей превратившихся в жуткие грязные канавы. Мы были неплохо укрыты от врага, однако наши батальоны немало пострадали от тяжелых артиллерийских обстрелов, пока обстановка несколько не стабилизировалась. Под небом, усыпанным звездами, равнодушными к судьбам людей, мы ожидали сигнала к началу наступления. Ночь стояла теплая, но временами все мое тело охватывал волнительный озноб. Как обычно бывало перед важными сражениями, появился офицер, чтобы подбодрить нас и дать последние указания.
– Наша первоначальная цель – Тетеревино, – объявил он. – Удачи вам, и помните, чье имя мы носим у себя на рукавах: мы сражаемся за фюрера, за Германию.
Вскоре после этого ночную тишину нарушило ворчание и гул тяжелых двигателей – это наши танковые части выдвигались на исходные рубежи.
Часы тянулись медленно. В ожидании наступления я все больше впадал в беспокойство и нервничал. Страх и чувство голода, липкие ладони – все это вызывало неприятную тяжесть внизу живота. Я волновался больше, чем обычно, возможно, из-за несчастного случая, когда так нелепо погиб наш пулеметчик. Наконец, незадолго до первых лучей солнца, пришел приказ двигаться вперед.
Вечером первого дня наступления мы закрепились на прочных рубежах вблизи от какой-то деревни. Благодаря тому, что тяжелые дневные сражения завершились, мы бросились в траншеи, не обращая внимания на сполохи огня, взрывы и гул артиллерии, раздававшиеся всего в нескольких километрах к востоку.
На следующий день под ярким солнцем мы 3 или 4 километра двигались за танковым клином, выдвигавшимся в направлении Тетеревина. Вслед за плотным строем бронетанкового соединения мы успешно преодолевали оборонительные линии русских с мощными фортификационными сооружениями, обширными минными ПОЛЯМИ и позициями противотанковой артиллерии. Во время боя справа ко мне подбежал один из моих товарищей. На лице у него застыло выражение ужаса. Судя по движению губ, он что-то кричал, но его слова заглушал оглушительный грохот сражения. В следующее мгновение противотанковый снаряд, возможно выпущенный по настильной траектории из нашего же орудия, попал в солдата и пробил у него в груди дыру размером с кулак. Пробежав еще несколько шагов, он рухнул на землю. Еще одно тело, и только…
На вершине невысокого холма появился отряд советских танков и замер на месте. Они сразу же попали под обстрел наших «Тигров». Одна из «тридцатьчетверок» получила прямое попадание: ее башню подбросило столбом огня, после чего она рухнула на землю. Над искореженным танком поднялось идеально круглое кольцо дыма – характерный признак того, что в танке взорвались боеприпасы. Советские танки поспешили вступить в бой с «Тиграми», но это горячее сражение русские тут же проиграли[31].
Мы продвигались к вершине холма в клубах черного дыма и наткнулись на дымящиеся останки танка «Тигр». Тошнотворная вонь горящей стали и жареной человеческой плоти комком подкатила у меня к горлу. Танковая башня была изрыта кратерами в тех местах, где в нее попали снаряды советских танков. Я насчитал около дюжины попаданий, каждое из которых должно было порвать нервы нашим танкистам. У самого основания башни имелось аккуратное отверстие, окруженное серебристыми металлическими каплями, – это танковая броня расплавилась подобно воску. Судя по всему, в конце концов русский снаряд все-таки нашел слабое место. В окрестных полях горели шесть советских танков, а вокруг них пылала трава. Мне стало понятно, что экипаж «Тигра» героически отбивался от целого отряда Т-34, пока не получил смертельное попадание. Судя по тому, что следов внутреннего взрыва не было, немецкий экипаж погиб после того, как у него кончились боеприпасы.
11 июля 1943 года наше сильно поредевшее и измотанное (как и весь «Лейбштандарт») подразделение достигло окраины леса неподалеку от Прохоровки. Мне суждено было хорошо запомнить тот день. Утро выдалось крайне неприятным, с нудным дождем и пронизывающим ветром. К середине дня 4-я рота получила приказ оказать помощь в зачистке от русских лесного массива. Мощный заградительный огонь вражеской артиллерии задержал наше продвижение через густую растительность. Упрямо двигаясь вперед, мы отчаянно пытались укрыться от осколков снарядов, пока наконец не приблизились к узкой зигзагообразной траншее русской обороны. Такие окопы были прекрасной защитой от осколков. К этой минуте из 12 человек, которые составляли два моих пулеметных расчета, в строю оставалось лишь 7 бойцов. Постоянные оглушительные разрывы снарядов не давали поговорить, не оставляли места для страха, для мыслей о прошлом и будущем. Мы просто спрыгнули во вражескую траншею.
Снаряды визжали у нас над головой. Один из них разорвался совсем рядом, и в легких у меня не осталось воздуха. Сразу же сверху на нас посыпался град камней и земли. Упавшие в мокрую траву осколки раскаленного железа громко шипели. Неподалеку снаряд угодил в толстое дерево. Ствол в три обхвата исчез в ослепительной вспышке света. А затем на лесную подстилку обрушился дождь щепок. Прямо надо мной взорвался очередной снаряд, и тут же что-то ударило меня в левое плечо. Почувствовав внезапное головокружение, я опустился на дно траншеи. Зрение у меня затуманилось, а звуки стали слышаться так, будто уши забило ватой. До меня донеслись голоса моих товарищей:
– Эрвина ранило. Позови Эллерса.
Послышался звук разрываемой ткани, потом кто-то сзади нажал мне на шею. Эллере для перевязки воспользовался полевой формой.
– Плохо. Его лучше отправить на сборный пункт. Эрвин, ты можешь подняться?
Товарищи поставили меня на ноги и сомкнули мои пальцы на ремне Эллерса.
Я, спотыкаясь, брел за Эллерсом по лесной тропинке, а все вокруг, казалось, было затянуто дымной пеленой. В ней еще угадывались тени и цвета, однако тьма периодически закрывала мне взор непроницаемым покрывалом.
Мы резко остановились, и Эллере тревожно сказал:
– Проклятье! Лес кишит русскими!
Я умудрился захрипеть, чтобы показать Эллерсу, что меня все еще стоит спасать.
– Отдохнем здесь, пока они пройдут, – решил он.
Странно, но боли до сих пор не было. Возможно, сказывались постоянные тренировки в Лихтерфельде, когда с помощью самогипноза мы старались убедить себя в том, что боли нет, она просто в наших мозгах.
На пункте первой помощи медики уложили меня рядом с другими ранеными. Сколько придется дожидаться перевязки, я не знал, но испытывал бесконечную благодарность к своему боевому товарищу Эллерсу, который так рисковал, чтобы спасти мою жизнь. Вокруг меня смолкли звуки боя, теперь раздавались лишь стоны и хрипы раненых. Сидя среди них, я крутил головой, стараясь вдохнуть свежего воздуха и, не имея возможности пошевелиться, просто смотрел на лучи, пробивавшиеся через лесной полог.
– Этот умер, выносите… Этот тоже, – раздался отдаленный равнодушный голос.
Носок ботинка легонько прикоснулся к моей ноге, я открыл глаза и прищурился.
– А! А этот еще живой.
Сквозь пелену я увидел перед собой чье-то лицо.
– Ну, раз так, дай-ка я тебя осмотрю.
Медик бесцеремонно усадил меня и содрал окровавленную повязку, наложенную раньше Эллерсом, перевязал заново, после чего снова уложил на землю и быстро расстегнул мой мундир.
– Хм, выходного отверстия нет… странно… Никогда раньше не видел ничего подобного. Ладно, не беспокойся, дружище. Мы отправим тебя в полевой госпиталь, как только появится подходящий транспорт.
Пока я лежал, ожидая санитарного автомобиля, меня посещали странные, сумбурные, похожие на сон видения. Вот я ребенком гуляю по берегу озера в Шлохау, где я родился. Мы остановились, а я посмотрел на бесформенные руины, которые мы называли «Ведьмина башня». Мама склонилась ко мне и прошептала на ухо:
– Где-то глубоко под водой лежит золотой купол с «Ведьминой башни». – Она улыбнулась. – Кто знает, возможно, когда ты вырастешь, то найдешь его.
– А как он туда попал, мама?
– Однажды ночью много-много лет назад случилась страшная буря. Ветер поднял купол в небеса и забросил в озеро.
Я захихикал в ожидании кульминации ее рассказа, который всегда заканчивался тем, что мама с силой дула мне в ухо, показывая, какой именно силы ветер был тогда. Мурашки удовольствия побежали у меня по спине.
Потом мне привиделось красное от гнева лицо отца. Он смотрел мне в глаза и задыхался от ярости:
– Эрвин! Как ты мог так поступить со мной? Я староста нашей церкви, а мой сын отказался быть ее прихожанином!
Прибыл санитарный автомобиль. Санитары забегали вокруг, выкрикивая команды:
– Грузите самых тяжелых! Остальных постараемся забрать позже.
Моя рана по-прежнему болела не так сильно. Я был в сознании, достаточно хорошо осознавал реальность, чтобы понимать, что происходит. Меня поразило, что вскоре я оказался в санитарном автомобиле, в кузове среди тяжелораненых солдат, в груде тел, истекающих кровью, которая быстро залила весь пол. Санитар нашел свободное место среди беспомощных тел и старался сделать все возможное, чтобы облегчить страдания раненых, пока автомобиль пробирался по лесной дороге. Каждый толчок на ухабах отзывался в грязном кузове хором воплей и стонов, хотя никто не жаловался на водителя и не просил ехать потише. Для них, истекающих кровью, каждая секунда имела слишком высокую цену, а ради спасения жизни можно было вытерпеть любую боль.
Мы отъехали не очень далеко, как вдруг раздались выстрелы. Несколько пуль пробили брезент, которым был накрыт фургон, однако они просвистели у нас над головами, не причинив никакого вреда.
Хотя никто из нас не мог пошевелиться без посторонней помощи, водитель повернулся к нам и крикнул:
– Пригнитесь!
Когда автомобиль начал набирать скорость, раздалась очередь из пулемета и несколько пуль простучали по металлическим бортам кузова. Сидевший сзади санитар упал на пол, заливаясь кровью, которая начала хлестать у него из раны на груди. Позднее я узнал, что некоторые из находившихся в кузове были ранены еще раз.
В дивизионном медпункте всех раненых перенесли в большую палатку, пол которой был устелен соломой, и положили на нее дожидаться, пока подойдет очередь на осмотр у хирурга. Постоянно подходили младшие санитары, они бродили среди лежавших, проверяя, не умер ли кто-нибудь. Как только мертвеца выносили, на освободившееся место тут же укладывали нового раненого.
Наступила ночь. К этому времени вся левая часть моей груди опухла, и каждый вдох вызывал мучительную боль. Хуже того, казалось, мои веки налились свинцовой тяжестью. Очень хотелось поддаться этому всепоглощающему желанию и уснуть, чтобы забыть о пылавшей как в огне ране. Но я опасался, что могу умереть во сне, поэтому отчаянно боролся со сном.
В конце концов, часов через семь, санитары положили меня на носилки и понесли в хирургический блок, палатку, где начальник госпиталя старший офицер, доктор Якоб, осмотрел мою рану. Кстати, для тех, кто интересуется историческими деталями, номер дивизионного госпиталя был 19754, а номер моей истории болезни – 5794.
Итак, доктор Якоб пришел к выводу, что я ранен в ключицу осколком шрапнели, который затем оказался у меня в груди. Хирург не нашел свидетельств тому, что он пробил легкое, а отсутствие выходного отверстия говорило о том, что осколок по-прежнему находится в моем теле.
– Тут я ничего особенного не сделаю, могу лишь перевязать рану заново, – сказал доктор. – Она у вас немного неровная, так что я сошью куски кожи, чтобы избежать заражения.
И прежде, чем я успел осмыслить слова хирурга, санитар поднес к моему лицу маску, пропитанную эфиром.
– Вдохните, – донеслись до меня слова доктора Якоба.
Я постарался сделать вдох настолько глубокий, насколько позволяла боль в груди, однако никакого эффекта не последовало.
– Так-так. – Доктор посмотрел на меня и приказал: – Мы не можем терять время, вдыхайте глубже.
Подчиняясь командам доктора, я попытался удвоить свои усилия, чтобы вдохнуть как можно глубже, но почувствовал лишь легкую дремоту.
Доктора явно рассердило, что эфир на меня не подействовал. Он перевернул меня на правый бок и резко сказал:
– Придется продолжать без обезболивания.
Я стиснул зубы и тут же почувствовал прикосновение к ключице тампона с дезинфицирующим раствором. Сначала он показался прохладным, но уже через мгновение рана отчаянно защипала. Я вздрогнул и тут же услышал:
– Вы должны лежать абсолютно неподвижно.
Лезвие скальпеля впилось в мое плечо. Лохматые куски моей собственной кожи, выброшенные доктором Якобом, шлепнулись в белый эмалированный таз, стоявший у меня перед лицом. Врач начал накладывать швы, соединяя порванную плоть и закрывая ее кожей. Операция заняла всего несколько минут, после чего мне позволили отдохнуть на покрытом соломой полу около часа, прежде чем отвезти вместе с другими ранеными на станцию и ждать эвакуации.
Прошла ночь, потом день, а мы все так и лежали на перроне, терпеливо дожидаясь обещанного эшелона. Дружелюбный санитар совершал героические усилия, чтобы мы не впадали в уныние. Его частые заверения, что поезд уже в пути, давали нам надежду, что совсем скоро мы окажемся в стенах настоящего госпиталя. Здесь нам никакого питания, кроме жидкого супа и воды, не давали. Примерно через два дня – точнее не скажу, потому что потерял счет времени, – к платформе прибыл наконец товарный состав. Нас погрузили в теплушки, и начался наш путь в тыл, подальше от линии фронта.
Мягкое покачивание вагона, ритмичный перестук колес убаюкивали, и вскоре сон позволил мне забыть о ране в груди. Не знаю, сколько времени заняла поездка в этом поезде, но, когда меня разбудили чьи-то голоса, я уже оказался в отделении маленького госпиталя в Харькове в окружении многих товарищей из ваффен СС. Раненые солдаты из подразделений вермахта лежали в других отделениях. Через несколько дней я почувствовал себя значительно лучше, так что смог общаться с соседями по палате.
Однажды для поднятия морального духа раненых солдат нас посетил какой-то офицер, носивший очки в золотой оправе. Он переходил от кровати к кровати, расспрашивал солдат об их семьях, женах, детях. Его участие и интерес казались довольно искренними, а когда он узнавал о каких-то трагических обстоятельствах, то сочувственно пожимал руку, если она у собеседника еще сохранилась, либо похлопывал по плечу без малейшей тени высокомерия, которого можно было бы ожидать от офицера. Когда он подошел к моей койке, я рассказал ему, как оказался в госпитале. Офицер произнес несколько добрых слов, спросил, как поживает моя семья, и уже собирался перейти к другому раненому, как вдруг задержался на мгновение и спросил: «Я могу что-нибудь сделать для вас?»
В те времена я был отчаянным курильщиком, и прошло несколько дней с той поры, когда я наслаждался сигаретой в последний раз, поэтому я ответил не задумываясь:
– Хорошо бы покурить.
Офицер улыбнулся, полез в карман кителя и достал настоящую сигару, упакованную в бумагу. Он подержал ее вертикально у меня перед глазами и начал разворачивать.
– Подойдет? – спросил он и добавил: – Тогда возьмите ее. Где-то у меня были еще сигарные ножницы.
Пошарив рукой в кармане брюк, он отыскал приспособление, с видом знатока отрезал кончик сигары, которую я держал в своих пальцах.
– Сколько все-таки раненых! – сочувственно покачал головой гость. – Должно быть, горячо там, под Прохоровой![32] Мы не должны забывать об этом!
Он снова полез в карман и достал сине-желтый спичечный коробок. Услышав чирканье спичек, подошла старшая медсестра. Она увидела, что происходит у моей кровати, покачала отрицательно головой и указала на распоряжение, висевшее на стене: «КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Вообще, она производила впечатление женщины, с которой лучше не спорить, поэтому, когда офицер вышел, я тоже направился в коридор и там прислонился к стене. Я смотрел на сигару, восхищаясь ее формой, поглаживал, подносил к носу, чтобы почувствовать богатый аромат прекрасного табака. А потом, зажав ее в зубах, поднес спичку, закурил и полной грудью вдохнул ароматный дым. Нежный волнующий трепет, волна наслаждения окатила меня с головы до ног. Я закрыл глаза и стал думать… просто ни о чем.
Из блаженного забытья меня вывел чей-то стон, полный отчаяния. Я попытался не обращать на него внимания, однако стоны звучали так жалобно, что следовало все-таки выяснить, что происходит. Раздраженный тем, что мне нарушили удовольствие, я разогнал ароматное облако дыма, окутавшее мою голову, оттолкнулся от стены здоровым плечом и, держа сигару в руке, направился в боковую комнатку, откуда раздавались эти звуки. Там на кровати лежал лейтенант из войск вермахта.
– Вам нужен доктор? – спросил я.
Лейтенант с серым от страданий лицом открыл глаза и простонал:
– Я умираю… умираю…
– Что с вами случилось? – спросил я.
– Пулевое ранение, – сухим, треснувшим голосом произнес он. – Легкое пробито.
Я поймал себя на том, что непроизвольно повторяю мантру, которую вбили в нас во время обучения на Лихтерфельде: «Боль в мозгу, а не в теле». Я сунул сигару себе в рот, сделал глубокую затяжку, а затем предложил лейтенанту обезболивающее, от которого тот отказался. Не желая выслушивать его стоны, я нашел причину, чтобы уйти.
– Пойду я, пожалуй, с этой сигарой, пока старшая сестра меня не застукала. Зайду попозже, проведаю, как вы тут.
Когда я вышел, лейтенант вновь застонал:
– Умираю! Умираю!
В тот же день вечером я поинтересовался, что с ним. Он к тому времени умер.
Возможно, мне не следовало так уж увлекаться курением, потому что через несколько дней мое состояние резко ухудшилось, боль в легком усиливалась с каждой минутой. Доктор диагностировал скопление жидкости и выбежал из палаты. Вскоре он вернулся с каким-то устройством устрашающего вида, состоявшим из длинной иглы, соединенной с аппаратом, предназначенным, как я предположил, для откачивания чего-то.
Врач встал у меня за спиной и объявил:
– Это может быть немного неприятно.
Я почувствовал, как игла впилась мне в кожу между ребер, затем вошла в район легкого. От этого еле заметного движения зонда у меня непроизвольно подкатил комок к горлу.
Доктор держал устройство, которое издавало тихий повторяющийся звук качающего насоса, однако через некоторое время он остановил мучение.
– Нет, как-то не очень помогает, – заявил он. – Надо попробовать что-нибудь другое.
И он приказал медсестре принести шприц.
Я не поверил своим глазам, когда та вернулась со шприцем, оснащенным длиннющей иглой и больше похожим на шестидюймовый гвоздь, чем на медицинский инструмент. Я снова закусил губу, пока эскулап совершал свои манипуляции у меня в легком.
– Хм, похоже, тут совсем нет никакой жидкости, – пробормотал доктор, вытаскивая свой зонд.
А я внезапно начал задыхаться и хватать ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег.
Не зная, что делать дальше, доктор направил меня в армейский хирургический госпиталь, где у меня сразу же отобрали мою форму, а затем, оставив в длинных подштанниках и сорочке, препроводили в переполненную палату, где койки стояли в три яруса. Поскольку я, в отличие от многих, мог передвигаться относительно свободно, то мне досталась койка на самом верху. Впрочем, мое пребывание в этом госпитале было непродолжительным, и очень скоро я снова оказался в поезде. Только на этот раз вагоны в нем были оснащены кроватями, за нами ухаживали миловидные датские сиделки и имелись все необходимые медицинские приспособления. Поезд миновал Силезию и прибыл в Катовице, где каждому раненому воину был сделан подарок от местного отделения нацистской партии – вино, пиво или шоколад. После чего нас отправили для прохождения постоянного лечения в Австрию.
В селении Юденау, неподалеку от Вены, куда мы прибыли, на платформе нас встречал оркестр, игравший вальсы Штрауса. Местные жители, заполнившие залитые солнцем улицы, махали нам и хлопали в ладоши, приветствуя тех, кто жертвовал своей юностью и даже жизнью для защиты интересов рейха. Те из нас, кто мог ходить, миновали толпы восторженных зевак, а поскольку я тоже относился к числу ходячих больных, то пришлось и мне, правда в одном нижнем белье, принять участие в этом своеобразном параде. Те, кто имел более серьезные ранения, ехали с полным комфортом в широких крестьянских телегах, запряженных лошадьми, счастливо избежав необходимости общаться с толпой. К сожалению, госпиталь, куда нас направили, находился на другой стороне городка, так что добираться до него пришлось долго. И долго я потом просыпался в холодном поту, когда мне снилось, будто я гуляю по берлинским улицам в одних подштанниках…
Глава 20 Пугало из Прохоровки
– Давайте-ка мы снимем с вас эти лохмотья! – сказала одна из двух медсестер в прорезиненных халатах, встретив меня на крыльце монастыря, который теперь служил госпиталем. Прежде чем я успел сообразить, что происходит, они вытряхнули меня из белья, последнего прибежища моего мужского достоинства, и принялись купать меня, обливая теплой мыльной водой. Едва я расслабился и начал наслаждаться новыми ощущениями, как меня завернули в халат и уложили в постель, застеленную простыней, белоснежной, как облако. Только тот, кто надолго был лишен чистой, мягкой постели, может понять, какое испытываешь наслаждение, когда к тебе возвращается возможность пользоваться этим достижением цивилизации. Какой это разительный контраст по сравнению с попытками урвать несколько минут сна в залитых дождем окопах! Возможности монастырской столовой не позволяли кормить всех больных одновременно, так что раненых кормили по графику, однако людям, которым приходилось не раз голодать на Восточном фронте, это не доставляло больших проблем.
После нескольких дней, проведенных в Юденау, я узнал, что неподалеку от Вены расположен госпиталь войск СС. В разговоре с дежурным доктором я предположил, что, возможно, будет лучше, если меня переведут туда.
– Правда, есть одна проблема, – сказал я. – Судя по всему, потерялась моя форма. Вы не могли бы запросить для меня новую?
– Хорошо, я позвоню, – пообещал врач, – но не обещаю.
Через пару дней доктор пришел ко мне, держа в одной руке узел с каким-то тряпьем, а в другой – какой-то документ.
– Вот, это ваш пропуск, – сказал он, передавая мне документ. – Вам следует отправиться в госпиталь войск СС как можно скорее. Мне удалось найти только эту форму.
С этими словами он положил на край моей кровати одежду. Я в расстройстве посмотрел на эту груду тряпок. На кителе и брюках, на локтях и коленях отчетливо выделились пришитые вручную заплатки из светло-серого сукна, явно когда-то принадлежавшего мундиру времен Первой мировой войны.
– Это все, что удалось найти вашего размера, – пояснил доктор.
Я надел мундир. Рукава кителя оказались короче сантиметров на пять, штаны, наоборот, сантиметров на десять длиннее.
– В таком виде я похож на пугало, – пожаловался я.
Пряча ухмылку, доктор повторил:
– Сожалею, но это лучшее, что мне удалось отыскать.
– Если на меня наткнется патруль полевой жандармерии, они арестуют меня, как дезертира, и тут же отправят в штрафной батальон.
В данном случае я шутил только наполовину. Военная полиция изо всех сил старалась доказать, что ее не зря держат вдали от передовой.
Доктор потер усталые глаза, с некоторым раздражением полез во внутренний карман халата и достал пачку официальных бланков.
– Понимаю, что у вас могут возникнуть проблемы. Я напишу справку с объяснением ваших обстоятельств.
Я все еще испытывал подозрение, что, выдав мне подобную идиотскую форму, армейский квартирмейстер сознательно хотел меня унизить, поскольку испытывал предубеждение против войск СС, в отличие от фронтовиков, которые часто говорили, что чувствуют себя увереннее, когда рядом находится «Лейбштандарт».
Охранник госпиталя войск СС в Вене хрипло расхохотался, увидев меня.
– Жди здесь и не двигайся. Я сейчас вернусь. Кстати, а где тебя ранило?
– Под Прохоровкой, – ответил я.
Он возвратился через пару минут с двумя приятелями.
– Вот, полюбуйтесь, – воскликнул он, указывая на меня. – Вот оно – пугало из Прохоровки!
Вскоре все, кто мог в госпитале ходить, заявились, чтобы вволю посмеяться над моим жалким видом. Жаль, никто не догадался сфотографировать меня тогда, чтобы увековечить наряд, так повеселивший моих товарищей-эсэсовцев.
Я был помещен в палату, в которой лежали многие раненые из дивизии СС «Лейбштандарт». Они засыпали меня бесчисленными вопросами о своих оставшихся на фронте товарищах. Я почти ничем не мог удовлетворить их любопытство, но в ходе этих бесед мне, по крайней мере, удалось лучше познакомиться с моими новыми товарищами.
Прежде чем у меня появилось время освоиться как следует, доктор отвел меня в рентгенкабинет. Меня уложили на стол, и доктор настроил аппарат, чтобы получить изображение моей грудной клетки. На следующий день он пришел в нашу палату с проявленной фотографической пластиной и показал ее мне.
– На снимке видно, что у вас слева между двумя ребрами застрял осколок шрапнели. – Он показал на снимок. – Вот он, в передней части вашей грудной клетки.
А затем он пообещал:
– Завтра утром мы его у вас вытащим.
Когда назавтра я очнулся от анестезии, в комнате никого не было. Я терпеливо подождал какое-то время, но никто не появлялся, и у меня созрело решение спуститься вниз, в палату. Однако вскоре за мной явилась целая стая санитарок, которые безжалостно отправили меня назад в постель. После этого не прошло и нескольких минут, как пришел доктор, проводивший операцию. Большим и указательным пальцами он держал кусочек металла бронзового цвета размером с горошину.
– Вы просто под счастливой звездой родились, – сказал он. – Этот осколок попал вам в ключицу и ушел в легкое, но по пути едва не задел сердце. Прошел буквально в нескольких миллиметрах.
Процесс моего выздоровления шел стремительно, к тому же мне выдали новую форму войск СС, которая великолепно на мне сидела. Единственное, что меня расстраивало, – это отсутствие на рукаве ленты с названием соединения «Адольф Гитлер».
Чтобы нарушить монотонность жизни в госпитале, группу выздоравливающих вывезли на автомобиле в парк развлечений Пратер. Мы взяли с собой еду и с удовольствием пообедали в тени деревьев на берегу Дуная. Мы посетили Рупрехтскирхе, старейшую церковь Вены. Затем по узенькой средневековой улочке прогулялись до того места, где она внезапно пересекалась с широкой улицей, на другом конце которой стояло здание поразительной красоты. Тонкая резьба по камню окружала узкие готические окна, больше похожие на бойницы. Сверкающие шпили уходили прямо в небо, а при взгляде на крышу, покрытую разноцветной черепицей, буквально слепли глаза. Я вспомнил его название: собор Святого Стефана.
Солдатом я видел много городов и поселков на Украине и в России, но никогда не путешествовал по немецкоговорящим землям Европы. Поэтому шанс увидеть Вену оказался большой удачей для меня, простого берлинского парня.
Для укрепления здоровья после ранения меня отправили в Бад-Фёслау, очаровательный курорт, куда до войны съезжались состоятельные туристы, чтобы пройти сеансы массажа и искупаться в знаменитых грязевых ваннах. Я разместился в старой гостинице, которую арендовало армейское ведомство специально для солдат, проходивших курс реабилитации. Гостиница находилась на расстоянии вытянутой руки от входа в термальные источники. А со свежевыкрашенной в белый цвет веранды открывался великолепный вид на окружающие горы. Более того, здесь, в гостинице, я оказался единственным представителем войск СС.
Дневные часы я проводил, с увлечением знакомясь с живописной деревенской природой окрестностей Вены. Узкая тропинка через лес привела меня к увитой плющом арке – входу в замок Меркенштайн, несколько веков назад превращенный турками в руины. Неподалеку находились две прекрасные деревеньки Гейнфарн и Гроссау с аккуратными домиками и живописными церквушками. Целыми часами я нежился на солнышке в Шлосспарке, неподалеку от своей гостиницы, наблюдая за птицами, сновавшими в кроне древнего платана или гонявшимися за насекомыми. В этом безмятежном уголке трудно было поверить, что где-то существует Восточный фронт и там полыхают кровавые сражения.
Однажды, вскоре после завтрака, меня вызвал главврач госпиталя в звании оберштабартца и вручил мне документы на выписку, проездные документы и письмо с печатью штаба дивизии в Лихтерфельде. Когда я начал читать письмо, на моих губах заиграла непроизвольная улыбка. Мне предоставлялся отпуск домой на три недели, меня повысили сразу на два звания от штурммана (ефрейтора войск СС) до унтершарфюрера и наградили Железным крестом II степени и черным знаком «За ранение»[33] (его вручали тем, кто был дважды ранен или получил обморожение). Наконец-то успешное выполнение задания в Харькове и моя роль в уничтожении двух русских танков были достойным образом оценены. Но что же мне было делать теперь? У меня был мундир, но не было знаков различия, чтобы отметить мой новый ранг. Для солдата войск СС встречаться с армейским патрулем в таком виде – нарваться на неприятности. Хуже того, меня вообще могли по ошибке принять за дезертира, так как эмблема на форме не соответствовала моим документам.
На мое счастье, я обнаружил, что в городке имеется магазин для солдат, где по предъявлении соответствующих документов можно было приобрести элементы формы. И уж совсем повезло мне, когда я увидел, что в этом магазинчике продавались все знаки, необходимые для того, чтобы подчеркнуть мое новое звание. Поскольку мой поезд отправлялся из Бад-Фёслау поздно вечером, я поторопился в свой номер, чтобы перед отъездом пришить знаки различия на воротник кителя.
Глава 21 Новая жизнь в Берлине
У входа в вокзал Шлезишер-Банхоф[34] целая цепь полицейских отслеживала дезертиров и шпионов, внимательно вглядываясь в лица пассажиров, стараясь разглядеть на них признаки вины или преступного замысла. Я пошел мимо них, стараясь не встречаться с полицейскими взглядами.
– Позволю заметить, вы прекрасно выглядите…
Эти притворно вежливые слова были сказаны холодным и угрожающим тоном. И я знал, что они обращены ко мне.
– Благодарю вас, – бросил я через плечо и пошел дальше, не задерживаясь.
– Хальт! Стоять!
Мой желудок сжался.
– Ваши документы, пожалуйста.
Я достал из кармана кителя солдатскую книжку с вложенным в нее пропуском и вложил в протянутую ко мне руку. Полицейский внимательно изучил бумаги, затем посмотрел мне в глаза и наконец махнул рукой, отпуская. Возможно, его подозрения вызвала моя новая, с иголочки, форма.
Я выбрал самый короткий маршрут к дому родителей, поэтому направился на Гроссе-Франкфуртерштрассе. Движение было таким же оживленным, как всегда. Белые линии, обозначавшие края тротуаров и нанесенные после начала войны, чтобы облегчить ориентировку водителей при движении без света во время затемнения, были недавно перекрашены. На перекрестке у Штраусбергерштрассе у меня перехватило горло, как всегда, наверное, бывает у того, кто приближается к родному дому, где долго отсутствовал.
Я немного постоял на тротуаре напротив входа в нашу квартиру, а потом сделал глубокий вдох от охватившей меня радости. Мама только что закончила уборку и теперь стояла спиной ко мне с тряпкой в одной руке и ведром горячей воды у ее ног, наслаждаясь своей работой. Я пошел через дорогу, но тут пришлось задержаться, поскольку веселый звон трамвая сообщил о его приближении. Однако, едва трамвай проехал, я бросился к входу и закричал:
– Мама, я приехал! Я дома!
Она обернулась и на мгновение застыла, затем торопливо вытерла руки о передник и, обняв меня за шею, притянула к груди мое лицо.
– Ах, Эрвин, я так волновалась, когда услышала, что ты ранен.
– Я прекрасно себя чувствую, мама. И рана быстро заживает.
Она отпустила мою шею, сделала шаг назад и вытерла щеки уголком своего передника. А я сунул руку в карман, нашел осколок шрапнели, который чуть не лишил меня жизни, и показал его.
– Посмотри, мама, видишь, какой он крохотный. Тут совершенно не о чем беспокоиться.
У входа в комнату появился отец. Когда он заговорил, я заметил, что губы у него слегка дрожат.
– А, Эрвин! Я увидел тебя в окно. Ты должен обязательно мне рассказать о своих приключениях. Дай-ка посмотреть, что это у тебя там?
Я вложил ему в ладонь осколок шрапнели, и отец несколько раз покатал его между пальцами. Хорошо было оказаться дома.
Позже, когда я прилег отдохнуть, мне приснилось, что я лежу на спине, в луже крови, в кузове грузовика, пробирающегося по грязной лесной дороге, среди тел с оторванными руками и ногами. Из этого ужасного сна меня вырвал голос матери:
– Эрвин, я тебя уже третий раз зову! Ты собираешься вставать?
Я открыл глаза, спустил ноги на пол и стянул мокрую от пота майку. Ноги у меня дрожали – это у меня осталось после той морозной ночи, проведенной в кузове грузовика во время отступления из Ростова-на-Дону. Еще не до конца очнувшись ото сна, я пробормотал:
– С добрым утром, мама!
Первый день моего отпуска наполовину завершился.
Стояла жара, слишком сильная, чтобы проводить время среди раскаленных печей пекарни Глазера. Новости от Фрица могли подождать. Вместо этого я направился в Фридрихсхайн. Там над самыми высокими каштанами парка возвышалась Флактурм, зенитная башня люфтваффе – бетонная пародия на средневековый замок. На ее вершине в небо были нацелены стволы 88-миллиметровых зенитных орудий. Я впервые увидел это сооружение, и от его зловещего вида у меня по спине пробежал озноб.
Я направился на Фриденштрассе и вскоре оказался возле каскада прудов. На окружавшей пруды невысокой стене стояли скульптурные персонажи сказок братьев Гримм. Ребенком я любил сидеть здесь с отцом на каменных скамейках и любоваться сказочными фонтанами, пока он в очередной раз пересказывал мне истории Якоба и Вильгельма Гриммов. Он рассказывал их так часто, что в конце концов я их выучил наизусть. Сейчас при виде этих падающих струй воды детство показалось мне далеким, невозможным, словно одна из сказок, которые мне тут рассказывали. Я сделал глубокий вдох и направился на Лихтенбергерштрассе, собираясь зайти в пивнушку «Хорст Вессель», чтобы спокойно выпить чего-нибудь.
Потягивая пиво, я разговорился с одним парнем из люфтваффе в чине унтер-офицера и упомянул про Флактурм. Оказалось, он несет службу на этой башне и может устроить мне экскурсию в бомбоубежище, расположенное в подвале. Там вдоль стен лежали груды одеял и разные припасы.
– Спальные места и консервы для хранения в бомбоубежищах. Мы извлекли этот урок после Гамбурга. Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться, кто будет теперь на очереди для их авиации.
Образы горящих зданий тут же возникли перед моим мысленным взором. Конечно, как солдат я привык к виду сожженных строений, но эти-то были немецкими. А мой гид предложил:
– Почему бы вам не прийти сегодня вечером? У нас тут играет цыганское трио – поверьте, очень хорошая музыка. Отвлечетесь немного. Вы не будете разочарованы, они талантливые музыканты[35]. Они очень хорошо играют на скрипке и аккордеоне.
Когда три недели моего отпуска подходили к концу, я явился для дальнейшего прохождения службы в казармы Лихтерфельде. За большим полированным столом сидел оберштурмфюрер, который долго расспрашивал меня о моем боевом опыте на Восточном фронте. Собираясь уходить, я спросил оберштурмфюрера, что известно о моем батальоне.
Его лицо посерьезнело, он поджал губы. Затем, положив ручку на стол, он поставил на его блестящую поверхность локти и ответил:
– Конечно, всех деталей сказать вам я не могу, но знаю, что ваш батальон сейчас в Северной Италии. Как известно, итальяшки нас предали. Ваши товарищи помогают разоружать итальянскую армию и поддерживают порядок в деревнях и городах. Трусость итальянцев не принесет нам большого вреда. Пусть теперь американцы сами повозятся с этими предателями. Однако что касается вас, унтершарфюрер Бартман, то должен сказать, на настоящий момент у нас нет для вас никакого особого задания. Пока что оставайтесь здесь, в Лихтерфельде, но, безусловно, данная ситуация может измениться в любой момент. Есть вопросы?
Будучи берлинцем, я решил воспользоваться ситуацией до конца.
– Мои родители живут в районе Фридрихсхайн… Они обрадуются, если мне будет позволено остаться с ними.
Хотя я забыл на мгновение, что теперь этот район называется Хорст-Вессель, но, к моему удивлению, оберштурмфюрер не обратил на это внимания и не стал возражать на мою просьбу.
– Только два условия, – сказал он. – Вы будете лично докладывать о своем присутствии по крайней мере дважды в неделю. И будете готовы в любой момент по первому требованию явиться в казармы.
Направляясь к остановке трамвая у ворот казарм, я твердо решил присоединиться к своим товарищам, греющимся сейчас на итальянском солнце. И уже в следующий раз, явившись в Лихтерфельде, я обратился с просьбой отправить меня обратно в мое подразделение дивизии «Лейбштандарт».
Условия моего пребывания с родителями вскоре еще более улучшились, поскольку от меня требовалось являться в казармы только раз в неделю, а все остальное время поддерживать контакт по телефону. И всякий раз, когда я лично докладывал о своем прибытии в казармах, мне выдавался продовольственный паек на всю следующую неделю. Безусловно, это было большим облегчением для моих родителей, поскольку иначе им пришлось бы делиться со мной своим крайне ограниченным рационом на протяжении трех недель моего пребывания в доме.
Вечером 22 ноября 1943 года я находился с родителями, когда мы получили радостное известие: жена моего брата родила девочку, которую назвали Анжеликой. Я стал дядей! В эти часы, как по заказу, сирены воздушной тревоги сделали довольно продолжительный перерыв прежде, чем снова над городом раздался их тревожный вой, нарушая короткий период моего наслаждения домашним уютом. Это был второй массированный авианалет за неделю. Началось систематическое разрушение Берлина.
Родители отправились в укрытие, располагавшееся в подвале, а я, несмотря на протесты матери, забрался на чердак нашего многоквартирного дома и наблюдал оттуда за разворачивающейся битвой в воздухе. Англичане атаковали центральную часть столицы рейха, так что здесь, на Штраусбергерштрассе, опасности практически не было.
Гул тяжелых бомбардировщиков нарастал, он напоминал барабанную дробь, которая раздается перед казнью. Лучи прожекторов стегали ночное небо, перекрещивались в поисках вражеских самолетов. А затем в небе зажглись «рождественские огни»: британский самолет-корректировщик сбросил на парашютах сотни разноцветных осветительных бомб. Это была прелюдия к страшной ночи бомбежек, призванных уничтожить мирных жителей города и их жилища. Волна за волной бомбардировщики налетали на центральные кварталы Берлина. К западу от Александерплац взрывы мощных авиабомб слились в сплошной грохот, напоминавший громовые раскаты. А затем на Берлин посыпались зажигательные бомбы, и столицу охватили пожары. Над городом повисли облака дыма, снизу подсвеченные кроваво-красными языками пламени.
На следующий день примерно в полдень я сел в трамвай, шедший на Александерплац. От здания Биржи я пошел пешком в западном направлении, собираясь рассмотреть поближе разрушения, причиненные городу прошедшей ночью. За Тиргартеном от разбомбленных домов все еще поднимался дым. Между грудами камней, среди развалин пробирались кареты скорой помощи. Бригады рабочих с передвижными кранами восстанавливали трамвайные линии. Жители окрестных домов с лопатами в руках расчищали проходы, тротуары и проезжую часть. Среди развалин тут и там виднелись столы, стулья и другие предметы спасенной мебели. Толпы отчаявшихся женщин с детьми, ставшие беженцами в своем родном городе, толкали детские коляски и тележки в лабиринте разрушенных зданий. Я поймал на себе несколько мимолетных пренебрежительных взглядов, исполненных ненависти, и это было первым случаем, когда я почувствовал подлинное отношение простых людей к войскам СС.
На Ораниенбургерштрассе солдаты вермахта разбирали руины Новой синагоги. Осколки купола завалили тротуар, сквозь облупившуюся серую маскировочную краску виднелось покрывавшее купол золото. Я остановился поговорить с армейским фельдфебелем, который указывал прохожим дорогу среди развалин, и спросил, что ему известно о вчерашнем авианалете.
– Самый ужасный за все время, – сказал фельдфебель. – Две тысячи человек погибло. Настоящая мясорубка, я не видел столько погибших даже на Восточном фронте[36]. В основном, жертвами стали женщины и дети. Очень пострадал зоопарк, все слоны погибли. Такая жалость! Когда я был маленьким, мы часто ходили туда. Разрушен Потсдамский вокзал, никакие поезда не прибывают и не отправляются.
– Жаль синагогу, – заметил я, – это было красивое здание.
– О чем вы говорите! – поправил меня фельдфебель. – Это уже три года как армейский склад.
Я часто ходил мимо этого строения, когда был учеником пекаря и возвращался домой из торгового училища на Фридрихштрассе дважды в неделю после занятий. Последний раз я видел это здание весной 1940 года, и тогда это был центр иудейских молитв. Кстати, невзирая на то, что Новая синагога считалась выдающимся памятником архитектуры, его уничтожение не удостоилось упоминания по радио, хотя сообщили о разрушении Мемориальной церкви Кайзера Вильгельма и дворца Шарлоттенбург.
Когда я вернулся домой, отец сидел в кресле с номером «Фёлькишер Беобахтер» и встретил меня мрачным молчанием. На столике рядом лежала копия уведомления церковных властей о моем исключении из числа прихожан. Вообще-то я предполагал, что верховные церковные власти проинформируют отца о моем отказе от церкви.
«Фёлькишер Беобахтер» полетела прочь. Отец смял письмо в комок и швырнул в мою сторону.
– Как ты мог так поступить со мной?
Не имело смысла говорить ему о том, что я, отказавшись платить церковный налог, смог сделать небольшие накопления. Бесполезно было уверять отца в том, что, отказавшись следовать церковным канонам, я совсем не перестал верить в существование Всевышнего.
Надеясь, что со временем гнев отца поутихнет, я решил пока прогуляться в пивную на Лихтенбергерштрассе, где стал частым посетителем за эти недели.
Я подружился с одним унтер-офицером люфтваффе, и мы часто сидели друг с другом за столом с бокалом пива и обсуждали постоянно ухудшавшуюся военную ситуацию. Однако в тот раз наша беседа оказалась несколько иной.
– Русские уже на Днепре… Где мы ошиблись, Эрвин?
Даже намеки на пораженчество могли доставить нам обоим серьезные проблемы с полицией, однако я привык доверять людям, особенно в форме люфтваффе.
– Мы упустили свой шанс в Дюнкерке, – сказал я. – Мой кузен Тео Герлах был пулеметчиком в одном из подразделений вермахта. Они видели, как британские войска скапливались на побережье и находились в пределах досягаемости, однако кузену приказали не открывать огонь.
Англичане были абсолютно беззащитны, но мы дали им ускользнуть.
– О да! Даже наши парни, так или иначе, оставили их в покое, – согласился приятель из авиации.
– А еще я думаю, – продолжал я, – мы упустили отличный шанс, когда отказались от вторжения в Англию. Если бы переправились через Ла-Манш, то Гамбург и Берлин оказались бы в недосягаемости для авианалетов американских бомбардировщиков.
– Но британцы… Смогли бы мы их победить на их земле?
– Мы были лучше готовы к войне, чем Британия. Возможно, пришлось бы нелегко, но мы могли бы это сделать. К тому же я слышал о том, что шотландцы могли перейти на нашу сторону. Они ведь всегда ненавидели англичан.
– Да, – задумчиво произнес унтер-офицер люфтваффе, – если бы мы правильно сдали наши карты, к нам могло бы присоединиться и больше украинцев.
Тут унтер-офицер попал в точку. Во время пребывания на Восточном фронте из разговоров с украинцами я пришел к убеждению, что многие из них охотнее воевали бы на нашей стороне против коммунистов, если бы наша СД вела правильную политику и лучше обращалась с местным населением. Однако это была слишком опасная тема, чтобы обсуждать ее в пивной.
Цыганское трио заиграло свои песни. В пивную ввалились зенитчики люфтваффе, потирая руки и зябко ежась после дежурства на зенитной башне. По мере того как вечер продолжался, алкоголь брал свое: кое-где слышались истеричные визги женщин и громкие шутки подвыпивших мужчин, вышедших на тропу амурной охоты.
За стол возле стойки бара присела молодая хрупкая женщина со светло-каштановыми волосами. Мой знакомец из люфтваффе явно мог считаться знатоком хорошеньких женщин – он кивнул в сторону незнакомки, улыбнулся ей и вновь прихлебнул пива из своего бокала.
– Хороша, – хмыкнул он восхищенно. – Как ты думаешь, сколько ей лет?
– Тридцать, – предположил я. – Она примерно твоего возраста.
Унтер-офицер одним большим глотком допил пиво, пригладил свои темные вьющиеся волосы и потянулся за фуражкой.
– Надо действовать, – сказал он, вставая из-за стола. – Оставляю тебя ей. Увидимся позже.
Я остался за столиком один, размышляя о том, что слова моего знакомца, видимо, были произнесены под влиянием выпитого. Что он имел в виду, говоря «Оставляю тебя ей»? Когда я допил свое пиво, женщина, теперь сидевшая в компании более взрослых мужчин, поймала мой взгляд.
– Судя по всему, вы солдат? – громко сказала она, через весь зал обращаясь ко мне, и затушила сигарету о металлическую пепельницу.
Прежде чем я придумал вежливый ответ, она уже заняла стул, на котором только что сидел мой приятель. Вблизи красоту женщины несколько портило усталое выражение ее лица. Я предложил ей сигарету. Она зажала ее губами, ярко-красными от помады, и начала рыться в сумочке.
– Позвольте мне поухаживать за вами. – Я поднес к ее сигарете зажигалку.
Она придвинула стул поближе и наклонилась вперед, положив правый локоть на столешницу. Алый огонек горящего табака медленно поедал белую папиросную бумагу, а наши колени соприкоснулись.
Цыганский ансамбль заиграл новую мелодию; скрипка, тамбурин и кларнет наполнили помещение буйным восточным мотивом. Как назвал это мой приятель из люфтваффе – «услада для слуха». Воистину, теперь я понял, что он имел в виду. Эта музыка была веселой, чувственной и совершенно безмятежной. Она казалась смесью творений Вагнера и военных маршей, созданных для того, чтобы поддержать чувство любви к фатерланду.
Мы познакомились, рассказали истории своих жизней. Словом, это был обычный разговор, который происходит между мужчиной и женщиной во время их первого свидания. Она рассказывала мне о своей работе машинистки и вдруг опустила руку под стол. «Наверное, чтобы поправить чулок», – подумал я и ошибся. Ее пальцы коснулись моего колена, слегка сжали его, а затем скользнули чуть вверх, поглаживая мое бедро.
– Ненавижу бомбежки, – призналась она. – Мне страшно одной дома в такие минуты.
Словно догадавшись, о чем я подумал, она сказала:
– Не бойся, я не проститутка. Все, чего мне хочется, – это немного развлечься, чтобы позабыть о том ужасе, который царит вокруг. Кто знает, может, завтра мы все сгорим дотла.
Ее пальцы продолжали свои восхитительные движения.
Мне было всего около 20 лет, и весь мой сексуальный опыт ограничивался единственным кратким посещением борделя во Франции за год до этого. И хотя моя новая знакомая была совсем не похожа на девушку моей мечты, но она обладала прекрасной фигурой и очень приятными чертами лица. Мы оба хотели секса, возможно, по разным причинам, но в той ситуации это не имело значения…
Когда я в следующий раз посетил пивную, мой приятель из люфтваффе, увидев меня, широко улыбнулся и спросил:
– Ну, как? Хороша в постели, не правда ли?
Так я узнал, что молодой человек из дивизии «Лейб-штандарт» в городе, где остро ощущается нехватка молодых людей, не будет испытывать недостатка во внимании девушек. Почти везде, куда я приходил, появлялась возможность завязать отношения с противоположным полом, так что мне даже пришлось завести своеобразный дневник, чтобы не запутаться – когда, с кем и где у меня очередное свидание. Как я понял в тот раз, Берлин превратился в город, где многие молодые и не очень молодые женщины находились в постоянном поиске партнеров для секса. Все, что требовалось от юного повесы в форме «Лейбштандарта» – элитного соединения германской армии, – это просто посмотреть в сторону понравившейся ему девушки. Легкий кивок, понимающая улыбка, и отношения завязывались тут же.
Глава 22 Новый год, 1944
На территории кадетской школы в Лихтерфельде находилась большая изящная вилла. Широкое, невысокое крыльцо, по сторонам украшенное горшками с красными и белыми петуниями, вело к стеклянным створчатым дверям, скрытым под аркадой из трех арок с закругленным верхом. Это была офицерская столовая и место частых офицерских собраний. Во время моего обучения в 1941 году я несколько раз выполнял там обязанности официанта, подавая гостям «сект» и коньяк. На офицерские собрания и вечеринки, которые зачастую длились до утра, не раз приглашались гости, очень известные в рейхе. Вообще, в начале войны многие амбициозные люди из разных слоев общества желали быть поближе к членам «Лейбштандарта», из рядов которых после нашей неминуемой победы будут выдвигаться руководители рейха. В подобных гостях никогда не было недостатка, особенно в такие дни, как Рождество или Новый год.
Хотя в училище было мало возможностей для личной жизни, тем не менее нашим офицерам разрешалось приглашать дам. Младшему унтер-офицерскому составу также разрешалось приглашать к себе подружек при условии, что они отметятся на вахте у главного входа. В нормальных обстоятельствах таким приглашенным разрешалось оставаться у тех, кто их пригласил, до полуночи, но на Новый год это время увеличивалось до часа ночи, чтобы все имели возможность попраздновать подольше. Приглашение девушки в казарму после разрешенного времени могло привести к разжалованию и к серьезному денежному штрафу.
Примерно к моему 20-летию, накануне Рождества 1943 года обмороженные участки моих ног начали болеть не на шутку. Малейшее прикосновение к любому предмету, случайное столкновение, которое могло произойти из-за того, что кожа потеряла чувствительность, вызывало ссадины и царапины, сопровождавшиеся выделением крови и желтоватой слизи. В условиях русской зимы все это переносилось тяжело, и я втайне был благодарен докторам, запретившим мне возвращаться на Восточный фронт.
Несколько дней я демонстрировал свое раздражение этим запретом, а затем решил нанести визит в госпиталь войск СС, располагавшийся на Унтер-ден-Эйхен, широкой, прямой улице, засаженной дубами, неподалеку от казарм Лихтерфельде.
Когда я появился в госпитале, в приемном покое сидел еще только один пациент – унтершарфюрер дивизии «Лейбштандарт». Когда я вошел, он встал и дружески протянул мне руку.
– Шимански, – представился он, глядя на меня своими блестящими озорными глазами.
– Бартман, – ответил я, в свою очередь пожимая его широкую ладонь. С плечами, широкими как шкаф, великан Шимански горой нависал надо мной.
– Я вас прежде никогда не видел, – заметил я.
Вообще-то моя фраза прозвучала довольно глупо, поскольку такой высокий человек выделялся даже в дивизии, куда специально набирались люди высокого роста.
– Я только что прибыл в Берлин, – сказал он своим громким глубоким голосом.
Ожидая доктора, мы обменялись с моим новым знакомым своими историями болезни. Он получил тяжелое ранение в живот на фронте в Италии, и сейчас у него оставались некоторые осложнения после этого, проявлявшиеся в том, что он мог неожиданно испортить воздух.
– Пуля разорвала мне кишки и перемотала их, словно пропеллер, – объяснил он.
Затем он прошел в кабинет и вышел из смотровой, размахивая листком бумаги.
– Вот! Получил разрешение пердеть в любом месте, в любое время! – засмеялся он, покидая приемный покой.
После внимательного обследования врач посоветовал мне полежать некоторое время в лазарете кадетского училища с тем, чтобы регулярно и, главное, вовремя менять повязки на ногах. В тот момент я еще очень слабо представлял себе, что это будет началом процедуры, которую придется проводить на протяжении всей моей жизни.
Так и получилось, что Новый год мне пришлось встречать в лазарете, и празднование в больничной столовой достигло своей кульминации в последние часы 1943 года.
Я же, думая уберечь медленно заживающие раны на ногах от случайных повреждений, решил провести ночь в постели и довольно скоро погрузился в глубокий сон. Проснулся я от толчка. Кто-то тряс меня за плечо.
– Тсс… это я, Шимански.
– А который час? – спросил я.
Шимански прижал палец к губам.
– Тсс, не так громко. У меня небольшая проблема. Одевайся, сейчас около трех утра.
Оказывается, он уже положил мою форму на спинку кровати. Еще не совсем придя в себя от неожиданного пробуждения, я натянул ее на себя и последовал за Шимански вверх по лестнице.
Когда мы вошли в помещение столовой, меня там ожидало потрясающее зрелище. Один из столов был накрыт меховой шубой, по углам стола горели свечи, и их дрожащий желтоватый свет озарял красивую молодую женщину, с грацией профессиональной модели раскинувшуюся на мехах. Она была совершенно обнаженной, из одежды на ней были только красные туфельки.
– Кто она? – спросил я.
– Одна актрисочка из киностудии в Бабельберге.
– Ей уже пора бы уходить.
– Знаю, но в этом и есть проблема. Как мы будем выходить из положения, Бартман?
Это «мы» окончательно меня разбудило.
– Вы сами в это вляпались, – зашипел я. – Кто ее сюда привел?
– Я…
– Где ее одежда?
– Не могу найти. Может, на ней и не было ничего, кроме этой шубы. Слушай, нам надо вывести ее отсюда, пока не появился дневальный, а то мы окажемся в полном дерьме.
– Хочешь сказать, ты окажешься, – сердито проворчал я.
– Бартман, ты должен мне помочь вывести эту девчонку!
Безусловно, мне грозили серьезные неприятности, если бы я стал помогать Шимански, но я все-таки внял его просьбам.
Мы укутали женщину в ее меховую шубу и попытались поставить на ноги. Однако, вследствие сильного опьянения, умение стоять вертикально оказалось ею напрочь забыто.
– Придется ее поддерживать, – раздраженно сказал я. Моя недавняя решимость помогать окончательно рухнула в пропасть. – И как мы ее выведем из казарм?
– Я подумаю об этом позже, – пообещал Шимански.
Внезапно девушка откинула голову назад и затянула какую-то песню, но широкая ладонь моего приятеля мгновенно закрыла ей рот, и поток лиричных нот прервался.
– Господи, Шимански, не задуши ее! – взмолился я.
Нам удалось провести нашу гостью по коридорам и вывести наружу, не вызывая подозрений. К счастью, первое утро 1944 года выдалось морозным и тихим.
– Возле офицерской столовой есть одно потайное местечко, – сказал Шимански. – Там нас никто не заметит, и мы сможем перебросить ее через ограду.
Мы уже находились с девушкой у низкой стены и завели ее в тихий уголок, заросший кустами, рядом с офицерским клубом. В этот момент из комнаты наверху донесся стон наслаждения. Стонала девушка, и воображение сразу подсказало картины пьяного веселья.
– Эх, жалко, что я не офицер, – вздохнул Шимански.
– Хватит мечтать, лучше помоги перетащить ее через забор.
Мы подняли ее на вытянутых руках над решеткой ограды, однако ее безвольное тело могло обрушиться прямо на острия металлических прутьев.
– Все бесполезно, – прошептал я в отчаянии. – Даже будь она трезвой как стеклышко, она покалечится, отпусти мы ее с такой высоты.
Мы опустили девушку, стараясь поставить ее на ноги.
– Подожди здесь, я скоро, – пробормотал Шимански и нырнул в кусты.
Когда он возвратился, на его лице сияла широкая улыбка.
– Нам повезло, – объявил он. – Караульный – мой должник. Так что мы можем провести ее через ворота и не отмечаться в журнале.
Часовой старательно смотрел в другую сторону, пока мы проводили девушку через караульную будку за пределы территории кадетского училища. На ближайшей трамвайной остановке я усадил ее на скамейке и застегнул шубейку, чтобы хоть как-то защитить ее от утреннего холода. Шимански в это время занимал разговорами караульного.
Через пару недель я ехал из Лихтерфельде в центр Берлина в переполненном трамвае и заметил в дальнем конце вагона миловидную молодую женщину. Наши глаза встретились, и я улыбнулся ей. Однако ее ответная реакция оказалась вовсе не такой, как я ожидал. Сначала она нахмурилась, словно что-то вспоминая, а затем, видимо сообразив что-то, бросилась ко мне, расталкивая пассажиров. И только теперь я узнал ее, это была та самая обнаженная девушка в шубе.
– Ты безмозглая свинья! – завопила она и попыталась заехать мне по физиономии. – Я же могла замерзнуть до смерти!
На мое счастье, я стоял рядом с дверью, поэтому на полном ходу умудрился выскочить из вагона на тротуар еще до того, как у девчонки появился шанс начать полномасштабное наступление.
Глава 23 Снобизм и сопротивление
У Шимански продолжались проблемы с желудком, а у меня продолжала болеть опухоль под коленкой. Чтобы ускорить наше выздоровление, врач в госпитале СС предписал нам курс лечения и отдых в лагере для выздоравливающих в городе Кониц[37] у старой границы с Польшей и неподалеку от Шлохау[38], где я родился. СС в этом районе были представлены главным образом сотрудниками службы безопасности (СД) и гестапо, которые занимались тем, что отслеживали поток беженцев, двигавшихся с востока.
Явившись в лечебную роту, мы доложили дежурному о своем прибытии, и тот направил нас в казарму. В комнате, где нас разместили, уже находился один солдат, который сообщил нам, что ротой командует гауптштурмфюрер Гребарше, а вся рота насчитывает восемь человек. Как выяснилось, в нашем районе Гребарше был единственным, не считая генералов вермахта, кого наградили Рыцарским крестом.
В центре города находилась гостиница, в которой имелся большой холл, где любили проводить свободное время мужчины всех званий и чинов. Как-то раз вечером гауптштурмфюрер (капитан войск СС) Гребарше с одним из своих приятелей направились туда, а мы с Шимански собирались выйти позже и присоединиться к ним в гостинице. Когда мы открыли дверь в холл, сидевший неподалеку за столом армейский генерал с золотыми галунами на плечах посмотрел на нас. Окинув взглядом помещение, я увидел Гребарше и его спутника, уже занявших свой обычный столик в дальнем углу. Как солдаты войск СС, мы старались четко выполнять требования устава, поэтому, согласно протоколу, повернулись к ним, чтобы приветствовать Гребарше как кавалера Рыцарского креста.
Генерал вермахта вскочил из-за стола и с бранью обрушился на нас.
– Что означает ваше безобразное поведение на публике? – рявкнул он. – Вы проигнорировали меня! Стоять смирно, когда я с вами разговариваю! Какого рода войск? Ваффен СС? Хм, когда же вы научитесь вести себя прилично…
Все присутствующие удивленно взирали на разворачивавшуюся у них на глазах ссору, а я в это время думал, бывал ли этот невысокий генерал вообще когда-нибудь на фронте.
– Господин генерал, – сказал я, скосив глаза туда, где сидел гауптштурмфюрер Гребарше. – Возможно, вы не заметили, что здесь присутствует кавалер Рыцарского креста.
Гауптштурмфюрер, увидев, что происходит, встал из-за стола и, щелкнув каблуками, вежливо кивнул генералу, прежде чем представиться.
Кровь прилила к щекам генерала. И в эту минуту Шимански тихонько испортил воздух. Генерал принюхался.
– Что за отвратительный запах? Это возмутительно! Это… это… – На мгновение он, казалось, потерял дар речи. – Кто посмел?
– Это я, господин генерал, – признался Шимански. – Я могу объяснить…
Безусловно, я могу ошибаться, но мне показалось, что уголки его губ насмешливо дрогнули.
– Это оскорбление, публичное оскорбление воинской дисциплины… нарушение субординации! – Толстые щеки генерала затряслись от негодования. – Вам это не сойдет с рук, о нет! Такое неуважение к старшему офицеру, особенно на публике, – это серьезное нарушение!
– Герр генерал, прошу прощения, однако, как вы можете видеть из этого медицинского заключения, я не могу контролировать свои выделения из-за серьезного ранения внутренностей.
Лицо генерала меняло свой цвет с ярко-розового на багровый по мере того, как он читал медицинскую справку Шимански.
Мне не хотелось тратить время на такого высокомерного болвана, которым оказался этот армеец в высоком чине. Он принадлежал к числу тех старших офицеров вермахта, которые всегда искали повод придраться к солдатам войск СС. Должен признаться, что с удовольствием наблюдал, как генерал завертелся, словно червяк на крючке рыболова, когда до него дошло, какую ошибку он совершил. Потом, сидя за бокалом пива, мы много смеялись, однако эта стычка оставила у меня в душе ощущение беспокойства и дискомфорта. В подобном отношении германского офицерства к простым солдатам лежало нечто большее, чем просто несдержанность к Шимански. Это можно было назвать высокомерием и общественным пренебрежением к тем, кто воевал в войсках СС. Правда, простые солдаты вермахта никогда не выказывали такой враждебности. Более того, вполне в духе боевого товарищества, солдаты армейского подразделения, расквартированного в окрестностях Коница, пригласили всех нас в свой яхт-клуб, расположенный на соседнем озере. Стоял великолепный ветреный день, и мы вдесятером ждали, что прекрасно его проведем.
– Пожалуйста, господа, чувствуйте себя как дома, – сказал фельдфебель, приглашая нас в кают-компанию клуба, где нас приветствовали несколько его сослуживцев. – Угощайтесь кофе и пирожными. Если желаете, можем предложить шнапс или бокал пива.
Один из солдат вермахта полез в стоявший на столе коричневый бумажный пакет, достал оттуда несколько коробок сигарет и положил на стол.
– Подарок нашим гостям.
Мы вежливо предложили сигареты новым друзьям, потом закурили сами. После кофе и шнапса хозяева проводили нас на деревянную пристань, где на легкой зыби покачивались несколько шлюпок. Фельдфебель распределил нас по суденышкам.
По мере того как росло мое доверие к рулевому, я начинал все больше наслаждаться нашим катанием по покрытым зыбью волнам. Веселая паника охватила меня, когда мы направились к заросшему лесом дальнему берегу озера. Внезапно у нас над головой засвистели пули, а несколько из них продырявили наш парус. Я выхватил пистолет из кобуры и, хотя не было никакой возможности попасть в кого-нибудь с качающейся лодки, все-таки сделал несколько выстрелов в заросли. Наш рулевой стремительно развернул ялик, и с попутным ветром мы помчались к безопасному берегу, где находился яхт-клуб. Уже на берегу стало ясно, что в результате этого приключения мы не получили ни царапины.
– Проклятые партизаны, – выругался фельдфебель. – Последнее время они причиняют все больше беспокойства. Настоящая заноза… Наглеют с каждым днем. Один Бог знает, удастся ли удержать ситуацию под контролем.
Вскоре после нашего счастливого спасения мы с Шимански поехали из Коница в Варшаву, где обнаружили маленькую шоколадную фабрику и собирались обменять сигареты на сладости. В Варшаве мы сняли комнаты в гостинице СС на площади Нарутовича, а потом, когда пришлось урезать наши расходы, перебрались в солдатское общежитие, находившееся под патронажем Красного Креста. Напротив располагался главный железнодорожный вокзал, и мы во время завтрака усаживались за столик у окна и с удовольствием наблюдали за тем, как мимо нас течет мирная жизнь. Шимански как раз вспомнил, как однажды он пригласил меня в какое-то учреждение люфтваффе, находившееся в Далеме, неподалеку от Лихтерфельде, где мы умудрились пробраться в женскую раздевалку для работавших там девушек. В эту минуту я увидел, как через дорогу напротив нас переходят четыре монаха. В своих обычных одеяниях они представляли собой довольно необычное зрелище на фоне толпы обычных обывателей, спешащих по своим делам. Мне почему-то пришло в голову, что они могут представлять угрозу, и в эту минуту появился армейский патруль. По всей видимости, бдительный командир патруля тоже заметил что-то необычное в облике монахов, поскольку он остановил их всего в нескольких метрах от нашего «наблюдательного пункта» в солдатском общежитии.
Я не слышал слов, которыми солдаты обмениваются с задержанными, но было очевидно, что монахи отчаянно протестуют. Внезапно офицер вермахта распахнул рясу одного из монахов, и волосы у меня на голове встали дыбом: у того на поясе висел целый арсенал – пистолет и ручные гранаты. Под дулами автоматов других патрульных остальные монахи были вынуждены также показать, что у них спрятано под монашеским облачением. И у всех оказался столь же богатый арсенал оружия. Держа руки на затылке, задержанные остались стоять на тротуаре под охраной, пока возле них не остановился патрульный автомобиль.
– Гестапо! – хладнокровно прокомментировал Шимански, когда из машины выбрался человек в черном мундире. – Давайте, парни, разберитесь с ними. Эти партизаны – настоящие ублюдки. – Он повернулся ко мне: – Представляешь, они недавно взорвали солдатский публичный дом. Несколько девочек погибли, славные девчушки, любительницы оперы. Они бы тебе понравились, Бартман. Ну, ничего, его восстановили. Не хочешь посетить?
Что и говорить, мой приятель знал самые привлекательные места, куда бы мы ни направлялись.
– С удовольствием, – согласился я. – Но только чтобы выпить по бокальчику пива.
Конечно, сейчас нельзя утверждать это, однако вполне возможно, что «монахи» собирались напасть на солдатское общежитие, так что нам второй раз за неделю удалось избежать серьезных проблем. Похоже, в Варшаве больше нельзя было чувствовать себя в безопасности…
Охранник открыл нам двери публичного дома. Пройдя во вторую дверь, мы оказались в холле, заполненном клубами табачного дыма. Едва освободился один из столиков, Шимански, пользуясь всей своей массой, решительно устранил всех конкурентов, и мы уселись за него. Практически тут же появились две девицы и сразу устроились у нас на коленях. Они были довольно хорошенькими, однако их поведение было для меня несколько вызывающим. Мы поболтали о том о сем – о погоде, о русском продвижении на запад, а потом я решил проверить, правду ли говорил Шимански.
– Тебе нравится опера? – спросил я девушку, сидевшую у меня на коленях.
– Опера? Не могу сказать, что люблю, но ведь ты сюда пришел не для того, чтобы поболтать об опере? – хихикнула она и схватила мою фуражку.
Я попытался отобрать свое имущество, однако девица тут же сунула ее себе под юбку и зажала между бедер.
– Отдай сейчас же! – приказал я. Фуражка была относительно новой, и мне было ее жалко.
– Возьми сам, – рассмеялась девушка.
Я сунул руку ей под юбку и сразу почувствовал, что на ней нет трусиков. Ее бедра тут же сжали мою ладонь, однако, поняв, что я не расположен к играм, девица вскочила с моих коленей и залепила мне пощечину.
– Онанист проклятый! – завопила она и ударила меня по голове.
Все находившиеся в зале повернулись в нашу сторону, а мой приятель, спихнув свою подружку с коленей, сказал мне:
– Ладно, дружище, самое время осуществить тактическое отступление.
Шлюхи продолжали визжать, а мы выбрались через черный ход на улицу. Там мой спутник громко расхохотался.
– Ладно, в следующий раз отведу тебя в бордель, которым заведуют войска СС, там девочки покультурнее. С ними ты сможешь побеседовать о своей любимой опере, сколько захочешь.
Когда наше пребывание в Конице подошло к концу, мы снова отправились в училище на Лихтерфельде. К тому времени из-за опухоли в колене мне стало больно ходить. Я доложил об этом в смотровом кабинете, и доктор приказал готовиться к срочной операции.
Через день или два после операции в госпитале на Унтер-ден-Эйхен я возвратился в казармы, и мне дали задание охранять одного электрика, рабочего ремонтной партии, которую каждое утро доставляли сюда из ближайшего концентрационного лагеря в Темпельхофе. Это был дружелюбный человек, который открыто сознался, что до начала войны занимался преступной деятельностью. Пока он настраивал электропитание нового рентгеновского аппарата, мы с ним часто болтали, и он мне много рассказал о своей прежней «карьере».
17 июля 1944 года во дворе госпиталя остановился крытый грузовик, и выпрыгнувший из кабины офицер подозвал меня.
– Унтершарфюрер, немедленно прикажите всем, кто может ходить, собраться здесь.
Я постарался выполнить приказ настолько быстро, насколько мне это позволяло перевязанное колено. Обойдя всех и вернувшись во двор, я оказался среди ходячих больных, которые стояли в ожидании винтовок и пистолетов, их раздавали прямо из кузова грузовика.
– До последующих указаний нам следует проявлять бдительность, – приказал офицер. – Будете охранять территорию периметра, поскольку может произойти непредвиденное. Без разрешения никого не впускать. Приготовьтесь к обороне. Выдайте оружие тем, кто не может встать с постели. Все, способные держать оружие, будут вооружены.
Не вдаваясь в дальнейшие объяснения, офицер забрался в кабину, и грузовик уехал. А мне оставалось лишь гадать, что происходит. Я предположил, что эта паника может быть связана с бегством заключенных из лагеря. Однако, какой бы ни была причина объявления тревоги, это событие несколько разнообразило скуку моего пребывания в госпитале.
Ярким солнечным утром 21 июля 1944 года я сидел в палате и играл в карты с соседом, когда внезапно по радио начали передавать специальное сообщение. В нем говорилось, что накануне небольшая группа заговорщиков из числа армейских офицеров совершила покушение на жизнь фюрера во время совещания в «Вольфшанце»[39], откуда тот руководил боевыми действиями на Восточном фронте. Бомба взорвалась под столом, в результате чего погибли четыре высших офицера. Сообщалось, что Гитлер получил легкие ранения и держит ситуацию под контролем. Несомненно, фюрера хранит само Провидение, чтобы он смог выполнить свою миссию по разгрому большевизма. Только теперь я сообразил, что тревога, которую объявили у нас в госпитале, была подготовкой к возможной схватке в Берлине с организаторами переворота. В дальнейшем выяснилось также, что примерно за три дня до покушения в «Вольфшанце» рейхсминистр СС Генрих Гиммлер знал о подготовке переворота.
Для меня сообщение об аресте организаторов покушения стало хорошей новостью. Случись восстание против власти Гитлера, и немцы стали бы убивать немцев, что привело бы к громадным людским потерям в моем родном городе. Совсем незадолго до попытки переворота войсками СС было остановлено наступление англичан и канадцев в районе города Каи в Нормандии, поэтому, считая, что победа Германии в войне все еще возможна, я воспринимал заговорщиков как предателей, пытавшихся помешать нашей борьбе с союзниками на Западном фронте.
Выписавшись из госпиталя, я отправился на поиски Шимански. Мы стали с ним добрыми друзьями и часто проводили время вместе в пивной «Хорст Вессель» на Лихтенбергерштрассе, наслаждаясь игрой цыганского трио и свежим пивом.
Однажды вечером в конце лета 1944 года мы с Шимански сидели за стойкой бара, когда мой приятель из люфтваффе наклонился к нам и вполголоса произнес:
– Интересные дела тут творятся. – Он глазами указал на крупного светловолосого мужчину, сидевшего неподалеку. – Бьюсь об заклад, тут пистолеты переходят из рук в руки. Видите этого голландца? Он скупает оружие.
– Кто же их поставляет? – изумился я.
– Трудно сказать наверняка, но полагаю, что один оберфельдфебель из вермахта. Он каждый вечер бывает здесь.
Еще через несколько дней я снова зашел в «Хорст Вессель», чтобы выпить пива, а покончив с ним, направился в туалет. Открыв дверь, я был поражен, когда увидел, как какой-то оберфельдфебель из дивизии «Великая Германия» передает тому самому голландцу пистолет. Подозревая, что это оружие предназначено для бойцов голландского подполья, я не смог сдержать свой гнев.
– Ах ты, дрянь! Надеюсь, что тебя пристрелят из этого самого пистолета!
Однако их было двое, а я один, и без достаточных доказательств я ничего не смог бы сделать.
Еще через неделю мы с Шимански опять сидели в пивной за столиком, когда снова вошел тот же самый оберфельдфебель. Я посмотрел ему в глаза и сказал:
– Только предатель может продавать оружие врагам.
Он резко остановился рядом с нами и посмотрел на меня.
– Я требую, чтобы вы немедленно извинились за эти слова, – грязно усмехнувшись, потребовал он. – Вы не имеете права обращаться столь неуважительно к старшему по званию.
Шимански поднялся из-за стола во весь свой огромный рост и тоже посмотрел оберфельдфебелю в глаза:
– А что вы сделаете в противном случае?
При виде этой горы мышц оберфельдфебель побледнел и, повернувшись, молча удалился. Мы видели его в «Хорст Бесселе» в последний раз. Этот мелкий инцидент, случившийся накануне великих исторических событий, на пороге которых мы стояли, показал мне, в каком отчаянном положении оказался рейх. Гниль начинала точить его изнутри, и страшно было подумать, что возможное поражение Германии в войне подобные предатели будут счастливы использовать в собственных целях. Вскоре после этих событий я получил продовольственный паек в казармах училища и отправился к родителям.
Когда я только вошел к ним в дом, на улице раздался скрип тормозов. Я не обратил на это внимания. Но едва я скинул свой китель, как в дверь громко застучали. Я открыл и увидел, что на пороге стоят гауптман и фельдфебель из вермахта.
– Ваши документы, – строгим голосом потребовал гауптман.
Я отдал им свою солдатскую книжку и письмо моего командира роты с разрешением оставаться на квартире родителей.
Гауптман изучил документы и объявил:
– Вы арестованы.
Я был потрясен. Насколько я помнил, я не совершил ничего противозаконного.
– А почему, собственно?
– У вас нет официального разрешения на пребывание в отпуске.
Я не представлял, что будет со мной, пока мы ехали по улицам Берлина. Если офицер вермахта решит, что я дезертир, то меня могут расстрелять без всякого суда. В армейских казармах меня поместили в камеру, в которой уже находилось несколько человек. Время тянулось чрезвычайно медленно. Наступила ночь, но никто не спешил прийти, чтобы допросить меня. В полном отчаянии я закричал в зарешеченное окошко на двери:
– Я требую офицера!
Появился дежурный:
– Чего шумим?
Я показал ему эсэсовские руны, нашитые на моем кителе.
– Смотрите, я солдат дивизии «Лейбштандарт». Вы не имеете права меня тут удерживать. Требую вызвать ко мне офицера как можно скорее.
К счастью, дежурный сообразил, что мои требования не лишены смысла. Через некоторое время появился старший офицер, чтобы выслушать меня. Когда я принялся его безжалостно обвинять, у него забегали глаза.
– Я член ваффен СС! – говорил я. – У нас в Берлине свой собственный суд. Предупреждаю, любые дисциплинарные меры в отношении меня должны рассматриваться судом войск СС, а не армейскими следственными органами.
Офицер поджал губы и наморщил лоб, словно ребенок, пытающийся решить математическую задачку, которая ему явно не по силам. Наконец он принял решение.
– Ладно, очень хорошо. Я позвоню в Лихтерфельде и попрошу, чтобы кто-нибудь приехал и забрал вас.
Через несколько часов на пороге камеры появился дежурный, за спиной которого возвышался не кто иной, как старина Шимански. К тому моменту, когда вермахт передал меня в нежные объятия моего приятеля, было далеко за полночь. Автобусы и трамваи в это время ходили с часовым интервалом, поэтому нам понадобилось еще какое-то время, чтобы добраться до кадетского училища. Я доложил о происшествии дежурному офицеру, и тот оставил все без последствий, даже не сделав запись в моей солдатской книжке. На следующее утро я вновь направился на квартиру родителей. И хотя доказательств у меня не было, меня не оставляло ощущение, что между моим арестом и стычкой с тем оберфельдфебелем существует прямая связь…
Глава 24 Первая любовь и последняя встреча
Год заканчивался, и вместе с ним затухал мой энтузиазм по поводу сексуальных приключений со случайными подружками, которые были внешне приятными, однако больше не приносили мне удовлетворения. На тот момент мне исполнилось 20 лет, я уже много месяцев наслаждался легким сексом, но так и не встретил девушку, с которой хотел бы провести остаток жизни. Однако причудливые судьбы войны предрекали скорые перемены и на этом поприще.
Как-то раз я возвращался на квартиру родителей после посещения пекарни на Мемелерштрассе, когда повстречался с девушкой, которую знал еще в свои школьные годы и которая теперь работала машинисткой в одном учреждении поблизости от пожарной станции. Мы немного поболтали, расспросили друг друга о судьбах наших общих знакомых и друзей, которых знали еще по школе.
– Помню, у тебя было два друга, вы всегда ходили вместе, вас еще называли «три мушкетера». Как это их… ах да! Хорст и Гюнтер! Они женились?
– Право, не знаю, – ответил я. – Я их уже целую вечность не видел.
– Жалко, – вздохнула она. – Вы были славной компанией. А ты? У тебя есть постоянная подружка?
– Пока не смог встретить, – признался я.
Моя знакомая задумалась на мгновение, приложила указательный палец ко лбу и вдруг заявила:
– У меня есть подруга, которая может тебе понравиться. Ее зовут Ингеборга.
Хотя Ингеборга жила на Палисаденштрассе – не очень далеко от квартиры моих родителей, – я ее раньше никогда не встречал. Она вышла замуж за унтершарфюрера 2-го полка дивизии «Лейбштандарт», который геройски погиб в России, оставив ее с шестимесячной дочерью на руках. Сам унтершарфюрер видел свою дочку только на фотографиях, которые присылались ему на Восточный фронт, – ситуация довольно типичная на том этапе войны. Ингеборга была как раз такой женщиной, о которой я мог только мечтать, – красивой, умной, деликатной. Особенное впечатление производили ее блестящие голубые глаза, доверчивые, несмотря на все беды, которые принесла ей война.
Сначала мы стали просто добрыми друзьями и много времени проводили вместе только потому, что нам было хорошо. Однако постепенно наши отношения становились все более серьезными, пока, наконец, у меня не появилась возможность начать ухаживать. Мы ходили в кино и театр, пока бомбежки союзников не положили конец таким прогулкам. Несмотря на тяжелую ситуацию на фронтах, это был один из самых замечательных периодов в моей жизни. Я с восторгом вспоминал о тех утренних минутах, когда просыпался рядом с Ингеборгой в ее квартирке, или о том, как мы гуляли с ней и с ее дочкой в Фридрихсхайне.
Как-то через пару недель после начала моих отношений с Ингеборгой я пришел к родителям и увидел, что моя мама стоит на коленях и укладывает в картонную коробку мои старые туфли, которые, как я думал, она уже давно выбросила. Увидев меня, мать широко улыбнулась.
– Хорошо, что я оказалась дома, – сказала она. – Пока ты отсутствовал, к нам заходил гость, которого ты не видел целую вечность.
– Зачем ты хранишь все это старье, мама?
– Я же тебе сказала, что у нас был гость, которого ты очень хорошо знаешь.
– Да? И кто же это?
– Хорст Муш, твой школьный приятель. Недавно ты его вспоминал.
Я был поражен. Мы встречались с его матерью в магазинчике на Палисаденштрассе всего несколько дней назад, и она ни словом не обмолвилась о том, что ее сын собирается приехать домой.
– А он не говорил, куда собирается пойти?
– Сказал, что домой. Ему отчаянно нужна пара туфель.
– Спасибо мама. – Я повернулся и направился к двери.
Родители Хорста Муша жили всего в нескольких кварталах от нас. Он поступил на службу в кригсмарине (военно-морские силы) в 1941 году, и с весны того года мы не встречались. Поэтому я шел очень быстро, иногда переходя на бег, и вскоре оказался возле его дома.
– Ах, Эрвин, такая жалость! Он только что ушел, – сказала фрау Муш. – Скорее всего, пошел в пивную Шмидти. Там и Гюнтер, он сейчас тоже в отпуске.
Наконец-то все три мушкетера собрались вместе. Весь вечер мы провели за воспоминаниями о прошлом. Гюнтер стал инженером на железной дороге, служил в железнодорожных войсках и сейчас приехал из России в отпуск. А Хорст до недавних пор находился в Греции, куда сейчас рвались советские войска[40].
Вскоре после последней встречи «трех мушкетеров» мы с Хорстом решили нанести визит моим родителям. День выдался спокойным, небо не раздирал вой сирен, и я с нетерпением ждал, когда наша семья соберется вместе.
– Хорст и отец скоро придут, – сообщила мама, когда я вошел в квартиру. – Они только что пошли через дорогу за пивом. Можешь посидеть в отцовском кресле, пока они не вернулись. A-а, кстати! У меня для тебя маленький сюрприз.
Она обернулась к граммофону, стоявшему на столике, и взяла блестящую черную пластинку.
– Вот, твоя любимая. Помнишь, в детстве ты часто просил меня поставить ее?
– Да-да, я нашел ее в коробке под твоей кроватью. Мне было тогда лет пять.
– Ты был буквально очарован музыкой, это у тебя от папы. Любовь к опере у тебя в крови.
Стараясь не поцарапать поверхность иголкой, мама осторожно опустила звукосниматель на пластинку и еле заметным движением прибавила громкость. Из медной трубы граммофона раздалось шипение, и я с наслаждением закрыл глаза, позволяя музыке унести меня в другую реальность.
Пришли Хорст и папа. Судя по всему, за время своего похода они выпили не один бокал, поэтому пребывали в прекрасном настроении. Мы расселись за столом с кофейными чашками, в которых был налит столь редкий теперь кофе, а папа пересказал свою любимую историю о неудачных похоронах в Шлохау.
– Они уже опускали гроб в могилу, когда кто-то нечаянно выпустил веревку, и он перекосился и ударился о край ямы. Такой ужас! Крышка отскочила, и покойник вывалился вперед с разведенными в стороны руками так, будто собирался обнять священника.
Мама хихикнула, словно девчонка.
– Священник так испугался! Я никогда не видел, чтобы пожилой человек так быстро бегал.
Чтобы еще добавить веселья, я начал пародировать Гитлера, заговорив его голосом:
– Каждый должен исполнить свой долг перед рейхом! Победа уже у нас в руках, но сегодня я хочу обратиться к женщинам Германии. Нам нужно больше солдат и как можно скорее! По этой причине срок беременности сокращается до шести месяцев. Я верю, что каждая женщина выполнит свой долг перед фатерландом!
– О, Эрвин, пожалуйста, не так громко! Тебя ведь могут услышать! – взмолился Хорст, оглянувшись через плечо, словно проверяя, нет ли поблизости непрошеных гостей. Затем он продолжил, понизив голос: – Я вам сейчас расскажу одну тайну. Это сверхсекретно, вы не должны никому об этом рассказывать.
Мы с отцом склонились к нему и стали ждать, а мама нахмурилась:
– Может, не надо нам это рассказывать, Хорст?
– Я доверяю своим родным, мама, – сказал Хорст, не обращая внимания на ее опасения. Затем он придвинулся к нам и зашептал: – Как вы знаете, я отвечаю за телефонную связь, когда кто-нибудь звонит в министерство авиации или оттуда. Слушайте! Однажды я обеспечивал телефонный разговор Геринга с фюрером!
Мама охнула:
– О, Хорст!
– Геринг просил у фюрера разрешение применить три специальные бомбы, но тот отказался. «Если я использую их на Востоке, они достанут нас с Запада», – сказал фюрер!
Папа ближе придвинулся к столу.
– А что это за специальные бомбы?
– Точно не знаю, но, должно быть, они очень мощные. Хотя Геринг ясно говорил о трех штуках, но у меня сложилось впечатление, что их у нас значительно больше.
– Это чудо-оружие! – воскликнул отец. – Наши ученые разработали прекрасные ракеты. Разве еще кому-нибудь удалось создать что-нибудь подобное? Англичане сильно удивятся, когда эти специальные бомбы поместят на одну из наших ракет.
Глава 25 Теплые прощания
В конце ноября 1944 года меня назначили инструктором учебной пулеметной роты, приписанной к учебному и резервному батальону дивизии «Лейбштандарт», базировавшемуся в районе городка Шпренхаген юго-восточнее Берлина, в ту самую роту, в которой я уже служил несколько раньше, когда лечил раненую ногу. Меня направили в окрестности Альт-Хартмансдорфа, маленькой уютной деревни, в которой имелось всего несколько улочек вокруг двух гостиниц и скотобойни. Одна из гостиниц называлась «Три девицы», потому что у хозяйки, содержавшей ее, было три дочери. Эта гостиница находилась в конце главной улицы. Поскольку в ней имелся холл с высокой сценой, она пользовалась популярностью среди берлинцев как место проведения свадебных и семейных торжеств. Вторая гостиница была расположена в центре деревни, на углу улицы, напротив скотобойни, во дворе которой стояла наша полевая кухня. Ротой командовал молодой офицер моего возраста унтерштурмфюрер Шенк. Он снимал квартиру в большом частном доме, но всегда обедал в компании с другими инструкторами в гостинице напротив скотобойни.
Я получил ордер на постой вместе с одним унтершарфюрером в дом местного крестьянина, который относился к моему напарнику так, словно тот был юным Иосифом, вновь обретенным своей семьей. Возможно, причина этого заключалась в том, что мой сосед служил в штабе роты и частенько баловал наших хозяев маленькими подарками в виде кексов или вина. Зато ко мне они относились совершенно иначе, ясно давая понять, что я у них нежелательный гость. Они даже опустились до того, что обвинили меня в том, что я запачкал их уличный туалет во время вечеринки по случаю Рождества. Мы не сказали друг другу ни одного доброго слова, и я всегда с удовольствием уходил из дома, несмотря на зимнюю погоду.
Жилье новобранцев – главным образом молодых юношей 16–17 лет – было намного проще, если не сказать примитивнее. Они жили в бункерах, выкопанных на соседнем поле. Мое отделение занимало четыре таких бункера, и в каждом из них жило 15 призывников. Туалетом для них служила простая яма, выкопанная в песчаной почве. Поверх ямы были настелены доски с прорезанными в них отверстиями, служившими для отправления естественных надобностей новобранцами. При отсутствии горячей воды помывка превращалась для юношей в поспешную и крайне неприятную процедуру. Не имея возможности мыть их в настоящей бане, я, когда позволяли погодные условия, водил их на близлежащий Одер – Шпре-канал. Из полевой кухни рекруты получали еду, часто состоявшую из куска хлеба и вареной картошки в мундире, приносили ее к себе в бункер и там обедали. За шесть месяцев призывникам предстояло усвоить навыки, которые могли бы помочь им выжить хотя бы в первые несколько дней боев с русскими. Главными предметами обучения были полевая практика и обращение с оружием. По ночам, а также когда на поля опускался густой туман – явление довольно частое в зимнее время в этих местах, – будущие солдаты учились читать карту и ориентироваться на местности. Безусловно, жизнь новобранцев была очень тяжела. Впрочем, за две жестоких зимы на Восточном фронте мне доводилось жить и в более суровых условиях…
Каждую среду рано утром я вел отряд доноров из числа рекрутов примерно за 20 километров в Эркнер, откуда в центр Берлина шел пригородный поезд. Поскольку каждый донор получал приличный кусок салями и бутылку красного сухого вина, недостатка в добровольцах для сдачи крови не было. Около 12 часов дня мы прибывали в госпиталь войск СС на Унтер-ден-Эйхен, и я передавал их в руки одной из очаровательных медсестер, многие из которых были добровольцами из Скандинавских стран.
Поскольку имелось только два аппарата для переливания, сдача крови моими подчиненными растягивалась практически на весь день. Это давало мне возможность навестить родителей, а к вечеру вернуться за своими донорами.
Однажды, оставив своих новобранцев в пункте сдачи крови, я снова поехал к родителям и уже собирался переступить порог их квартиры, как вдруг услышал, как кто-то постукивает по оконному стеклу, явно стараясь привлечь мое внимание. Я посмотрел и увидел в окне младшую дочь из одной еврейской семьи, что жила рядом с нами. Ее лицо выделялось белым пятном на фоне темного оконного проема.
Я вопросительно ткнул себя пальцем в грудь.
Девушка утвердительно закивала, потом показала пальцем вниз, на вход в их квартиру, после чего тут же исчезла.
Я подошел к их подъезду, где меня не мог видеть никто из прохожих, и стал ждать ее. Вскоре раздались торопливые шаги, затем металлический щелчок дверного замка раздался в каменном колодце подъезда, и в дверном проеме появилась она. Девушка была чем-то взволнована.
– Эрвин, я просто не знаю, к кому еще можно обратиться, и мне бы не хотелось ставить тебя в затруднительное положение, но мне очень нужно тебя спросить.
Она пыталась говорить спокойно и равнодушно, хотя на ее глазах блестели слезы. Затем она подошла ко мне поближе, и я увидел в ее руке конверт.
– У меня умер папа… Он был заключенным концлагеря Ораниенбург.
Она протянула мне коричневый конверт.
Я вынул письмо и прочитал его. Там сообщалось, что тело отца девушки будет выдано семье, только если кто-то из ее представителей прибудет в Ораниенбург, чтобы подписать необходимые бумаги. Ораниенбург находился вовсе не на углу нашей улицы, а учитывая, что евреям запрещалось пользоваться общественным транспортом, вообще возникал вопрос, успеет ли девушка добраться туда прежде, чем администрация избавится от тела.
– Эрвин, ты единственный, кто нам может помочь. Скажи прямо, ты подпишешь бумаги от имени нашей семьи?
– Мне нужно получить разрешение от своего командира в Лихтерфельде, – сказал я. – Не могу обещать, что он позволит мне это для вас сделать.
На мгновение мне показалось, что она хотела меня обнять за то, что я не отказался сразу, но мы оба понимали, что в связи с принятыми правилами поведения это просто невозможно.
Девушка посмотрела на меня своими темно-карими глазами и, вздохнув, сказала:
– Спасибо, Эрвин. Ты меня так утешил…
Хотя эта еврейская девушка со своей сестрой и матерью оставались жить по соседству с моими родителями по крайней мере до января 1945 года, это был последний раз, когда я встречался с ней. В тот день я уехал пораньше, чтобы успеть попасть в Лихтерфельде и получить необходимое разрешение от своего командира, которое он мне выдал без всяких комментариев. К счастью, на следующий день мне удалось съездить в Ораниенбург и выполнить все формальности, связанные с выдачей тела. Поскольку больше я свою соседку не видел, остается только надеяться, что она все же смогла добраться в Ораниенбург и похоронить своего отца на ближайшем еврейском кладбище.
Несмотря на радостные известия о том, что наши войска, включая и дивизию «Лейбштандарт», смогли заставить союзников отступить в Арденнах, наступивший 1945 год не принес жителям Берлина облегчения от тягот войны. Постоянные авианалеты буквально изматывали население. Многие перестали даже надеяться, что переживут очередную бомбежку. Особенно тяжело приходилось женщинам с детьми, которые вели безнадежную борьбу за выживание и не могли надеяться, что им удастся защитить своих чад от всех бедствий, связанных с продолжающимися боевыми действиями. Многие мирные жители все чаще вынуждены были приходить на берлинские кладбища, чтобы проститься со своими близкими, погибшими под руинами взорванных бомбами зданий. Часто у этих женщин не оставалось даже угла, куда они могли бы вернуться, многие лишились своих мужей, с которыми могли бы разделить горечь утрат. Бесконечные налеты авиации союзников не просто разрушали строения – в пламени пожаров сгорали последние остатки того фанатичного культа, который и довел Германию до подобного положения.
Однажды в середине января 1945 года, когда я собрался отбыть в расположение своей части, отец решил проводить меня на вокзал. Как потом оказалось, это был мой последний визит на Штраусбергерштрассе. Родительское сердце подсказало ему, что на Гроссе-Франкфуртерштрассе нас может поджидать опасность. В тот раз там, словно ниоткуда, вдруг появилась толпа народа. Сначала они просто смотрели на меня с такой враждебностью, словно я один нес ответственность за несчастья, выпавшие на долю этих людей. Внезапно в нескольких метрах от нас в стену врезался брошенный кем-то камень. Следующий угодил в стену совсем рядом, едва не задев мою голову. Ситуация накалялась с каждой секундой. Пока мой отец спорил с нападавшими, я выхватил из кармана кителя пистолет, собираясь в случае нападения стрелять в воздух. Мне было несказанно горько чувствовать неприязнь собственных земляков, однако, будем справедливы, у них все-таки были веские основания ненавидеть нацистский режим. Британские и американские армии остановили наше контрнаступление в Арденнах и уже приближались к Рейну. Страшные свидетельства беженцев из Восточной Пруссии о насилиях и жестоком обращении с немцами русских распространялись со скоростью пожара. Бомбардировщики союзников каждый день бомбили Берлин. Было совершенно очевидно, что Третий рейх поставлен на колени. И совершенно естественно, что, заметив нашивку с именем «Адольф Гитлер», мои сограждане увидели во мне воплощение той власти, которая их довела до теперешнего положения. Дни, когда люди охотно общались с любым воином дивизии «Лейбштандарт», безвозвратно прошли. Это был горький конец.
Прошедший дождь оставил на голых веточках берез бусинки замерзших капель, и теперь они звенели под легким весенним ветерком и переливались всеми цветами радуги, словно гроздья драгоценных камней. Стояло теплое воскресное утро, первое воскресенье февраля… Ингеборга вызвала няню, чтобы та посидела с ее дочкой, и я с нетерпением ждал приезда любимой женщины, когда возвращался в Альт-Хартмансдорф со своим подразделением после полевых учений. У всех было прекрасное настроение, рекруты пели солдатские песни, как вдруг безмятежное пение прервал чей-то крик ужаса. Все сразу остановились, и один из новобранцев показал в направлении Берлина:
– Унтершарфюрер! Посмотрите!
Прикрывая ладонью от солнца глаза, я посмотрел туда, куда он показывал. Над столицей нависла темная туча.
– Их там не меньше тысячи, – простонал мой солдат.
Все в отчаянии замолчали и через некоторое время двинулись дальше уже без звука. Спустя час, когда мы подошли к Альт-Хартмансдорфу, последний американский Б-17 лег на обратный курс. Мои солдаты во все глаза смотрели на клубы дыма, поднимавшиеся в небо над Берлином, никто из них и не думал бежать к полевой кухне за безвкусной вареной картошкой.
Позже в тот же день я проехал 5 километров на север на станцию Фангшлойзе, где должен был встретить Ингеборгу. Прислонив велосипед к стене зала ожидания, я стал ждать берлинский поезд, молясь, чтобы она пережила этот ужасный авианалет. Наконец поезд из Берлина прибыл. Затих перестук колес на стрелках, и вагоны устало замерли у платформы. Я смотрел на пассажиров, торопливо покидавших вагоны, и меня все сильнее охватывала тревога. Наконец появилась Ингеборга. Она бросилась ко мне, прижалась всем телом и расплакалась. Я нежно сжал ее в объятиях, стараясь успокоить.
– О, Эрвин! Это было ужасно, ужасно!
– Скажи мне, Штраусбергерштрассе пострадала?
– Да, да. Но теперь больше не о чем волноваться. Бомба разорвалась за домом твоих родителей, но они успели убежать к твоему дяде. Офицер из пожарной бригады сказал, что там можно будет устроить защиту от ветра и дождя с помощью брезента.
– Я видел эти самолеты, когда мы были еще на учениях. Могу представить, как страшно было в Берлине.
– Я как раз шла на работу, когда завыли сирены. Мне повезло. Приди я вовремя, наверняка погибла бы. В дом, где располагалась моя контора, угодила бомба. Здание полностью разрушено.
– Куда же ты теперь пойдешь? – спросил я.
– В центр социальной помощи на Шлезигер-Банхоф, – сказала Ингеборга и вновь залилась слезами. – Перед уходом я встретила фрау Мюллер, она была вне себя от горя. Полиция просила ее пойти в школу для девочек на Нойенбургерштрассе, чтобы опознать тело ее дочери. Представляешь, – продолжала Ингеборга, всхлипывая, – от взрыва бомбы с девочек сорвало всю одежду. Там их больше сотни обнаженных. А некоторых разорвало так, что и не узнаешь.
В тот вечер мне было невыносимо тяжело прощаться с Ингеборгой. Она высунулась из окна вагона и махала мне до тех пор, пока поезд не скрылся за поворотом. И я тоже махал ей в ответ и смотрел на нее, пока мог видеть.
14 февраля у моих родителей была годовщина свадьбы, и по горькой иронии судьбы именно в этот день сообщили о том, что американские и английские бомбардировщики сожгли Дрезден. Шедевры архитектуры эпохи барокко, город, по красоте не уступавший Парижу, – все это превратилось в щебень и пепел. Беженцы из Восточной Пруссии, главным образом женщины и дети, бежавшие в отчаянии от наступающей Красной армии, опасаясь насилий и убийств, собрались в Дрездене, не зная, что многим из них суждено сгореть заживо в огненной преисподней, которую устроила там авиация союзников.
В понедельник 26 февраля американские бомбардировщики совершили новый, еще более безжалостный, налет на Берлин. Центр столицы уже и так лежал в развалинах, поэтому не было сомнений, что теперь враги постараются разрушить восточные кварталы города вплоть до Фридрихсхайна, где жили Ингеборга и мои родители. Даже спустя два дня после авианалета клубы дыма там застилали небо. Стало ясно, что в этом районе не осталось ничего и никого.
С содроганием сердца я ожидал приезда Ингеборги в следующую субботу. Ледяной ветер продувал платформу насквозь. Поезд из Берлина показался точно по расписанию, и я, стоя на краю посадочной платформы, всматривался в замедляющие бег вагоны, чтобы скорее увидеть любимую женщину. Она помахала мне из окна проехавшего мимо вагона, и я бросился за ним следом. Открылась дверь тамбура.
– Эрвин, с твоими родителями все в порядке, – сказала Ингеборга, едва ступив на перрон. – Их квартира разрушена, но они успели укрыться в бомбоубежище. Сейчас они перебрались к дяде твоего отца. Мемелерштрассе-Банхоф тоже получил прямое попадание. Там находились сотни людей. Бомбы прилетают без предупреждения. А эта еще и взорвалась не сразу.
– Наверное, это была бомба с часовым механизмом, – предположил я. – Они специально сделаны так, чтобы пострадали спасатели.
– Ах, Эрвин, – вздохнула Ингеборга. – Когда же все это кончится? Я больше не вынесу. Что это за жизнь?
Я обнял ее, прижал к себе, но не смог найти слов утешения, и так, обнявшись, мы и направились с ней в Альт-Хартмансдорф.
Она рассказывала о том, как сидела в бомбоубежище, как его стены дрожали от взрывов, как потом пропал свет и перепуганные жители остались в полной темноте.
– Ладно, – сказала Ингеборга, словно выговорившись, сбросила с себя тяжелый груз. – Давай хоть остаток дня повеселимся. Мне удалось раздобыть салями, чтобы приготовить бутерброды.
Солнечным зимним днем мы с Ингеборгой устроили пикник прямо на кладбище Альт-Хартмансдорфа, в окружении могил. Она пару раз улыбнулась, и этого оказалось достаточно, чтобы и у меня поднялось настроение. Однако день пролетел очень быстро, и вскоре настало время ей снова возвращаться в Берлин. У меня комок подкатил к горлу, когда ее поезд отошел от перрона. Почему-то я знал, что больше никогда не увижу Ингеборгу и ее дочку…
Учебный резервный батальон входил в состав полка «Сокол». К нам прибыла новая группа призывников, все как один из «гитлерюгенда». Самое главное, думали они, крикнуть «Ура!», и победа сразу будет у них в кармане.
А потом благодарный фюрер всех щедро наградит. «Зиг хайль!» Никто из них не проявлял ни малейшего желания выполнять учебные упражнения и учиться тому, что очень скоро могло бы спасти их жизни. Впрочем, они сами не догадывались, что их тут ожидало. В 2 часа ночи, в проливной дождь, я выгнал их из постелей и заставил совершить марш-бросок с полной выкладкой. Во время перехода по лесу слышались привычные жалобы, однако один сосунок из «гитлерюгенда» переступил грань дозволенного.
– Никто не может вытаскивать меня из постели просто так! Говорю вам, он за это первый поплатится.
Этот мальчишка шел в передних рядах и не видел, что я нахожусь рядом. Я подскочил к юнцу, схватил за плечи и развернул к себе лицом. Затем сгреб его форму на груди левой рукой, а правую с полной пригоршней патронов сунул ему в челюсть.
– На! – рявкнул я, чувствуя, что остальные смотрят на происходящее. – Попробуй вот это!
– Простите, унтершарфюрер! – жалким голосом прохныкал нарушитель дисциплины.
Вечера я часто проводил в «Трех девицах» с другими инструкторами, болтая или играя в карты. Однажды, когда мы сидели, потягивая легкое пиво – единственное имевшееся, один из моих приятелей сказал, что офицеры решили устроить концерт, чтобы развлечь личный состав.
– Им нужны участники, Эрвин, – сказал он. – Почему бы тебе не показать ту сценку, где ты пародируешь Гитлера, который обращается к женщинам рейха, чтобы они быстрее рожали?
Забегая вперед, скажу, что концерт имел грандиозный успех. Танго, которое исполнили унтершарфюрер и его «партнерша», вызвало настоящий шквал хохота, что было по тем временам большой редкостью. «Партнершу» изготовили из всяких тряпок и старого матраса, нарядили в платье, взятое напрокат у какой-то местной девушки, привязали к лодыжкам танцора. Так что кукла повторяла все его движения. А вот Гитлера я пародировать все-таки не стал. Насмешки над фюрером вполне могли закончиться визитом в гестапо.
За день до концерта наступила моя очередь вести курсантов на показательную казнь дезертиров. Это было вполне рутинное мероприятие, проводившееся каждую пятницу перед песчаным бугром неподалеку от расположения лагеря. Несомненно, на рекрутов должно было оказывать угнетающее воздействие зрелище того, как из спины приговоренного солдата после выстрела вылетают брызги крови и внутренности. И, даже несмотря на этот жуткий «спектакль», один новобранец из моего отделения исчез однажды ночью. По собственной глупости он отправил из Франкфурта открытку своей сестре, где сообщал, что дезертировал и желает с нею встретиться на железнодорожной станции.
Молодого человека погубила бдительность почтальона. Опуская открытку в почтовый ящик сестры, письмоносец прочитал то, что было в ней написано, и немедленно доложил в полицию. Отправителя арестовали на той же платформе, где тот ожидал свою родственницу. Затем его вернули в Шпренхаген, где суд СС вынес ему не подлежащий обжалованию приговор – расстрел. В следующую пятницу, в 6 часов вечера он предстал перед палачами. «Бог, благослови Германию», – мужественно сказал юноша, ожидая своей участи. Пули пронзили его тело, он рухнул на землю, и его китель задымился в том месте, где пули вылетели наружу. Однако жизнь еще теплилась в его юном сердце. Тогда к нему подошел офицер и приставил к голове свое табельное оружие. Нажатие курка – и трагически завершилась еще одна жизнь. Даже через почти 70 лет страшная картина этого расстрела стоит у меня перед глазами…
Глава 26 Последний редут
В понедельник 16 апреля 1945 года начался последний акт драмы, в результате которой закончилась история гитлеровского Третьего рейха. В 3 часа ночи русская артиллерия начала мощную артподготовку в районе сильно укрепленных Зеловских высот, господствовавших над восточными подступами к Берлину. Вечером того дня, выходя из «Трех девиц», я остановился, чтобы посмотреть на облака на горизонте, подсвеченные снизу каким-то пульсировавшим огнем, как будто там сверкали молнии.
17 апреля примерно в полдень из училища в Лихтерфельде прибыла колонна грузовиков. Мы поспешно погрузили на них пулеметы, боеприпасы, личные вещи и поехали куда-то по сельской дороге. Один из самых молодых рекрутов, юноша с голубыми, как васильки, глазами, спросил, не в Берлин ли нас направляют. Я ответил:
– Думаю, нас повезут на фронт, к Одеру. Там вы закончите свое обучение.
Мы выехали на шоссе Берлин – Франкфурт-на-Одере, а затем повернули на юг и поехали по красивой мирной сельской местности до городка Бесков, где нашего прибытия ожидал обершарфюрер. Мы остановились возле школьного здания, и обершарфюрер приказал сложить все личные вещи в углу школьного холла.
– Сдать все документы, кроме солдатских книжек! – объявил он. – Солдатские книжки хранить у себя постоянно. Если кого-то задержит патруль, и у него не окажется солдатской книжки тот будет считаться дезертиром.
Мы покинули школу и поехали на этот раз на северо-восток через городок Мюлльрозе к Одеру. Лица новобранцев стали серыми от волнения, среди них воцарилась мертвая тишина, больше не слышалось никаких «Ура!» или «Хайль Гитлер!». С детства им рассказывали о жестоких большевиках, и теперь мысль о том, что придется сражаться с таким врагом на пороге собственного дома, леденила кровь. Сейчас я думаю, что в тех условиях наше поражение было не только возможно, но и, пожалуй, неизбежно.
Во второй половине дня наш отряд из 12 пулеметных расчетов занял подготовленные позиции на опушке леса на холме, откуда можно было контролировать автотрассу Франкфурт – Мюлльрозе. В тылу у нас, в нескольких километрах, находилась маленькая деревенька Лихтенберг. С севера, от Зеловских высот, доносился чудовищный гром артиллерийской канонады. Унтерштурмфюрер Шенк одну за другой обходил пулеметные позиции, проверяя готовность расчетов и состояние их оружия. Подготовив сектор обороны двух находившихся под моей командой пулеметных расчетов, я доложил Шенку о готовности наших позиций.
– Хорошо, хорошо, – сказал он с легкой дрожью в голосе. – Насколько я помню, до середины 1943 года вы воевали в группе армий «Юг»? Как вы думаете, что нам теперь следует делать?
– Было бы разумно провести небольшую разведку.
– В каком смысле?
– Послать несколько смышленых парней в дозор. Они предупредят нас о возможной атаке противника.
– Кого вы можете предложить для выполнения этой задачи?
Поскольку в нашем отряде я был единственным, кто знал, как воевать с русскими, то я вызвался идти сам, но добавил:
– Возьму с собой двух курсантов, для них это будет хорошим опытом.
Вооружившись автоматами, мы направились к небольшому производственному зданию, стоявшему неподалеку. Хотя оно выглядело заброшенным, мы все-таки подошли к нему, соблюдая все меры предосторожности, и двинулись к дверям.
– Прикройте вход, – прошептал я своим товарищам.
Открыв дверь, я сразу учуял какой-то приторно-сладковатый запах. Примерно с полминуты я стоял на пороге, прислушиваясь к тишине, прежде чем шагнуть внутрь. И тут же увидел стоявшие вдоль стен деревянные бочки. Спиртоводочный завод.
Один из курсантов постучал по бочке кулаком.
– Полная, – сказал он. – Может, возьмем для наших товарищей?
– Но только чуть-чуть, – согласился я.
Последнее, чего бы я хотел, – это чтобы мои подчиненные перепились до одури, но небольшая доза спиртного могла помочь им взбодриться. Я внимательно следил за обстановкой, пока мои новобранцы искали подходящую посуду. Наконец они вернулись с ведром.
– Наполните его, – приказал я. – А потом опустошите бочки.
– Обершарфюрер Бартман, – обратился ко мне один из рекрутов. – Шнапс может стоить тысячи марок, как-то жалко его выливать.
– Не спорь с командиром, – перебил его второй. – Беженцы из Восточной Пруссии рассказывали, как ведут себя русские, когда захватывают наши города и деревни. Они буквально звереют от захваченного алкоголя.
Я пошел вдоль рядов бочек, открывая краны на каждой из них. Молодые солдаты последовали моему примеру, и вскоре ароматное содержимое чанов полилось на землю, собираясь в лужи.
Мы вернулись к своим с целым ведром шнапса. Я доложил о результатах разведки нашему юному унтерштурмфюреру, который, похоже, облегченно вздохнул, узнав, что в ближайшее время русской атаки не предвидится. По моему совету он приказал добавить в ведро со шнапсом изрядную порцию ликера, прежде чем кто-то попробует выпить. Следует сказать, что наши солдаты еще едва вышли из детского возраста, многие из них никогда не пробовали крепкие спиртные напитки. Так что согласились попробовать шнапс только некоторые мои подчиненные. Когда наступили сумерки, я вылил остатки шнапса на землю.
Ночью земля задрожала от разрывов снарядов тяжелой артиллерии. На молодых лицах моих солдат появилось выражение страха.
– Не волнуйтесь, – успокоил их я. – Это очень далеко, так что волноваться рано. «Иваны» еще не знают, что мы здесь.
– Они слишком близко, чтобы не волноваться! – сказал рекрут, плечи которого сжимались от каждого далекого разрыва.
– Ты-то откуда знаешь? – перебил его другой. – Он стреляный воробей, он зря не скажет.
Я непроизвольно улыбнулся. Странно и тем не менее приятно было слышать, как тебя называют «стреляным воробьем», когда тебе самому всего 22 года. Впрочем, легко было понять и моих подчиненных: я тоже испытывал подобное напряжение, когда переправлялся через Днепр под защитой унтершарфюрера Новотника.
– Кончайте болтать и укладывайтесь лучше спать, – с каким-то отцовским чувством сказал я.
Серый, мрачный рассвет озарил горизонт, и это стало сигналом для 152-мм русских гаубиц. Их снаряды с пугающей точностью начали накрывать нашу передовую. За грохотом разрывов не было слышно криков раненых, казалось, земля сама дрожала от страха.
На наши позиции обрушились русские истребители. Они поливали нас огнем из авиационных пушек, однако я проследил, чтобы мои парни вовремя спрятались в укрытие, так что мы пережили этот авианалет без потерь. А примерно в полдень в километре от нас начал сосредотачиваться вражеский батальон пехоты.
– Не беспокойтесь о штыках, – сказал я пулеметчикам, в траншее которых оказался. – Близко они к нам не подойдут.
Наши молодые солдаты взволнованно переговаривались в ожидании неминуемой атаки. Наконец вражеская пехота двинулась вперед. Наши пулеметы создали непроницаемую свинцовую завесу перед своими траншеями, скашивая волны наступающих. Два пулеметных расчета, находившиеся под моим командованием, действовали очень хорошо и отразили атаку на нашем участке. Мой опыт боев на Восточном фронте позволил сократить наши потери до двух человек. Одного из них мы похоронили в деревне Фридхоф, а другого, красивого молодого парня, я, взяв в помощь двух солдат, похоронил неподалеку от того места, где он погиб.
Следующая русская атака оказалась более яростной. Они отыскали слабое место в нашей обороне, и взвод унтерштурмфюрера Гесснера выдвинулся к подножию холма, заняв оборону перед позициями нашего пулеметного отряда. К несчастью, он выдвинулся слишком близко к вражеским порядкам, поэтому мы не могли оказывать ему достаточную поддержку огнем. Для того чтобы оказать ему помощь в отражении атак, я приказал одному из своих пулеметных расчетов занять более выгодные огневые позиции внизу холма. Мы продвинулись метров на пятьсот и попали под обстрел, так что пришлось броситься на землю. Но когда огонь прекратился, я с ужасом увидел, как русские – с десяток, не меньше – приближаются к унтерштурмфюреру Гесснеру. Тот, стоя на коленях, поднес пистолет к виску. Раздался выстрел, и Гесснер упал. Мужество не оставило его даже в последнюю секунду…
Я отвел пулеметный расчет назад, под прикрытие леса. Остальные курсанты находились там, где мы их оставили. Я набросился на них:
– Если бы вы пошли с нами, мы могли бы спасти унтерштурмфюрера!
В ответ я услышал хор извинений и сбивчивых объяснений.
Следующая ночь прошла без происшествий.
Ингеборга?! Я слышал пересвист дроздов в ветвях деревьев, позади наших молчащих пулеметов, и одновременно видел Ингеборгу, которая, улыбаясь, медленно шла ко мне.
– Еще раз, Эрвин… Мне захотелось еще хотя бы разок повидать тебя.
Меня захлестнуло счастье. Мы сидели на скамье в парке Фридрихсхайн и держались за руки, наслаждаясь солнечным днем. Дочь Ингеборги сидела на краю бассейна и плескала ладошкой по воде. Волнующий аромат лета, казалось, обещал постоянство и покой. В мой сон ворвался чей-то голос, а Ингеборга встала и взяла дочь за руку.
– Прощай, Эрвин, пусть твой ангел-хранитель будет всегда рядом с тобой.
Я почувствовал на своем плече чью-то руку.
– Унтершарфюрер Бартман!
Я открыл глаза. Передо мной стоял унтерштурмфюрер Шенк. Ингеборга, ее голос растаяли в вечности. Ощущение счастья, переполнявшее меня во время забытья, сменилось легкой грустью.
– Как ты думаешь, что будет дальше?
Я попытался собраться с мыслями.
– Они не смогут выбить нас силами одной пехоты. Сначала стоит ожидать артиллерийского обстрела и танковой атаки. Потом опять пойдет пехота.
Я потянулся за фляжкой с водой, чтобы промочить горло, и в эту секунду земля содрогнулась от разрывов снарядов тяжелой артиллерии.
– Пристреливаются, – предупредил я своих молодых товарищей. – Берегите головы.
Затем начался настоящий артналет, грохот разрывов слился в один сплошной гул. От воздуха, пропитанного запахом пороха и горячего железа саднило горло. Затем на мгновение воцарилась тишина, которую разорвал крик русской пехоты: «Ура! Ура!» Это был клич из преисподней, издаваемый сонмом мстительных дьяволов.
– Господи, помоги нам! – воскликнул один из рекрутов. – Их же тысячи!
Наши пулеметы зарокотали, выкашивая наступающих русских, однако они неумолимо приближались к нашим траншеям. Вскоре стволы пулеметов начали перегреваться.
– Продолжать огонь!
Волна за волной вражеская пехота бросалась навстречу ливню из пуль, и наконец атака захлебнулась. В грудах тел русских солдат иногда кто-то еще шевелился, раздавались призывы о помощи. Несмотря на постоянный прицельный огонь из наших траншей, русские предпринимали отчаянные попытки вынести с поля боя раненых и убитых.
Утро следующего дня, дня рождения фюрера, выдалось холодным и сырым. В 3 часа, еще в сумерках, русские бросились в атаку с удвоенной яростью на широком участке. Однако нам снова удалось нанести им тяжелые потери и сорвать атаку. Безусловно, если бы врагам в предутренней тьме удалось ворваться в наши боевые порядки, воцарился бы хаос. Вторую попытку выбить нас с занимаемых позиций они предприняли около 6 часов. Три огромные цепи в коричневых мундирах, одна за другой, двинулись на нас. Это напоминало кадры кинофильма о войнах древних времен. Первый ряд лег на землю, вторая цепь, шедшая за первой, опустилась на одно колено, а последняя осталась стоять в полный рост. Раздались винтовочные залпы, русских затянуло пороховым дымом. Цепи стреляли поочередно, мы отвечали им пулеметным огнем. Русские солдаты падали один за другим как подкошенные, напоминая тряпичных куколок.
У нас в тылу стали разрываться тяжелые снаряды. Пулеметы начали заедать от постоянной стрельбы, и русская пехота вот-вот должна была ворваться в нашу первую линию обороны. В этих условиях мы стихийно, без всякой команды вскочили и бросились ко второй линии траншей, не обращая внимания на жестокий артналет. Наконец моим солдатам удалось укрыться в окопах, которые были еще не разбитыми, хотя и не такими глубокими, как в первой линии.
Во время артподготовки ко мне в окоп спрыгнул армейский фельдфебель. Он отчаянно ругался, не выбирая выражений, и в его ругани постоянно повторялись одни и те же слова.
– Гребаные ублюдки! Мать вашу! Вашу мать, сволочи!
– Кто? – спросил я.
– Офицеры.
Признаюсь, я присоединился к его словам. У меня внутри тоже все кипело от ярости. Совсем недавно я водил своих новобранцев на показательную казнь дезертиров, а теперь наши командиры сами бежали впереди всех.
Теперь все, что осталось от подразделения, защищавшего линию обороны, состояло из группы отчаявшихся людей, в которую вошли все способные держать оружие – отставники, старики из «фольксштурма»[41], мальчишки из «гитлерюгенда». Никаких слов не найти, чтобы описать весь этот хаос.
Пытаясь навести хоть какое-то подобие порядка, я и несколько армейских фельдфебелей приняли командование над уцелевшими солдатами. Совершенно неожиданно для себя я, унтершарфюрер, был вынужден принять на себя командование ротой и отвечать за жизнь 80 человек, среди которых были еще почти дети.
Ночью русские снова предприняли яростную атаку во время проливного дождя, но нам, невзирая на малочисленность и большие потери, удалось удержать свои рубежи. К сожалению, поспать никому особенно не удалось из-за постоянных перестрелок. У нас заканчивалось довольствие, из еды оставался только крайне скудный неприкосновенный запас. Все солдаты были близки к тому, чтобы просто рухнуть от усталости. Затем на рассвете нам сообщили новость, самую горькую из всех возможных. Рядом атакующими были немецкие солдаты под руководством Зейдлица[42], перешедшие на сторону русских.
Под ураганным огнем нам пришлось отступить в третью, последнюю линию обороны. Окопы, глубиной не более метра, давали слабое укрытие, поэтому на равных промежутках были выкопаны индивидуальные окопы, дававшие дополнительную защиту. Мы раздали фаустпатроны, и в эту минуту появились русские пикирующие бомбардировщики. Бомбы с воем летели к земле и с пугающей точностью ложились в цель. Я укрылся в стрелковой ячейке, и вдруг мне пришла в голову страшная мысль, что если бомба попадет в окоп, то я буду похоронен заживо. В эту минуту я вновь вспомнил давно забытые молитвы.
Наконец штурмовики улетели, и сражение продолжалось. В грохоте боя послышался рев танковых моторов. Я выглянул через бруствер своего окопа. Примерно в 300 метрах от меня береза содрогалась от близких разрывов. В поле зрения появился танк «Иосиф Сталин». Со своим 122-мм орудием этот самый тяжелый советский танк должен был пробить брешь в нашей обороне, в которую потом бросились бы более скоростные Т-34. Я схватил фаустпатрон («панцерфауст») и снял пусковой механизм с предохранителя. До этого момента я всего лишь пару раз стрелял из этого оружия, да и то только на учениях, поэтому вовсе не был уверен, что смогу попасть в приближающийся танк. Сердце взволнованно стучало в груди, и его биение отдавалось в висках ударами молота. Я склонился к прицелу, устанавливая фаустпатрон для стрельбы на дистанции 60 метров[43]. Стальной левиафан приближался, сухой лязг его гусениц заглушал гул двигателя. Мой палец лег на спусковой крючок, я затаил дыхание, чтобы успокоиться, и стал ждать, когда стальной монстр окажется в пределах досягаемости.
Из индивидуального окопа в 50 метрах слева от меня поднялось облако белого дыма.
Вот проклятье! У новобранца сдали нервы, и он произвел выстрел из «панцерфауста» слишком преждевременно. Ракета вылетела из окопа, но взорвалась в 10 метрах от цели. Вражеский танк резко замер. Затем двигатель взревел, заскрежетала коробка передач – это перепуганный механик-водитель включил задний ход. Спустя минуту командир экипажа принял решение продолжить продвижение к нашей линии обороны, только на этот раз слева от меня и вне пределов досягаемости моего оружия. Уверенности экипажу тяжелого танка придавало прибытие на поле боя нескольких Т-34. Вражеская машина двинулась в направлении окопа, откуда один из моих новобранцев вел огонь из пулемета. Танковое орудие выплюнуло сноп огня, и снаряд практически сразу взорвался в наших окопах. Обстрел из танковых орудий вызвал панику в наших рядах. Бронированные чудовища приблизились к нашим окопам и принялись утюжить их. От криков солдат, которых давили гусеницы многотонных машин, кровь застывала в жилах. В ужасе мы все бросились в тыл, оставив на произвол судьбы наших раненых.
Пробираясь через лес, я наткнулся на лежащего у древесного ствола того самого новобранца с васильково-синими глазами. Он получил ранение в ногу. Впрочем, теперь это уже нельзя было назвать его ногой. Она была вывернута под каким-то немыслимым углом и держалась на нескольких сухожилиях, верхняя часть бедра попросту была вырвана. Лицо молодого солдата было мертвенно-бледным и блестело от бисеринок пота. Он поднял руку, привлекая мое внимание.
– Унтершарфюрер Бартман, это вы?
Я опустился рядом с ним на колени.
– Да, да, малыш… Это я, Бартман.
– Господин унтершарфюрер, – обратился ко мне раненый слабым голосом. – У меня к вам просьба…
Еще до того, как он сказал, я уже понял, о чем юноша хочет меня просить. Внутри у меня все сжалось.
Жизнь уже покидала его тело, слезы появились у него на глазах. Очевидно, он ужасно страдал. Солдат еле слышным шепотом попросил:
– Пожалуйста… пристрелите меня.
Дрожащими пальцами я расстегнул кобуру, сжал рукоять пистолета, однако не смог его достать. Безусловно, это был акт милосердия, но я не смог своими руками лишить жизни храброго юношу. Вокруг сквозь заросли продирались люди, охваченные паникой, – рухнула последняя линия нашей обороны. Я вытер лицо молодого солдата бинтом и оставил его лежать под деревом. Я молил Бога, чтобы он тихо умер от потери крови еще до того, как его найдут русские…
Глава 27 История трех генералов
Горстка выживших солдат полка «Сокол» и несколько бойцов-ополченцев увязались за мной, надеясь, что я, благодаря своему боевому опыту, смогу их спасти. Я повел их в Бризен, крупный транспортный узел на железнодорожной линии Берлин – Франкфурт-на-Одере. Естественно, во время нашего перехода не раздавалось солдатских песен. Последние надежды на победу умерли в наших сердцах. Большинство ополченцев и молодых призывников, оказавшихся под моим началом, были жителями Берлина и его пригородов, и на их лицах я читал непреодолимое желание вернуться домой до того, как жестокий молох войны уничтожит наш прекрасный город.
Мы добрались до станции и увидели, что платформа заполнена растерявшимися солдатами и беженцами. Это было жуткое зрелище. Матери с белыми от ужаса лицами прижимали к себе дочерей, понимая, что они будут изнасилованы, если попадут в руки русских. Какой-то свежевыбритый офицер вермахта стоял в этой толпе, распространяя вокруг аромат одеколона и дорогого мыла. У его ног стояли два кожаных чемодана. Судя по всему, они были набиты под завязку, отчего у офицера был вид богатого коммивояжера.
– Поезда еще ходят? – спросил я у него.
– Мне сказали, что в любую минуту может прийти состав, – ответил он, склонив ко мне свой аристократический нос.
Я со своей командой расположился на краю платформы. Прошло полчаса, но никаких признаков поезда не наблюдалось. Мне пришло в голову, что чем дольше мы здесь сидим, тем призрачнее становятся наши шансы на выживание. Я собрал своих подчиненных и заявил им следующее:
– Скоро здесь появятся русские. Кто хочет, может оставаться здесь, с остальными будем пробираться на запад.
К моей радости, ни один из моих солдат не остался.
Мы прошли всего несколько километров и натолкнулись на другую смешанную часть под командованием штурмбаннфюрера СС. Имея более высокое звание, он приказал моему разношерстному отряду возвращаться назад к так называемой линии фронта. Но он, по крайней мере, имел мужество лично повести нас туда. Как я заметил, подобного мужества не хватало очень многим офицерам вермахта.
Столкнувшись опять с противником, штурмбаннфюрер приказал моему отряду занять любые из свободных траншей. Здесь мне улыбнулась удача, так как я нашел целехонький пулемет MG-42, отличавшийся высокой скорострельностью. Рядом с ним обнаружилось множество полностью набитых цинков и перевернутая каска, в которой лежала ракетница и несколько сигнальных ракет.
Впереди простиралась равнинная местность, дававшая крайне мало укрытия, так что огневая позиция для пулемета представлялась идеальной. Здесь легко будет отражать атаки русских. Я взялся за рукоятки и нажал на гашетку, желая проверить работу пулемета. К моему удивлению, никакого эффекта это не возымело. Я поменял магазин, но пулемет стрелял одиночными или давал только короткую очередь.
Я осыпал проклятиями упрямое оружие, как вдруг услышал у себя за спиной иностранную речь. Я оглянулся и увидел отряд венгров – молодых людей 17–18 лет. Они остановились возле меня и стали знаками показывать мне, что не знают, как пользоваться своими карабинами и как их перезаряжать. Я взял у ближайшего солдата его оружие и быстро преподал им урок. Едва я закончил показывать, как русские начали атаку. Молодой венгр схватил карабин и начал стрелять. К сожалению, в наших боевых порядках зияли большие дыры, и одному русскому отделению удалось обойти нас с фланга там, где в неглубоких окопах держал оборону наш штурмбаннфюрер со своими людьми. Русские забросали его позиции гранатами и открыли бешеную стрельбу из автоматов, после чего довольно быстро сломили сопротивление наших солдат. Будучи в ранге унтершарфюрера, я вновь оказался старше всех по званию…
Учитывая опасность окружения, я приказал венграм задержать наступление русских. Наши союзники примкнули штыки и храбро бросились в атаку. На несколько важных минут им удалось удержать позиции.
Перестрелка продолжалась, но русские ползком подбирались все ближе к нашим позициям. В высокой траве виднелись их вещевые мешки. После нескольких коротких очередей мой MG-42 окончательно вышел из строя. У меня на лбу выступил холодный пот. Я схватил ракетницу из каски и выстрелил. Раздалось шипение, красный огонь с дымным хвостом устремился к одному из таких вещевых мешков. Закричав от ужаса, его владелец вскочил на ноги, размахивая руками и стараясь сбить пламя. Очередь из автомата быстро прекратила его борьбу с огнем.
Удивленные упорным сопротивлением, русские отошли на несколько сот метров, а я решил этим воспользоваться и отступить со своими людьми, пока еще сохранялась такая возможность. Я собирался увести свой отряд к трассе Берлин – Франкфурт-на-Одере в надежде, что там нам встретится какая-нибудь боеспособная часть под командованием опытных офицеров.
Возле трассы я увидел группу людей в форме войск СС, а среди них моего старого товарища роттенфюрера (обер-ефрейтор СС) Альфреда Шнейдерайта. При виде нашего отряда у него на лице появилось выражение изумления, и я поспешил к нему. Подойдя поближе, я заметил, что теперь он носит звание унтерштурмфюрера (лейтенанта СС), а на лацкане его кителя висит Рыцарский крест. Несмотря на разницу в званиях, мы тепло пожали друг другу руки.
– Ах, Эрвин, какая неразбериха вокруг, – вздохнул он. – Все перепуталось. Кажется, никто не понимает, что происходит. Не то что раньше, когда мы гнали русских до Ростова-на-Дону. Смотрю, ты вполне оправился от осколочного ранения, которое получил под Прохоровкой.
– А у тебя, гляжу, Рыцарский крест? – заметил я.
На его лице появилась широкая улыбка.
– Получил в декабре 1943 года, когда подбил пару танков. Фюрер мне его лично вручал.
Мы недолго поговорили, после чего я повел свой маленький отряд дальше на запад. От голода у всех моих солдат и у меня самого крутило в животе, и тут мы повстречали нескольких солдат вермахта, охранявших вход в какое-то поместье. Я подошел к фельдфебелю, стоявшему у ворот, богато украшенных чеканкой, и поинтересовался, где можно раздобыть еды.
– Ничем не могу помочь, – ответил тот. – Если вам нужна еда, вы должны получить письменное разрешение от генерала.
– А где он?
– В хозяйском доме, это дальше по дороге.
Но когда я попробовал пройти в ворота, мне в грудь уперся штык.
– Без пропуска туда нельзя.
Ситуация складывалась безвыходная, однако мне удалось-таки уговорить фельдфебеля отправить кого-нибудь из его людей за пропуском на территорию поместья. Минут через пятнадцать он вернулся и показал на меня пальцем.
– Вы можете увидеть генерала, но ваши люди должны оставаться здесь.
На подгибающихся от усталости ногах я прошел по аллее, обсаженной деревьями, до помещичьего дома, где двое часовых, охранявших вход, пропустили меня без дальнейших вопросов.
Несколько офицеров в высоких чинах сидели за длинным столом в большом зале, стены которого были закрыты дубовыми панелями с бесчисленными оленьими рогами. Они потихоньку потягивали коньяк и о чем-то беседовали. Я подошел к ним, и один генерал средних лет, отогнав сигарный дым от своего лица, поинтересовался:
– Да? В чем дело?
– Господин генерал, мои люди долгое время не ели. Нам необходимо довольствие.
– Сколько с вами людей?
– Около двадцати, господин генерал.
– Ага, двадцать… Не думаю, что сможем накормить такую ораву, но я бы мог вам предложить кое-что другое. Присаживайтесь, пообедайте с нами.
Генерал радушно указал мне рукой на свободный стул.
– Благодарю вас, господин генерал, – ответил я. – Я солдат ваффен СС, и, думаю, будет неправильно, если стану есть, когда мои люди голодны.
– Однако вы должны есть. – Генерал погрозил мне пальцем, как нашкодившему ребенку. – Как командир вы обязаны беречь силы. Как иначе вы сможете сохранить энергию и эффективно командовать солдатами?
Я почувствовал раздражение.
– А какая польза в том, что у меня будет полный желудок, а мои солдаты ослабеют от голода и не смогут драться?
Я бросил на него откровенно презрительный взгляд и, не дожидаясь ответа, развернулся кругом. В голове у меня мелькнуло: «Как мы можем победить в этой войне, если у нас такие командиры? Надеюсь, они попадутся в лапы русским и получат все, чего заслуживают».
Возможно, моя голова была слишком занята мыслями о еде, поэтому я не очень обращал внимания на окружающее и не могу сказать, как долго мы шли. Но когда мы проходили мимо одного изрешеченного пулями амбара, я внезапно остановился и принюхался.
– Жареный поросенок, – непроизвольно сорвалось у меня с губ. – Подождите здесь, я пойду посмотрю, кто там готовит.
Я прошел немного дальше, оставив своих людей в амбаре. Недалеко от обочины в сельском доме я наткнулся на армейский командный пункт. После переговоров с бесчисленным количеством часовых мне наконец удалось добраться до временного штаба армейского генерала.
Генерал, не тратя время на лишние слова, спросил:
– Что я могу для вас сделать?
– Господин генерал, мои люди несколько дней не ели.
– А где они?
– Недалеко, в сарае… Я разместил их там на отдых.
– Как у них настроение, боевое?
Я вкратце описал генералу события последних дней.
– Гм, я подумаю, что можно сделать.
Он вынул из стола записную книжку и выписал пропуск.
– Отнесите это в полевую кухню и отдайте повару.
Глотая слюну, я следовал туда, куда меня вел мой нос, и в конце концов оказался у большого черного сооружения с четырьмя плитами и трубой посередине. Полевая кухня. Повар, как и генерал, оказался добродушным, жизнерадостным человеком с большим животом и щеками, красными как яблоки. Он вытер руки о передник и взял записку у меня из рук.
– Ха, дружище, вам повезло! – Он снял с плеча кухонное полотенце, достал из одной печи поросенка на большом металлическом подносе, поставил его на плиту и передал мне полотенце, чтобы я не обжег руки.
Собираясь скорее принести еду своим солдатам, я собрался уходить, но повар задержал меня.
– Эй, подожди-ка. – Он подошел ко второй плите и достал еще один противень, на этот раз наполненный жареным картофелем. Я не мог поверить своим глазам. Повар зачерпнул полный ковш картофеля и щедро наложил его поверх поросенка на подносе, который я держал в руках.
– Поднос можешь не возвращать. Думаю, нам он больше не понадобится.
Когда я появился на пороге сарая, на меня уставились несколько пар изумленных глаз. Многие непроизвольно закричали от восторга. Мы наелись до отвала, забрали с собой остатки еды и постарались уйти в лес, как можно дальше. Не сомневаюсь, вскоре после того, как мы ушли из сарая, полевая кухня досталась русским…
Печально вздыхал ветер, в верхушках деревьев перекликались кукушки, словно насмехаясь над войной. В лесу штатские и солдаты могли ненадолго укрыться от русских самолетов, которые практически свободно рыскали в немецком небе.
Шедший рядом со мной рекрут приложил ладонь к уху и спросил:
– Господин унтершарфюрер, вы слышите?
Я приказал всем остановиться и прислушался. Среди елей раздавался звон металлического колокольчика.
– А еще чьи-то голоса… И стрельба в отдалении.
Я напряг слух. К сожалению, он у меня так и не восстановился как следует после памятного выстрела нашего «Тигра» под Харьковом.
– А-а-а, да, да… Женские голоса…
Тропинка вывела нас на поляну, где собралась группа мирных жителей со всем своим домашним скотом, коровами, овцами, козами, которых они надеялись спасти. Женщины судорожно хватались друг за дружку при звуках приближающейся стрельбы. Внезапно по стволам окружающих деревьев застучали пули, вниз посыпались щепки, куски коры, сбитые ветви. Вдалеке между деревьями замелькали фигуры в немецких мундирах. На рукавах у них виднелись белые повязки, что выдавало в них предателей из формирований Зейдлица. Вскоре бой в подлеске стих, и на поляне появилась группа старших офицеров вермахта в сопровождении их уставших и разгоряченных солдат. Некоторые солдаты были нагружены большими холщовыми сумками и рюкзаками, набитыми вещами, которые, вне всякого сомнения, принадлежали генералам и были призваны обеспечить им максимальный комфорт. Еще несколько солдат конвоировали захваченных изменников из отрядов Зейдлица, которых они ухитрились захватить в плен. У одного из конвоиров на голове красовалась красная египетская феска, и он прыгал вокруг пленников, кривляясь, как безумный.
Один из офицеров окликнул меня:
– Вы ведь из СС? Расстреляйте вот этих.
– Это вы взяли их в плен, – ответил я. – Мы не занимаемся такими делами. Почему бы вам не шлепнуть их самим?
Я сам себе с трудом верил, что разговариваю со старшим по званию подобным тоном. Не желая иметь ничего общего со всеми этими вояками, я повел своих людей дальше.
Когда мы отошли на достаточное расстояние и офицеры вермахта не могли нас слышать, один из моих рекрутов, большой умница, рассмеялся.
– Они могли бы вас расстрелять за несоблюдение субординации. Просто они подумали, что вы офицер…
Глава 28 Загадка Юнгханс-Гентсманна
Оставшихся солдат моего подразделения я решил вести к нашему тренировочному лагерю в Альт-Хартсмандорфе возле Шпренхагена, где надеялся найти остатки полка «Сокол». В нескольких километрах от деревни нас догнал открытый «юобельваген»[44] во главе колонны из трех грузовиков. Я приказал своим людям сойти на обочину, чтобы пропустить их, однако, поравнявшись с нами, автомобиль остановился. На заднем сиденье сидел офицер в эсэсовской форме с четырьмя серебряными нашивками на воротнике.
– Я штурмбаннфюрер Юнгханс, – представился он. – Вы из какой части?
– Полк «Сокол», господин штурмбаннфюрер, – доложил я. – Мы были в Лихтенберге, когда началось русское наступление.
– Ах, «Сокол»! Там служит мой брат. Послушайте, я командую полком, в котором одни иностранцы, в основном венгры. Хотелось бы слышать поблизости немецкую речь. Вы бы могли присоединиться к моей части. Считайте, что будете моей личной охраной.
Несмотря на высокое звание, слова офицера звучали скорее как предложение, нежели приказ.
– Ну да, конечно! – без раздумий ответил я.
Мои солдаты набились в кузов грузовика, а я сел в «кюбельваген» к штурмбаннфюреру.
– Я оборудовал свой командный пункт в подвале крестьянского дома неподалеку от Шпренхагена, – дружелюбно сказал Юнгханс, когда мы выехали на проселочную дорогу. – Когда прибудем на место, расставьте своих людей в охранение, а затем явитесь ко мне для доклада.
Я воспрянул духом от перспективы оказаться под началом опытного офицера, на которого можно положиться, поэтому с воодушевлением ответил:
– Слушаюсь, господин штурмбаннфюрер!
Когда я пришел на командный пункт, Юнгханс протянул мне конверт со словами:
– Вот, прочитайте бумаги и подпишите их.
Я вскользь просмотрел документы, обратив внимание, что в некоторых из них Юнгханс почему-то фигурирует под именем оберштурмбаннфюрер Гентсманн. Мне показалось странным, что человек имеет две фамилии, разные звания и даты рождения, но в тот момент не стал задавать вопросов. Я подписал все бумаги и передал их офицеру.
На следующий день мы с Юнгхансом поехали на «кюбельвагене» осматривать наши оборонительные позиции, и, поскольку теперь мы вроде бы познакомились, я решил, что могу говорить с ним откровенно.
– Господин штурмбаннфюрер, как получилось, что у вас две фамилии?
– Если бы вы прочитали мои бумаги внимательнее, вы бы все поняли, – с таинственной улыбкой ответил он. Он полез в карман маскхалата, достал конверт и передал мне. – Вот, взгляните еще раз. И кстати, если возникнет опасность, что русские меня захватят, пристрелите меня, не раздумывая. А эти документы пускай останутся у вас. Если со мной что-то случится, немедленно сожгите их, чтоб и следов не осталось.
Когда представилась возможность, я еще раз перечитал документы, которые он мне отдал. Из них я узнал, что до войны Юнгханс работал на разведку и был агентом в России на протяжении семи лет, жил в Южной Америке и владел несколькими языками. Имелись еще какие-то детали, но теперь, по прошествии 70 лет, я их уже не помню.
Потом мы остановились у дома, где располагался командный пункт. Мы с Юнгхансом прошли мимо часовых и спустились по небольшой лестнице в подвал. Там за столом, уронив на руки голову, сидел оберштурмбаннфюрер Розенбух. У дальней стены другие офицеры делали вид, что работают с бумагами.
Судя по всему, Розенбух окончательно утратил веру в нашу победу и не собирался скрывать это.
– Больше так не могу, – заявил он. – Это конец. Мы все погибнем.
Несмотря на более низкое звание, Юнгханс обеими руками схватил Розенбуха за ворот кителя и рывком поставил на ноги. С выражением презрения на лице он рявкнул:
– Посмотрите на себя! Это просто позор! Хнычете тут, как сопливая девчонка! Конечно, мы все умрем, раз уж однажды родились. Верность и честь – вот наш лозунг! Почему вы не со своими людьми?
Розенбух отшатнулся и начал оправдываться:
– Я вернулся сюда, чтобы координировать оборонительные действия. Все вышло из-под контроля. Я ничего не могу сделать. Все кончено!
Юнгханс приблизил свое лицо к лицу трясущегося оберштурмбаннфюрера и процедил сквозь зубы:
– Немедленно возвращайтесь к своим людям, окажите им такое уважение. Держите свои страхи при себе и лучше покажите им свою смелость…
Внезапно Юнгханс отшвырнул Розенбуха от себя и произнес с ненавистью:
– Грязный ублюдок! Следовало бы расстрелять тебя на месте.
Возвращаясь на командный пункт Юнгханса, мы проехали через деревню Маркграфписк. Из окон затаившихся домов свешивались белые простыни. Раздались несколько винтовочных выстрелов, и пули взвихрили пыль прямо под колесами нашего автомобиля.
– Господин оберштурмбаннфюрер, я знаю другую дорогу на Шпренхаген! – крикнул я, пытаясь перекричать гул мотора. – Надо повернуть на следующем повороте.
Когда водитель свернул на грунтовую деревенскую дорогу, несколько пуль угодили в кузов нашего автомобиля, но, к счастью, не попали ни в бензобак, ни в колеса. Уже подъезжая к Шпре, мы увидели седовласого человека в плаще, который отчаянно замахал руками при нашем приближении.
Юнгханс тронул шофера за плечо:
– Притормози, давай послушаем, что он хочет сказать.
На лице старика застыло отчаяние.
– Большевики уже заняли несколько домов, – сказал он. – Я подумал, что надо бежать, пока возможно. Смотрите, не заходите туда.
Он показал на дом, стоявший неподалеку от дороги.
– Хозяин в сговоре с большевиками. Он заманил наших парней к себе, и их расстреляли, как только они вошли. Они убивают всех, кто в форме СС.
– Спасибо, что предупредили, – сказал Юнгханс.
Мы заехали на деревенскую площадь и сразу увидели тела нескольких расстрелянных жителей и солдат в эсэсовской форме. Собрав необходимую информацию о направлении русского наступления, мы возвратились на командный пункт Юнгханса, где нас уже дожидались два грузовика с заведенными двигателями.
– Унтершарфюрер, проверьте, что они нам привезли, – приказал Юнгханс. – Когда разберетесь, ищите меня в штабе.
«Кюбельваген» уехал, а я приблизился к водителю первой машины.
– Что тут у вас, боеприпасы?
– Да, боеприпасы, – отрывисто ответил тот.
Я заглянул под тент.
– Какой идиот прислал это? Нам нужны боеприпасы для пулеметов, а здесь снаряды для зениток! Ждите здесь.
Я поспешил в штаб и доложил о доставке в наше расположение 88-мм снарядов. Юнгханс коротко приказал:
– Скажите водителям, пусть везут обратно.
Однако, вернувшись во двор, я обнаружил, что снаряды уже выгрузили в ближайшем сарае.
– Вот, получите. – Водитель протянул мне накладные. – Подписывайте скорее.
Грузовики как-то подозрительно быстро развернулись и уехали. Я направился к Юнгхансу, чтобы доложить о своих сомнениях, как вдруг сарай взлетел на воздух, и меня осыпало горящими обломками здания.
26 апреля в наше расположение прибыла колонна «Тигров» и «Пантер» под командованием оберштурмбаннфюрера Кауша.
– Как раз то, что надо, – широко улыбаясь, сказал Юнгханс. – Я долго ждал такого шанса.
Он направился к переднему «Тигру», в открытом люке которого гордо высилась фигура командира.
– Мне надо провернуть одно дельце, – сказал Юнгханс командиру. – Русские уже в ГутСкаби. Поэтому я принимаю командование этим танком и начинаю атаку.
Командир танка запротестовал:
– Это моя машина! Вы не имеете права командовать им, мы двигаемся на помощь Берлину!
Однако Юнгханс не стал его даже слушать. Он забрался в танк, попросту выгнав танкиста, и вскоре мы под прикрытием бронированной машины двинулись в направлении ГутСкаби. Однако на самом въезде я услышал удар металла о металл, и в следующую секунду «Тигр» окутался дымом. Я попытался броситься к горящему танку, однако тут, откуда ни возьмись, появился санитарный автомобиль. Санитары погрузили моего раненого командира в свою машину и повезли обратно в расположение штаба, где находился перевязочный пункт. Вскоре Юнгханс умер. А я, в точности следуя его инструкциям, сжег все его бумаги дотла…
Глава 29 Сардины, убийство и насилие
Через некоторое время после гибели Юнгханса я получил известие о том, что Розенбух застрелился. Теперь, когда не осталось ни одного опытного офицера, а враги вот-вот могут захватить наш командный пункт, я принял решение уводить свой отряд, собранный из остатков полка Юнгханса. Поскольку стало ясно, что Берлин превратился в смертельную ловушку, мною было решено уходить в леса, к югу от разрушенной столицы. Не имея ни карты, ни компаса, я ориентировался только по солнцу и не думал ни о чем, кроме как о том, чтобы постараться избежать встречи с русскими соединениями, рвавшимися к Берлину.
Мы страдали от голода, но, к счастью, нам повстречался заброшенный крестьянский дом. Когда мы подошли к нему, начался сильнейший ливень, поэтому я оставил у дверей часового по имени Мюхс, а остальным приказал войти внутрь. Пока мои подчиненные рассаживались вокруг большого стола, стоявшего в зале, я спустился в подвал, чтобы посмотреть, нет ли там чего-нибудь съестного. И мне улыбнулась удача! В подвале я обнаружил целую упаковку банок с консервированными сардинами. Мысленно поблагодарив хозяина за то, что тот предусмотрительно создал запас провизии, я принес коробку в зал и водрузил на стол.
– Сардины! – воскликнул один из рекрутов, когда мы открыли первую банку. – Я так люблю сардины!
Я съел свою порцию и снова направился в подвал в надежде найти еще какую-нибудь еду. Однако на этот раз пришлось возвращаться с пустыми руками. Я поднялся по лестнице в зал и тут с изумлением обнаружил, что за столом, где несколько минут назад сидели мои люди, теперь сидит русский солдат и поедает остатки сардин. Это был его последний завтрак. Увидев меня, он потянулся к оружию, лежавшему рядом на столе, но я вскинул автомат и дал очередь. Русский рухнул на пол. Нельзя было терять ни минуты. Я бросился к входу и застыл как вкопанный. Во дворе перед домом стоял русский танк с работающим двигателем. К счастью, именно поэтому русские танкисты не услышали моей очереди, когда я убил их товарища. Что теперь делать? И где часовой, которого я оставил у входа? Я побежал в дом, чтобы поискать выход, и у черного хода в дальней комнате обнаружил своих бойцов. В этом помещении имелись только два окошка, выходившие в сад, однако они имели такие маленькие размеры, что взрослый человек в них не мог пролезть. Я подергал ручку двери. Она оказалась заперта на замок, настолько прочный, что попытка выбить его могла бы привлечь внимание вражеских танкистов. Я бросился в соседнюю комнату, кладовую, в которой совсем не было окон, а мои солдаты, словно стадо испуганных овец, последовали за мной. На нашу удачу, здесь также имелась дверь, но висячий замок был совсем слабеньким, и нам хватило одного удара прикладом, чтобы сбить его. Эта дверь тоже вела в сад, огороженный высокой каменной стеной. Я распахнул дверь, ожидая, что мои подчиненные тут же бросятся бежать, но те лишь переминались с ноги на ногу, опасаясь выйти наружу.
– Мы не сможем перебраться через стену, – жалобно сказал один из них.
Каменная ограда действительно была высокой, но в этой ситуации ни в коем случае нельзя было терять присутствия духа.
– Вас же учили преодолевать препятствия, – напомнил я своим подопечным.
Но мои бойцы лишь переглядывались, и на их лицах явственно читалось отчаяние. Тогда, желая прекратить панику, я приказал двум солдатам стать у стены и скрестить руки. Третий подошел к ним, взобрался на их скрещенные руки, а затем на ограду и спрыгнул вниз. Все прошло замечательно. Последние два молодых бойца подождали меня наверху и за руки втянули на стену. Когда мы собрались все вместе по ту сторону ограды, бойцы посмотрели на меня, ожидая дальнейших указаний.
– Ну, что встали? – рявкнул я. – Бегом в лес!
Они помчались к опушке леса, как олени, за которыми гонится стая гончих. Уже возле самой кромки зарослей я оглянулся и только тут заметил, что неподалеку от того места, где мы перелезали через ограду, есть пролом, образовавшийся, видимо, от разрыва снаряда. Подобная невнимательность была серьезной ошибкой, которая могла бы нам дорого обойтись, но, к счастью, ангел-хранитель по-прежнему оберегал меня и моих людей. На опушке нас поджидал часовой, которого я оставлял на входе в дом.
– Черт побери, Мюхс! – напустился на него я. – Что за игрушки? Мы же все могли погибнуть!
Он начал оправдываться:
– Я только отошел по нужде, а когда вернулся, там уже были русские.
Мы шли по лесу быстрым шагом несколько часов и неожиданно встретили 50-летнего мужчину с повязкой «фольксштурма» на рукаве. А потом Мюхс снова пропал. Еще через некоторое время мой маленький отряд выбрался на поляну, на которой стоял большой каменный дом лесника. Над распахнутыми воротами висела вывеска: «Forsthaus Hammer». В этот момент на землю упали солнечные лучи, которым каким-то чудом удалось пробиться сквозь густые облака, и в них весело заплясали три яркие бабочки. По-прежнему укрываясь за деревьями, я изучил подступы к дому, чтобы убедиться в отсутствии русских, а затем в сопровождении трех своих бойцов направился обследовать дом, приказав остальным прикрывать нас в случае чего.
Дверь в дом была немного приоткрыта, и от этого казалось, будто там кто-то есть. В одной из комнат работало радио. Я постучал, но мне никто не ответил, и я, взяв автомат на изготовку, переступил порог. Внутри весь пол был завален книгами из разбитого книжного шкафа и фотографиями из семейных альбомов, немыми свидетелями мирных, счастливых времен.
Снаружи меня позвали:
– Унтершарфюрер! Идите сюда скорее.
Возле стены у дома лежало распростертое тело босого мужчины.
– У нас нет времени. Русские где-то поблизости. Быстро осмотрите дом, поищите еду, и убираемся отсюда.
К сожалению, ничего в доме мы не нашли, а на выходе вновь появился Мюхс. Юнец сидел у ограды и жаловался, что поранил ногу. Я мельком осмотрел его ногу, но не заметил никаких повреждений. Оказавшись в глубоком тылу у русских, я не испытывал ни малейшего желания возиться с предполагаемой раной новобранца, поэтому я приказал ему оставаться здесь и выбираться самостоятельно.
Мы долго пробирались по лесу, стремительно перебегали открытые участки и на одной из проселочных дорог наткнулись на брошенный санитарный автомобиль. Словно стая голодных ворон, мы переворошили весь грузовик в надежде найти что-нибудь съедобное, однако все, что удалось раздобыть, – это несколько бутылок какой-то жидкости, по запаху напоминавшей спирт. Я плеснул немного прозрачной жидкости в кружку, долил туда воды и передал по кругу молодому бойцу. Тот с опаской пригубил. В конце концов спиртное несколько взбодрило нас, мы почувствовали себя получше, хотя это был всего лишь медицинский спирт, предназначенный для обеззараживания ран.
Внезапно раздался звук треснувшей ветки, и мы бросились в канаву, рядом с санитарной машиной. Из кустов на краю поля появились две женщины. Одна была средних лет с платком на голове, а другая, помоложе, видимо, приходилась ей дочерью. Увидев нас, они отчаянно замахали руками.
– Хвала Господу! – воскликнула та, что постарше. – Мы заблудились.
Ее глаза наполнились слезами.
– Пожалуйста, пожалуйста, возьмите нас с собой. Мне страшно подумать, что с нами сделают русские, если мы попадем им в руки!
После той бойни, которую мы увидели в доме лесника, я не смог им отказать.
Наступал вечер, и канонада, громыхавшая весь день, становилась слышна все отчетливее. В конце концов мы вышли к окраине леса и остановились на вершине какой-то возвышенности, раздумывая, что делать дальше. Внизу между двух холмов шла дорога, которую постоянно обстреливали две батареи тяжелых орудий, установленные неподалеку.
– Прислушайтесь, унтершарфюрер. – Приставший к нам пожилой боец фольксштурма приложил к уху морщинистую ладонь. – Вы слышите?
За разрывами снарядов, ложившихся на дорогу, с юга явственно доносился гул артиллерии. Он слышался постоянно, и я уже не воспринимал взрывы, которые не могли представлять для меня непосредственную опасность. Поэтому я вопросительно посмотрел на старика.
– Русские уже в Хальбе. Я воевал на прошлой войне. Я могу отличить обычную стрельбу от гула сражения. Что будем делать?
– Вы знаете эту местность? – спросил я.
Не имея ни карты, ни компаса, я подумал, что старый солдат может быть очень полезен.
– Да, конечно. Возле Хальбе живет моя дочь.
Я посмотрел на лица своих немногочисленных солдат, новобранцев дивизии «Лейбштандарт», поклявшихся хранить верность фюреру и сейчас готовых идти туда, куда я их поведу, на старика из «фольксштурма», пробирающегося к дочери, на двух дрожащих от страха женщин. Должны ли мы принять участие в сражении у Хальбе? А что будет с женщинами? Нас слишком мало, у нас недостаточно оружия даже для того, чтобы защитить самих себя. Разве можем мы оказать влияние на ход настоящего боя?
– Куда ведет эта дорога? – спросил я, указав на долину.
– Через озера на Куммерсдорф, – ответил мужчина. – Но, конечно, мы должны помочь нашим товарищам у Хальбе.
– Мы туда не пойдем, это смертельная ловушка.
Старик замотал головой:
– В таком случае прошу разрешить мне покинуть ваш отряд.
Я не стал его удерживать.
Мы спустились в долину и начали продвигаться к дороге, держась максимально ближе к обстреливаемой обочине. Батареи вели огонь попеременно, сначала справа, затем слева. Снаряды ложились близко к дороге, попадая практически в одни и те же воронки. На часах, подаренных мне матерью на Рождество, я засекал время между разрывами – от 20 до 30 секунд. В эти короткие промежутки я и отправлял своих людей вперед по два человека. Наконец все перебежали в безопасную зону, и на этой стороне дороги остались лишь три человека – я и две женщины. Я забросил автомат себе за спину, взял женщин за руки, и они изо всех сил сжали мои ладони своими холодными пальцами. Мы не успели перебежать открытый участок до того, как разорвался снаряд, и осколок ударил меня в правую лодыжку. Ботинок сразу наполнился горячей кровью, однако я мог бежать, и мы, не останавливаясь, миновали опасный участок. Я осмотрел рану и обнаружил, что меня просто слегка зацепило, – пары швов будет достаточно, чтобы залатать эту царапину. Меньше всего мне хотелось подхватить инфекцию, которая помешала бы мне ускользнуть от русских, поэтому я, пользуясь временной передышкой, тут же перевязал рану. Женщины благодарно обняли меня, радуясь своему спасению.
Мы двигались на запад, и гул сражения у Хальбе постепенно стихал вдали. Вскоре наш отряд начал разрастаться, к нему присоединялись отставшие от своих частей солдаты вермахта, мальчишки из «гитлерюгенда», старики из «фольксштурма», просто беженцы, для которых мы стали последней надеждой. Я и оглянуться не успел, как превратился в командира целой колонны отступающих. Среди нас теперь было много женщин, которые тащили домашний скарб. А детишки цеплялись за их платья. В этом районе Германии очень много озер, но, как ни странно, я не могу вспомнить, чтобы видел хоть одно из них. Ночь мы провели, скрываясь в лесу, но затем звуки перестрелки дали нам понять, что пора двигаться дальше.
Когда мы покинули укрывавший нас лес, я, к своему удивлению, увидел на расстоянии знакомые радиомачты Кёнигс-Вустерхаузена, означавшие, что мы находимся недалеко от Цоссена1, города, лежащего южнее Берлина. К несчастью, тут нас встретил отряд полевой жандармерии. Их называли «цепными псами» из-за жетонов на цепочках, которые висели у них на груди, и занимались они тем, что вылавливали солдат, которые покидали уже не существующую линию фронта. Лучше было им не попадаться, так как они имели право казнить на месте всякого, кого заподозрили в дезертирстве или пораженческом настроении. К нам, держа в руке пистолет, направился офицер. С суровым выражением лица он спросил:
– Кто старший?
Я сделал шаг вперед.
– Мы заблудились в лесу, – солгал я.
Цоссен находится в 15 км юго-западнее Кёнигс-Вустерхаузена.
Признаться, что мы бежали от врага, означало бы немедленное наказание.
С каменным лицом он окинул меня безжалостным взглядом с головы до ног.
– Женщины и дети могут идти, – заявил он, а затем вновь повернулся ко мне: – Унтершарфюрер, в лесу русские. Долг солдата – сражаться с врагом.
Мрачные и примолкшие от отчаяния, мои солдаты последовали за мной, когда я вновь повел их в лес. Мальчишки из «гитлерюгенда», многие из которых даже не помнили мирные времена, храбро шли навстречу неминуемой смерти. И очень скоро мы вступили в кровавую схватку с многочисленным противником, солдаты которого, казалось, стреляли из-за каждого дерева. Летящие из-за густой листвы пули поражали тела моих товарищей. Очень скоро нас обошли с флангов и начали окружать. Тогда, оставив раненых на произвол судьбы, я отвел остатки своего отряда на опушку леса. Жандармов там уже не было, они поспешили скрыться, спасая свою шкуру. Бессмысленно пожертвовав 12 жизнями, оставшиеся в живых смогли теперь беспрепятственно продолжить отход.
Теряя силы от голода и бессонницы, мы встретили четырех офицеров из дивизии «Лейбштандарт». Старшим среди них оказался гауптштурмфюрер с землистым лицом и карими глазами. С ним были еще два офицера – один оберштурмфюрер и командир моей роты в Альт-Хартмансдорфе, унтерштурмфюрер Шенк. Четвертым в этой компании был один мой знакомый унтершарфюрер, которого я редко видел без улыбки на лице. Кажется, его звали Генрих. Я вежливо поинтересовался у унтерштурмфюрера Шенка, как он тут оказался, но он оставил мой вопрос без ответа и повернулся ко мне спиной. Естественно, в такой ситуации у любого могли бы возникнуть подозрения, но вряд ли имело смысл сейчас разбираться во всем этом. У каждого из нас теперь оставалась одна цель – выжить. Они присоединились к нашему отряду, и мы вместе продолжили наш путь на запад.
Нам оставалось идти до Эльбы еще несколько дней, когда гауптштурмфюрер разрешил тем, кто выходил вместе со мной, самостоятельно попытать счастья, чтобы перебраться на другой берег или возвратиться обратно к своим семьям. Мои бывшие подчиненные воспользовались этим разрешением, и мы тепло попрощались. А после того, как наши спутники скрылись из вида, мы впятером тоже направились к Эльбе, стараясь держаться поближе к лесу, если было возможно.
Через несколько километров мы прибавили ходу, как вдруг услышали позади треск сучьев и шорох листвы: через лес бежали люди. Трое офицеров держались чуть впереди от нас с Генрихом, и они сразу скрылись за густыми зарослями кустов.
– Проклятье! – выругался Генрих. – Кажется, нас заметили.
Мы распластались на земле за поваленным деревом и приготовились к последнему бою.
– Оставь последний патрон для себя, – сказал я своему новому товарищу.
– Вот как бывает, – улыбнулся тот в ответ. – Зиг хайль!
Я направил автомат на фигурки, мелькавшие за деревьями, и дал в их направлении очередь. Это оказались предатели Зейдлица, они сразу развернулись и убежали, спасая свою шкуру.
Полагаясь на свой опыт и инстинкт самосохранения, мы не стали тратить время на привал и прием пищи и поспешили дальше, пока не добрались до деревни на восточном берегу Эльбы. Там было полно солдат вермахта, но, насколько я мог судить, из эсэсовцев мы были единственные.
Когда-то мы стояли на пороге окончательной победы, однако победа оказалась не на нашей стороне. Горечь придавало сознание того, что победу, которую обещали нам, одержали большевики.
Глава 30 Святилище в Ерихове
Мы подходили к одному дому за другим, стучали во все двери, но помещения были заняты солдатами вермахта, которые ясно давали понять, что наше присутствие нежелательно. Уставшие почти до безумия, мы наконец наткнулись на дом, стоявший на краю деревни. Это была наша последняя надежда на то, что можно где-нибудь получить приют.
Пока гауптштурмфюрер стучал в дверь, я стоял у него за спиной, не сомневаясь, что хозяева или те, кто остановились здесь на постой, непременно прогонят нас. Дверь открыла молодая красивая женщина в красном переднике.
– Нам нужен ночлег, – сказал гауптштурмфюрер.
Женщина улыбнулась, пригласила нас в дом и провела в гостиную, где мы с облегчением сразу побросали свое оружие прямо на пол. Офицеры рухнули втроем на большой диван у стены, а мы с моим приятелем унтершарфюрером заняли два маленьких кресла, стоявшие по обе стороны старой, но красивой изразцовой печи с изображениями пасторальных сцен. На маленьком столике возле того кресла, куда я уселся, стоял небольшой прямоугольный радиоприемник. Их выпускали в огромных количествах, и с их помощью на немецкую аудиторию вываливался поток официальной пропаганды. Следует заметить, что принимать с помощью этих приемников иностранные радиостанции было невозможно. Передняя панель радиоприемника почему-то напомнила мне человеческое лицо. В самом деле, шкала настройки с нарисованными по обе стороны орлом и свастикой казалась похожей на рот.
– У вас усталый вид, – сказала хозяйка, а потом позвала кого-то из передней. – Ута, Ута! У нас гости, пять выбившихся из сил мальчиков. Они из СС, их пятеро!
Она повернулась к нам и спросила, хотим ли мы есть. Видимо выражение наших лиц было красноречивее любого ответа, потому что девушка тут же опять крикнула:
– Ута, спускайся вниз, помоги мне нарезать бутерброды с той колбасой, что у нас осталась.
Прежде чем покинуть комнату, хозяйка снова повернулась к нам и с вежливой улыбкой сказала:
– Господа, чувствуйте себя как дома.
Она вернулась с большим металлическим подносом, на котором стояли пять стаканов, наполненные водой, и несколько толстых кусков хлеба с колбасой.
– К сожалению, это все, что я могу вам предложить.
Гауптштурмфюрер взял стакан и поинтересовался:
– Вы одни в этом доме?
– Да, – вздохнула девушка. – Наши родители уехали перед самым вашим приходом. Они отправились за своими родителями, чтобы привезти их сюда до прихода русских.
Девушка с подносом подошла ко мне, и я, посмотрев ей в глаза, спросил:
– Как вас зовут?
– Лиза, – с милой улыбкой ответила она. – А вас?
– Эрвин…
Мы набросились на бутерброды, как стая голодных псов. Гауптштурмфюрер предложил нам всем из своего запаса сигареты, включил радио, и мы закурили, с наслаждением внимая звукам музыки Вагнера.
В комнату снова вошла Лиза, и, кажется, она была довольна собой.
– В дальней комнате мы приготовили ванну. К сожалению, вода не очень горячая, но… мы решили, что вы, может быть, захотите помыться.
Мы помылись, строго соблюдая иерархию. После Генриха, когда я последним опустился в мыльную воду, она была ненамного теплее комнатной температуры. Впрочем, в этом имелось и определенное удобство, так как мне не нужно было спешить, чтобы скорее освободить ванную следующему по очереди. Я положил голову на край металлической ванны, согнул ноги в коленях и так, в полусне, наслаждался тишиной и покоем.
Внезапно дверь в комнату открылась и на пороге появилась Лиза с металлическим ведром в руке.
– Извините, если разбудила, но, надеюсь, вы не будете против. Я принесла горячую воду, – сообщила она.
И прежде, чем я успел как-то прикрыться, вылила содержимое ведра в ванну.
– Не беспокойтесь. – На ее губах играла легкая улыбка. – У вас нет ничего такого, чего я не видела прежде.
Я валялся в ванне до тех пор, пока вода окончательно не остыла. Затем оделся и вернулся в гостиную. Там я увидел девушку лет восемнадцати, с прямыми золотыми волосами, ниспадавшими на ее синее летнее платье. У девушки была бледная чистая кожа, а своими тонкими руками она прижимала к груди две белые наволочки. Она застенчиво улыбнулась:
– А, вы, наверное, Эрвин? Я Ута, сестра Лизы. Она мне рассказывала о вас.
Меня поразили ее глаза настолько, что я не смог ответить ничего вразумительного, а только пробормотал что-то нечленораздельное.
– Лиза моя сестра, она приносила вам бутерброды.
Все еще пораженный ее красотой, я просто молча кивнул.
– Я бегала в город узнать, нет ли каких-нибудь новостей о подвозе продовольствия.
Я поблагодарил сестер за их щедрость и выразил сожаление, что мы истребили остатки их колбасы. А потом поинтересовался, известно ли что-нибудь о продовольствии.
– О да! Кажется, есть надежда, – сказала она. – Почтальон сказал мне, что в нескольких километрах от города по течению реки, недалеко от берега, стоит баржа. Я сейчас побегу назад, попробую что-нибудь раздобыть, только соберу вот это.
Она подала мне наволочки. Я взял их и наконец смог ответить:
– Нет, пойду я. Такие новости распространяются очень быстро. Мало ли что может случиться.
Она стыдливо потупилась.
– А вы вернетесь?
– Ну конечно! – ответил я. – Мы с товарищами шли много дней, нам надо как следует отдохнуть. Я вернусь, обещаю.
Мы посмотрели друг на друга, и мне показалось, что в другое, более счастливое время между нами могли бы вспыхнуть более тесные отношения, может, даже любовь.
Мы с Генрихом направились к реке, где надеялись найти баржу с продовольствием и пополнить запасы наших гостеприимных хозяек.
– Хорошие девушки, – сказал я.
– Хорошие, – согласился мой спутник. – И очень красивые.
Я думал о том, как грациозно двигается Ута, о том, как она смотрела на меня. А еще я решил, что, когда вернусь с едой, надо будет чем-нибудь помочь сестрам перед тем, как мы двинемся дальше на запад.
Когда мы подошли к берегу, баржа уже стояла неподалеку. От земли ее отделяла небольшая полоса воды. Напротив толпились люди, в нетерпении ожидавшие, когда начнут раздавать провизию. Один из членов экипажа закричал:
– Эй, мы не будем разгружаться прямо сейчас. И вам незачем лезть в воду. Принесите несколько досок.
Однако, похоже, никто из присутствующих не желал покидать свое место на берегу из опасения, что ему ничего не достанется.
– Когда мы еще достанем еду?! – кричали из толпы. – Русские уже рядом!
Мы протолкались к берегу.
– Тихо! – крикнул я.
Сразу же наступила тишина. Присутствие двух вооруженных людей в форме войск СС мгновенно успокоило беженцев. Мы приказали нескольким самым крепким мужчинам следовать за нами и направились к ближайшему дому, чтобы взять жерди и доски. При необходимости мы были готовы разобрать даже крышу, но, на наше счастье, в сарае нашлись необходимые материалы, и вскоре мы опять вернулись на берег.
Генрих первым перебрался на баржу. А когда я последовал за ним, то со страхом посмотрел вниз на коричневую воду, бежавшую под нашим импровизированным трапом. У меня с детства существовал непреодолимый страх перед водой, поэтому я с облегчением выдохнул, оказавшись на твердой палубе. На борту члены экипажа вытаскивали из трюма ящики с шоколадом, коричневым сахаром, банки с консервированным мясом и другие продукты. Мы набили битком наволочки, которые нам дала Ута, но теперь перед нами встала более рискованная задача – перебраться со своим грузом обратно на берег. Доски у меня под ногами опасно потрескивали, прогибались. С большим трудом я все-таки выбрался на твердый берег, где Генрих уже начал руководить справедливым распределением продовольствия. По пути к дому, где нас ожидали товарищи, мы с Генрихом проверили содержимое наших «мешков» и с удовольствием убедились, что если я чего-то не положил к себе, то это нашлось у моего товарища.
Уже наступил вечер, когда мы выложили содержимое наволочек на стол перед Утой и Лизой. Они не могли скрыть своего восхищения, брали каждую банку, вслух читали названия и потом аккуратно расставляли все в буфет и кухонные шкафы. Покончив с этим, Ута благодарно посмотрела на нас:
– Спасибо вам за еду. Вы так устали и все-таки пошли туда.
– Ничего страшного, – ответил я. – Нам было приятно сделать хоть что-то, чтобы отблагодарить вас за гостеприимство.
– Мы с Лизой приготовили для вас постели в спальне наверху и постелили чистые простыни. Ваши офицеры будут спать в спальной у дверей. Впрочем, они уже, кажется, храпят.
Хотя до полного наступления ночи оставалось еще достаточно времени, при виде постелей с чистым бельем мы с Генрихом не смогли сопротивляться усталости. Мы сбросили амуницию и форму прямо на пол и блаженно растянулись на матрасах. Я немедленно провалился в сон.
Проснулся я от скрипнувшей двери. Сердце отчаянно заколотилось, и я потянулся к лежавшему на полу пистолету.
Но тут раздался девичий шепот:
– Это мы, Лиза и Ута…
В сером предутреннем сумраке в открытом дверном проеме угадывались силуэты двух девушек в белоснежных сорочках. Ута улыбнулась. На соседней кровати проснувшийся Генрих сел и широко открыл рот от удивления. Ута медленно развязала завязку на горле так, что стали видны вершины ее грудей. В ту минуту она показалась мне самой прекрасной девушкой на земле. Она распахнула сорочку, обнажая свое тело. Ее соски набухли и приподнялись от утренней прохлады, гладкая кожа слегка серебрилась. Внизу живота курчавился золотистый треугольник волос.
– Мы пришли к вам. – Она посмотрела на сестру, и та стыдливо кивнула. – Если вы, конечно, не против.
Ее сорочка упала на пол.
Лиза последовала примеру сестры. У нее была маленькая аккуратная грудь с большими розовыми окружностями сосков. Две обнаженные девушки, стоявшие у изножия наших кроватей, казались волшебным видением для двух солдат, которые последние несколько дней не видели ничего, кроме страха и крови.
– Если беженцы говорят правду, то, когда придут русские, нас будут много раз насиловать. – Ута взяла сестру за руку, и девушки подошли ближе. – Нам не хочется, чтобы наши дети были от русских.
Лиза легла в кровать к Генриху, а Ута скользнула ко мне под одеяло. От ее тела исходил прекрасный аромат, я ощущал такой однажды еще во Франции. Я лежал на спине, а она ласкала мою шею. Ее прохладные пальцы скользнули мне на грудь, двигаясь вверх-вниз, будто поддразнивая. Затем ее нежная ладошка опустилась вниз моего живота. Это казалось чудом, разве могло такое случиться, когда всего в нескольких километрах отсюда происходят такие ужасные события. Я закрыл глаза, стараясь забыть о войне, ненависти, смерти. Кончиками пальцев девушка ласкала мое тело, и я непроизвольно вздрагивал от наслаждения. Меня охватило желание, а каждое движение нежных пальчиков подготавливало меня к той секунде, когда наши тела сольются воедино.
Ее усилия достигли цели, и тогда она села на меня верхом, не обращая внимания на сестру, лежавшую под Генрихом на соседней кровати, и начала восхитительные ритмичные покачивания. Ута взяла мои руки, прижала их к холмикам своих грудей, затем слегка наклонилась вперед и продолжила свои движения, сначала медленно, потом все быстрее, принимая в себя все глубже. Я забыл обо всем на свете от восторга. Меня переполняло наслаждение. Я изо всех сил прикусил губу в надежде, что боль не даст мне сорваться, и я смогу продлить удовольствие. Я давно не был с девушкой, поэтому не мог знать, насколько меня хватит, но сейчас для меня все исчезло, не стало ни прошлого, ни будущего. Только эти восхитительные минуты, эти движения. Внезапно она застонала и упала мне на грудь, а затем откинулась в сторону, продолжая поглаживать мою грудь.
– Почему ты выбрала меня? В городе полно других солдат.
Она легонько чмокнула меня в щеку и хихикнула.
– А тут, кроме вас, больше нет парней из СС. Только вы и ваши офицеры. По-моему достаточно для небольшого романа…
Майским утром 1945 года, ровно через четыре года после того, как я посвятил себя Гитлеру, наш гауптштурмфюрер решил, что мы задержимся в этом доме еще на какое-то время, чтобы отдохнуть и набраться сил. Радио продолжало рассказывать о героическом сопротивлении германских войск, но не говорило ничего конкретного, что помогло бы нам решить, что делать дальше. Еще не совсем оправившись от нашего перехода в Ерихов, мы все же решили на закате ложиться спать, чтобы на следующее утро пойти дальше. Однако вскоре нас разбудил осторожный стук в дверь. На пороге стояла Ута.
– Спускайтесь скорее, – сказала она. – Сейчас будут передавать важное сообщение.
– Проклятье, – недовольно заворчал Генрих, – я только заснул.
Я посмотрел на свои часы.
– Генрих, ты спишь уже два часа.
Слышно было, как Ута тихонько спустилась по лестнице. Мы натянули штаны и, еще не проснувшись, тоже пошли вниз, где увидели Уту, Лизу и трех наших офицеров перед радиоприемником, по которому передавали «Тангейзера». Внезапно музыка Вагнера стихла и печальный голос произнес: «Вскоре последует важное сообщение». Раздались мрачные аккорды из оперы «Гибель богов». Еще через несколько минут строгий голос диктора провозгласил: «Внимание, внимание! Сейчас прозвучит важное обращение ко всему германскому народу».
– Это про чудо-оружие! – воскликнула Лиза, подпрыгнув от восторга. Я тут же вспомнил своего отца, который произнес точно то же самое несколько месяцев назад. – Мы победили в войне благодаря новому изобретению!
– Сядь, Лиза, – нетерпеливо сказала ей сестра. – Просто посиди и послушай.
Мы сидели в комнате, не зажигая света, и ждали до 10 часов, когда по радио объявили, что сейчас прозвучит Седьмая симфония Брукнера. Я сразу вспомнил своего учителя, господина Верта, который перед тем, как поставить ее нам в школе, называл это произведение «памятником». По его словам, композитор включил в адажио духовые инструменты в честь своего друга Вагнера. Но это была не та музыка, которую передают, чтобы сообщить о победах!
Я подошел к окну, отодвинул штору и посмотрел на унылую темную улицу за окном. Ударные инструменты, сопровождавшие симфонию Брукнера, внезапно смолкли. В звенящей тишине я прикусил губу, слушая слова диктора.
– Наш фюрер, Адольф Гитлер, погиб на своем посту в рейхсканцелярии, до последнего дыхания сражаясь с большевизмом.
Я судорожно вздохнул. Дух времени, давивший на меня все эти годы и шептавший в мои глупые молодые уши соблазнительные обещания, внезапно исчез в никуда. Фюрер мертв, и моя клятва хранить ему верность аннулирована самой Судьбой. Все, что мне теперь осталось от Третьего рейха, – это чувство товарищества с людьми, с которыми я сейчас скрывался в доме на окраине городка Ерихов.
Ута выключила радио. Ледяная тишина опустилась на комнату. А потом Ута горько заплакала, будто потеряла что-то очень дорогое, может быть, целый мир.
Глава 31 Обратная сторона Стикса
Я посмотрел на часы – без пяти минут пять. Генрих и три офицера уже ждали меня на улице. Я тихонько закрыл дверь, чтобы не разбудить Уту и Лизу.
– Нам нет смысла предаваться отчаянию, – сказал гауптштурмфюрер. – Мы давали клятву на верность Гитлеру и в этом смысле отличаемся от остальных войск. Гитлер мертв. Я думал об этом. Мы, так сказать, оказались на другом берегу Стикса – здесь нас может ожидать только смерть. Полагаю, нам нужно держаться вместе и попробовать перебраться на ту сторону Эльбы.
Еще со времени нашего отступления от Одера я понимал, что наше эпическое противостояние с большевистским злом, желавшим покорить Европу, приближается к концу, поэтому пораженческие речи гауптштурмфюрера не вызвали у меня удивления. Хуже всего было бы сдаться русским. Мы слишком часто становились свидетелями того, какая участь ожидала солдат войск СС, попадавших им в лапы. В такой безвыходной ситуации, когда оставалась только мысль о необходимости выжить любой ценой, решение гауптштурмфюрера отказаться от дальнейшей борьбы с врагом вызвало лишь облегчение.
Тем хмурым утром я оставил все мысли о возвращении домой. Мир, в котором я вырос, внезапно исчез. В отдалении раздался резкий одинокий винтовочный выстрел – возможно, это один из беглецов решил свести счеты с жизнью. Несколько километров мы шли по открытой местности до берега Эльбы, где все еще стояла та самая баржа, на которой нам удалось раздобыть продовольствие для наших гостеприимных хозяек. А чуть-чуть дальше, вниз по течению, мы вдруг увидели на середине реки лодку. С одного берега на другой был протянут канат, и с его помощью американские солдаты направляли лодку к нашему берегу, на котором их ожидали примерно двадцать солдат в форме вермахта.
Оберштурмфюрер поднял автомат.
– Почему они не стреляют? – недовольно проговорил он. Это были первые слова, которые я от него услышал за все то время, что он находился со своими спутниками.
Гауптштурмфюрер покачал головой:
– На том берегу американская армия. Они просто не могут стрелять. Как и мы, впрочем.
– Если мы сейчас сдадимся, у нас будет шанс переправиться через реку, – сказал Генрих.
Гауптштурмфюрер тут же взял ситуацию в свои руки. Он громко закричал:
– Эй! Эй!
– Мы не станем стрелять первыми! – крикнул американец на чистом немецком языке. – Если только вы не откроете огонь.
– Нет, нет! Мы не будем стрелять, – отозвался гауптштурмфюрер и поднял руки.
Забросив автоматы на спину, мы направились к лодке. На носу ее стоял жевавший резинку американский офицер. Он представился, у него оказалось какое-то еврейское имя (Коэн, кажется).
– Джентльмены, у меня к вам маленькое предложение.
– А что, война закончилась? – неприязненно спросил Шенк.
– Нет, но это вопрос нескольких дней, – растягивая слова, ответил американец.
– Вы говорили о каком-то предложении, – сказал гауптштурмфюрер.
Ситуация была абсурдной: еще продолжалась война, мы стояли на берегу, вооруженные до зубов, а всего в нескольких метрах от нас находились враги, не проявлявшие ни малейших признаков беспокойства.
– Я перевезу вас через реку. Я понимаю, что вы, парни, не хотите попасть к русским. Только одно условие. Я заберу у вас все нашивки, награды, часы, автоматы и, особенно, пистолеты Лютера.
Мы в ожидании смотрели на нашего старшего офицера.
Подумав секунду, тот покачал головой:
– К сожалению, я не могу принять ваше предложение, а мои люди пусть решают каждый за себя.
Решился один Генрих. Он шагнул к лодке и выругался:
– Да пошло оно все… С меня хватит этих приключений. Я переправляюсь.
Американский офицер подал ему руку, помогая присоединиться к уже находившимся на борту немецким солдатам, на лицах которых застыло странное выражение настороженности и облегчения.
– Удачи, Генрих! – крикнул я, когда лодка отчалила от берега.
– Кто знает, может, еще увидимся, когда все закончится! – крикнул он мне в ответ и широко улыбнулся.
– Странные эти американцы, – сказал я, ни к кому конкретно не обращаясь.
– Этот офицер явно еврей, – отозвался оберштурм-фюрер. – Они всегда думают только о деньгах. Хороший бизнесмен всегда готов ограбить другого при первой возможности. Если уцелеем, нам придется заново учиться жить в этом мире.
Мы уже теряли надежду найти подходящее переправочное средство, как вдруг увидели вблизи от берега пустую моторную лодку, засевшую в речном иле. По пояс в воде, мы пробрались сквозь заросли тростника и попытались вытянуть ее, однако быстро оставили эту затею.
– Залезаем в нее, – скомандовал гауптштурмфюрер.
Мы воодушевились при мысли о том, что у нас внезапно появилась возможность убежать на Запад, поэтому мы забрались в лодку и попытались, раскачивая ее весом своих тел, вырвать суденышко из грязевого плена. Лодка качалась, грязь хлюпала и чавкала. Старший офицер бодрым голосом командовал:
– А ну, давай, сильнее! Она сейчас вылезет!
Внезапно вокруг лодки начали взлетать фонтанчики воды. Жесткие стебли камышей упали, словно их срезали невидимым лезвием. И только тогда мы сообразили, что в нас стреляют. Мы вчетвером бросились в воду. Каким-то чудом мне удалось увернуться от пуль. Судя по всему, мой ангел-хранитель снова помог мне как раз тогда, когда мне это больше всего требовалось. Весь в грязи, я выбрался к своим офицерам.
– Наверное, союзники договорились с русскими, чтобы не пускать никого на тот берег, – сказал Шенк. – Надо полагать, наш еврейский друг, вернувшись на тот берег, уже доложил все, что нужно.
Мы пошли дальше вниз по течению и набрели на заросли тростника. У берега возвышались кусты. Гауптштурмфюрер послал меня в разведку, а сами офицеры, втроем, остались дожидаться в близлежащей рощице. На берегу, в груде листьев, я обнаружил плоскодонку с парой весел и в хорошем состоянии. Понимая, что у нас вновь появился шанс перебраться на другой берег Эльбы, я взбодрился и поспешил к своим товарищам, чтобы сообщить им хорошую новость.
– Отличная работа, унтершарфюрер Бартман, – сказал гауптштурмфюрер. – Однако не стоит рисковать и переправляться через реку днем. Замаскируем лодку и дождемся ночи.
Мы разделились. Двое остались сторожить лодку, а двое направились обратно в Ерихов, чтобы следить за русскими. Если бы возникла опасность, им следовало предупредить нас заранее, чтобы нас не застигли на середине реки.
В Ерихов вернулись мы с Шенком, а старшие по званию офицеры остались возле лодки. Мы собирались снова посидеть в доме Уты и Лизы, пока не наступит время возвращаться к реке. К тому же, покидая дом рано утром, я не успел поблагодарить девушек за их теплый прием и от всей души желал исправить эту ошибку.
Мы подошли к городку с юга и столкнулись с целым потоком беженцев, направлявшихся в деревню.
– Вы куда идете? – спросил я у молодой женщины, которая в толпе людей пробивалась вперед с привязанным к спине тяжелым чемоданом, держа за руку двух ребятишек.
– К железнодорожному мосту, – ответила она. – Говорят, некоторым гражданским разрешили перейти на ту сторону реки, а я не хочу дожидаться, пока ко мне явятся русские.
Городок выглядел так, будто его покинули все жители. Я постучал в дверь знакомого дома своими грязными пальцами. Ответа не последовало. Я взялся за дверную ручку – дверь оказалась открыта – и вошел внутрь.
Из кухни донесся чей-то шепот.
– Это я, Эрвин! – сказал я и услышал, как упал стул, когда девушки бросились к двери.
– Ах, Эрвин! – всхлипнула Лиза. – А мы думали, это русские пришли.
– Они тут появятся не раньше чем через пару дней. Но вам следует уходить, пока не поздно, – сказал я. —
Американцы уже на том берегу Эльбы. Там вы будете в безопасности.
– Но как же мы уйдем? Здесь наше все. И родители еще не вернулись. А может, русские не такие страшные, как говорят. – Ута обняла дрожащие плечи сестры.
Вечером, так и не дождавшись русских, мы с Шенком вернулись на берег реки и с радостью обнаружили, что наша лодка по-прежнему цела и невредима. Гауптштурмфюрер принял решение добираться в госпиталь войск СС, располагавшийся в городе Кёнигслуттер-ам-Эльм, примерно в 100 километрах от Эльбы. Никому и в голову не пришло спорить с ним. По крайней мере, теперь у нас появилась хоть какая-то цель. Более того, раз уж мой командир отказался переправляться с американцами, у меня появилось предположение, что, возможно, нам вообще удастся избежать плена. Теперь оставалось лишь дождаться наступления ночи.
В кустах по ту сторону луга что-то зашевелилось. Мы взяли автоматы на изготовку и приготовились к бою. Из зарослей появились примерно двадцать человек в немецкой форме.
– Как бы это не оказались предатели Зейдлица. Мы их положим прямо тут, – сказал оберштурмфюрер. – Ублюдки заслуживают этого.
– Но у них нет нарукавных знаков, – возразил я. – Посмотрите, это, наверное, солдаты вермахта.
Фельдфебель, командир отряда, видимо, сразу заметил нашу лодку, потому что ускорил шаг.
– Держите их на мушке, – приказал гауптштурмфюрер и вышел из своего укрытия.
– Не стреляйте! – крикнул он. – Мы из СС. Это наша лодка.
Автоматы в руках солдат повернулись в его сторону.
– Какая часть? – спросил фельдфебель.
– Полк «Сокол», дивизия «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», – ответил наш командир.
– Сколько вас?
– Четверо. Три офицера и унтершарфюрер.
– Покажитесь.
Гауптштурмфюрер подал нам знак выйти из укрытия.
А фельдфебель повернулся к своим людям и приказал опустить оружие. Это несколько снизило градус недоверия между нами. Мы стояли, ожидая, когда подойдут солдаты.
Фельдфебель прищурился.
– Вы говорите, это ваша лодка?
– Мы обнаружили ее сегодня днем. И собираемся переправиться через Эльбу, когда стемнеет, – холодно ответил гауптштурмфюрер.
Фельдфебель покачал головой:
– Говорите, что хотите. Но я конфискую лодку для нашего генерала.
– Постойте, это наша лодка! – твердо сказал гауптштурмфюрер.
– Сожалею, но у меня приказ. – Фельдфебель направился к берегу.
Наш гауптштурмфюрер, возвышаясь над ним на голову, шагнул вперед, преграждая солдату путь.
– Вам же сказано, это наша лодка!
Я непроизвольно поднял свой автомат. Шенк и оберштурмфюрер сделали то же самое в отчаянной попытке защитить наше единственное средство к спасению. Солдаты вермахта, которых было по крайней мере вчетверо больше, чем нас, тоже изготовились стрелять. Одно неосторожное движение могло спровоцировать перестрелку, которая неизбежно закончилась бы нашей гибелью. Несколько секунд продолжалась эта дуэль натянутых нервов.
Фельдфебель сердито посмотрел в глаза нашему гауптштурмфюреру, который упрямо стоял у него на пути. Затем раздраженно приказал двум своим людям привести генерала. И вот мы стояли на границе рейха, немцы против немцев, и целились друг в друга, ожидая кого-то, кто мог бы остановить нас.
Прошли двадцать напряженных минут. Наконец посланные фельдфебелем солдаты вернулись, и с ними пришел генерал вермахта.
– Опустите оружие, – приказал он своим людям и посмотрел на нашего командира. – Я здесь старший по
званию.
Наш гауптштурмфюрер даже не пошевелился.
Лицо генерала покраснело.
– Послушайте! Я требую, чтобы вы позволили моим людям взять лодку без дальнейших возражений.
– Мы ее не отдадим, – не допускающим возражения тоном ответил гауптштурмфюрер.
Генерал попытался сохранить невозмутимость.
– Ладно, – кивнул он. – Думаю, мы можем прийти к соглашению, которое устроит нас обоих.
Наш командир по-прежнему стоял молча, ожидая продолжения.
– Послушайте, мы все хотим перебраться на тот берег, – заговорил генерал, стараясь выглядеть как можно убедительнее. – Я оставлю с вами двух своих людей. Они переправят вас на противоположный берег, а потом вернутся за нами. И мы тоже сможем перебраться туда.
Когда наступила ночь, мы погрузились в лодку с двумя молодыми солдатами из отряда вермахта, которые сели на весла. Однако, едва мы отплыли от берега, нас подхватило неожиданно сильное течение. В отдалении я заметил очертания разрушенного железнодорожного моста в Тангермюнде.
– Проклятье! – выругался гауптштурмфюрер. – Так мы к утру окажемся в Гамбурге.
Мы спустились на несколько километров вниз по течению, прежде чем лодка все-таки уткнулась носом в прибрежную гальку на другом берегу Эльбы. Мы выбрались на берег и оттолкнули суденышко от берега. Не могу сказать, вернулись ли гребцы к ожидавшему их генералу, но, пока течение и тьма не скрыли от нас лодку, у меня не возникало мысли о том, что парни горят желанием плыть на восточный берег Эльбы.
Во главе с гауптштурмфюрером мы покинули берег реки, спустились еще чуть-чуть ниже по течению, пока не достигли небольшого леса, и там пошли по лесной тропе. А когда наступил рассвет, мы вдруг обнаружили, что тропа идет параллельно шоссейной дороге и до нее не более 50 метров. Весь лес наполнился радостными трелями птиц.
– Прекрасная земля, – не выдержал гауптштурмфюрер.
Не обращая внимания на голодные позывы желудка, я закрыл глаза, с наслаждением прислушиваясь к чудесным песням пробуждающейся весенней природы.
– Прячьтесь! – крикнул вдруг Шенк.
Я инстинктивно пригнулся, и как раз вовремя: совсем рядом, возле деревьев, по дороге проехал американский джип. Из пулемета, установленного на нем, дали очередь по кустам. Вниз полетели сбитые листья, однако автомобиль поехал дальше к Эльбе, не замедляя хода.
– Чудом спаслись, – хмыкнул гауптштурмфюрер, вставая и отряхиваясь. – С этой минуты будем двигаться только по ночам. Нет смысла рисковать жизнью в самом конце войны.
Припасы наши закончились, поэтому утро следующего дня мы встретили продрогшими и с пустыми желудками. Какой-то полуразвалившийся дом на краю поля, который мы заметили из-за деревьев, казалось, сулил нам несколько минут отдыха и, возможно, избавление от мучительного чувства голода. Когда мы подошли поближе, дверь распахнулась нам навстречу.
На пороге стоял худой мужчина, который смотрел на нас каким-то отстраненным взглядом. Мне он почему-то напомнил ворона, может быть, из-за длинных волос, ниспадавших ему на плечи.
– Кто это у нас тут? – хрипло спросил он. – Будь я проклят! Да это ж эсэсовцы пришли, чтобы спасти меня…
– Заткнись! – оборвал его я. – Нам надо поесть.
Мужчина, похожий на ворона, отступил в сторону, давая нам пройти в дом, а потом захлопнул дверь.
– Могу предложить вам хлеб, это все, что у меня есть, – сказал он. – Сколько у вас наград! А что в них проку? Американцы уже встретились с русскими в Торгау на Эльбе. Большой праздник! Там сейчас все танцуют. Прямо на могилах погибших немцев. И вы ничего с этим не можете сделать.
Он прошел в угол своей жалкой лачуги, открыл какой-то шкафчик.
– Это все, что я могу вам предложить.
Мы жадно съели хлеб с перцем.
– Ну, и сколько вы собираетесь тут отсиживаться? – спросил наш негостеприимный хозяин.
– Пока не стемнеет, – зевнув, пообещал гауптштурмфюрер. – Сейчас помоемся, а потом отдохнем до темноты.
Мужчина пожал плечами:
– Умывальник в спальне, но вам придется самим носить воду. Насос у черного хода. Ах да! Кувшин на умывальнике, не разбейте!
Я сбросил форму, вылил воду в раковину и вдруг увидел собственное лицо в зеркале, висевшем на стене. Я вступил в «Лейбштандарт» четыре года назад, однако мне казалось, что прошло не более четырех месяцев. Но зеркало говорило совсем о другом. На меня смотрело постаревшее на десятилетия лицо человека, утомленного постоянной бессонницей и голодом. Я помотал головой и склонился над умывальником.
И тут же за спиной у меня раздался отчаянный стук в дверь. Это стучал наш хозяин.
– Русские идут! Ваши друзья ждут вас на улице!
Только собравшись вместе, мы наконец сообразили, что произошло.
– Вот же старая свинья! – выругался гауптштурмфюрер. – Он придумал историю про русских, чтобы выставить нас!
Страдая от голода, промокшие и ободранные, мы добрались до северных предместий городка Кёнигслуттер-ам-Эльм, когда первые лучи солнца начали пробиваться сквозь молодую листву деревьев. Бесконечные серые облака исчезли и открыли глубокую синеву, в которой не было теперь ни одного самолета. Над нами распростерлось по-настоящему летнее небо.
– Надо избавиться от всех нашивок и прочего, что позволит причислить нас к «Лейбштандарту» или войскам СС, – сказал наш командир.
В скорбном молчании я срезал ножом все свои нашивки. Последней я срезал серебряную нашивку с именем «Адольф Гитлер». Я повесил ее на ветку дерева, рядом с нашивками моих товарищей. У ствола я закопал свое оружие, и в эту минуту простился с юностью, которую у меня отняла война.
Глава 32 Плен
После бесконечных ночей, когда мы, крадучись, пробирались мимо деревень и продирались сквозь лесные заросли, я изрядно исхудал, поэтому испытал огромное облегчение, когда увидел вход в госпиталь войск СС у городка Кёнигслуттер-ам-Эльм. Каким-то образом, без карты и компаса, мы все-таки умудрились добраться до цели. Гауптштурмфюрер вошел внутрь, а мы с Шенком и загадочным оберштурмфюрером остались ожидать его у входа.
Наконец гауптштурмфюрер вернулся.
– Война проиграна, – мрачно произнес он, и на его лице явственно читалась чудовищность постигшей нас катастрофы. – Германия подписала безоговорочную капитуляцию.
Он опустил голову, повернулся к нам спиной, и мы все направились за ним в госпиталь. По пути я обратил внимание на пациентов, лежавших в одной из палат. Некоторые из них были с обожженными лицами, у других вместо лица была жуткая маска. Этот госпиталь был центром реабилитации больных, которым требовалась пластическая хирургия.
Медицинская сестра промыла и перевязала мне ссадины на ногах, которые я получил во время обстрела возле Хальбе, а затем проводила меня в комнату в подвале госпиталя, где лежали матрас и пара одеял. Три моих спутника, как офицеры, были препровождены в особую комнату на первом этаже. Я, по крайней мере, получил то же питание, что и остальные пациенты госпиталя, и был чрезвычайно благодарен за это.
Прошли две блаженные ночи, когда никто не тревожил мой сон, а потом явилась медсестра, чтобы поменять повязки у меня на ранах. Закончив перевязку, она сказала:
– Уверена, у вас нет разрешения на пребывание в госпитале. А без него мы вообще не должны были бы за вами ухаживать. Когда наступил конец, мы прекратили принимать новых пациентов.
Не желая доставлять проблемы руководству госпиталя, я поинтересовался у нее, где бы я мог получить такое разрешение.
– В муниципалитете. Его должен подписать бургомистр.
Я пообещал решить этот вопрос и, как только медсестра ушла, оделся и направился в комнату к офицерам, моим спутникам. Мой мундир находился в ужасном состоянии: брюки были грязными и протерлись на коленях, а китель оказался порван сразу в нескольких местах. Впрочем, я был уверен, что молодой Шенк с пониманием отнесется к моей просьбе, поэтому не колеблясь постучал в дверь комнаты, где жили мои товарищи по несчастью.
Шенк в одной пижаме оказался один и тут же пригласил меня войти. В помещении стояли четыре кровати, но, судя по всему, мои спутники не горели желанием делить комнату со мной, младшим по званию. Конечно, унтершарфюрер не мог быть им подходящей компанией, но меня это не расстраивало. В подвале было вполне уютно, а находиться в одном помещении с тремя офицерами, которые теперь не могли мною командовать, было бы невыносимо.
– Согласен, унтершарфюрер, вид у вас жалкий, – сказал Шенк, когда я объяснил ему свою ситуацию. – Однако должен признаться, я не хочу отдавать вам свои штаны.
– Но ведь совсем ненадолго! – взмолился я.
– А что, если вы исчезнете? Вы что же, хотите, чтобы я остался без штанов?
Когда-то мне уже довелось, словно чучелу, прогуляться по улицам по дороге в венский госпиталь, поэтому я решил не сдаваться и, почувствовав, что сопротивление Шенка слабеет, твердо ему пообещал:
– Я мигом: туда и обратно.
Наконец Шенк согласился. Он направился к своему шкафу и подал мне свои замечательные кожаные штаны. Передавая их, он сварливо произнес:
– Помните же, как только справитесь, сразу возвращайтесь!
Я заверил молодого офицера:
– Это не займет больше часа. Муниципалитет недалеко, сейчас раннее утро, так что я буду первым в очереди на прием к бургомистру.
Все свое имущество, потрепанный мундир и часы, подарок матери на Рождество, я оставил в подвале и вышел в город в кожаных штанах Шенка. Моя коричневая эсэсовская рубашка не была видна под свитером, поэтому вряд ли я мог из-за нее вызвать чье-нибудь враждебное внимание. Кроме того, я захватил с собой документы, удостоверяющие мою личность, и свою солдатскую книжку, которую засунул за голенище сапога.
Стояло безмятежное утро, вокруг царила идиллия, наполненная тихими звуками, обещавшими мирный солнечный день. Легкий ветерок шевелил листву придорожных деревьев, когда я вышел из ворот госпиталя и направился в сторону городка Кёнигслуттер-ам-Эльм. В эти мгновения тяжело было поверить, что жестокая война, раздиравшая Европу, наконец-то закончилась. В состоянии радостного возбуждения, пронизывавшего каждую клеточку моего молодого организма, я шел в город, радуясь покою и утренней свежести. Я выжил!
Внезапно на мое правое плечо легла чья-то тяжелая рука, и я застыл на месте.
– Эсэсовец?
Ледяной озноб пробежал по моей спине.
– Да… «Лейбштандарт»…
– Вы пойдете с нами.
– Но я шел…
– Я сказал, следуйте за нами!
Рука крепче сжала мое плечо. Я оглянулся и увидел трех крепких мужчин в форме. На правых руках у них имелись повязки с надписью «Вспомогательная полиция» и официальная эмблема американских военных властей.
– Куда вы направляетесь?
– Мне требуется получить разрешение бургомистра на пребывание в госпитале на период излечения.
– В офисе бургомистра вы никого не найдете, – усмехнулся солдат, задержавший меня. – Все закрыто. Вы что, не знаете, какой сегодня день?
Как оказалось, я имел глупость забыть, что сегодня воскресенье, поэтому не оставалось ничего другого, как позволить им отвести меня в тюрьму. Примерно в шесть вечера в мою камеру пришли. После долгих расспросов меня обыскали и нашли мою солдатскую книжку. Один из моих тюремщиков раскрыл ее с выражением отвращения на лице, вырвал портрет Гитлера, бросил его на пол и только после этого принялся изучать документ. Когда дознаватель вернул мне солдатскую книжку, я подобрал портрет фюрера с пола. Впрочем, никто не возражал. Ко времени окончания допроса я чувствовал себя совершенно обессилевшим от голода и жажды и решил задать вопрос:
– Прежде чем вы уйдете, разрешите спросить?
– Да, в чем дело?
– Я военнопленный?
– Да.
– Тогда вы должны обращаться со мной соответственно. С момента задержания мне не давали ни еды, ни питья. Вы обязаны меня накормить.
Американцы покинули камеру, не удостоив меня ответом. В коридоре они принялись о чем-то говорить между собой, но я не смог ничего разобрать. Вскоре один из полицейских вернулся, и мы с ним вполне мирно побеседовали, а примерно через час появились и его два товарища, которые принесли мне поднос, уставленный едой. Меня поразило количество и качество предложенного обеда: горячий суп, свежий хлеб, великолепная салями и сливки. Мне пришлось совершить над собой усилие, чтобы не наброситься жадно на еду и расправиться с ней как можно скорее.
Арестовавшие меня солдаты оставались в моей камере несколько часов, и мы болтали с ними о войне и о моей жизни в Берлине. Естественно, я тоже расспрашивал об их жизни, и вскоре выяснилось, что все трое провели какое-то время в концлагере Дахау близ Мюнхена. Американцы выглядели вполне здоровыми, и я поинтересовался, как им удалось сохранить свой вес.
– Мы просто пили много воды, – сказал один из них, поглаживая живот.
Мне показалось, что он просто насмехался надо мной. Трудно было поверить, что вода, которую они пили, чтобы заглушить чувство голода, могла позволить им оставаться такими здоровыми.
На следующее утро на пороге моей камеры появился другой охранник.
– Мне необходимо получить разрешение бургомистра на пребывание в госпитале, – сразу заявил я ему. – К тому же мне требуется перевязать раны. Когда вы позволите мне вернуться в госпиталь?
– Вы туда не вернетесь, – ответил охранник.
За предыдущий день повязки у меня на ранах изрядно загрязнились, и возникла серьезная опасность заражения. Время от времени я громко кричал сквозь прутья на двери камеры, требуя к себе внимания, однако на мои протесты никто не отвечал.
– Где те трое, что привели меня сюда? – завопил я наконец, в надежде, что мои вчерашние собеседники проявят больше сочувствия к моей беде.
– Охотятся на эсэсовцев, – расхохотался новый охранник.
Дни в одиночном заключении тянулись невыносимо долго. Не было ни малейших признаков, что у меня появится сокамерник, с которым я мог хотя бы поговорить. Изоляция начала сказываться на моем моральном состоянии. Теперь большую часть времени я проводил, думая о родителях и Ингеборге.
В один из дней дверь камеры резко распахнулась, и я вскочил с тюфяка, на котором предавался воспоминаниям. В дверях появились шесть крепких американских солдат с автоматами в руках. И все они взяли меня на прицел. Мимо них протиснулся офицер и спросил:
– Вы говорите по-английски?
– Нет, практически нет, – ответил я, изо всех сил стараясь не делать резких движений, чтобы не нервировать лишний раз охранников.
Офицер кивнул в сторону выхода, давая понять, что мне следует покинуть камеру.
На улице нас ожидали три джипа с работающими моторами, один возле другого. Охранник толкнул меня на заднее сиденье последнего автомобиля, офицер сел рядом с водителем, и мы тронулись в путь. Когда мы выехали за город, мне стало ясно, что меня везут не в госпиталь. Я попытался жестами показать, что мне требуется лечение, несколько раз заговаривал с ними по-немецки, однако офицер оставил мои мольбы без ответа.
Мы ехали мимо разрушенных деревень, где, должно быть, всего несколько дней назад шли ожесточенные бои. Судя по солнцу, меня везли на восток, и мне пришло в голову, что меня, возможно, собираются передать русским, которые остановились на Эльбе. Примерно в 25 километрах восточнее Кёнигслуттера, в Хельмштедте, джипы остановились у крыльца солидного здания. Офицер выпрыгнул из машины и подал мне знак следовать за ним, а сам начал подниматься по ступеням. Внутри мои конвоиры приказали мне остановиться в самом начале длинного коридора с прекрасным мраморным полом. Я стоял в ожидании, размышляя, что случится со мной дальше, как вдруг сзади на меня обрушился сильный удар. От неожиданности я не удержался на ногах и рухнул прямо на сверкающий мрамор лицом вниз. Однако в ту же секунду сильные руки сгребли меня за ворот и вновь поставили на ноги.
– Иди сюда, ублюдок. – Охранник бесцеремонно затолкнул меня в боковую комнату, где за столом сидели три американских офицера. Вдоль стен стояли несколько дюжих солдат, наблюдавших, как охранник усадил меня напротив офицеров.
Все трое хорошо говорили по-немецки, и на меня со всех сторон обрушился шквал вопросов. Спустя некоторое время к допросу приступила вторая группа мучителей, которые задавали мне те же самые вопросы. Мне было непонятно, что они хотели от меня узнать, но стоило мне задуматься и задержаться с ответом, как тут же следовал либо подзатыльник, либо грубый толчок в спину. В конце концов мне стало ясно, что следователей интересовало все, что связывало меня с названием «Фальке» («Сокол»). Мне пришлось довольно долго объяснять им, что полк СС «Фальке» был формированием, слепленным на скорую руку из остатков эсэсовских частей, базировавшихся в районе Шпренхагена. Естественно, никто не сказал мне, почему их так занимала судьба этого подразделения. Оставалось только предполагать, что, видимо, кто-то из солдат этого полка был в чем-то замешан, и американцы пытались сделать все, чтобы изловить его.
В ходе допроса меня несколько раз заставляли встать, затем снова усаживали на стул. Это продолжалось несколько часов, и рана у меня на ноге, и без того уже загноившаяся, начала мучительно болеть. Я попытался обратить на это внимание американцев, но те лишь отмахнулись:
– Потом, потом!
Когда допрос завершился, охранники отвели меня в находившуюся поблизости ратушу Хельмштедта, где допрос продолжался еще несколько часов. И только потом меня бесцеремонно затолкнули в маленькую тюремную камеру, где из мебели была только лавка. Еще через несколько часов мое одиночное заключение закончилось. Дверь в камеру открылась, а затем с грохотом захлопнулась за спиной офицера в форме вермахта. У него имелся при себе чемоданчик, а на руке была повязка с изображением красного креста.
– Ага, наконец-то прислали доктора! – Я вытянул ноги на лавке и принялся закатывать штанину. Рана загноилась еще больше.
Однако офицер отрицательно покачал головой:
– Вы ошибаетесь. Я дантист и к тому же тоже заключенный. Кто-то в городе доложил оккупационным властям, что я нацист.
Он сделал шаг вперед и присел на скамейку рядом со мной.
– Так что меня поместили сюда в ожидании суда и приговора.
Пока мы с ним рассказывали друг другу свои злоключения, дверь в камеру вновь распахнулась, и в нее вошел третий заключенный, на этот раз в гражданской одежде. Новых арестованных приводили до самого вечера, и в конце концов у меня оказалось 11 сокамерников, главным образом солдат. Истории у всех были в основном похожими.
Мы с нетерпением ожидали, что нам принесут еду и воду, однако прошло какое-то время, и стало ясно, что наши ожидания напрасны. Совершенно очевидно, что камера, где нас поместили, была рассчитана на содержание одного узника, в ней не было даже туалета, и теперь, когда в нее набилось такое множество народу, мы не могли даже поспать, что добавляло дополнительные страдания. Перекрикиваясь с другими камерами, мы выяснили, что по соседству с нами в заключении находятся еще человек пятьдесят.
Вскоре после рассвета дверь камеры распахнулась. Под дулами автоматов нас вывели в маленький тюремный двор к другим узникам, среди которых оказалось несколько немецких офицеров в высоких званиях. Все с наслаждением вдыхали свежий воздух, но многие мои товарищи по несчастью выражали недовольство тем, что с них сорвали награды и нашивки за ранения, а ведь это было все, что они получили за многие годы служения родине и участия в боях.
– У вас пятнадцать минут, – объявил нам охранник.
В нашем распоряжении оказалось всего три туалета, так что тем, кто отчаянно ждал утра, чтобы облегчиться, пришлось немало поволноваться. Тем не менее всем каким-то образом удалось сделать все необходимое до того, как нас снова вернули в камеры. Часы медленно тянулись, а мы, набитые в крохотные темницы, как сардины в банке, не видели ни малейших признаков того, что кто-то собирается принести нам еду или питье. Когда на следующее утро нас опять вывели во двор, на лицах всех узников читалось выражение безнадежности.
Эта пытка жаркими неприспособленными камерами, переполненными арестованными людьми, продолжалась три дня и три ночи, пока наконец у гауптмана из соседней камеры не лопнуло терпение.
– Я требую старшего офицера! – взревел он, как бешеный бык. – Это бесчеловечное обращение!
Он начал стучать кулаками в дверь и шумел столько времени, что стражникам в конце концов это надоело.
Появился лейтенант американской армии, однако ему не удалось утихомирить разбушевавшегося гауптмана.
После горячей словесной перепалки лейтенант согласился вызвать старшего офицера. И как только тот увидел, в каких условиях нас содержат, то немедленно приказал лейтенанту организовать транспорт и перевезти арестованных в специальный лагерь.
Когда прибыли два грузовика, нас выстроили у главного входа в ратушу. Однако наш гауптман вновь начал высказывать претензии.
– Мы не сделаем ни шагу, пока нам не вернут наши награды и знаки отличия, – заявил он под одобрительные крики остальных немецких пленных.
Охранники принялись осыпать нас проклятиями и попытались выдавить с лестницы к автомобилям. Однако мы начали сопротивляться и отказались уходить, несмотря на удары прикладами. Мы продолжали твердо стоять на своем, осыпали ругательствами охрану и кричали:
– Нас ограбили! Нас ограбили!
Наконец нам на помощь пришел американский офицер, говоривший по-немецки. Немного поговорив с Гауптманом, он повернулся к одному из своих солдат:
– Где их награды?
Он повторил свой вопрос по-немецки, чтобы мы могли понять, о чем идет речь.
– На гауптвахте, сэр, – ответил солдат.
– Немедленно пойдите и принесите все – награды, эмблемы, часы! Я не позволю, чтобы у меня под носом занимались мародерством.
Через десять минут несколько охранников вернулись с немецкими касками, доверху наполненными вещами, отобранными у пленных. Гауптман первым вернул себе свою награду – Рыцарский крест. Тут-то я и понял, почему он так настойчиво требовал вернуть ему похищенное: Рыцарский крест вручался только тем, кто имел особые заслуги перед рейхом.
Через несколько часов нас привезли в недавно покинутый лагерь для перемещенных лиц, границы которого были обозначены невысоким забором из двух горизонтально натянутых линий гладкой проволоки. Охранники-поляки, предупрежденные о нашем скором прибытии, встретили нас градом камней. С оскорблениями и насмешками они выдали каждому из военнопленных по тонкому одеялу и развели по каким-то жалким баракам, в которых не было ни окон, ни дверей, ни даже нар, чтобы лежать. Пол в бараках был застелен стекловатой, доставленной с ближайшего военного предприятия концерна «Герман Геринг Верке». Ночью тонкие иголки стекловаты очень скоро начали впиваться в каждую клетку тела, вызывая страшный зуд, так что я вскоре расчесал все, что было возможно, едва не до крови. Это было мучение посильнее, чем борьба со вшами, донимавшими нас на Восточном фронте. К счастью, лагерь перешел под охрану какой-то британской части, что избавило нас от издевательств со стороны поляков, хотя те и продолжали болтаться поблизости в надежде чем-нибудь разжиться…
Вскоре я завел знакомство с одним военнопленным, бывшим эсэсовцем, который выполнял в лагере обязанности переводчика. По мере того как лагерь наполнялся новыми заключенными, мы все больше ужасались тому, как наших товарищей по несчастью сильнее и сильнее охватывала горячка отречения от собственного прошлого. По их заявлениям, никто из них никогда не был членом НСДАП, они подчеркивали свою глубочайшую ненависть к Гитлеру, а те, кто постарше, отрицали, что когда-либо голосовали за нацистов на выборах. Это ярко выраженное отрицание некогда непоколебимой лояльности фюреру, вне всякого сомнения, было призвано убедить союзников, что их пленники невиновны в тех ужасных преступлениях, о которых стало известно после освобождения концентрационных лагерей. Все это достигло своей кульминации, когда началась настоящая вендетта против своих же собратьев по несчастью, военнопленных. Дошло до того, что какой-то офицер вермахта собрал вокруг себя группу, а вернее банду, единомышленников, поставивших задачу отыскать в лагере всех членов нацистской партии. Тех, кто носил такую же фамилию, как высокопоставленные руководители партии, например Франк или Гейдрих, тут же предавали суду, правильнее сказать, пародии на судебное заседание, причем, один Бог знает, на каком основании, их неизбежно признавали виновными. Этих несчастных предавали смертной казни через повешение, а приговор приводили в исполнение по ночам в котельной лагеря.
На мое счастье, я был в одежде, в которой меня задержали, – кожаных штанах Шенка, рубашке и свитере, – и ничто не выдавало во мне бывшего солдата дивизии СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». Свою солдатскую книжку и удостоверение личности я тем не менее скрывал. Ведь уже одно то, что я воевал в дивизии, носившей имя фюрера, стало бы неопровержимым доказательством моей вины, хотя во время выборов, приведших Гитлера к власти, мне едва исполнилось девять лет, и членом НСДАП я никогда не был.
Однажды днем я лежал на нарах, слушая, как по крыше барака стучит дождь, как вдруг пронзительный вопль привлек мое внимание.
Ну, и кто на этот раз?
И тут я увидел, что все в бараке смотрят на… мою солдатскую книжку. Ее держал в руке один из военнопленных с таким торжествующим видом, как будто это был трофей, добытый в бою. Я задрожал всем телом, сердце сжал липкий холодный ужас. Каким-то образом мой документ выпал из кармана штанов. Я постарался подавить страх, охвативший каждую клетку моего тела, а тем временем многие уже бросились к человеку, державшему злополучную солдатскую книжку. Их руки протянулись к этому проклятому «неопровержимому доказательству». Охваченный отчаянием, я нырнул в самую гущу и как-то умудрился незамеченным в свалке выхватить бумаги у того, кто их держал. Прежде чем остальные сообразили, что произошло, я уже спрятал солдатскую книжку в карман штанов. На мое счастье, у меня отросла густая рыжая борода, так что признать мое лицо на фото было довольно трудно. Получается, что, хотя война и закончилась, мой ангел-хранитель по-прежнему не забывал меня. Уверен: если бы эти члены «комитета бдительности» узнали о моей службе в «Лейбштандарте», то следующей жертвой их судилища стал бы именно я. Никогда прежде мне не приходилось чувствовать себя в такой опасности. И с той минуты я все время жил в страхе, что моя служба в «Лейбштандарте» станет известна другим.
Эти так называемые «трибуналы» продолжались даже после того, как британские власти занялись расследованием убийств заключенных. И, как это обычно бывает в подобных обстоятельствах, никто из опрошенных заключенных не имел ни малейшего понятия о том, кто был ответственен за эти злодеяния.
В один из дней, когда мы сидели на лагерном дворе, наслаждаясь теплыми солнечными лучами, меня окликнул мой приятель-переводчик.
– Слушай внимательно, Эрвин, – сказал он. – Завтра примерно в 11 часов по лагерному громкоговорителю будет зачитано объявление. Там предложат тем, кто опасается самосуда, собраться у главных ворот лагеря.
– И что с ними будет? – спросил я.
– Переведут в другой лагерь. Но, ради твоей же безопасности, не говори никому о нашем разговоре.
Из всех вещей у меня имелось только то, что было на мне, так что на следующее утро мне не приходилось беспокоиться о сборах. К тому же это могло бы вызвать подозрения у «охотников за нацистами». После завтрака я постарался все время находиться поближе к главным воротам лагеря. И действительно, к 11 часам приехал грузовик. Он остановился за оградой с работающим двигателем. Наряд охранников во главе с британским офицером выстроился у будки часового возле главных ворот. А затем по громкоговорителю начали зачитывать объявление. Я быстро прошел мимо немцев, своих бывших товарищей, стараясь не обращать внимания на то, с какой ненавистью они смотрят на меня, и вскоре оказался под охраной англичан. Вслед за мной еще четверо, все бывшие солдаты войск СС, воспользовались возможностью убраться из этого слишком опасного места.
Мы недолго ехали по местности, сплошь изрытой воронками, оставшимися после бомбардировок союзной авиации, пока не оказались в бывшем концентрационном лагере, где прежде содержали иностранных рабочих, трудившихся на заводе «Герман Геринг Верке». Он находился недалеко от Брауншвайга. Для отдыха в бараках от прежних обитателей остались нары в шесть рядов в высоту. И мы вскоре обнаружили, что из-за своей хлипкой конструкции это сооружение начинало раскачиваться, словно дерево в бурю, при малейшем движении того, кто лежал наверху, так что голова кружилась у всех лежавших внизу. Кроме того, бараки стояли под путепроводом, по которому проходила главная дорога. По ней постоянно двигались повозки и автомобили, и не было никакой возможности уснуть ночью. Однако тут было безопасно, а поскольку мы были первыми обитателями лагеря, то могли выбрать себе и самые пригодные места на этих неуютных лежаках.
Через несколько дней в лагерь прибыла новая группа бывших солдат ваффен СС. И я был приятно удивлен, когда увидел среди них Генриха. После обмена приветствиями я спросил:
– Как с вами обращались?
– А! Американцы, которые взяли нас на Эльбе… Они заставляли нас часами стоять по грудь в болоте. Он хлопнул меня по плечу. – Но мы все-таки прошли через это, Эрвин. Прошли до конца.
Спустя несколько недель под пристальными взглядами польских охранников мы помогали убирать урожай на одном из близлежащих полей. Это трудно было назвать свободой, однако подобная деятельность все же давала ощущение некоторого облегчения после давящей атмосферы лагеря. С горечью думалось о тысячах рабочих, которые долгие годы, находясь в заключении, вынуждены были выполнять тяжелую работу на соседних военных заводах. В качестве вознаграждения за наши полевые работы крестьянин, на поле которого мы трудились, накормил нас жидким супом, на поверхности которого плавали редкие блестки жира. К несчастью, наши изголодавшиеся желудки не смогли принять даже эту пищу, и вскоре мы все побежали на край поля с жесточайшим приступом диареи.
После уборки урожая наши обязанности изменились, и, следует признать, в лучшую сторону. Мы застилали кровати офицеров, начищали их ремни и обувь, а четырем из нас даже повезло убираться в офицерской столовой. После уборки мы нашли на маленьком столике у входа в столовую четыре тарелки с кашей. Один из моих друзей отказался к ней прикасаться.
– Не ешьте. Предупреждаю, это ловушка. Если нас застанут, то скажут, что мы ее украли. И кто знает, что с нами тогда будет.
На следующий день возле того же столика нас ожидал британский офицер и опять – с четырьмя тарелками каши.
– Давайте, парни, питайтесь. – Он сделал приглашающий жест. – Эту еду оставили для вас.
Вообще, за время моего пребывания в Брауншвайгском лагере со мной, за исключением лишь одного случая, обращались довольно хорошо. Только один капрал-шотландец находил садистское удовольствие унижать меня перед другими охранниками и заключенными. Однажды, возвращаясь через лагерный двор после уборки офицерского барака, я почувствовал, как мне в задницу уперлось что-то твердое.
– Стой спокойно, малыш, – захохотал шотландец. – Наклонись и получай удовольствие.
К счастью, это был всего лишь пистолет.
Перед Рождеством 1945 года британская конвойная команда погрузила нас в товарные вагоны, в которых, судя по черной пыли, покрывавшей полы, недавно перевозили уголь. Через некоторое время, черные как трубочисты, мы выгрузились и пошли колонной в лагерь, находившийся на холме, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Нас привезли в Бельгию. По иронии судьбы, нашими охранниками оказались бывшие солдаты 28-й добровольческой моторизованной дивизии войск СС «Валлония», комплектовавшейся из бельгийских добровольцев, с которыми мы вместе сражались против большевиков[45].
После прибытия в лагерь нас выстроили на плацу, и английский офицер спросил, есть ли среди нас плотники и столяры. Руки подняли практически все, – полагаю, моим друзьям по несчастью просто хотелось вырваться из скуки лагерной жизни. Затем офицер спросил, имеются ли среди нас те, кто работал в булочных или пекарнях. И снова поднялся лес рук. Наученный горьким опытом, англичанин быстро отмел тех, кто не обладал необходимыми навыками, а я вместе с несколькими товарищами попал в маленькую команду пекарей.
Мы работали по трое, меняясь через сутки. Двое месили руками тесто, а еще один регулировал подачу воды. Моя практика в пекарне Глазера сейчас сослужила мне добрую службу. Я сказал напарнику, что если он будет добавлять немного больше воды на каждые два пакета муки, то охранники этого не заметят, зато мы сможем выпекать шесть дополнительных буханок и оставлять их себе. Иногда к нашему рациону добавляли рыбу, которую готовили на тех же печах, где выпекали хлеб.
Как-то промозглым зимним утром в январе 1946 года нас на грузовиках привезли в порт Антверпена и погрузили на борт парохода вместе с британскими солдатами, возвращавшимися домой на побывку. Как и следовало ожидать, для нас выделили самые неудобные помещения – какой-то трюм в носовой части судна. Единственным источником света там было якорное отверстие. Однако едва пароход покинул акваторию порта, как нас всех выгнали на палубу и оставили там. В Британию мы прибыли в полной темноте, продрогшие и промокшие до нитки. После небольшого перехода до ближайшей железнодорожной станции нас, к нашему огромному удивлению, погрузили в пульмановские вагоны, в которых имелись даже столы и кресла.
После долгой, но прекрасной поездки на поезде мы прибыли в лагерь возле Чепстоу. Там мы отлично выспались в прекрасных условиях, а утром нас собрали на перекличку. Затем сержант отвел небольшую группу раненых в медпункт для медицинского осмотра. Моя рана к тому времени зажила, так что я остался во дворе.
Двигаясь вместе с охранником вдоль нашей колонны, офицер на хорошем немецком сказал:
– Джентльмены, сегодня нам предстоит небольшая пробежка. Маршрут будет пролегать через город, дайте местным жителям шанс посмотреть, насколько жалко выглядят на самом деле «гансы».
Тут он внезапно увидел меня, остановился напротив, и наши глаза встретились.
– Так, так, так… Дружище, ты выглядишь слишком откормленным. – Он обернулся к сержанту и рассмеялся. – Куда лучше, чем многие из местных. Недавно я уже заметил еще двух таких здоровяков. Интересно, где они берут свою гребаную жратву?
Из Чепстоу нас перевели в Олдершот, где мы оставались еще несколько недель, прежде чем весь лагерь погрузили в какой-то полуразбитый пассажирский состав и повезли на север. Поезд постоянно останавливался, и от него отцепляли один-два вагона. В середине дня, когда по небу плыли огромные белоснежные летние облака, мы прибыли в Шотландию на станцию под названием Лонгнидри. Нас вывели на платформу. Старенький начальник вокзала, видимо, не ожидал нашего появления, потому что, увидев нас, в панике завопил:
– Здесь немцы! Эсэсовцы! Они нас всех убьют!
Под охраной нескольких британских солдат нас продержали на перроне до шести вечера, после чего повели в лагерь в Госфорде, возле Аберледи, живописной маленькой деревушки на берегу Ферт-оф-Форт. Несмотря на то что лагерь оказался переполнен, жизнь там была довольно комфортной: нам периодически показывали кино и позволяли играть в футбол.
После освобождения в 1948 году, все в тех же кожаных штанах Шенка, из которых я потом сшил себе сумку, я обосновался в Эдинбурге. А впоследствии судьба распорядилась так, что мне удалось возвратиться к моей старой профессии пекаря…
Эпилог
Жизнь на Восточном фронте была тяжелой. Осенью проливные дожди лили дни и ночи напролет, превращая почву в глубокую липкую грязь, которая проникала в сапоги и ботинки, разъедала носки и ступни. Мы питались едой, которую, по всем цивилизованным меркам, нельзя было есть. Мы страдали от бесконечной усталости и огромного количества вшей. Зимой морозы стояли такие, что замерзало топливо в бензобаках, а человек погибал от холода в течение часа. Мы подвергались смертельной опасности и боролись с нею, хотя инстинкт самосохранения подсказывал нам бежать. Только тот, кто сам все это пережил, может представить жизнь солдата на Восточном фронте. До сих пор в моем доме, там, где позволяет геометрия стен, стоят книжные шкафы, доверху набитые книгами и видеокассетами о Второй мировой войне. На верхней полке шкафа, который стоит у подножия лестницы, находятся модель «Тигра» и часы из кабины самолета «Хейнкель-111». А на стенах между шкафами висят разные сувениры из моего немецкого прошлого – жетоны, нашивки и фотографии. В гостиной огромное пространство занимает телевизор с плоским экраном, и, благодаря спутниковой антенне, я могу смотреть польские, немецкие и российские передачи, по одной из которых в течение дня обязательно показывают программу о Второй мировой войне или о Гитлере, в общем, на эти темы. Я являюсь участником форумов в Интернете, где обсуждаются различные аспекты прошедшей войны. Мне так и не удалось выбросить из головы воспоминания о своей юности и том времени, когда я был солдатом «Лейбштандарта СС Адольф Гитлер». Я горжусь тем, что дружил со многими своими сослуживцами, и буду помнить о них до самой смерти. Подобную дружбу не может представить сегодняшняя молодежь, живущая без настоящих целей и ориентиров в жизни. Но я не тот закоренелый нацист из числа тех, кто постоянно скорбит о судьбе нашего фюрера или об утерянных возможностях и ошибочных решениях, которые стоили нам победы. Конечно, как любой верный солдат, я верил в победу, однако все получилось так, как получилось, и нет смысла жалеть о том, что могло бы быть, «если бы». В моем персональном случае наше поражение обошлось мне дорого, однако я заплатил меньшую, значительно меньшую цену, чем миллионы других людей по обе стороны этого величайшего вооруженного столкновения в истории человечества. Несмотря на миф о том, что каждый солдат ваффен СС был фанатичным нацистом, я никогда не был членом нацистской партии, и никто меня не заставлял в нее вступать. Между прочим, даже высокопоставленные офицеры дивизии «Лейбштандарт», такие как, например, Иоахим Пайпер, отказывались вступать в НСДАП. Я был членом движения «Лебенсборн», но никогда меня не призывали принимать участие в выполнении программы по выведению чистокровных арийцев. По правде говоря, я даже не слышал о подобных вещах ни на фронте, ни в Берлине. Насколько мне было известно, «Лебенсборн» представляла собой организацию, которая заботилась о благополучии солдат ваффен СС и их семей и помогала пристроить сирот, чьи отцы погибли «за фюрера и народ Германии», в приличные семьи.
Когда Гитлер пришел к власти, мне едва исполнилось девять лет, и я, естественно, не мог знать о конечных целях НСДАП. А поскольку и большинство моих товарищей были примерно одного со мной возраста, то и они ничего не знали о тайных замыслах нацистов, когда добровольцами вступали в войска СС. Наше детство пришлось на годы правления Гитлера, когда он возродил гордость за Германию. А кто во времена национальной эйфории слушает мрачные предсказания пророков? История поставила нас перед выбором: поверить в фюрера, который обещал порядок и прогресс, или в идеалы советского коммунизма, которые просто заменяли одну форму принуждения другой. Многие в Германии, включая и моих родителей, выбрали Гитлера. Словно слепые, они окунулись в коричневый омут национал-социализма и были абсолютно счастливы.
Отечество не выбирают, это общеизвестно, но верно служить ему, по крайней мере для меня, было само собой разумеющимся. Для нас, молодых солдат «Лейбштандарта», война предложила возможность испытать приключения и победить большевизм, жестокий культ, угрожавший уничтожением всему цивилизованному миру. Мы в это искренне верили. По всей Европе – от Испании до Эстонии, от Скандинавии до Украины – молодые люди жертвовали своей юностью и своими жизнями. Они добровольно вступали в войска СС, поверив в величие наших вождей и не задумываясь о личной безопасности.
То, что не одни только немцы опасались большевизма, в дальнейшем продемонстрировала гонка вооружений, которая началась сразу после капитуляции Германии, если не раньше.
Если будет позволено, я задам только один вопрос: если бы Гитлер не начал борьбу с угрозой коммунизма, где бы тогда проходили границы Советского Союза? В своей книге «Дипломатия» Генри Киссинджер приводит слова Сталина, когда один из американских дипломатов поздравил его с взятием Берлина. С кривой усмешкой советский лидер ответил тогда: «Царь Александр взял Париж»[46].
Наши вожди, конечно, совершили чудовищные преступления против человечности, и теперь, задним числом, легко говорить, что обычные немцы должны были энергичнее выступать против Гитлера. Но даже те, кто вначале выступал против него, вскоре были поражены и загипнотизированы тем, насколько стремительно начала развиваться экономическая мощь Германии, и даже они стали горячо поддерживать НСДАП. Безусловно, каждый немец, живший в мало-мальски значительном городе, должен был знать о существовании концентрационных лагерей. Разве могли немцы не замечать толпы рабочих, трудившихся на полях или разбиравших завалы? Однако большинство жителей немецких городов, и я в их числе, представления не имели о существовании лагерей смерти. Мое соединение «Лейбштандарт» всегда находилось на передовой, мы постоянно противостояли врагу и не задумывались о том, что происходит у нас за спиной, в тылу. Даже если кому-то и было известно, что происходит с евреями, то было абсолютно невозможно протестовать против этого, не подвергая риску собственную жизнь, и мало кто решался на подобную смелость.
Взаимодействие с другими отделениями СС, особенно с СД и «айнзатцгруппами», ударило по репутации войск СС. Этот факт до сих пор наполняет меня горечью. Любое управление СС превратилось в настоящего козла отпущения для тех немцев, кому показалось целесообразным заявить о своей невиновности, возможно, чтобы таким образом заглушить чувство собственной вины. По праву победителей союзники объявили преступной всю организацию СС[47].
Конечно, я не могу поручиться за кристальную чистоту всех войск СС и даже за весь «Лейбштандарт». Могу лишь утверждать, что, пока я воевал в 4-й роте, мне довелось быть свидетелем героизма молодых солдат, искренне преданных своей родине. Я видел людей, которые стойко сражались и с уважением относились к врагу. Даже сейчас я продолжаю жить в соответствии с девизом, который был отчеканен на наших солдатских ремнях: «Моя честь называется верность».
Война по-прежнему посещает меня в моих снах. Даже сейчас, через 70 лет, мне снится, как падает от огня моего автомата русский солдат, только что поедавший сардины из банки, я вижу новобранца, нога которого болтается на нескольких сухожилиях, и слышу, как он просит меня пристрелить его, чтобы избавить от мучений. У любого нормального человека убийство себе подобных оставляет неизгладимую психологическую травму. Но в тех же снах мне являются незабываемые мгновения детства и лица моих дорогих погибших товарищей, которые время никогда не сотрет у меня из памяти. А еще я часто представляю фигуру орла, сидящего на парапете казарм училища в Лихтерфельде, его крылья распростерты, будто он собирается взмыть в небеса. Я смотрю на нашивку на левом рукаве со словами «Адольф Гитлер» и чувствую гордость в груди. По прошествии времени я вижу молодого солдата дивизии «Лейбштандарт», которым я когда-то был, жертвовавшего своей жизнью за фюрера со словами «Повиновение до смерти». Я так никогда и не смог избавиться от этого девиза, который непрошеной тяжестью давит мне на плечи. Он звучит у меня в ушах шепотом отвергнутого любовника, желавшего подчинить не сердце, а всю мою сущность. И ради своих извращенных целей ему удалось подчинить себе не худшую, а лучшую часть немецкой молодежи.
Каждый год 20 апреля на месте резиденции Гитлера в Бергхофе[48] горят свечи, но не стоит думать, что их зажигают старые солдаты, ветераны вроде меня. Наоборот, этот акт почитания совершают молодые люди, слишком юные для того, чтобы помнить обо всех ужасах войны. Гитлер создал свою идеологию, разработал ритуалы, но не он один породил чудовищ. В душе человека живет тьма, открывающая сердце орлам, свастике, всему тому мраку, который будет преследовать меня, пока однажды я не соединюсь со своими соратниками из дивизии «Лейбштандарт».
Сейчас, в возрасте 88 лет, я готов подвести итог своей жизни, которую, если бы мне довелось прожить еще раз, в тех же исторических условиях, я прожил бы точно так же. Я не жалею о своем выборе или поступках. Когда мой отец был при смерти, он сказал: «Я никогда не лгал себе». Я могу сказать о себе то же самое.
Свободен, кто смеет сказать, Свободен и волен, кто пишет. Суровая кара тому не страшна, Кто знает, что правда на свете одна. Помилуй того, кому совесть дана!Роберт Бернс (1759–1796)
(Перевод Елены Агинской)
Примечания
Глава 1
Достижения чернокожего американского атлета Джесси Оуэнса на Олимпиаде 1936 года стали легендой. Хотя я никогда не видел ни одного соревнования с его участием, им восторгались многие мои школьные друзья. Один мой школьный друг, сын богатого адвоката, присутствовал на вручении медали за прыжки в длину и рассказывал мне, что весь стадион скандировал: «Джесси Оуэнс… Джесси Оуэнс!!!» На пьедестале почета немецкий атлет Луц Лонг, занявший второе место, поздравил Оуэнса и обнял – поступок, который, безусловно, не мог иметь место во многих штатах тогдашней Америки. Американские и английские газеты сообщили, что Гитлер пренебрежительно отнесся к чернокожему спортсмену, однако сам Оуэнс признал, что в тот день Гитлер вообще никого из победителей не поздравлял, хотя среди них были и немцы. Несмотря на свои четыре золотые медали, Оуэнс так и не получил поздравительную телеграмму от президента США Франклина Д. Рузвельта. В книге Джереми Шаапа «Триумф» говорится, что Оуэнс якобы сказал: «Гитлер меня не оскорблял, меня оскорбил Рузвельт». На этом примере мы можем видеть, как средства массовой информации манипулируют людьми. Миф о том, что Гитлер оскорбил чернокожего атлета, жив до сих пор.
Глава 3
Когда русские захватили Берлин, они поотбивали головы Вечным Роттенфюрерам (оберефрейторам) и закатали их в бетон, так что теперь они находятся внутри бетонных колонн у главного входа в бывшее училище в Лихтерфельде. Сейчас там располагается Федеральный архив Германии. Среди немногих оставшихся в живых ветеранов существует мнение, что свежие трещины на колоннах появляются потому, что Роттенфюреры салютуют бывшим выпускникам кадетского училища, когда те останавливаются у колонн, предаваясь воспоминаниям.
Через много лет после окончания войны моим другом по переписке стал Гельмут Мадер. Мы ничего не знали о прошлом друг друга. В 1991 году, путешествуя по Шотландии, мой знакомый воспользовался возможностью и навестил меня в моем доме в Эдинбурге. За беседами о временах, проведенных в «Лейбштандарте», я вспомнил свои кадетские годы, а когда рассказал ему историю про пыль во время уборки казарм, то увидел, как у него изменилось лицо. Надо же, через 50 лет я не сразу признал в нем того самого дежурного в белых перчатках, Смеющегося Дьявола! Впрочем, и он не сразу узнал во мне свою жертву. Первый и единственный раз в своей жизни я увидел тогда, как может покраснеть уже пожилой человек. Мы вместе посмеялись над той историей и, естественно, остались добрыми друзьями.
Глава 5
Гейнц Новотны получил Рыцарский крест в 1944 году. Он пережил войну и умер в 1999 году.
Глава 6
В книгах и на интернет-сайтах часто говорится о том, что командир «Лейбштандарта» Зепп Дитрих, узнав о находке тел наших солдат в колодце в Таганроге, приказал в течение трех дней русских в плен не брать. Конечно, узнав о печальной участи наших боевых товарищей, мы все следующие дни сражались с удвоенной яростью, однако пленных мы все-таки брали. Все то время, что я воевал в 4-й роте, мне никогда не приказывали не брать пленных. Несмотря на жестокости русских по отношению к военнопленным ваффен СС, нам всегда приказывали обращаться с пленными русскими солдатами так, как мы бы хотели, чтобы они обращались с нами. Я своими глазами видел, как некоторые наши солдаты из «Лейбштандарта» помогали раненым вражеским бойцам перевязывать раны. Конечно, никто не слышал слов возмущения по поводу пыток наших солдат, тела которых были обнаружены в том колодце. Очевидно, их убийство не считается военным преступлением.
В наши дни нет недостатка в книгах, описывающих войска СС и их преступления. На мой взгляд, многие эти тексты (особенно на английском языке) написаны историками из вторых, а то и из третьих рук – притом людьми, материально заинтересованными в том, чтобы выдавать сенсационные и недостоверные версии событий. В особенности это касается рассказов историков о том, что после взятия Таганрога солдаты дивизии «Лейбштандарт» совершили массовое убийство раненых русских в госпитале. Однажды я дал интервью одному такому «историку», и он написал книгу, в которой полностью проигнорировал мой рассказ о таганрогских событиях. Когда я указал ему на это, он только махнул рукой и сказал, что подобные факты не помогут ему хорошо продать книгу. Но именно моя рота сражалась на этом участке фронта, и я утверждаю, что данный эпизод не имел места.
Сразу после взятия Таганрога мне пришлось побывать в этом госпитале, чтобы передать записку одному раненому унтерштурмфюреру. У нас у самих было много раненых, поэтому мы заняли госпиталь для своих нужд. Как многие у нас в дивизии, я перед самым наступлением на Ростов-на-Дону подхватил расстройство желудка и провел там несколько дней. Не было там никаких тел, не было крови на стенах или на полу. Поверьте, если людей убивают из боевого оружия в закрытом помещении, это очень заметно. Конечно, возможно, русские эвакуировали раненых. В конце концов, им же удалось незадолго до нашего вступления в Таганрог вывезти несколько заводов.
Если уважаемый читатель не верит свидетельствам ветерана войск СС, я приведу всего два общеизвестных примера того, как русские старались скрыть правду и ввести в заблуждение мировую общественность. Первый пример: в лесу возле Катыни близ Смоленска русские убили более 20 тысяч представителей польской интеллигенции и офицерства. Когда они вновь заняли Смоленск, то немедленно разрушили мемориал полякам, сооруженный немецкими оккупационными властями, и принялись собирать свидетельства причастности немцев к этому злодеянию. 24 августа 1943 года Черчилль, уже зная полную правду, заявил Советам: «Мы, безусловно, категорически против всяческих «расследований», проводимых Международным Красным Крестом или любыми другими организациями на территории, оккупированной Германией».
Второй пример. Насколько мне известно из книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», в ней упоминается о том, что немецкие войска в Таганроге обнаружили железнодорожный состав, все вагоны в котором были облиты бензином и подожжены. В самих вагонах находились сотни обгоревших тел узников ГУЛАГа, которых большевики сожгли заживо. Зачем такая нечеловеческая жестокость? Может, это был акт милосердия, позволявший избавить узников от участи попасть в руки немцев? Или это было стремление заставить замолчать многие рты, которые с радостью донесли бы до всего мира правду о жестокости товарища Сталина, верного союзника американцев и англичан? Война – это грязное дело, и никто не заставит нас поверить, что союзники всегда занимались им в белых одеждах.
Глава 9
Мы отступили из Ростова-на-Дону вопреки приказу Гитлера, и командующий группой армий «Юг» многоуважаемый Гердт фон Рундштедт был снят с должности за его решение оставить город. Однако это было верное распоряжение, которое спасло нас от полного уничтожения. Совершенно ясно, что по крайней мере некоторые немецкие высшие офицеры не всегда слепо выполняли приказы, исходившие из Берлина.
Глава 10
Возможно, читатель не поверит, что солдаты дивизии СС давали кров жителям, у которых не было крыши над головой, и такое я видел собственными глазами. В условиях столь сурового климата легко проникаешься симпатией к местному населению. И несмотря на многочисленные истории о недостойном поведении солдат дивизии «Лейб-штандарт», должен сказать, что большая часть населения Украины хорошо относилась к нам. В нашей роте никогда не было разговоров об «унтерменшах» («недочеловеках»). Наоборот, мы уважали смелость украинцев и стойкость русских солдат. На том этапе войны многие жители занятых нами территорий откровенно радовались своему освобождению от сталинского коммунистического режима.
Глава 13
Совершенно очевидно, что отец Хойса воспользовался своими многочисленными связями, чтобы устроить своего сына в «Лейбштандарт». Служба в таком элитном соединении – бригаде, позже дивизии СС, носившей имя Адольфа Гитлера, – открывала после победы Германии широчайшие возможности. До сих пор сомневаюсь, простое ли совпадение, что первым президентом Федеративной Республики Германии стал в 1949 году человек, также носивший эту фамилию, – профессор Хойе.
Во время поездки в Германию в 2003 году я навестил чету Фрей, но в то время Лотта была уже безнадежно больна. Однако я всегда буду помнить ее юной одухотворенной женщиной, полной желания жить. В 2003 году Альберт Фрей выстрелил в Лотту, избавив ее от мучений, а затем покончил с собой.
Глава 19
На фронте и в тылу русские не обращали внимания на большие красные кресты, нарисованные на наших санитарных автомобилях. Они не подписали Женевскую конвенцию и не испытывали жалости к раненым немцам[49].
Глава 20
Через некоторое время после войны я выяснил, что собор Святого Стефана, этот подлинный памятник человеческому гению, едва не был разрушен по приказу моего командира Зеппа Дитриха. С расстояния в 10 километров он заметил на одной из его башен белый флаг, который вывесили на ней местные антифашисты, приветствуя русских. И приказал гауптману, командовавшему батареей 88-мм зенитных орудий, разнести собор. Гауптман Клинклих отказался выполнять этот приказ и таким образом уберег собор от уничтожения артиллерийскими снарядами. Но судьба все-таки не сжалилась над ним. Через несколько недель искры от горевших по соседству зданий попали на крышу собора, она загорелась и обрушилась. К счастью, каменная кладка уцелела, и после войны собор восстановили. Герхард Клинклих организовал фонд, который помог оплатить работы по реставрации и возрождению этого памятника архитектуры.
Глава 24
После войны я подружился с ветераном дивизии «Лейб-штандарт» Рокусом Мишем, который служил офицером связи в бункере Гитлера и находился там до последних дней рейха. Как-то раз мы затронули тему специальных бомб. «Три бомбы… – сказал он, – откуда ты услышал об этом? Их было девять».
Существует много спекуляций на тему обладания Германией атомным оружием. Были ли эти бомбы, о которых упоминал мой брат, обычными или атомными, остается загадкой.
Глава 25
Насколько мне известно, в Дрездене на момент налета не было никаких войск. Наоборот, город был переполнен беженцами из Восточной Пруссии. Я не сомневаюсь, что этот варварский налет был совершен с целью посеять панику среди населения Германии и продемонстрировать наступающим русским превосходство авиации союзников[50].
Выражения признательности
Выражаю искреннюю признательность г-ну Дерику Хаммонду из Broughty Ferry, без участия которого эти мемуары никогда не увидели бы свет. Впервые я познакомился с ним на форуме вермахта, популярном месте для встреч в Интернете для всех, кто интересуется историей Второй мировой войны. Когда я обнаружил, что Дерик к тому же проживает всего в часе езды от меня, то тут же пригласил его к себе в Мид-Колдер, что в окрестностях Эдинбурга. После обстоятельной беседы со мной о том, как я рос в Берлине в эпоху Гитлера, и о моем опыте в качестве солдата «Лейбштандарта» он предложил собрать воедино многие эпизоды, уже записанные на немецком языке. Он заявил, что из этого вполне могут получиться отличные мемуары и их можно издать на английском. Во время последующих ежемесячных визитов ко мне, длящихся порой по 6 часов кряду и растянувшихся на два с лишним года, он исследовал каждый уголок моей памяти, чтобы вытянуть оттуда детали, уже изрядно скрытые временем. Кроме того, недавний инсульт не давал мне возможности самому набирать текст, и, таким образом, задача подготовки рукописи будущей книги легла целиком на него. В итоге на свет появился отчет о главных событиях моей жизни, от похорон Хорста Весселя до освобождения из лагеря военнопленных в Шотландии в 1948 году.
Иллюстрации
Наш дом в Берлине по адресу Штраусбергерштрассе, 38 – вход под аркой
Щеголяю в новеньком мундире. Июль 1941 г.
Перекур. Курить я начал только после того, как прибыл на Восточный фронт. Октябрь 1941 г.
Зима начинает кусаться. Первые морозы. Октябрь 1941 г.
Свидетельство на получение Ostmedaille было получено вскоре после того, как меня произвели в унтершарфюреры в 1943 г., хотя саму медаль я получил намного раньше, еще будучи в ранге штурмана
Подпись: Зепп Дитрих, командир дивизии «Лейбштандарт»
Весной 1942 г. у Черного моря, после нашего отхода из Самбека
Недолгая передышка во Франции. Отделение управления роты обедает в тени под деревом – приятная перемена после ужасов Восточного фронта
Снимок, сделанный вскоре после моего производства в штурманы, для меня это – момент гордости
Звезда с головного убора русского военнопленного
Солнечный день в Ольшанах. Наша русская хозяйка заботилась о нас, как родная мать
Забавы на солнце. Ольшаны, 1943 г.
Проверка связи и одновременное наблюдение за противником
По дороге на Харьков
Я и мой брат Хорст
Медицинское заключение о ранении, полученном под Прохоровкой, составленное в тот же день
Осколок, задевший мое легкое, оказался крохотным, но едва не убил меня
Сертификат моего Черного знака «За ранение»
Страницы из моей солдатской книжки с деталями относительно моего жалованья и печатью госпиталя в Юденау, близ Вены
Один ветеран сообщил мне, что этот снимок размером с окно красовался в фотостудии, когда русские вошли на Потсдамерплац
«Три мушкетера» – с Гюнтером Шмидтом, который служил в железнодорожных войсках, и Хорстом Мушем, вступившим в кригсмарине
Моя подружка, позирующая рядом с радиостанцией в Берлине во время последней из ежегодных цветочных выставок. 1943 г. После этого я встретился с ней только через год
Моя новая фуражка с удаленной пружиной, как требовала тогдашняя мода.
Осень 1943 г.
Улыбаюсь вместе с инструктором по стрельбе во время пребывания в Альт-Хартмансдорфе.
Март 1945 г.
Хорст и я вскоре после рождения его первого ребенка
Лагерь военнопленных вблизи Олдершота. Я – четвертый слева, в верхнем ряду. Кажется, я был обречен остаться булочником
Документы, подписанные 27 ноября 1948 г., в день моего освобождения в Шотландии. Они давали мне право на получение немецкой военной пенсии за службу в рядах вооруженных сил не менее семи лет
5 ноября 1955 г. я дал присягу королеве и стал британским подданным
Примечания
1
Ныне Члухув на севере Польши. (Здесь и далее примем, ред.)
(обратно)2
Восьмилетняя школа в Германии и Австрии, где давались базовые знания.
(обратно)3
Образован 17 марта 1933 г. как отряд охраны рейхсканцелярии, командир – Йозеф («Зепп») Дитрих. В июне 1933 г. уже 600 чел. – «Специальная команда СС «Берлин». 3 сентября 1933 г. – единая часть «Штандарт Адольф Гитлер». 9 ноября 1933 г., в период празднования 10-й годовщины «Пивного путча», – окончательное название «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер». К началу 1935 г. это часть, по штату соответствующая армейскому моторизованному полку, позже – бригада, дивизия.
(обратно)4
Stahlhelm (нем.) – реваншистская милитаристская организация, созданная рейнскими монополиями и прусским юнкерством в ноябре 1918 г. после поражения Германии в Первой мировой войне. В 1928 г. насчитывал около 1 млн чел. После прихода к власти Гитлера «Стальной шлем» слился со штурмовыми отрядами.
(обратно)5
«Ю н г ф о л ь к» (Deutsches Jungvolk – DJ) – младшая возрастная группа организации «гитлерюгенд», в которой состояли мальчики от 10 до 14 лет. Члены организации именовались пимпфами.
(обратно)6
Socialistische Arbeiterjugend (SAJ).
(обратно)7
«Eintopf» – дословный перевод: «одна кастрюля», то есть блюдо, приготовленное в одной кастрюле. Появилось в начале XX в. Национал-социалисты популяризировали термин «Eintopf» и идеологизировали его. Они придали этому ежедневному блюду символически преувеличенное значение и присоединили его к понятию народного единства. В 1933 г. было введено Eintopf-воскресенье. Всех бюргеров заставили заменить традиционное мясное блюдо на Eintopf и сэкономленные таким образом деньги передавать в пользу Winterhilfswerk (Зимней вспомогательной службы).
(обратно)8
В описываемое время – усиленный моторизованный полк, к концу 1940 г. – моторизованная бригада.
(обратно)9
Один из видов нитроглицеринового бездымного пороха.
(обратно)10
Делался из орехового дерева, позже в ходе Первой мировой войны его стали изготавливать из прессованной фанеры.
(обратно)11
Озвученная Геббельсом трактовка вероломного, без объявления войны, в нарушение подписанного договора, нападения Германии на СССР, который в то время не был готов к войне и всячески избегал любых поводов для ее начала, рассчитывая еще хотя бы на год без войны. Наступление немцев и финнов от Балтики до Баренцева моря началось позже, 29 июня – 1 июля.
(обратно)12
Голод 1932–1933 гг. свирепствовал не только на Украине, но и в других регионах СССР – на Северном Кавказе, включая Кубань и Ставрополье, в Поволжье, в Казахстане и др.
(обратно)13
Йозеф («Зепп») Дитрих (1882–1966), как и большинство верхушки нацистской партии, был ветераном Первой мировой войны, солдатом-окопником (как и Адольф Гитлер), обладавшим соответствующим опытом и реакциями на уровне подсознания.
(обратно)14
Составная часть Балканской кампании 6—29 апреля 1941 г. по захвату Югославии и Греции. Заключительным этапом войны в этом регионе стала Критская воздушно-десантная операция 20 мая – 1 июня 1941 г., завершившая разгром греков и англичан.
(обратно)16
Зверства немцев многократно превосходили проявления жестокости со стороны советских солдат (и даже работников органов госбезопасности), сражавшихся на своей земле против вторгшихся оккупантов. Упомянутое автором ГПУ существовало в 1922–1923 гг., позже было ОГПУ, в 1934 г. было создано ГУГБ в составе НКВД, в феврале 1941 г. на основе НКВД СССР образованы НКВД и НКГБ, в июле 1941 г. (и до апреля 1943 г., т. е. в описываемый автором период) объединены в единый НКВД, затем опять разъединены.
(обратно)17
Здесь уместно напомнить о зверствах «Лейбштандарта» по отношению к советским военнопленным. Так, 16–18 августа в селе Виноградовка в качестве возмездия за гибель в плену 110 солдат «Лейбштандарта Адольф Гитлер» было расстреляно более 4 тыс. советских военнопленных (свидетельство Эриха Керна, служившего в 4-м батальоне «Лейбштандарта»). И это не единичный пример.
(обратно)18
До 5 октября 1941 г. – 2-я танковая группа. Однако в этом секторе наступала 1-я танковая армия (до 6 октября 1-я танковая группа) Клейста.
(обратно)19
Танки Клейста. Танки Гудериана в это время сражались под Тулой, рвались к Кашире.
(обратно)20
Немцы захватили Ростов-на-Дону 21 ноября.
(обратно)21
Советские войска освободили город 29 ноября.
(обратно)22
Сформирована в октябре 1939 г. как пехотная дивизия, с февраля 1940 г. на Западе, с августа 1941 г. на Востоке. В феврале 1943 г. преобразована в 4-ю полицейскую моторизованную дивизию СС, с декабря 1943 г. на Юго-Востоке, с сентября 1944 г. на Востоке.
(обратно)23
Ныне Донецк.
(обратно)24
Официально до октября 1943 г. «Лейбштандарт» именовался моторизованной дивизией, после октября 1943 г. – 1-я танковая дивизия СС.
(обратно)25
По английским данным, союзники потеряли 4350 чел., в т. ч. около 2700 пленными, около 700 погибшими, 1 эсминец, 33 единицы десантно-высадочных средств, 106 самолетов и 33 танка. Немцы потеряли около 600 чел. убитыми и 48 самолетов.
(обратно)26
Сосредоточив превосходящие силы, командующий группой армий «Юг» Манштейн уже 19 февраля перешел в контрнаступление против войск Юго-Западного и Воронежского фронтов, имея превосходство в людях и артиллерии в 1,2 раза, в танках и авиации в 2,4 раза. Еще большим было превосходство немцев над войсками Юго-Западного фронта, части которого под ударами врага были отброшены от Запорожья и Красноармейского и отведены к исходу 3 марта на рубеж реки Северский Донец.
(обратно)27
4 марта немцы начали второй этап контрнаступления, нанося главный удар на харьковском направлении. Они превосходили здесь поредевшие и измученные долгим зимним наступлением советские войска в личном составе в 2 раза, в артиллерии в 2,6 раза, в танках в 11,4 раза, в авиации более чем в 3 раза. В таких условиях советские воины стояли насмерть, героически сдерживая рвущегося к Харькову и далее врага, пока не подошли стратегические резервы.
(обратно)28
Белгород был повторно захвачен немцами 18 марта 1943 г., через два дня после Харькова, после чего враг на этом направлении был остановлен подошедшими резервами Ставки – 64-й и 21-й армиями.
(обратно)29
Одноместный истребитель, в предвоенные годы конкурировавший с самолетом «Мессершмитт-109», но уступивший ему. Выпущен в ограниченном количестве.
(обратно)30
Советские войска (как и русская армия в ходе Первой мировой войны) из этических соображений не применяли разрывные пули.
(обратно)31
Танки Pz VI «Тигр I» могли поражать Т-34 на предельных дистанциях (до 2000 и более метров), поскольку 45-мм броня советских танков совершенно не защищала от 88-мм снарядов «Тигра».
(обратно)32
Именно под Прохоровкой произошла кульминация Курской битвы. 12 июля 2-й танковый корпус СС прорвал третью полосу обороны советских войск и, казалось, вышел на оперативный простор, но был контратакован 5-й гвардейской танковой армией. Немцы были остановлены и оказались не в состоянии больше наступать, как и на соседних участках фронта слева (48-й танковый корпус) и справа (3-й танковый корпус). 16 июля враг начал отвод войск на исходные рубежи. Операция «Цитадель» провалилась. Советские войска перешли в контрнаступление. На северном фасе Курского выступа немецкое наступление было прекращено уже 12 июля.
(обратно)33
Т. е. III степени, II степень – серебряный (из посеребренной латуни, с 1942 г. из цинка), I степень – золотой (из золоченой латуни).
(обратно)34
Ныне называется Остбанхоф.
(обратно)35
Странное сообщение про цыган – их, как и евреев, отправляли в лагеря смерти для последующей ликвидации.
(обратно)36
23 августа 1942 г. немецкая авиация подвергла варварской бомбардировке Сталинград, совершив около 2 тысяч самолето-вылетов. Погибло 40 тыс. чел. гражданского населения.
(обратно)37
Ныне Хойнице на севере Польши. Причем польским он был уже после Первой мировой войны.
(обратно)38
Ныне польский Члухув.
(обратно)39
«Волчье логово» – условное наименование ставки Гитлера в Восточной Пруссии, в 1 километре восточнее города Растенбург (ныне Кентшин, Польша). Существовала до 20 ноября 1944 г., когда Гитлер с приближенными бежал в Берлин.
(обратно)40
Советские войска в Грецию не рвались, ограничились Болгарией и Югославией, а в Греции высадились (с 4 октября 1944 г.) англичане под предлогом преследования отступавших немцев, которые к концу октября покинули материковую часть Греции.
(обратно)41
Формирования ополчения, создававшиеся с осени 1944 г. по тотальной мобилизации мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. С февраля 1945 г. в «фольксштурм» призывались и женщины (с 18 лет).
(обратно)42
Здесь имеется в виду генерал Зейдлиц-Курцбах, сдавшийся в плен в Сталинграде и ставший позже во главе «Союза германских офицеров» и заместителем председателя комитета «Свободная Германия», члены которого действовали на линии фронта, призывая немецких солдат и офицеров к добровольной сдаче в плен.
(обратно)43
Были одноразовые «панцерфауст-30», стрелявшие на 30 метров (с августа 1943 г.), «панцерфауст-60» – на 60 метров (с августа 1944 г.); «панцерфауст-100», стрелявший до 150 метров (с ноября 1944 г.), имел отметки на прицеле (дырки с люминесцентными метками) на 30, 60, 80 и 150 метров – очевидно, здесь именно эта модель. Были и другие разработки.
(обратно)44
Легкий армейский автомобиль повышенной проходимости.
(обратно)45
Дивизия СС «Валлония» была сформирована в ноябре 1944 г. из 5-й добровольческой штурмовой бригады СС «Валлония».
(обратно)46
Имеется в виду взятие, после тяжелого боя, Парижа 19 (31) марта 1814 г. союзными войсками (около 100 тыс. чел., из них более 63 тыс. русских).
(обратно)47
Автор ранее пишет, что помогал в получении тела еврейской семье в концлагере Ораниенбург, в который также заходил и в другой раз. Упоминает и Дахау.
(обратно)48
Была сильно разрушена в ходе бомбардировки союзной авиацией 25 апреля 1945 г., в 1952 г. руины снесены, теперь лишь немногое напоминает об этом сооружении.
(обратно)49
Здесь автор откровенно лжет в расчете на неосведомленность западного читателя.
(обратно)50
13—14 февраля 1945 г. англо-американская авиация совершила три налета на город, в которых участвовало более 1400 бомбардировщиков. Было сброшено 3749 тонн бомб, в т. ч. около 75 % (2800 тонн) зажигательных. Второй и третий налеты совершались с целью воспрепятствовать спасательным мероприятиям, в третьем налете людей с малых высот расстреливали сотни истребителей. В результате было убито свыше 135 тыс. чел., многие тысячи получили ранения и ожоги, разрушено около 35 470 зданий. Некоторые поздние исследования дают меньшие цифры погибших, около 25 тыс., но они не могли учитывать огромное количество неучтенных беженцев.
(обратно)
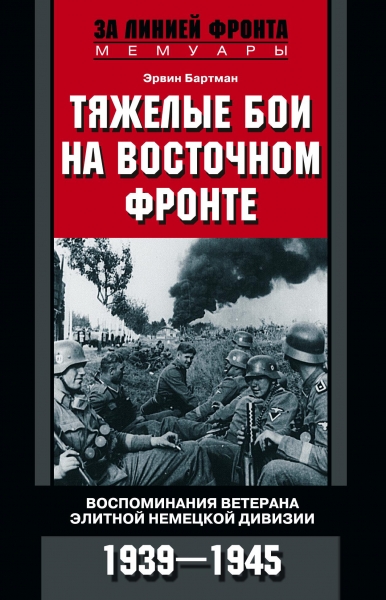
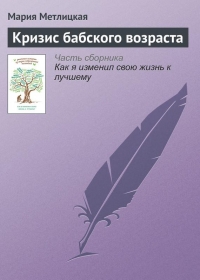
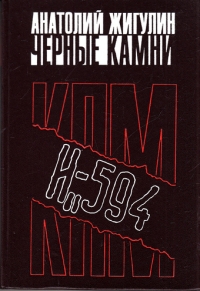
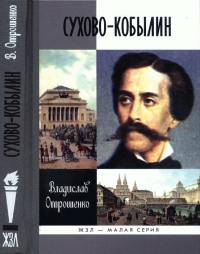



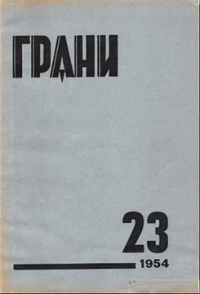
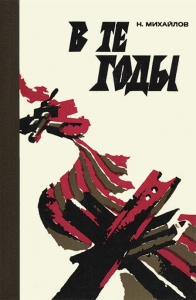

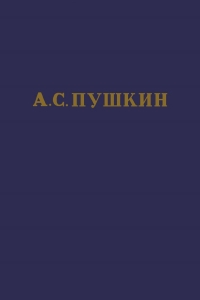
Комментарии к книге «Тяжелые бои на Восточном фронте. Воспоминания ветерана элитной немецкой дивизии. 1939—1945», Эрвин Бартман
Всего 0 комментариев