1989-й год для нас, советских немцев, юбилейный: исполняется 225 лет со дня рождения нашего народа. В 1764 году первые немецкие колонисты прибыли, по приглашению царского правительства, из Германии на Волгу, и день их прибытия в пустую заволжскую степь стал днем рождения нового народа на Земле, народа, который сто пятьдесят три года назывался "российскими немцами" и теперь уже семьдесят два года носит название "советские немцы".
В голой степи нашим предкам надо было как-то выжить в предстоящую зиму. Стройматериалов было мало, обещанных домов тем более, поэтому начали с землянок. Прошли годы и десятилетия, пока народ перебрался в деревянные и кирпичные дома.
В конце XIX — начале XX в.в. тысячам и тысячам наших дедов и прадедов пришлось повторить тот начальный этап нашей истории: нехватка земли заставила их перебраться в Сибирь, в Казахстан, в Оренбуржье. В дальнюю дорогу собирались тогда к лету, поэтому на новых местах опять оказались в преддверии осени и зимы, и снова пришлось начать с землянок.
В третий раз (если не считать "раскулачивания") начать с "нулевого цикла" вынуждены были уже практически все полтора миллиона советских немцев в 1941 году, когда, обвиненные Указом Президиума Верховного Совета СССР в пособничестве фашизму, они, за исключением попавших уже под оккупацию, были выселены из европейской части страны и с Волги в ту же переполненную болью, многострадальную Сибирь и в необъятный Казахстан. Это третье начало было самым трудным из всех, потому что люди был уже не званые желанные "гости", не экономическая "надежда" для диких земель, а "пособники врага", и получали не помощь, как раньше, а были при выселении лишены даже собственного имущества.
Видимо, философская спираль развития действительно существует, только наша история внесла в этот закон определенную поправку: процессы повторяются, но не обязательно на более высоком уровне…
* * *
Приступая к этим заметкам о советской немецкой литературе, отдаю себе отчет в том, что они никак не могут стать исчерпывающим очерком истории нашей литературы. Такого очерка не было у нас и не будет, видимо, еще долго, несмотря на солидный возраст нашей литературы, в том числе и советского ее периода. Для подобного очерка нужно сделать сначала первый шаг: провести инвентаризацию нашей литературы (чем основательно занимается уже много лет Вольдемар Эккерт). Свою же задачу я как действующее лицо в этой литературе и как редактор литературно-художественного альманаха, через который сейчас идет основной поток советской немецкой литературы, вижу в том, чтобы подготовить контурную карту, причем только послевоенной нашей литературы. Уточнять ее, расцвечивать, определять высоты и глубины — дело будущего. О необходимости такой промежуточной ступени в процессе создания книги по истории нашей литературы мне уже приходилось говорить на страницах газеты "Нойес лебен".[1]
Какой путь прошла наша литература за послевоенные почти полвека? В каком состоянии находится она сейчас? Есть ли у нее достижения и какие у нее трудности? Что нужно для дальнейшего ее развития? — Вот вопросы, на которые надо бы попытаться ответить уже сегодня.
Любое явление представляет собой результат, и чтобы лучше понять его, необходимо знать субстрат, на котором оно возникло, контекст, в который оно вписано жизнью. Наша российско-советская немецкая литература, пусть и возникла почти на пустом месте, все же тоже имеет свой контекст. Она жестко вписана в контекст истории российских и советских немцев, повторяя ее в своих медленных подъемах и сокрушительных падениях; она тесно связана с полной драматизма и трагедий советской литературой; наша послевоенная литература подпитывается, пусть и через почти перерубленные корни, от нашей дореволюционной литературы и литературы 20–30 годов, наследницей и продолжательницей которых она является; и, наконец, наша сегодняшняя литература — литература конца 80-х годов, выросла из мучительно встававшей на ноги послевоенной советской немецкой литературы. Без учета такого контекста, особенно исторического, невозможно понять нашу литературу, поэтому надо бы сначала показать именно этот контекст. Однако задача моя тут несколько облегчается тем, что исторический фон, на котором происходило становление и развитие нашей литературы, в некоторой степени был мною показан раньше, в статье "Советские немцы: проблемы и надежды"[2], а история советской литературы читающей публике известна, конечно, не хуже чем мне, поэтому достаточно будет, видимо, ограничиться кратким разговором о дореволюционной и довоенной литературе российских немцев с тем, чтобы сосредоточиться затем в основном на интересующем нас вопросе.
Часть 1
Начало литературы российских немцев совпадает по времени с переселением их предков в Россию: путевые заметки и впечатления о новой родине, написанные в стихах одним из переселенцев, офицером Бернгардом Платеном, можно считать первым литературным произведением российских колонистов. Этот факт стал пророческим символом будущей теснейшей связи их литературы с жизнью: рождение литературного первенца еще в пути на новую родину, рождение литературы одновременно с народом. Но здесь просматривается и знак судьбы: литература немецких колонистов навсегда стала для ее представителей — сельских писарей, учителей, пасторов, в лучшем случае журналистов — только попутным занятием. Даже сегодня советские немецкие литераторы, среди которых двадцать членов Союза писателей, лишь с переходом на пенсию могут начать основательно заниматься литературой; как это ни парадоксально для цивилизованного государства, при существующих возможностях публикации и оплате творческий труд, для которого нужны талант и десятилетия учебы и упорной работы, прокормить, в отличие от труда землекопа или водителя троллейбуса, не может.
Еще задолго до литературы непосредственно колонистов и потом полтора века параллельно с ней, очень мало с ней соприкасаясь, существовала довольно развитая литература прибалтийских немцев, ведущих свою историю в России с гораздо более давних времен и гораздо более тесно связанных с историей, культурой и литературой Германии. Значительных высот достигла немецкая литература в российских столицах Москве и Петербурге, также весьма автономная. Наконец, большой вклад в русскую литературу внесли литераторы немецкого происхождения, писавшие на русском языке (Д.И.Фонвизин, И.И.Хемницер, А.А.Дельвиг, В.К.Кюхельбекер, Л.А.Мей, Каролина Павлова, Е.Ф.Розен, В.И.Даль, Э.И.Грубер, Е.Б.Кульман и др.). Каждая из этих литератур представляет большой самостоятельный интерес. Однако нас, в связи с избранной темой, интересует в основном предшественница советской немецкой литературы — литература непосредственно колонистов.
Более века эта литература была довольно бедной: землепашцы и ремесленники, главной заботой которых был хлеб насущный, не могли создать необходимую для развития литературы и искусства материальную, социальную и духовную базу. Только начиная с последней трети XIX века литература немецких колонистов получает заметное развитие — сначала на Украине и в Одессе, а затем и на Волге. Большая часть произведений, в том числе и наиболее плодовитых авторов, которым принадлежало иногда до десятка повестей и романов, были написаны — иначе и быть не могло — в духе преданности "царю и отечеству". Ближе к началу XX века усиливаются демократические тенденции в литературе колонистов. Наиболее заметные произведения этого направления — повести известного педагога и просветителя Августа Лонзингера, давшего замечательное изображение жизни и нравов поволжских колонистов и оставившего яркие образцы живой крестьянской речи ("Nor net lopper g'gewa", "Hüben und drüben" и др.)
К 150-летнему юбилею образования колоний в Поволжье в 1914 году были написаны, также в близком народу духе, большая поэма "Кистер Дайс" (автор Давид Куфельд), в которой помимо жизни и уклада колоний описан один из опустошительных набегов кочевников, и пьеса "Михель-Киргиз" (авторы Готлиб фон Гебель и Александр Гунгер) о необычной судьбе немецкого юноши, увезенного кочевниками и проданного ими в рабство, о любви к нему киргизской девушки Сулейки, дочери хозяина, которая, жертвуя ради свободы любимого своей любовью, помогает ему бежать из плена к его невесте.
В связи с большим влиянием на жизнь колонистов духовенства, роль которого до Октября была велика и в выпуске газет и книг, дореволюционная литература колонистов несет на себе, как правило, достаточно выраженный отпечаток религиозности — надо полагать, что это было и необходимым условием, чтобы произведение увидело свет.
Первые годы Советской власти отмечены активной поддержкой, которую оказали ей прогрессивные писатели, в первую очередь зачинатели советской немецкой литературы Франц Бах и Георг Люфт. Годы эти, однако, не привели еще к значительным произведениям не только потому, что "большое видится на расстоянии" и требовалась некоторая дистанция для осмысления и отражения произошедших событий, но и по той простой причине, что и в Поволжье, и на Юге Украины, т. е. в местах наиболее массового проживания немцев-колонистов, шла ожесточенная гражданская война, в которой и они не могли не принять участия. Только немцы Поволжья сформировали в первые годы Советской власти четыре полка, сражавшихся на разных фронтах против белогвардейцев, а также против германских оккупантов на Украине.
Одним из первых произведений, показывающих путь к Октябрю немецких колоний (на материале Юга Украины), стала художественно-публицистическая повесть Г.Люфта "Искры Октября".
"Два имени боролись за право вести трудящийся люд: месяцами рекламируемое, пустое, кометное имя бросающего взгляды влево и вправо Керенского — жалкой карикатуры революции; у него решительно оспаривало право руководить пролетариатом доселе нами тщательно укрываемое, зажигательное, планетарное имя — Ленин. Керенский тускнел, сходил на нет и стал дергунчиком буржуазии. В нас всё больше рос Ленин — как лозунг и оружие"[3], - пишет в этом произведении автор.
И еще фрагмент:
"Победа — бедных. Тут же, ночью, избирается революционный Совет. Как его избирать? Никто не знает его структуры, никто не знает его программы. А, ерунда: просто избирают Совет рабочих, крестьян и солдат (большевиков). "Совет" — "большевики". Каким всё же дивным получился тогда этот сплав Совета и партии, каким верным и работоспособным! И разве нужна была еще специальная ячейка, чтобы вдохновлять нас на борьбу и на труд?"[4]
Такими искрами революционной убежденности брызжет это необычное произведение.
Советская немецкая литература двадцатых годов очень чутко реагировала на процессы, происходившие в русской литературе. Активно переводится на немецкий язык революционная поэзия. Кумиром для многих поэтов становится Маяковский. Большое значение имеет личный контакт советских немецких писателей и поэтов с русскими писателями и поэтами. Есть на кого равняться, есть с кого брать пример. Это помогает взломать национальную замкнутость дореволюционной колонистской литературы, расширить ее кругозор, проникнуться более масштабными идеями.
Вместе с тем советская немецкая литература переняла и яростный раскол среди писателей того времени, изматывающую групповщину с подменой художественных критериев политическими обвинениями. Определяющую роль в оценке творчества писателя начинает играть, как правило, его социальное происхождение. Драматизм процесса становления усиливается тем, что большинство писателей, точнее, литераторов, были тогда весьма молодыми, многие из них — начинающими, с еще не израсходованной "энергией заблуждения" (Л.Толстой). Позже, в тридцатые годы, трагичные для всей советской литературы, ситуация в советской немецкой литературе дополнялась мрачным оттенком обвинений в "проповеди фашистской идеологии" (достаточным поводом для которых было выражение своей любви к родному языку) со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В начале тридцатых годов, в преддверии I съезда советских писателей, были предприняты, вслед за всей советской литературой, попытки консолидации литературы. В декабре 1933 года состоялась конференция немецких писателей Украины в Харькове, в феврале следующего года — конференция немецких писателей Поволжья в Энгельсе, а в марте 1934 года в Москве прошла Первая Всесоюзная конференция советских немецких писателей, в которой активное участие приняли и писатели-эмигранты из Германии и Австрии и на которой многие писатели впервые увидели друг друга в лицо.
Четыре советских немецких писателя — Франц Бах, Герхард Завацкий, Андреас Закс и Готлиб Фихтнер — были делегатами I съезда советских писателей в 1934 году.
В тридцатые годы определенное влияние на советскую немецкую литературу оказали писатели-эмигранты, бежавшие из Германии и Австрии от фашизма в Советский Союз. Такие известные писатели как Иоганнес Бехер, Вилли Бредель, Эрих Вайнерт, Гуго Гупперт, Фридрих Вольф активно участвовали в литературном процессе, в работе писательских конференций, высказывали свои оценки произведениям советских немецких писателей, помогали им своими советами и опытом. Ряд эмигрантов надолго или навсегда связали свою судьбу с советской немецкой литературой, войдя в нее как полноправные ее представители (Зепп Эстеррайхер, Франц Лешницер, Эрнст Фабри, Рудольф Жакмьен, Гильда Анценгрубер)[5].
Уже в двадцатые годы в советской немецкой литературе начинает со всё большей силой проявляться ее существенная особенность: то, что она развивается, впитывая в себя активно и непосредственно опыт и достижения немецкой классической литературы, русской классики и многонациональной советской литературы. Уникальная, не имеющая аналога в других литературах страны, возможность пользоваться таким мощным тройным источником обусловлена тем, что советские немецкие писатели и поэты в большинстве своем свободно владеют, помимо родного диалекта, немецким литературным языком и русским языком, а нередко еще и каким-либо языком народов СССР. Можно только предполагать, какого расцвета на такой базе могла бы достичь литература советских немцев — во всяком случае, яркий ее всплеск начала тридцатых годов позволял, затаив дыхание, провидеть его к пятидесятым-шестидесятым годам. Однако этого не случилось. Вторая половина тридцатых годов унесла с собой всех немецких писателей Украины и большинство, причем наиболее талантливых — на Волге…
Произведения довоенного времени в большинстве своем уже не известны сегодняшнему читателю, т. к. за последние сорок восемь лет ни одно из них не было переиздано (если не считать ряда стихов, рассказов и фрагментов прозы в форме антологии). Наиболее значительное среди них до сегодняшнего дня — роман Герхарда Завацкого "Wir selbst". Над этим большим произведением (объем его пятьдесят авторских листов) Завацкий работал много лет. Главы из романа публиковались в немецких газетах и журналах того времени, но целиком роман до войны издан не был: как вспоминают современники писателя, сигнальный экземпляр романа был уже готов, но автор, который должен был получить его утром в один из дней 1938 года, его так и не увидел. И никто не увидел. Через сорок четыре года с помощью литературоведа Вольдемара Эккерта мне удалось разыскать в Красноярске вдову автора. Выяснилось, что все эти нелегкие для нее годы она берегла единственную во всем большом мире копию машинописного экземпляра романа своего мужа. Только после долгой внутренней борьбы решилась она доверить его редакции альманаха "Хайматлихе вайтен", где он и был, наконец, полностью опубликован в 1984–1988 годах.
Роман этот можно назвать советской немецкой "Поднятой целиной". Но в нём показан не только процесс коллективизации сельского хозяйства в немецкой деревне Поволжья; так же основательно и подробно он показывает социальные процессы, проходившие в городе, становление и развитие новых производственных отношений в промышленности, причем процессы эти изображаются в тесной взаимосвязи с судьбами многочисленных действующих лиц романа, через эти судьбы. Сложное, многоплановое произведение содержит живую и полнокровную картину всех слоев общества на протяжении от Октября до начала тридцатых годов: в нем действуют представители и бывшей буржуазии, и старой технической интеллигенции, и лавочники, и кулаки, и простые рабочие, крестьяне, выдвинутые новой жизнью на главные социальные роли.
Многочисленность действующих лиц, их социальная разноплановость, а также нелегкие задачи, поставленные себе автором: показать в художественном произведении процесс замены старых производственных отношений новыми, причем и в городе, и в деревне, показать сам механизм этих отношений в действии — всё это таило в себе большую опасность впасть в схематизм, декларативность, поверхностность в изображении сложных явлений того времени. Однако Завацкий успешно преодолел эту опасность: даже самые, казалось бы, "нехудожественные" явления, те, что и сорок лет спустя делали так называемые "производственные романы" нередко удручающе далекими от искусства, у него пронизаны живыми человеческими отношениями, интересами и развиваются через борьбу и конфликты.
Конечно, при отсутствии в советской немецкой литературе того времени опыта создания художественных полотен такого масштаба (о чем говорилось еще на писательских предсъездовских конференциях), рассчитывать на то, что Г.Завацкий сможет с успехом преодолеть все трудности такой задачи, было бы наивно. Сегодняшний читатель, знакомый с вершинными достижениями советской литературы за семьдесят лет, тем более с пришедшими к нему в период перестройки и гласности, найдет в романе и немало слабостей: безальтернативная апологетика официальной политики в сфере "классовой борьбы" и "сплошной коллективизации"; четкая одноцветность героев в зависимости от их классовой принадлежности, избыточная концентрация темных красок при характеристике отрицательных персонажей, следование стереотипу того времени в показе деятельности "старого спеца" инженера как обязательного противника нового строя, излишняя детализация в изображении событий и переживаний героев и т. п.
Однако об этих недостатках мы можем говорить сегодня. Тогда это была норма, это было обязательным, и кто писал иначе? Даже если писатель не был убежден в правильности происходящего, писать иначе он не мог. Нельзя вырывать писателя и его творчество из его эпохи. И если соблюдать этот принцип, то даже недостатки романа Г.Завацкого будут иметь для исследователя определенное положительное значение, ибо и они передают эпоху, ее дух, ее поиски, заблуждения и трагизм, показывают уровень развития общественной жизни, советской немецкой литературы и ее читателя того времени. Но бесспорным представляется одно: роман свидетельствует о большом художественном и эпическом таланте молодого автора, и то, что творчество, а затем и сама жизнь Г.Завацкого оборвались так рано, можно считать большой потерей для советской немецкой литературы, а может быть, и не только для неё одной…
К наиболее известным писателям довоенного периода относятся также Давид Шелленберг (1903–1954), автор неоконченного романа-трилогии "Жаждущая земля" и ряда других произведений; Христиан Эльберг (1889–1942), первый председатель писательской организации в АССР немцев Поволжья, директор Немецкого государственного издательства в Энгельсе, автор повестей и рассказов "На Волге", "Деревня на марше", "Фриц становится красноармейцем", "Новая бригада" и др.; Адам Райхерт (1869–1936), главный редактор республиканской газеты "Нахрихтен"; Готлиб Шнайдер (1893–1941) — чекист, партийный работник, народный комиссар сельского хозяйства республики, автор повестей "Бандиты", "Переворот", "Каменный холм" и др.; Франц Шиллер (1898–1955), известный в стране литературовед, специалист по западноевропейской литературе (ряд монографий и многочисленные статьи на русском языке); Иоганнес Шауфлер (1909–1935), автор ряда произведений прозы и книги стихов, и др.
Созданный в 1931 году в г. Энгельсе Немецкий драмтеатр потребовал и репертуара из новой жизни колонистов. Первой такой пьесой стала пьеса Андреаса Закса и Пауля Куфельда "Бьющие ключи", в духе времени посвященная практическим задачам — развитию животноводства в республике. Со временем А.Закс стал ведущим драматургом театра. Ему принадлежали также пьесы "Вознесение в ад патера Вуцки", сказка-пьеса "Фриц стал героем", историческая пьеса из жизни колонистов "Франц Крафт", драма "Родной очаг" и др.
В последние предвоенные годы советская немецкая литература значительно снизила свою активность и художественный уровень. Главная причина состояла в том, что представителей старшего поколения и поколения, чье творчество было рождено революцией, после тягот и репрессий тридцатых годов уже не было в живых или они были лишены возможности писать. Так, еще в 1930 году покончил с собой Пауль Рау, в 1934 году был репрессирован Иоганн Янцен, в 1935 году не стало Иоганнеса Шауфлера, в 1936 Адама Райхерта, в середине тридцатых репрессированы Карл Шмидт, Давид Шелленберг, в 1937 году — Франц Бах, а также Ганс Гансман, Петер Петерман и Эрнст Кончак (все трое проходили по одному делу и обвинялись в "связи с зарубежной буржуазией, подготовке вооруженного восстания против советского правительства, антисоветской агитации" и т. п.); в этом же 1937 году ушли из жизни Георг Люфт, Готлиб Фихтнер, Рейнгольд Гаан, Вольдемар Репп, в 1938 году репрессированы Герхард Завацкий и Франц Шиллер, в 1939 году не стало Петера Петермана и Ганса Лорера, в 1940 — Адама Эмиха…
Даже большая литература, лишенная разом стольких своих писателей, вряд ли могла бы оправиться от такого удара. Здесь же речь шла о маленькой литературе, в которой перечисленные имена составляли не только ее авангард, но и примерно половину личного состава.
Сильнейший удар по советской немецкой литературе был нанесен и тем, что во второй половине тридцатых годов на Украине, где проживало тогда большинство советских немцев, были закрыты не только все немецкие школы, репрессированы учителя, переведено преподавание в школах на русский язык, репрессированы все писатели, но и были закрыты все газеты и журналы на немецком языке. То же самое происходило в немецких национальных районах по всей стране; национальные школы, печатные органы сохранились лишь в АССР НП — до 1941 года.
На снижении активности немецкой литературы сказалось и то, что представители ее младшего поколения, формировавшегося тридцатыми годами, только еще делали свои первые шаги по суженной до лезвия бритвы тематической тропинке советской немецкой литературы (шаг влево, шаг вправо означал гибель), так и не получив ни в тридцатые годы, ни в последующие десятилетия возможности сказать что-либо в полный голос.
Часть 2
Начало войны, ликвидация Автономной республики немцев Поволжья, выселение всех советских немцев с Украины, Крыма, Волги, Кавказа, из Москвы и Ленинграда в районы Сибири и Казахстана прервали их литературу совсем и надолго. Годы войны, годы трудармии, когда всё взрослое немецкое население страны — и мужчины, и женщины — находилось в лагерях за колючей проволокой, где гибло десятками тысяч, были не просто годами непубликации. Это были фактически годы глубокого молчания, хотя несколько писателей и осталось в живых. На лесоповале в тайге работал Вольдемар Гердт, на лесосплаве на Северном Урале был Вольдемар Шпаар, в трудармии же были Андреас Закс и Виктор Клейн, банщиком в лагере был Доминик Гольман, на Северной Двине под Архангельском работала в женском трудармейском лагере Роза Пфлюг, из тюрьмы в трудармию был переведен Зепп Эстеррайхер, с фронта, из действующей армии были сняты и направлены в лагеря Андреас Крамер и Александр Бретман, на далеком Севере отбывали свой срок Эрнст Кончак, Давид Шелленберг, Нора Пфеффер, участник гражданской войны Рейнгардт Кёльн.
Переход от исступленного оптимизма первых лет Советской власти, пронесенного через опустошительный, небывалый для немецких колоний голод 1921 года, через беспощадные расправы с обеих сторон катившейся волнами по немецким колониям гражданской войны, через опережающие темпы сплошной коллективизации и второй опустошительный голод 1933 года, через приливные репрессии тридцатых годов — переход от этого неколебимого оптимизма, вызванного неодолимой для многих притягательной силой "великих, светлых и таких простых и понятных идей революции", — переход от этого оптимизма, всё же получившего некоторое оправдание в жизни (в 1940 году АССР НП была награждена за успехи в экономике и культуре орденом Ленина), к трагическому указу 1941 года, к трудармии, к лагерям — был, несмотря на далеко не лучезарное прошлое, таким потрясением, что не оставлял уже вроде никакой надежды. Потянутся ли у кого в такой обстановке "рука к перу, перо к бумаге"?
Видимо, писатель остается писателем, пока дышит. В альманахе "Хайматлихе вайтен" № 2 за 1988 год опубликована подборка стихотворений Вольдемара Гердта, в которую вошел и ряд стихов, написанных им в трудармейском лагере. Оказывается, В.Гердт не только пытался писать там стихи, но и вел дневник. Об этом, естественно, стало известно коменданту. К счастью, комендант не знал немецкого языка, а его сотрудница, русская девушка, сама вызвавшись прочитать дневник, постаралась оценить его содержание как можно мягче. И вместо того, чтобы уничтожить дневник, ибо возвращать его владельцу было нельзя, она оставила его у себя. Через двадцать лет после трудармии В.Гердт опять побывал в тех местах и случайно встретил эту девушку. К его изумлению, она сохранила его дневник и передала ему…
Писали, иногда на русском языке в трудармейские газеты, но чаще без всякой надежды на публикацию, Фридрих Больгер, Эдмунд Гюнтер, Андреас Крамер, Давид Вагнер, Александр Реймген.
Окончилась война. Горячие надежды трудармейцев, добившихся в лагерях права работать не для "искупления вины", а, как и весь советский народ, под лозунгом "Всё для фронта, всё для победы!"; надежды трудармейцев, что своим героическим трудом, тысячами и тысячами своих жизней, отданных делу победы, они показали, как несправедливы были по отношению к ним не только обвинения указа 1941 года в пособничестве врагу, но даже подозрения в возможности такого сотрудничества; надежды советских немцев на снятие с них всех обвинений, на возвращение в родные места, на восстановление их автономии и национальных районов — эти надежды потерпели сокрушительный крах. Победа не означала для них восстановления справедливости: они были оставлены там, где работали, только вместо колючей проволоки, вышек и конвоя была введена другая система надежного удержания в "колонне" — спецкомендатура и спецпоселение. "Шаг влево, шаг вправо" означали теперь уже не выстрел без предупреждения, а "всего лишь" двадцать лет каторжных работ…
Трудармия просуществовала в основном до 1947 года, режим спецпоселения — по 1955 год. За все эти годы у советских немцев не было ни одной газеты (до войны только в автономной республике выходила 21 газета), не вышло ни одной книжки (до войны только за три года было издано 555). Практически единственной книгой, которая оставалась в народе, была Библия — книга, священная не только утешительной, поддерживающей религией, не только списком дорогих имен (Библия была как правило фамильной книгой, в нее вписывались из поколения в поколение имена, даты рождения, крещения, конфирмации и смерти всех предков); эта книга была священна, может быть, всего больше потому, что была единственной книгой на родном языке. Мог ли догадываться неистовый и вдохновенный Мартин Лютер, совершая свой нечеловеческий подвиг по переводу Библии, какое поистине материальное значение будет иметь каждое, им из гущи народной взятое, пылающее ее слово через века, в неведомой ему далекой Сибири?..
Осталась позади война, минула и спецкомендатура. Советская немецкая литература по-прежнему не подавала признаков жизни. Да и как ей, после таких потерь, было подавать их? А потери были катастрофические. Только один из советских немецких писателей погиб непосредственно на войне — Христиан Эльберг, павший в рядах народного ополчения в 1942 году под Москвой. Остальных, лишенных права сражаться с врагом, ждала иная участь.
Не вернулись из трудармии и не дожили до отмены унизительного спецнадзора Франц Бах (похоронен на одной из сопок в Горной Шории в мае 1942 года), Герхард Завацкий (умер в 1944 году в Соликамске); в 1944 же году не стало Ганса Гансмана (Иоганнеса Келлермана) и Фридеберта Фондиса; в 1951 году — Германа Бахмана; в 1953 закатилась некогда яркая звезда Августа Лонзингера — сеятеля доброго, разумного, вечного, вынужденного замолчать еще в тридцатые годы; в 1954 году умер в Магадане Давид Шелленберг. Еще долгие годы после войны были в тюрьмах, лагерях и ссылках Рейнгардт Кёльн, Эрнст Кончак, Нора Пфеффер. (Собственно, в ссылке был весь советский немецкий народ). В Сибири ученый-лингвист с мировым именем, специалист по немецким диалектам, Андреас Дульзон переключился на изучение языка кетов — маленькой сибирской народности, получив позже за свое исследование Государственную премию. В 1955 не стало другого писателя и ученого с мировым именем, Франца Шиллера.
Мало кто остался в живых из целого эшелона с интеллигенцией республики немцев Поволжья, более 500 человек, привезенной в начале войны в Восточную Сибирь и направленной там на лесоповал в тайгу (Франц Бах, бывший именно в этом эшелоне, выдержал всего несколько месяцев).[6] И куда-то исчезло перед окончанием войны из трудармейских лагерей партийное и советское руководство автономной республики.
И если отметить также, что тысячи и тысячи советских немцев умерли еще во время выселения, по дороге в Сибирь и Казахстан; сотни тысяч погибли от голода и непосильной работы в результате сталинского геноцида в трудармии; десятки тысяч малолетних детей и стариков, оставшихся на произвол судьбы, без средств к существованию, без теплой одежды, без знания языка окружающего населения после мобилизации в трудармию всех мужчин и женщин трудоспособного возраста (женщины от 16 лет, мужчины — от 15) погибли в первые же зимы (см. воспоминания о том времени Фридриха Сиптица "А в сердце была Москва"[7] и профессора Давида Пеннера "Прокопьевск, трудармия"[8]) и если не забывать, что несколько сот тысяч немцев Украины попало под оккупацию, при отступлении гитлеровцев было вывезено в Германию и многие из них оказались после войны в западных зонах оккупации, откуда часть уехала затем в Северную и Южную Америку и Австралию; и если помнить, что все советские немцы в СССР после войны оказались так разбросаны от Магадана до Урала, что по сей день разыскивают друг друга — то можно, наверное, достаточно полно представить себе и состояние народа, и его моральный дух, и его проблемы, и — положение его литературы.
Если мы справедливо говорим сегодня, что репрессии 30-х — 40-х годов сказываются на советском народе до сих пор, особенно на старших поколениях, многие представители которых познали, что такое тюрьма или лагерь, то что говорить о советских немцах — народе, который весь, целиком, практически без единого исключения был репрессирован, перенес и тюрьмы, и трудармейские лагеря (где иногда специально люди совершали "преступления", чтобы попасть в лагеря заключенных — там было всё же легче, чем в трудармии), и вдобавок еще двадцать лет после войны не имел права возвращаться в места, откуда был выселен, и… Да разве всё перечислишь? Да разве всё передашь?
Почти пятьдесят лет целый народ не имел права хотя бы объяснить другим советским народам, что он никогда не имел ничего общего с врагом, что его сыновья так же погибали в борьбе с этим врагом, как и сыны всех других советских народов, и что он ни в чем не виноват, и нельзя его — только его, единственного из всех народов на всем земном шаре, держать до сих пор в наказанных за вторую мировую войну. Наша страна во многом помогла народу ГДР и многое сделала для развития дружбы между ним и советским народом; за последнее время круто повернулась наша политика в отношении к ФРГ, к установлению человеческих, дружеских контактов с ее народом; мы с теплотой и искренним восхищением относимся к японскому народу; мы радуемся культурным и иным связям с итальянским народом. А ведь из этих стран пошла на нас война, и там живы еще многие из тех, кто прошел по нашим селам и городам с оружием в руках. И если мы хотим сегодня еще кого-то винить и наказывать за ту жестокую войну, то почему именно советские немцы, и только они, несут всю ответственность за эту войну? В чем же их вина?
Нет виноватых народов. Но есть военные преступники, виновные в войнах и злодеяниях. И их надо судить. И их судили. А народы никто не судил, потому что не народ начинает войну. Тем более причем здесь советские немцы? Разве они возглавляли гитлеровскую Германию и ввергли ее в войну? Или советские корейцы, переселенные с Дальнего Востока, возглавляли ее? Или крымские татары?
Думаю, каждому нормальному человеку ясно: нет в нашей стране виновных за вторую мировую войну. Но были и еще есть те, кто свое неумение обеспечить свою страну и свой народ спокойной, свободной, сытой жизнью, свою неспособность уберечь свою страну и свой народ от войны, от колоссальных потерь и разрушений, всегда превращали в вину других. И тут виноваты были все: те, кто "непролетарского" происхождения; те, кто, несмотря на установку, что Бога нет, продолжают в него верить; те, кто знает и умеет хотя бы чуть больше, чем дающие указания; те, кто вообще говорит на языке, которым не владеет вождь или его соратники, не знающие толком и одного языка; те, кто из-за неспособности "верховного главнокомандующего" миллионами попали в плен в первые месяцы войны… Все виноваты, все должны трепетать, и каждый должен знать, что он в любой миг может быть "привлечен".
Эта система презумпции тотальной виновности и, следовательно, тотального недоверия и подозрительности, имеющая цель сохранить власть тем, кто до нее дорвался — эта система и является причиной бывших массовых обвинений. А дальше уже шло по инерции, ибо изменить что-то в этой системе означало поставить под сомнение совершенство всей системы, а от этого уже было бы недалеко до возникновения сомнения в праве власть имущих на власть. Доказать же это право миллионам простых людей, если подачек для поддержания "верности" и "преданности" хватает только на ближайших, невозможно…
Мы дожили до иных времен, дожили до смелой ломки этой системы, доживем и до действительной, а не формальной реабилитации народов, виновных до сих пор лишь в том, что они полвека назад были несправедливо признаны виновными.
Но вернемся еще раз в то время, к той теме, от которых несколько отошли. Попытаемся коротко охарактеризовать состояние советской немецкой литературы в 1955 году, накануне ее нового этапа.
Кадровый ее состав был почти полностью истреблен. Из старых писателей-интеллигентов в живых не осталось никого. Из 30-40-летних, которые успели ощутимо заявить о себе в тридцатые годы, остались в живых только Андреас Закс и Доминик Гольман, менее известны из этого поколения были Эрнст Кончак, Зепп Эстеррайхер, Рейнгардт Кёльн, Давид Левен, Генрих Кемпф, Иоганн Янцен. Из молодых тогда, 25-30-летних, только начинавших до войны в литературе, осталось в живых мало: Виктор Клейн, Герберт Генке, Вольдемар Эккерт, Лео Фриц, Карл Вельц… Те, кто был до войны еще моложе, в 1955 году были как литераторы практически еще не известны.
Писателей первой величины после войны не оставалось. Не было и профессиональных писателей: литераторы были, как правило, педагоги, которые попутно занимались литературой. Представители послевоенного старшего поколения литераторов, успевшие что-то сделать до войны, были по происхождению в основном из крестьян и рабочих, и их путь в жизнь и в литературу пришелся на тяжелые времена, так что, пройдя большую и суровую жизненную школу, они обычно не имели возможности получить хорошее образование и широкий кругозор. Получше с образованием было у средней группы, но их путь в литературе был прерван в самом начале, причем на долгие годы, что, конечно, не могло не сказаться потом. Еще хуже обстояло дело с теми, кто шел за ними: не успев доучиться в вузах к началу войны, они и в литературе практически ничего не успели сделать, а ведь в литературе как с разговорной речью у детей: чем позже начинать, тем труднее получается.
Таким образом, всем этим людям предстояло теперь где-то отчаянно работать, чтобы прокормить семью и себя и восстанавливаться или только еще делать свои первые шаги в литературе.
Совершенно беспросветным было положение с возможностью для публикации. В стране не было ни одного книжного издательства, ни одного журнала, даже ни одной газеты, где могли бы напечатать свои произведения советские немецкие литераторы — если бы они таковые написали. Надо не забывать и о том, каким было после войны в стране отношение ко всему немецкому, — после войны, когда у каждого советского человека еще кровоточило сердце и когда слово "немец" по-прежнему означало "враг".
Казалось, что советской немецкой литературе уже никогда не восстать из праха…
Часть 3
В конце 1955 года был отменен режим спецпоселения для советских немцев. В конце этого же года в Барнауле, краевом центре Алтая, появилась первая с начала войны небольшая газетка на немецком языке. Название ей дали без особой фантазии, зато идейно выдержанное: "Арбайт" — "Работа". После ее закрытия менее чем через полтора года (апрель 1957) были созданы газеты такого же формата уже в райцентрах Алтайского края "Роте Фане" ("Красное знамя") в г. Славгороде и "Арбайтсбаннер" ("Знамя труда") в Знаменском районе. Последняя просуществовала до 1959 года, "Роте Фане" выходит до сих пор.
Газета "Арбайт" очень быстро завоевала популярность у немецкого населения. Главный редактор ее был русский, Пестов, до этого он работал в Берлине заместителем главного редактора газеты советской военной администрации "Теглихе рундшау" ("Ежедневное обозрение"). Русский редактор, тем более имевший опыт работы на таком уровне, мог позволить себе тогда, конечно, гораздо больше, чем редактор-немец. Возможно, это и было причиной назревания конфликта между редакцией и местными органами. Тем не менее, газета успела собрать вокруг себя хороший актив, возбудить надежды у советских немецких литераторов, сдуть холодный пепел с едва тлеющих угольков их творчества. Отношение газеты к литературе определялось во многом позицией главного редактора, который считал, что один рассказ стоит десяти статей. В редакции работали Андреас Крамер, Иоахим Кунц, литконсультантом у нее стал Иоганн Варкентин, сотрудничали с газетой Эвальд Каценштейн, Вольдемар Шпаар, Вольдемар Гердт, Виктор Клейн, из Томска посылал свои первые после тюрьмы и трудармии стихи Зепп Эстеррайхер. Все они, за единственным исключением, стали позже членами Союза писателей.
Не менее сильный состав образовался в редакции газеты "Роте Фане". В ней работали уже упоминавшиеся Вольдемар Гердт, Вольдемар Шпаар, Андреас Крамер, а также ставшие со временем тоже членами Союза писателей Фридрих Больгер и Эдмунд Гюнтер. Какая районная газета в стране может похвастаться одновременно пятью писателями в своем небольшом штате? И даже какой райцентр? А между тем все они проработали в редакции до пенсии, некоторые уже умерли, остальные живут всё там же, среди своих читателей…
1 мая 1957 года в Москве, в издательстве "Правда", вышел первый номер центральной газеты на немецком языке с уже более оптимистичным названием "Нойес лебен" ("Новая жизнь"). Как и газету "Арбайт", газету "Нойес лебен" возглавили бывшие работники советской оккупационной газеты в Германии, люди русской и еврейской национальности. Они прилагали большие усилия, чтобы установить контакт с немецким населением, пытались по инерции ввести его "в лоно социализма", провести среди него какую-то работу — ведь немецкие газеты были единственными в стране органами, которые вели идейно-воспитательную, а часто и организационную культурно-массовую работу среди немецкого населения в те тяжелые годы. Однако нужный контакт установился не сразу. С трудом формировался на первых порах и корреспондентский актив, налаживалось сотрудничество с писателями. Но XX съезд КПСС и последовавшее за ним восстановление государственности ряда других советских народов, также несправедливо репрессированных в годы войны, вызвало и у немецкого населения большие надежды, что и привело к определенному сближению газеты и читателей.
Однако отсутствие в аппарате редакции, не говоря уже о ее руководстве, представителей советских немцев не могло не осложнять работу газеты. Она воспринималась такой, какой и была на самом деле: газетой не советских немцев, а для советских немцев. Неоправдавшиеся надежды народа на восстановление автономии в конце пятидесятых годов, отказ в восстановлении ее в 1965 году, когда этот вопрос дважды ставили в Москве первые две делегации советских немцев, жесткое подавление после этого всяческой культурной жизни вплоть до самодеятельности среди немецкого населения (из-под этого пресса взметнулась волна эмиграции) привело со временем к тому, что название газеты "Новая жизнь" воспринималось ее читателями уже как горькая насмешка. Политическая обстановка в стране по отношению к советским немцам была достаточно беспросветной, если даже центральная газета, созданная специально для работы среди советских немцев и издававшаяся газетой "Правда", не могла пробить через местные партийные и советские органы решение простейших вопросов.
Тем не менее, "Нойес лебен" с годами всё больше способствовала возрождению советской немецкой литературы. Казалось бы, что в состоянии сделать одна газета, причем даже не литературная, для развития литературы более чем полуторамиллионного тогда народа? Но до такого состояния уж была доведена эта литература. Ведь ей пришлось, как никогда раньше за два века своей истории, начинать с нуля. Даже через шесть лет после создания газеты на ее литературных страницах всё еще большое место занимали переводы прозы и стихов из советской литературы.
Начинать с нуля литературе пришлось не только в количественном, но и во многом в качественном отношении. Ибо художественный ее опыт, накопленный в прошлом, тоже остался далеко позади. Тем более если учесть, что художественные достижения — это не достижения науки и техники, которые последующее поколение, изучив и освоив, может развивать дальше; в литературе и искусстве каждый проходит свой путь вверх от общей для всех отметки — "уровня моря", каждый покоряет свою вершину, причем в одиночку, а не в альпинистской связке, и совсем не обязательно, что он доберется до сияющих пиков, на которых закончили свой путь его предшественники.
Разбросанные по всей стране литераторы только через газету узнавали, кто еще жив и где кто находится. Вскоре практически все, кто имел хоть какое-то отношение к литературе, стали появляться на еженедельной литературной странице "Нойес лебен". Начинали действительно "с нуля": со шванков (юморесок фольклорного характера на диалекте), со стихов, с небольших рассказов.
Особенностью советской немецкой литературы того времени является отсутствие в ней разделения на прозаиков и поэтов. Практически все пишут стихи и все пишут прозу. При этом многие выступают еще со шванками, заметками, статьями, с литературной критикой и, естественно, как переводчики советской поэзии на немецкий язык. Это не следствие разносторонности дарований, а всего лишь синкретизм: большинство литераторов в послевоенной литературе находились на начальной стадии литературного творчества, когда не определилась еще направленность автора, когда он как литератор еще "познает мир", активно и нетерпеливо откликаясь на всё увиденное, и когда еще нет в работе больших тем, нет того крупного, важного, что уже не позволяет тебе отвлечься на второстепенное.
В 1958 и 1962 годах в Красноярске собираются совещания-семинары советских немецких литераторов, такие же совещания начинают проводиться в Москве. В 1963 году к четырём нашим членам Союза писателей с довоенных времён (Андреас Закс, Доминик Гольман, Герберт Генке и Генрих Кемпф) добавилось ещё четверо: Виктор Клейн, Эдмунд Гюнтер, Рудольф Жакмьен и Фридрих Больгер. При Правлении Союза писателей СССР создается Комиссия по советской немецкой литературе; возглавить ее попросили известного критика Александра Дымшица, пусть и не имевшего никакого отношения к советской немецкой литературе (ей тут не привыкать), но ставившего ее проблемы перед соответствующими инстанциями четко, масштабно и по-деловому. Не его вина, что практических результатов не последовало…
Если первые десять послевоенных лет — это годы полного безмолвия советской немецкой литературы, то вторые десять лет — с 1955 по 1965 — это годы возрождения: время робкой пробы сил (а не утрачено ли уже всё? а можем ли еще?), затем всё более уверенных выступлений, обретение своего голоса, консолидация сил, получение определенного признания, начало издания книг. Этот период имел большое значение не только для самой литературы, но и, через нее, для читателей: именно в этот период наблюдается наивысший интерес читателей к литературе, к газете (тираж ее в 1965 году достиг пика — четверть миллиона! сейчас около 100 тысяч). Во многом это было связано с атмосферой в стране после XX съезда, с большими надеждами, которыми жило немецкое население страны, тем более, что некоторые основания для надежд были: с 1957 года было введено изучение родного языка для детей немецкой национальности в школах, создано отделение по подготовке учителей немецкого родного языка и литературы в Новосибирске (его возглавил Виктор Клейн, ученики которого сделали потом очень много для поддержания родного языка и литературы), бурно развивалась самодеятельность. Однако не стоит заблуждаться: надежды у советских немцев были в сердце, но на страницы газеты они не выходили. Ведь указ 1941 года еще не был отменен, и они по-прежнему считались пособниками фашистов. А когда в августе 1964 года был, наконец, принят указ, реабилитировавший советских немцев, то он даже не был опубликован в русской печати. Только в январе 1965 года он появился на немецком языке в "Нойес лебен", и тогда советские немцы увидели, что указ 1941 года отменяется лишь в "части, содержащей огульные обвинения"; что же касается отмены наказания за несправедливые обвинения, то этого не последовало: автономия советских немцев не была восстановлена. А в 1965 году, после резкой негативной реакции верхов на обращения делегаций по этому вопросу, основания для оптимизма у советских немцев исчезли опять на долгие годы.
Такое положение советских немцев не могло не сказываться на положении и их литературы. Прежде всего, оно отражалось на ее тематике: все эти десять лет, прошедшие под знаком XX съезда и давшие возможность, например, русской литературе сказать немало по сравнению с предыдущими годами, для советской немецкой литературы сохраняли табу на главные вопросы ее читателей: реабилитация, восстановление равноправия с другими советскими народами, восстановление автономии, отмена запрета на возвращение в места, где проживали до выселения, возрождение национальной культуры и языка, освещение вклада советских немцев в дело Победы во время войны на фронте и в трудармии. Обо всем этом нельзя было писать ни в публицистике, ни в художественной литературе. Даже перевод проникновенной, потрясшей всех немцев Поволжья созвучностью их судьбе песни Льва Ошанина "Течет река Волга…", написанной совсем не о них, был опубликован в "Нойес лебен" лишь после долгих и небезосновательных раздумий, ибо упоминать не только АССР немцев Поволжья, но и вообще Волгу было нельзя…
Понятно, что в таких узких тематических рамках, выключающих из сферы отражения главные вопросы жизни народа, его прошлое и настоящее, никакая литература не может быть полнокровной (даже если опустить здесь вопрос об "издательских возможностях" в виде газетной полосы раз в неделю). О чем же писала советская немецкая литература?
Регулярно публикуя стихи и рассказы на своих страницах, "Нойес лебен" проявила заботу и о выпуске книг советской немецкой литературы. Первый достаточно представительный сборник вышел в 1960 году в издательстве "Прогресс" в Москве. Назывался он "Hand in Hand" ("Рука об руку" — названиям, как видим, по-прежнему придается большое значение; поистине больше всего кричат о том, как вольно дышится, когда дышать уже нечем). Составлен он был из уже опубликованных стихов, рассказов, шванков и переводов. В предисловии говорилось, что сборник является свидетельством того, что "многообразная богатая жизнь нашей родины помогла достичь таких высот культуры" даже простым трудящимся, что они "в свободное от работы время вполне могут браться за перо".[9]
Предисловие подписано "От издательства", но в этой фразе проглядывает всё тот же работник оккупационной газеты, пытающийся убедить "массы" в результативности своей политики даже в сфере духовной жизни (как известно, в ГДР после войны было очень развито в литературе движение за массовость и демократизацию творчества путем широкого вовлечения в него "шрайбенде Арбайтер" — "пишущих рабочих"). Во всяком случае, предисловие не дает оснований предполагать, что это сами авторы, даже пусть под воздействием оглушающей радости от предстоящего наконец-то выхода их произведений в форме книжки, могли сказать такую фразу серьезно.
Эпиграфом к сборнику был вынесен "Советско-немецкий сонет" Иоганнеса Вайнингера (подстрочный перевод мой):
В оркестр нашей (советской) поэзии Вступает и поэзия советских немцев. Пусть ее место еще и в последних рядах, Она все же часть великой симфонии. Разнообразен тембр ее звуков, Каждый инструмент ведет свою мелодию. Но ни один, ни один не нарушает гармонии Посвященных советской стране высоких песнопений. Ещё тихо звучит игра немецкой арфы, Недостает у нее некоторых важных струн, Но несмелые звуки ясны и чисты. Мое тихое желанье, сокровенная цель моей жизни, Моё неустанное стремленье: когда-нибудь стать Одной из скромных струн этой арфы.Если учесть, в какое время и после каких лет этот сонет был написан, то можно сказать, что из его поэтических и смягчающих образов прямо-таки кричит драматизм тогдашнего положения советских немцев и их литературы. "Арфа" советской немецкой литературы после сорока лет советской власти действительно опять только еще "вступала" в советскую литературу, и после репрессий тридцатых годов, после трудармии сказать, что у этой арфы "недостает некоторых важных струн", значило выразиться весьма мягко: она осталась почти вообще без струн. И ее "несмелые звуки" вполне отражали уход советских немцев в себя, который до сих пор воспринимается многими советскими людьми как непонятная национальная замкнутость. И не могли, не имели права струны этой арфы нарушить "гармонию" всей советской литературы, зарокотав вдруг трагически, гневно и непокорно. "Шаг влево, шаг вправо…" — это не было забыто, это и не давали забыть. Трагизм положения советской немецкой литературы и всего народа переносился, может быть, чуть легче лишь потому, что советские немцы, несмотря на всё пережитое, по-прежнему верили в идеалы социализма (в этом мы еще убедимся на других примерах), поэтому звуки их арфы были и остаются в идеологическом отношении до сих пор так "ясны и чисты".
Если пролистать сборник "Рука об руку", в определенной степени обобщивший творчество первых нескольких лет, мы получим довольно полное представление о том, что писали советские немецкие поэты (точнее, что публиковалось тогда из их творчества) — после тяжелейшей войны, трудармии, несправедливостей, дискриминации целого народа, фактического уничтожения его культуры и литературы, когда до его реабилитации оставалось еще целых пять лет. Уже названия стихов дают представление о их темах и содержании: "Дядя Генрих голосует", "Осень", "Дом и родина" (об успехах родины, позволяющих и лирическому герою иметь теплый, светлый, защищенный от "зимы" дом), "Я пою мой народ" (о дружной работе советских немцев вместе с другими народами в стране Ленина), "Новая река" (о строительстве ГЭС), "Что нас от победы к победе ведет…", "Ленин", "Енисей", "Впереди времени", "На лыжах", "Почтальон", "Мне можно позавидовать", "Зима сказала: до свиданья", "Утренний привет", "Советские флаги в космосе", "Советская звезда", "Голос с Целины", "Пою мою страну", "Миллионы пудов", "Комсомол", "Гость из Африки" и т. д. Пожалуй, только в двух стихотворениях можно было, и то лишь посвященному читателю, предположить связь с запретным прошлым, но тем более унизительное впечатление они производят. Это стихи "Иван и Иоганн" и "Баллада о лесе" Зеппа Эстеррайхера, в которых блестящей техникой стихосложения из начисто отринутых мрачных, гибельных трудармейских впечатлений создается праздник свободного труда и "борьбы" за выполнение плана…
Действительно, этот сборник вполне подтверждал правильность констатации "советско-немецкого сонета": "ни один, ни один не нарушает гармонии посвященных советской стране высоких песнопений". Если судить по нему о жизни советских немцев, то можно предположить, что никогда она — ни до, ни после — не была такой счастливой и безмятежной, как в те годы.
Есть такое немецкое слово: "цвек-оптимисмус", т. е. оптимизм, преследующий практические цели. Возможно, в какой-то степени тональность и содержание того сборника могут произвести впечатление такого оптимизма. Ряд фактов, однако, показывает, что его следует воспринимать всё же лишь как выделенную из всей гаммы нормальных чувств литераторов ее "нужную", дозволенную и простимулированную составляющую. Поднимется ли сегодня у кого-нибудь рука, чтобы обвинить авторов сборника тех лет?
О том, что сборник отражал далеко не всё из того, что уже тогда волновало советских немцев и их писателей, говорят не только написанные в то время (и опубликованные позже) произведения, но и некоторые события тех лет. Так, в апреле 1962 года в Кокчетавской области в г. Щучинске (Казахстан) была созвана всесоюзная атеистическая конференция, на которую было приглашено около 400 учителей, лекторов, преподавателей вузов, литераторов из числа советских немцев. Когда одному из выступавших был из президиума задан вопрос, что конкретно нужно для снижения возросшей религиозности советских немцев, в ответ прозвучало: "Свобода, объединение, воссоздание автономии". Под гробовое молчание президиума оратор сошел с трибуны и — зал встал и устроил ему овацию.
(Небезынтересная деталь: в своей статье об истории и проблемах советских немцев, говоря о смертности в трудармии, я упоминал, не называя фамилии, об одном человеке, который из отряда в две тысячи человек остался в живых один. Это и был тот оратор в Щучинске, Иоганн Латеган.)
Через два года, осенью 1964 года, в ЦК КП Казахстана в связи с приездом члена редколлегии газеты "Нойес лебен" В.Медведева был приглашен актив советской немецкой интеллигенции. Очень скоро разговор перешел на то, что по слухам принят указ о реабилитации советских немцев. В.Медведев подтвердил, что такой указ принят (речь шла об указе Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 года, снявшем обвинения, содержавшиеся в Указе 1941 года). Около получаса приглашенные настаивали на ознакомлении их с текстом этого указа. После длительных и убедительных заверений в том, что в ЦК текста указа нет, он всё же был "найден". Ознакомившись с ним, люди говорили уже не столько о газете "Нойес лебен", сколько о непоследовательности указа и о необходимости восстановить автономию советских немцев, ликвидированную на основе отмененных теперь несправедливых обвинений в 1941 году.
Эти настроения не могли не найти своего отражения и в литературе. В июле 1962 года состоялся семинар советских немецких литераторов в Красноярске. В последний его день Виктор Клейн зачитал фрагмент из своего романа; фрагмент назывался "Последняя могила". В нем мощно, крупными мазками изображалась драматическая картина выселения немцев Поволжья, кричащее несоответствие этого акта патриотизму советских немцев, всей их жизни и сути. Фрагмент этот был написан в 1960 году, опубликован — 28 лет спустя…
В 1962 году была написана поэма Иоганна Варкентина "Ты, советская немка". Большая, полифоничная, полная трагизма и лирики, она в допустимой тогда мере отразила судьбы советских немцев в годы войны и после нее (опубликована была в декабре 1963 года в "Нойес лебен")…
Однако запрет касаться проблем в жизни народа действовал, он существовал и в последующие два десятилетия, прихватив даже пару лет перестройки, и имел следствием преобладание в советской немецкой литературе произведений, очень слабо окрашенных национальной проблематикой. Если писатель не может говорить о главном в жизни своего народа, то литература всегда ущербна, и критик, не желающий учитывать положение писателя, всегда может бичевать литературу за лицемерие. Так было и с советской немецкой литературой. Стихи и рассказы писались, как правило, на сугубо газетные темы (можно допустить, что место их публикации тоже налагало определенный отпечаток на содержание): о мире на Земле, о гордости за достижения Родины, об интернационализме, а также на вечные темы — о природе, о любви. Всё это приводило, например, некоторых западных исследователей советской немецкой литературы (да и наших критиков может сегодня привести) к выводу, будто и темы эти, и сам патриотизм советских немцев были принудительно навязанными и, т. о., вымученными. Дело всё же в другом. Принудительным было жесткое ограничение тематики творчества этими темами, что совсем не означает, будто фальшиво всё писавшееся и публиковавшееся на эти темы. На мой взгляд, в подавляющем своем большинстве это были всё же честные стихи, и пафос их авторов неподдельный.
В качестве одного из доказательств такого вывода можно привести недавнюю публикацию Розы Пфлюг: "Права ли, не права…" в газете "Нойес лебен"[10]. Исходный тезис ее: независимо, справедлива была Россия по отношению к нам или несправедлива — она наша родина.
"Наше мировоззрение, — пишет автор, — формировалось под воздействием русской культуры и великой русской литературы. Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Есенин — ведь они живут в нашем сердце. Их влияние на наш духовный мир ни в коем случае не сужает влияния великих немцев — Гете, Шиллера, Гейне, Бетховена… Я думаю о времени, когда в первом социалистическом государстве мира вообще не будет больше никаких республик и национальных образований. Братство народов — далекая, но и реальная цель наших устремлений".
Заключает свое выступление Роза Пфлюг стихами (подстрочный перевод мой):
Снова прошел день, Чисто голубое вечернее небо, И я говорю с Россией Тихо на родном своем языке. Россия, ты моя Родина, Ты начинаешься за краем села, Где цветут степные тюльпаны И где стояла когда-то моя колыбель. Ты рано позвала меня В широкий мир, Но дороги твои привели Меня обратно в отчий дом. Торжественна вечерняя тишина. Окутаны сном деревья. Спасибо тебе, родная Россия, Сердцу моему дорогая и близкая.Кого-кого, а Розу Пфлюг никак нельзя заподозрить в том, что страдания ее народа прошли мимо нее. Наоборот, она до конца испила эту чашу сама. Нельзя ее упрекнуть и в консерватизме: одна из первых в советской немецкой поэзии она выступила в начавшейся перестройке с сильными, выстраданными стихами в духе гласности. Да и в приведенном выступлении есть еще одно стихотворение, целиком в этом духе гласности. И вместе с тем…
Как-то неловко становится от этого следования стереотипам прошлых лет, от неразборчивой готовности всё оправдать. Видимо, в нас настолько глубоко вбили лозунговые стереотипы, до примитивизма которых были со временем сведены великие идеи, что освободиться от рефлекторной реакции на них мы не сможем еще долго.
Слияние народов в "одну семью", где исчезнут все языки и нации и где даже цветом кожи все будут одинаково "приятно смуглявые", как мечталось герою "Поднятой целины" Макару Нагульнову… "Мировая революция", в которой главным средством скорейшего достижения этого слияния является просто "ликвидация класса буржуев и эксплуататоров"… "Построение коммунистического общества" — к 1937 ли году, или к 1977, неважно, — для чего тоже нужно как можно быстрее "ликвидировать" всё и вся, что "мешает": интеллигенцию, "буржуазную" культуру, кулаков, "подкулачников", единоличное хозяйство, крестьянство вообще, "всех, кто не с нами", нужно "отречься от старого мира", "разрушить его до основанья", для надежности "отряхнуть его прах с наших ног", чтоб уж ничто не связывало нас, "чистых", с нашим безнадежно проклятым прошлым… "Построение развитого социализма" и создание "новой общности — советский народ" тоже требует "ликвидации": национальных школ, родного языка, национальной культуры, самостоятельности национальных образований или, еще лучше, их самих, устранения хозяйственного суверенитета — от звена на колхозной ферме до союзных республик…
Всё это очень похоже на то, как Мюнхгаузен забирался на Луну по стеблю "быстро растущей" турецкой фасоли и спускался оттуда, постоянно обрезая над собой веревку, чтобы надставить ее снизу. Только у нас нет даже его терпения дождаться, когда наша "фасоль" дорастет до Луны; мы пытаемся всей нашей тяжестью подниматься по еще неокрепшему, растущему "стеблю" и нетерпеливо срезаем его начисто под собой — даже не для того, чтобы надставить сверху, а просто чтобы "ускорить" наступление ощущения "пройденного пути" и "достигнутых высот", ощущения дистанцированности, освобожденности от нашего прошлого, никак не позволяющего нам выглядеть разумными людьми.
Когда же мы поймем, что путь к "светлому будущему" у всех у нас в этом мире общий и один: создавать, а не ломать; сотрудничать, а не уничтожать друг друга? Что как наше настоящее вышло из прошлого, так и будущее выходит из сегодняшнего, и "светлость" завтрашнего дня очень зависит от того, сколько световых люксов в нашей жизни сегодня? Лучшее и скорейшее построение "светлого будущего" — это создание каждым поколением для себямаксимально свободной, обеспеченной, счастливой жизни. Не может быть свободным общество нищих; духовность и нравственность должны иметь под собой достаточную материальную основу в виде благополучия каждого. Наивно полагать, что голодный, во всем нуждающийся — от жилья до хозяйственного мыла — человек в состоянии построить общество свободы, равноправия и справедливости, общество, в котором не будет насилия. Голодный может в лучшем случае распределить поровну, что значит отнять у имущих и передать неимущим — вспомним булгаковского Шарикова! Но от этого материальных ценностей в обществе не прибавится, и богаче общество не будет, и больше любить друг друга его члены тоже не будут, и стимулов работать хорошо тоже ни у кого не будет.
Путь к "светлому будущему" не в том, чтобы ломать, уничтожать, отбирать и запрещать, и не в том, чтобы ради этого будущего без конца только жертвовать — собственным благополучием, интересами, свободой, своей жизнью и жизнью других. Наиболее короткий путь к этому будущему — предоставление максимальной свободы и самостоятельности каждому и во всём: в работе, в общественной жизни, в осуществлении гражданских обязанностей, в сохранении и развитии родного языка, национальной культуры, в достижении благополучия своего народа, всей страны. А жизнь, всё большее переплетение трудовых, культурных, экономических связей в ходе решения всё более общих для всех на Земле задач заставят людей и народы всё теснее сближаться друг с другом, всё больше вырабатывать общий язык, перенимать друг у друга и усваивать культурные и иные ценности, приходить к общим критериям и к общей позиции. "Светлое будущее" — это не объявленное декретом "единство" и "равноправие" масс, предварительно лишенных всех своих особенностей, а естественное сближение всё более свободных, независимых, высококультурных людей, для которых многие вопросы, тем более вопросы питания и одежды, как проблемы уже не существуют.
Что же касается формирования личности "строителя будущего", то не может стать полноценной личность, чей путь в будущее ведет по глухому коридору при непрерывных окриках, понуканиях и принуждении, и не может общество стать полноценным, здоровым и продуктивным, если обрубает один за другим свои корни, срезает одну за другой свои тянущиеся к солнцу ветки или перепиливает себе ствол, пытаясь оторваться от своего прошлого. И как у дерева, не может быть в обществе так, чтобы работали только корни, а листья лишь шелестели. Работать должны все: и корни, и ствол, и листья, посылая, пока не опали, солнечный свет и энергию стволу и корням.
С этим лозунгом о "светлом будущем" мы долгое время выглядели как премудрый Карапет на ишаке, держащий впереди него привязанную к палке морковку. Ишак бежит за морковкой, морковка всё время впереди, и Карапет доволен собой. Но долго ведь так продолжаться не может: ишака всё же надо будет когда-нибудь накормить, и Карапет когда-нибудь поймет, что процесс "движения" не самоцель, да и морковка может превратиться в нечто, уже не стимулирующее резвый бег за ней и вожделенное смотрение только на нее.
Давайте остановимся. Давайте перестанем "бороться". Давайте начнем просто работать. Не на далекое, пусть и сияющее, будущее, а на наше сегодня. Сделаем всё, чтобы нам сегодня жилось хорошо. Каждому. Всем. Это и будет наша доля от "светлого будущего". А сделанное нами позволит нашим детям и внукам сделать еще больше — для себя и, т. о., для своих детей и внуков. Неужели мы действительно верим в то, что можем обеспечить своим детям счастье, оставляя им свою бедность, неумение и нежелание работать и трату половины жизни на стояние в очередях?..
"Права ли, не права — она родина.". Звучит патриотично. Подумаем, однако, что за этой позицией стоит? За ней стоит: как бы "родина" с тобой ни обошлась — "спасибо тебе, родная…" Хорошая позиция. Нужная позиция. Основательно вбиваемая в головы везде, где за олицетворение "родины" выдают себя стоящие у ее руля люди, не способные обеспечить нормальную счастливую жизнь своего народа, своей страны. Эксплуатируя чувство настоящего патриотизма, выдавая за интересы родины, партии и социализма свои личные или групповые интересы, они требовали "в интересах родины", "в интересах партии", "в интересах социализма", "в интересах мировой революции" оговаривать себя, "признаваться", что ты шпион иностранных разведок, покорно идти на расстрел, предавать своих близких и товарищей, возводя на них клевету; требовали хвалить "верных ленинцев", "вдохновителей и организаторов", не допускать сомнения в правильности всего, что они делают и говорят, не быть недовольным хроническим неудовлетворением элементарных человеческих потребностей "из-за" перманентно "тяжелого международного положения" (по чьей вине?) или "неблагоприятных погодных условий". "В интересах родины" нельзя было знать, говорить и писать правду, нельзя было знать свою историю, нельзя было верить другим народам, нельзя было…
Впрочем, что было можно?
"Нужный патриотизм" предполагал слепую веру и покорность — именно это позволяет манипулировать народом в собственных интересах. Настоящий патриотизм, однако, далек от слепоты и покорности, и он никогда не отождествляет родину с диктатором и его подручными, захватившими власть, он сумеет отличить интересы партии от корыстных интересов переродившейся ее части, он знает, что не родина несправедлива бывает к своим детям, а одни люди по отношению к другим, и что любовь к родине — это активное чувство, что преданность родной земле и своему народу заключается не в их воспевании, но прежде всего в том, чтобы сделать свободными, богатыми и счастливыми, в том, чтобы защитить их от поругания и насилия не только чужих, но и доморощенных глумителей.
Надо различать родину и людей, осуществляющих власть на твоей родине. Если эти люди уничтожают действительных патриотов ради сохранения своей власти, если они не позволяют человеку остаться человеком, народу остаться народом, то нельзя этих людей и их власть отождествлять с родиной. Поэтому невозможно принять и другой тезис Розы Пфлюг — о том, что "выезды" не делают советским немцам чести. Они не доставляют им радости, это да. Что же касается чести, то выезд (и не только советских немцев) не делает чести прежде всего тем, кто осуществлял политику в годы культа личности и застоя — оттуда идут причины выезда. Советские немцы не виноваты в этих выездах. Это крайняя реакция народа на угрозу его существованию. И никто сегодня вроде уже не обвиняет советских немцев в том, что они выезжают. Эти методы "контрпропаганды" тоже остались в прошлом. Сейчас, как известно, делается многое, чтобы устранить причины, толкающие людей на выезд. Будет восстановлена справедливость по отношению к советским немцам, будет воссоздана их государственность — уверен, резко сократится и поток выезжающих.
Умение всё это видеть и различать должно бы быть свойственно сегодня каждому человеку. Тем более писателю. Нельзя благодарно лизать без конца палку, которой тебя бьют, ссылаясь на интересы родины.
И еще: писателю, как и политическому деятелю, простительнее делать глупости, чем говорить их. Писатель и читатели, так же как политический деятель и массы — это сообщающиеся сосуды, но с особым законом. Уровень содержимого в одном из них должен быть всегда выше уровня в другом. Иначе политик или писатель просто становятся ненужными. Отсюда и обязанность их: думать над каждым своим словом.
Можно бы задать еще целый ряд вопросов автору стихотворения. Например, многие ли из советских немцев могут еще говорить со своей родиной "на родном своем языке"? И почему там, где стояла когда-то колыбель лирического героя стихотворения, не стоит сейчас колыбель его детей и внуков? И можно ли назвать насильственное выселение с конфискацией имущества целого народа словами "родина позвала меня в широкий мир"? И как это насильственное выселение из отчего дома "вело" лирического героя "обратно в отчий дом"?
Но дело сейчас не в этом. И совсем не для того, чтобы обвинить в чем-то Розу Пфлюг, обратился я к ее выступлению. Я уважаю ее как поэта и человека не меньше, чем многих других, и безоглядная доброта, всепрощенчество, "непротивление злу" — не вина ее, а в определенной степени беда. Мне хотелось только показать, что и сейчас, когда никто уже не "вынуждает", в советских немецких писателях (а надо полагать, и в значительной части их читателей), по-прежнему "чисто и ясно" звучат "высокие песнопения"…
Вообще, по моим наблюдениям, это удивительный феномен: преданность людей своим идеалам, пронесенная через многие страдания, несправедливости и потери, через условия, которые должны бы по логике вещей вытравить из человека вообще всякую веру, мораль, нравственность и тем более преданность идеалам, спекулируя которыми было совершено столько несправедливостей и преступлений. Особенно эти качества поражают в советских немцах, — с учетом их судьбы.
Если разбить послевоенный период нашей литературы — период ее восстановления, на этапы, то годы 1955–1965 можно назвать первым этапом. Он характеризуется возрождением газет на немецком языке, началом издания книг советской немецкой литературы, восстановлением в литературном творчестве уцелевших после войны и спецпоселения писателей, начинавших в тридцатые годы, вступлением в литературу новых сил, значительным подъемом художественного уровня литературы (особенно поэзии), началом организационной работы среди литераторов. Несмотря ни на что, это были для советской немецкой литературы очень важные годы, причем годы подъема.
Часть 4
Началом второго этапа можно считать 1966-ой год, когда, в ответ на поставленные в предыдущем году делегациями советских немцев коренные вопросы их жизни, были приняты решения лишь по третьестепенным вопросам: создана в Казахстане республиканская газета на немецком языке "Фройндшафт" ("Дружба" — для национальной газеты весьма необычное название), открыта немецкая редакция в книжном издательстве "Казахстан", а редакция "Нойес лебен" пополнена сотрудниками из числа советских немцев. (К 1970-му году в ней примерно треть составляли немцы; это был пик; с тех пор их число опять шло всё время на убыль).
Главным редактором газеты "Фройндшафт" был направлен Алексей Шмелев, бывший работник советской военной администрации в Германии после войны. В подборе остальных сотрудников газеты был, видимо, всё же учтен непопулярный опыт "Нойес лебен": все творческие сотрудники были набраны из числа советских немцев.
Новая газета становилась на ноги в очень трудных условиях. Ведь кадры для советской немецкой печати не готовились, приходилось набирать в штат либо журналистов-немцев, писавших на русском языке, либо учителей немецкого языка, не знавших журналистики. Но главная трудность была в том, что положение советских немцев после 1965-го года резко ухудшилось, национальной жизни не было вообще, и писать о каких-либо недостатках в этой сфере, даже в преподавании немецкого языка как родного, было нельзя. Без учета специфики читателя газета заполнялась бесконечными официальными материалами союзного и республиканского уровня (от чего "Фройндшафт" не может избавиться до сих пор), которые советские немцы в массе своей читают по-русски в других газетах. Сказывались и апатия, разочарование советских немцев после 1965 года, восприятие ими газеты как подачки вместо отказанного восстановления автономии. Число подписчиков газеты за все годы практически не поднималось выше 10 тысяч (в Казахстане проживает около миллиона советских немцев). Только в последнее время, когда в газету пришел уже третий редактор и она смогла, наконец, перейти на позиции перестройки, внимание к ней читателя и ее авторитет начали быстро расти.
Тем не менее, "Фройндшафт" тоже сыграла свою роль в развитии советской немецкой литературы, удвоив своей литературной страницей ее возможности для публикации. Наряду с авторами, уже известными по "Нойес лебен", находившаяся в гуще читателей "Фройндшафт" привлекла и новых. Наиболее тесно были связаны с этой газетой Рудольф Жакмьен, Карл Вельц, Давид Вагнер, Александр Гассельбах, работавшие в самой редакции; публиковались в ней практически все представители двух старших поколений литераторов, а также младшие: Виктор Гейнц, Герольд Бельгер, Эльза Ульмер, Рейнгольд Лейс, Венделин Мангольд, Роберт Вебер.
Конкуренции между тремя газетами, как правило, не было. Распределение между ними литературного материала шло, как и везде: по иерархии. Каждая занимала свою "экологическую нишу". Разница была не только в тиражах и престижности газет, но и в гонорарах. Однако даже в "Нойес лебен" высшие ставки за стихи и прозу были вдвое, а то и втрое ниже низших ставок, установленных авторским правом в стране (такое положение сохраняется до сих пор).
Немецкая редакция в издательстве "Казахстан" также позволила удвоить объем издаваемой советской немецкой литературы (в издательстве "Прогресс" должно было выходить по 20 авторских листов ежегодно, однако это соблюдалось далеко не всегда). Следует однако отметить, что как "Прогресс", так и "Казахстан" издавали только то, что уже было опубликовано в газетах "Нойес лебен" и "Фройндшафт" и прошло, т. о., соответствующую цензуру. Поэтому издание книг не увеличивало возможности публикации: "пропускная способность" в советской немецкой литературе определялась до 1980 года двумя газетными страницами в неделю.
Тем не менее, творческий процесс заметно активизировался. Появились первые после войны повести старшего поколения писателей — Александра Реймгена, Виктора Клейна, Доминика Гольмана, Генриха Кемпфа, Рейнгардта Кельна. Наряду с коллективными сборниками стали выходить тоненькие еще авторские книжечки.
Вообще второй этап в восстановительном процессе советской немецкой литературы, длившийся с 1966 по 1980 год, был, несмотря на трудное положение советских немцев, всё же довольно продуктивным. Объясняется это несколькими причинами. Одна из них — то, что старшее поколение к этому времени в основном вышло на пенсию и, не утратив еще физических и творческих сил, получило время для более основательных занятий литературой. Вторая — идущее за старшим поколение вошло в пору своей творческой зрелости; оно не имело еще времени для крупных произведений, но внесло серьезный вклад в развитие поэзии. Третья — этот пятнадцатилетний этап был временем становления и вхождения в зрелость младшего поколения литераторов (тридцатилетних в начале этого этапа) — наиболее грамотных, хорошо знакомых с мировой, русской и немецкой классикой, советской литературой.
Надо также отметить, что в это время были несколько раздвинуты тематические рамки для советской немецкой литературы. Указ 1964 года, опубликованный в "Нойес лебен", сам по себе уже приоткрывал завесу над прошлым советских немцев. Стало возможным писать, но пока еще не документально, о годах революции и гражданской войны в немецких колониях (географическое положение этих колоний, как правило, не указывалось), появились первые статьи по далекой истории советских немцев (на послеоктябрьском периоде ее лежал еще запрет), к 30-летию победы над фашистской Германией появилась, после скудных заметок "о трудовом вкладе советских немцев в Победу", и первая документальная повесть, затрагивающая проблематику военных лет в истории советских немцев: о трудармейце Пауле Шмидте, бежавшем из трудармии на фронт и под чужой фамилией дошедшем до Берлина.[11]
Современная тематика больше всего получала отражение в произведениях Александра Реймгена. Он жил в то время в Средней Азии, в Голодной степи, прожил там и годы освоения целинных и залежных земель, работал среди целинников, поэтому его произведения наполнены духом того времени, а действующие лица в них, как и в самой окружавшей его жизни, чрезвычайно разные по национальному составу, неизменно проникнуты теплым чувством уважения друг к другу, к обычаям и традициям друг друга.
Однако, хотя главные герои произведений того времени о современности — советские немцы, они практически не наделены национальными интересами, они не заняты национальными проблемами, об этих проблемах они даже не говорят: они дружно трудятся "рука об руку" с представителями других национальностей и вместе с ними всей своей жизнью демонстрируют, что интернационализм для них — "не абстрактное понятие, а естественное состояние". Национальное в этих произведениях и их героях проявляется в основном в сфере фольклорно-этнографической и в аккуратности, прилежности, трудолюбии персонажей-немцев. История народа, недавнее прошлое, трагедия, через которую советский немецкий народ прошел в годы войны, отсутствие национальной культуры, школ, возможности изучать родной язык и т. д. — на всё это не могло быть в этих повестях "о современности" даже намека. Герои обладали положительными и отрицательными чертами в должных пропорциях и действовали в каком-то ирреальном пространстве, отсеченном от прошлого и оторванном от настоящего, они были будто помещены в какую-то прозрачную колбу, куда добавлялось некоторое количество персонажей других национальностей, реалий жизни, деталей и эмоций, и в этих произведениях-колбочках "исследовались", как практически и во всей советской литературе о том времени, общество "развитого социализма" и "многогранная, гармонично развитая личность" строителей этого общества.
Унизительное положение всей могучей по потенциям советской литературы, ее роль, сведенная до оправдания и воспевания политики правящего крыла партии и результатов этой политики, даже если бы не служили примером для советской немецкой литературы, то не могли не привести ее к выводу о безнадежности и обреченности любой попытки сказать правду. Если уж вся советская литература не могла себе этого позволить, то что оставалось никому не известной, стократно поднадзорной советской немецкой литературе? Литературе, находящейся в гораздо более сильных тисках и не имеющей в жизни своего народа практически никакого положительного материала для своих творений?
Наша литература тогда и мечтать не могла о художественном моделировании жизни, анализе движущих сил ее, художественной проработке ее вариантов — ей не было позволено, хотя бы в соответствии с требованиями метода социалистического реализма, правдиво отображать эту жизнь. Значительно более ограниченная в правах и возможностях, чем другие национальные литературы, наша литература по-прежнему проявляла себя лишь в "дозволенных" темах.
Сегодня мы можем, однако, проследить по тогдашним ее слабостям и недостаткам и другое: неспособность многих ее авторов к приспособленчеству и угодничеству. Так, хотя главные герои произведений того времени о современности — советские немцы, они, как правило, не являются главными действующими лицами в изображаемых жизненных процессах, что вполне соответствовало действительности. Попытки показать в то время в произведениях жизнь советских немцев полнокровной, "как у всех", если и предпринимались, то заканчивались неизменно неудачей, ибо они противоречили жизни. Отсутствие соответствующего материала в жизни советских немцев не позволяло советской немецкой литературе обращаться, по примеру других национальных литератур, к значительным проблемам в жизни своего народа. А табу на основные национальные проблемы ограничивало национальное в произведениях моментами, как уже говорилось, в основном этнографического и лингвистического характера.
Униженное положение советских немцев и их литературы всё же не смогло, таким образом, заставить унизиться подавляющее большинство литераторов. Да, они писали "положительное" о том, о чем разрешалось им писать вообще, но в массе своей они не восхваляли то, что не могло у их народа вызывать положительных эмоций. И для этого тоже нужно было мужество.
Во многом именно отсюда идет характерное для периода застоя, как и в других национальных литературах, несмотря на призывы и понукания писать о современности, о сегодняшнем герое, о рабочем классе, — обращение писателей к прошлому, к истории. Начало этому положили в основном писатели старшего поколения. Они возвращались в своих произведениях к годам своего детства и юности, к годам революции, гражданской войны и коллективизации, годам, наполненным для них, тогда молодых, верой в светлые идеалы, победа которых должна произойти скоро-скоро, за очередной, без сомнения последней, кровавой схваткой. К таким произведениям относятся повести В.Клейна, А.Реймгена, Д.Гольмана, Р.Кельна, А.Закса, написанные в это время, опубликованные в ряде случаев уже позже.
Вступившее в те годы в пору творческой зрелости среднее поколение литераторов было преимущественно поэтами: Александр Бекк, Фридрих Больгер, Нелли Ваккер, Иоганн Варкентин, Вольдемар Гердт, Эвальд Каценштейн, Нора Пфеффер, Роза Пфлюг, Лия Франк, Вольдемар Шпаар. Вообще надо сказать, что поэзия в послевоенной советской немецкой литературе всегда была и по сей день является наиболее развитой ее частью. Видимо, обусловлено это в значительной степени тем же, что и высокая культура земледелия у их предков в Германии: нехватка земли заставляет искать пути наиболее эффективного ее использования. Ограниченные в течение длительного времени газетной площадью возможности публикации вели к "интенсивному пути развития" литературы, не позволяя заниматься прозой серьезно, а неработающие органы у каждого живого организма развиваются слабо. Используя свое преимущество в оперативности и малоформатности, поэзия превосходит прозу и в актуальности, в злободневности содержания.
Известно, что современная поэзия в немецкоязычных странах особой популярностью не пользуется. В этом, видимо, играет определенную роль ее отход от классических традиций к усложненной форме и излишней субъективизации содержания, что при отказе от ряда элементов, отличающих стихи от прозы (рифма, четкий размер, музыкальность) делает их стихами для мозга, снижая способность вызвать живой отклик и сопереживание у читателя.
Советская немецкая поэзия, к счастью, избежала этой участи, во многом сохранив классическую ясность, простоту и способность тревожить душу. Даже в наиболее сложных своих произведениях, какими являются, например, стихи Лии Франк, увлеченно переносящей в них формы и приемы японской классической поэзии, тонкой переводчицей которой она является, — советская немецкая поэзия предстает всё же живой и волнующей.
Достижения советской немецкой поэзии в немалой степени обусловлены и тем, что она всегда, начиная еще с двадцатых годов, активно переводила русскую поэзию, как современную, так и классическую. Свободное знание русского языка позволяет советским немецким литераторам воспринимать всё богатство оригинала, а постоянно возраставшие требования к поэтической форме заставляли работать над переводом самым серьезным образом. Наряду с большим значением этой работы для популяризации русской и советской поэзии за рубежом, она, эта работа — а занимаются ею практически все советские немецкие поэты — стала для них и великолепной школой повышения квалификации. Хорошо известны классические переводы ряда сказок Пушкина, сделанные Симоном Элленбергом (изданы в ГДР), прекрасные переводы из русских и советских поэтов сделали Иоганн Варкентин, Зепп Эстеррайхер, Фридрих Больгер — если ограничиться именами только тех, чей вклад в практику перевода особенно значителен.
О значении поэзии в советской немецкой литературе говорит и то, что по сегодняшний день на литературных страницах газет она занимает по объему такое же место, как проза. И можно только пожалеть, что пока она переводится на русский язык далеко не так интенсивно и качественно, как переводит сама…
Оценивая путь, пройденный советской немецкой литературой за годы с 1955 по 1980, можно сказать, что главный итог этого пути — то, что наша литература, возрождаясь практически из ничего, уже основательно окрепла. Она постепенно всё расширяла и углубляла содержание произведений, пытаясь затрагивать уже и серьезные вопросы жизни своего народа. Она достигла уровня (особенно в поэзии), в общем не уступающего уровню ряда национальных литератур с менее трагичным прошлым и более благоприятным настоящим. За 25 лет литература наша проделала, несмотря на условия, казалось бы, исключающие всякую возможность для ее существования, весьма большой путь, она постоянно развивалась, совершенствовалась и становилась активнее — конечно, в отведенных ей жестких пределах; она интенсивно, хотя и односторонне, контактировала с русской и советской литературой вообще.
Однако на этом пути были перед нашей литературой и большие трудности, часто непреодолимые, которые очень сказались на задержке ее развития. Одной из главных трудностей было отсутствие полнокровной и полноправной жизни у советско-немецкого народа. При отсутствии такой жизни у народа не может быть и полнокровной литературы: на скудной почве никогда не бывает нормальной растительности. Другая трудность — невозможность для писателей заниматься литературным трудом профессионально: на такой труд в советской немецкой литературе прожить было невозможно. Третья трудность состояла в том, что не готовились литературные кадры; в нашей литературе практически нет людей с литературным образованием. Каждое дело, однако, должно делаться профессионально, и отсутствие для этого необходимой подготовки может не позволить даже очень талантливому человеку достичь вершин, которые были бы ему доступны, имей он должную подготовку. Четвертой проблемой, сдерживавшей развитие литературы, было отсутствие возможности для написания и публикации крупных произведений, что вынуждало обращаться преимущественно к малым литературным формам. Удушающим было ограничение тематики советской немецкой литературы узкими жесткими рамками; отсюда вынужденное мелкотемье, поверхностность нашей литературы, невольная порой фальсификация ею жизни своего народа и развитие в литературе метода айсберга, метода подтекстового письма, в расчете на то, что читатель знает историю и существующую ситуацию и по "верхушкам айсберга" — по напечатанному сможет многое дочувствовать и довидеть. Проклятая пора!
Зарубежные критики нашей литературы, как правило, не обнаруживали в ней настоящей жизни. Это не удивительно, ибо это соответствовало действительности. Удивительно другое: то, что они часто не хотели видеть горькую правдивость нашей литературы, самим своим состоянием отражающей отсутствие настоящей жизни у советских немцев. Отношение к советской немецкой литературе свысока характерно и для некоторых ученых ГДР и в еще большей степени для ряда советских переводчиков-германистов, которые, сравнивая нашу литературу с литературой ГДР и ФРГ, обвиняли ее еще и в устарелости языка, несовременности стиля и т. п. При этом они не только не пытались увидеть причины, почему это так, но и судили о языке и литературе, даже не подозревая, что язык у советских немцев весьма отличается от немецкого языка ГДР и ФРГ, а проза, и особенно поэзия советских немцев следует совсем другим творческим законам, чем в ГДР и ФРГ.
Часть 5
Следующий этап, третий, в нашей послевоенной литературе связан с созданием в 1981 году альманаха советской немецкой литературы и публицистики "Хайматлихе вайтен" ("Родные просторы" — на этот раз название просто кричало о тупом произволе: дать людям, изгнанным с родных мест за сорок лет до этого и распыленных по всей необъятной стране, журнал с таким названием — это не могло уже восприниматься иначе, чем циничная насмешка).
Как читатель, наверное, уже заметил, деление на этапы происходит, на первый взгляд, по упрощенному принципу: расширение возможностей для публикации. Конечно, этот момент имел очень большое значение, однако не он, как увидим позже, является здесь определяющим. Главное значение имеет изменение отношения к советским немцам и их проблемам, следствием чего всегда было и некоторое расширение рамок дозволенности; создание же новых печатных органов было лишь внешним проявлением этих очередных перемен.
Альманах (на самом деле он с первого своего номера был сформирован и выходит как литературно-художественный и общественно-политический журнал) выходил всего два раза в год объемом около 16 авторских листов каждый номер. Главное место в нем занимала по объему художественная проза, значительное место уделялось поэзии (до 3 авторских листов), истории советских немцев, публицистике. Включены были в альманах и разделы литературы для детей, юмора и в каждом номере помещалась цветная четырехполосная вкладка с репродукциями работ советских немецких художников.
Альманах позволил наконец-то сделать рывок вперед и прозе. С первого его номера в нем публиковались романы и повести — то, что практически не могло быть опубликовано из-за своего объема в газетах. Всего за восемь лет в нем появилось пять романов: крупнейший из них — роман Г.Завацкого "Своими руками", вырванный практически из небытия (узнал ли бы кто о нем, будь альманах создан года на три позже?), романы Александра Реймгена "Вкус земли" и (в сокращении) "Под полными парусами", Вильгельма Брунгардта "Себастьян Бауэр" и Андреаса Закса "В вихре времени"; 13 повестей: Рейнгардта Кельна "Через школу жизни", Роберта Вебера "Поездка в прошлое", Айво Кайди "Смертный приговор", Йозефа Каппа "Письма из комсомольской юности", Герольда Бельгера "Голос осени" и "Там, в долине", Виктора Клейна "Седьмой прыжок", Карла Шифнера "Эхо души", Доминика Гольмана "Красные всадники", Фридриха Сиптица "А в сердце была Москва", Корнея Нойфельда "Только один год", Фридриха Крюгера "Так это было", и моя повесть "Наш двор"; 3 пьесы: Алексея Дебольского "Великое испытание", Бориса Дубровина "Белая гвоздика", Ирены Лангеман "Как часто в кругу друзей…" и ряд рассказов.
Ни один этап в послевоенной советской немецкой литературе не отмечен таким обилием (разумеется, относительным) крупноформатной прозы как этот, самый короткий. Вызван был такой "скачок" не только накоплением значительного материала в предшествовавшие двадцать пять лет, ростом творческой активности писателей в связи с открывшимися новыми возможностями для публикации, но и постепенным раздвижением, уже изнутри, самой литературой, своих рамок. Дело в том, что после 1972 года, когда был отменен существовавший тридцать лет запрет немцам возвращаться в места, откуда они были высланы, и им приходилось жить повсюду на "родных просторах", слово "Волга" постепенно становилось (в "Нойес лебен" и в "Хайматлихе вайтен", но не во "Фройндшафт") опять цензурным. В 1978 году первого главного редактора "Нойес лебен", Г.Ф.Пшеницина, многое сделавшего для советской немецкой литературы и для формирования сильного редакционного коллектива, сменил, после ухода его на пенсию, В.И.Цапанов, в молодости тоже сотрудник "Теглихе Рундшау". Он был "спущен" в редакцию из аппарата ЦК КПСС. Не обладая необходимой профессиональной и журналистской подготовкой, он обладал двумя качествами, которые в определенной степени оказались тогда полезными: отсутствием особого страха перед нетаинственными для него "аппаратчиками" и ярко выраженным честолюбием. Человек активный и деятельный, хорошо знакомый с "кухней" прохождения и утверждения бумаг "наверху", обладающий большим упорством, он брался за решение вопросов, которые раньше "не проходили", и нередко решал их, что приводило одновременно к стремительному росту самомнения и всё большей потребности в похвалах.
Именно при В.И.Цапанове был "пробит" альманах и увеличен гонорарный фонд литературной полосы "Нойес лебен". Очень осторожный вначале, главный редактор постепенно стал проявлять больше смелости и в публикациях. Метод решения вопроса о публикации материалов был часто довольно прост: стоило подчиненному выразить сомнение (искренне или нарочитое) в возможности опубликования "такого" материала, как главный редактор загорался и высказывал "свое" мнение, т. е. противоположное. Поэтому хороший материал лучше было не хвалить, если хотелось, чтобы он увидел свет.
Так как альманах был создан при редакции газеты "Нойес лебен" (для его выпуска был создан еще один "отдел" из трех человек), то он тоже подчинялся главному редактору газеты (кстати, именно В.И.Цапанову принадлежит основная заслуга в названии альманаха). Советская немецкая публицистика постепенно и в "Нойес лебен", и в "Хайматлихе вайтен" стала раздвигать свои границы, уже вплотную подходя к довоенной истории советских немцев и периоду трудармии. Естественно, показывая вначале только положительное содержание в них: участие в гражданской войне, успехи коллективизации, вклад трудармейцев в дело Победы.
Очень большую роль в прокладывании пути для художественной литературы и освоения для нее новых территорий сыграл исторический раздел альманаха. Именно в нем, в статье Германа Колоярского "Изобразительное искусство немцев Поволжья" (№ 1/1983) практически впервые за сорок два послевоенных года появилось упоминание об АССР немцев Поволжья. Статья проходила из-за этого очень трудно, и опять же только известные черты характера В.И.Цапанова позволили ей появиться с этой давно не виденной советскими немецкими читателями аббревиатурой.
Уже в третьей книжке альманаха (№ 1/1982) появилась обзорная статья Иоганна Кроневальда "На трудовом фронте" (слово "трудармия" было еще в запрете), в которой хоть и не говорилось о действительном положении советских немцев в годы войны, о трудармейских лагерях и неисчислимых их жертвах, всё же тема была затронута основательно: показаны масштабы "участия советских немцев в трудовом подвиге всего советского народа в годы войны".
Во втором номере следующего, 1983 года, было опубликовано большое исследование Иоганна Виндгольца о народной музыке советских немцев. Ещё через год — замечательная статья искусствоведа Ингрид Соловьевой-Волынской о творчестве и трагической судьбе крупнейшего советского немецкого художника, заслуженного художника АССР НП, Якова Вебера. Статьи эти открывали читателям их недавнее еще прошлое, о котором многие из них ничего не знали, как полнокровную, всесторонне развитую жизнь, такую же, как и у других советских народов. И если отметить, что с первого номера альманах регулярно публиковал материалы по истории советских немцев начиная от указа Екатерины II, по которому в 1764 году приехали в Россию первые из предков советских немцев, и до Октябрьской революции, — то, видимо, будет понятным, что альманах своей публицистикой и историческими материалами не только прорубал окно в 40-летней стене, отделявшей прошлое советских немцев от их настоящего, но и формировал совершенно новое состояние у читателей. Они начинали чувствовать себя не свалившимися с Луны людьми без прошлого, без истории, людьми, знающими только, что они "пособники фашистов"; и не потомками военнопленных, как их до недавнего времени воспринимали даже иные партработники, а людьми, имевшими когда-то свою государственность, историю и культуру, в течение более двух веков теснейшим образом связанные с историей и культурой России. Формирование ощущения полноценного человека — так, наверное, можно определить этот "попутный" результат публицистики и исторических материалов тех лет.
"Новые территории" стала активно осваивать художественная литература. История переселения предков советских немцев в Россию в ХУШ веке стала темой романа "Себастьян Бауэр" совершенно не известного до этого в советской немецкой литературе автора, Вильгельма Брунгардта; действие романа происходит как в Германии, так и в первые трудные десятилетия после прибытия немецких колонистов на Волгу. Роман А.Реймгена "Вкус земли", пусть и пунктирными, но достаточно зримыми штрихами провел линию от предоктябрьских лет через весь довоенный период, через военные годы до шестидесятых годов, показывая через историю одной советской немецкой семьи фрагменты истории советских немцев вообще.
От начала века до начала тридцатых годов показана жизнь в поволжских колониях в автобиографической повести "Через школу жизни" Рейнгардта Кельна (№ 2/1982). Годы гражданской войны и коллективизации на Волге — время действия романа Андреаса Закса "В вихре времени" (1/1983). Не известную мне в советской литературе вообще тему участия комсомола в коллективизации драматично и напряженно показал в своей повести "Письма из комсомольской юности" Йозеф Капп (2/1983). Неприкасаемую тему — судьба семей и детей выселенных советских немцев в годы войны — впервые удалось затронуть в моей повести "Наш двор" (1/1984), увидевшей свет в подрезанном виде лишь через пятнадцать лет после ее написания, и то в результате причудливой игры случайностей. Документальное обращение к этой теме состоялось в автобиографических повестях Роберта Вебера "Поездка в прошлое" (1/1982) и Фридриха Сиптица "А в сердце была Москва" (2/1986). Современности были посвящены повести Герольда Бельгера "Голос осени" (2/1983) и "Там, в долине" (2/ 1987).
Стихийно получалось так, что крупные художественные произведения этого периода, почти не перекрывая друг друга по времени действия, показывали читателям их историю с первых дней прибытия их предков в Россию и до самых близких к ним лет. Видимо, этим во многом и объясняется заметное возрождение интереса к художественной литературе. Если раньше ее содержание определялось в основном морально-этическими моментами, то теперь она давала пусть и художественно выраженную, но всё же конкретную информацию по истории народа, которую советские немцы из других источников, недоступных им в течение многих десятилетий, получить не могли. Именно этот небольшой отрезок времени вывел художественную прозу вперед: наполненная огромным внутренним напряжением, выламываясь тут и там из долголетних тисков, она, даже не имея еще возможности сказать всю правду, сыграла очень большую роль в возрождении национального самосознания советских немцев. И, как это ни парадоксально звучит, вопреки цензуре и всяческим неписанным и оттого еще более непредсказуемым ограничениям, она укрепляла в своих читателях чувство патриотизма, чувство принадлежности их к своей Советской Родине, так как показывала глубокие корни советского немецкого народа в российской почве.
Выход вперед прозы в значении для читателя совсем не означает, что поэзия в это время испытывала застой или деградировала. Опубликоваться в альманахе было довольно почетно, потому что в него проходило лишь лучшее, и критерии отбора были достаточно высоки. Требовалась не только актуальность, чем нередко ограничивались газеты, но и значительное содержание, и достаточно совершенная форма. Набрать подборку из пяти-восьми стихотворений, удовлетворявших этим требованиям, было нелегко даже ведущим поэтам. Отсюда — упорный труд для преодоления поднятой планки. Возможно, некоторую роль сыграло и то, что, публикуясь в альманахе, советские немецкие авторы впервые узнали, каковы нормальные гонорары для литературных произведений.
Поднимая таким образом уровень всей советской немецкой литературы, альманах одновременно стал основным для нее руслом. Самое значительное в эти годы в художественной прозе, поэзии и публицистике, как и по истории советских немцев, появилось именно на его страницах.
В это время среди поэтов выдвинулись вперед "сорокалетние": Виктор Гейнц, Роберт Вебер, Рейнгольд Лейс, Арно Прахт, Виктор Шнитке, Вальдемар Вебер, а также представители предыдущего поколения Вольдемар Шпаар, Вольдемар Гердт, Александр Бек, Нелли Ваккер, Роза Пфлюг, и приведенные в литературу своей нелегкой судьбой позже остальных Нора Пфеффер и Лия Франк. Именно им принадлежат основные достижения в поэзии последних лет.
Довольно заметное место занимает в советской немецкой литературе детская литература. Возможно, это связано с тем, что большинство литераторов — педагоги по образованию и по профессии. Во всяком случае, мало кто из наших писателей ничего не написал для детей. В течение многих лет в "Детском уголке" газеты "Нойес лебен" и "Фройндшафт", в "Роте Фане", а в последние восемь лет и в альманахе "Хайматлихе вайтен", регулярно публикуются стихи, сказки, рассказы для детей. В издательстве "Казахстан" вышло немало книжек для детей, вызвавших интерес даже на международных книжных ярмарках. Среди наиболее активных наших детских писателей — Нора Пфеффер, Эвальд Каценштейн, Дитрих Ремпель, Лео Маркс, Андреас Крамер, Вольдемар Гердт, Нелли Ваккер, Роза Пфлюг, Ирена Лангеман. Детская наша литература отличается тонким пониманием психологии ребенка, чистотой и ясностью стиля, в основном классической строгостью стиха. В ней сравнительно мало посредственных стихов, возможно, потому, что создают ее, как правило, зрелые поэты.
Последний этап связан с еще одним значительным событием в жизни и культуре советских немцев: открытием в 1980 году Немецкого драматического театра в Казахстане. Это событие показало, что советская немецкая литература оказалась к нему слабо подготовленной. Пьесы довоенных лет во многом утратили свою актуальность, а новых после войны почти не было создано. Первой пьесой, которую поставил новый театр, была пьеса А.Реймгена "Они были первыми", созданная им по мотивам своих произведений о Голодной степи. Сейчас в репертуаре театра еще две советские немецкие пьесы: Виктора Гейнца "На волнах столетий" и Ирены Лангеман "Как часто в кругу друзей…" Ряд авторов работает над пьесами, которые могли бы пополнить репертуар театра.
В разговоре о советской немецкой литературе мы пока ни разу не упомянули литературную критику. Между тем она тоже сыграла свою роль в возрождении нашей литературы после войны. Опуская в ней случайные и эпизодические имена, а также многочисленные статьи к юбилеям авторов, имевшие определенную задачу и направленность, можно выделить в нашей критике три имени. Это Александр Геннинг, Иоганн Варкентин и Герольд Бельгер.
Так получилось, что именно в начале послевоенного периода нашей литературы, когда практически все авторы учились или опять после долгого перерыва делали первые свои робкие, осторожные шаги — именно в это время литература наша получила в лице Александра Геннинга внимательного и доброжелательного наставника, который отличался одним несомненным достоинством для того времени — умел не отрываться далеко даже от начинающих авторов. Он был как добрый учитель начальных классов. Он замечал каждое новое имя в газетах, каждый, пусть небольшой, успех, каждый литературный писк — и спешил их приветствовать, поддержать, похвалить, вдохновить на новые шаги. Его годовые обзоры литературных страниц газет "Нойес лебен" и "Фройндшафт", регулярные в шестидесятых годах, не отличались особой глубиной анализа или высотой критериев, но они стимулировали авторов писать, а сегодня являются для нас и ценным библиографическим материалом.
В семидесятые годы с рядом заметных критических работ выступил Иоганн Варкентин. Человек талантливый, с высокими критериями к творчеству, тонкий знаток языка, один из сильнейших переводчиков советской поэзии на немецкий язык — и вместе с тем человек резких, категоричных оценок, пристрастных отношений, часто нетерпимый, не желавший мириться с тем, что не каждый может быть Иоганном Варкентином — он был слишком над литературным огородом, чтобы возделывать его эффективно.
В семидесятые годы вошел в литературную критику и Герольд Бельгер, писатель с необычной судьбой: ребенком он попал в казахский аул, окончил казахскую школу и казахский пединститут, является известным переводчиком казахской литературы на русский язык. Он, стоя на стыке трех культур и литератур — казахской, русской и советской немецкой, обладал гораздо большей лояльностью по отношению к своим коллегам по перу. Ему принадлежат многочисленные статьи и рецензии на произведения советских немецких авторов. Написанные в нелегкие годы застоя, они не могли быть, конечно, свободными от пафоса тех лет, от установок и "задач", от распространенного стремления выдавать сущее за желаемое, от живописания "успехов" и "достижений" — т. е. от всего, что было свойственно в те годы советской критике вообще. Однако в них содержатся и реальные оценки, говорится о слабостях и недостатках, делаются обобщения и определяются направления развития, и в целом это критика, продолжившая, уже на ином уровне, линию Александра Геннинга. Выступления Герольда Бельгера, даже не являясь чем-то цельным, могут сегодня дать определенное представление о процессах, происходивших в нашей литературе в семидесятые — начале восьмидесятых годов.
Коротко говоря, советской немецкой литературе в основном повезло с критикой тем, что критика не слишком далеко отрывалась от практики литературы, учитывала конкретные условия, в которых существовала литература, и не била ее за то, чего она не могла дать. Однако надо заметить, что литературная критика в целом развита у нас всё же слабо. Даже альманах, позволяющий значительно поднять ее уровень, не внес пока особых изменений в это положение. И дело не в том, что в советской немецкой литературе нет "свободных" для занятия критикой авторов, а практику литературы не всегда удобно оценивать работу своих коллег. Дело в том, что даже те два-три литератора, которые могли бы успешно выступать в литературной критике, были заняты другими, более важными для них делами, а главное, не имели возможности, анализируя произведения, говорить о действительных причинах тех или иных явлений — это, как мы видели по советской литературной критике периода застоя вообще, было малопочтенным занятием.
Особое место в советской немецкой литературе принадлежит Вольдемару Эккерту. Хотя он и является автором стихов и рассказов, но главное в его творчестве, думаю, составляют не они, а его литературоведческие работы. Он накопил и обработал огромный материал по истории российской немецкой литературы, составив своими статьями своеобразный библиографический путеводитель по ней.[12] Ему принадлежит также небольшая, но яркая монография о жизни и творчестве известного ученого-литературоведа Франца Шиллера.[13] В настоящее время он работает над советским периодом литературы российских немцев, и можно, наверное, надеяться, что после выхода его труда статьи о советской немецкой литературе смогут быть гораздо более полными и совершенными, чем та, к концу которой я постепенно приближаюсь.
Завершая разговор о третьем этапе послевоенной нашей литературы, нельзя не сказать о событиях этого времени, сильно сказавшихся не только на литературе, но и советской немецкой публицистике. Связано это со сменой редакторов в "Нойес лебен" и во "Фройндшафт".
К середине 1983 года отрицательные черты в характере В.И.Цапанова настолько стали мешать в работе, что встал вопрос о его замене. Решение этого вопроса затянулось до осени 1984 года. В газету пришел новый главный редактор, тоже из аппарата ЦК КПСС, бывший ранее собкором "Комсомольской правды" в ГДР, В.В.Чернышев. К сожалению, его политика привела к еще более плачевным результатам, чем руководство В.И.Цапанова. Его стремление увидеть во всем, что касалось истории и современного положения советских немцев, во всем, что было ему не совсем понятно и ново, "идеологическую диверсию" и "информацию из первых рук идеологическому противнику", парализовало не только журналистику, но и художественную литературу. Тем более что главному редактору было очень многое непонятно и ново. Страх перед проблемностью, перед определенностью позиции в статьях, стихах, повестях вел к бесконечным придиркам, обвинениям сотрудников в "политической близорукости", подозрениям в их политической неблагонадежности. За короткий срок из редакции вынуждены были уйти практически все квалифицированные сотрудники (около половины редакции), составлявшие ее основу. Набирались же на их место люди случайные, впопыхах, без должной проверки — лишь бы они не ставили руководство в затруднительное положение наличием идей, предлагая что-то такое, что требует принятия решения. В редакции почти совсем не осталось и сотрудников из числа советских немцев.
В № 11 "Дружбы народов" за 1988 год председатель Комиссии по советской немецкой литературе при Союзе писателей СССР Роберт Вебер писал, что в редакции "Нойес лебен" советские немцы составляют всего четверть штата. Однако за время, прошедшее от сдачи статьи в журнал до ее публикации, численность немцев в редакции сократилась до одной десятой…
В нашей многоязычной прессе вряд ли найдется еще одно национальное издание, редакция которого состояла бы практически целиком из представителей других национальностей. И дело не только в недоверии читателя к такой газете, а прежде всего в ее компетентности и действенности. Было бы странным, если бы "Социалистическая индустрия" делалась только ветеринарами, или из "Медицинской газеты" были изгнаны все, кто разбирается в вопросах ее тематики. Но ведь национальный характер, ментальность, национальная культура и история — гораздо более сложные сферы, особенно у народа с такой судьбой как советские немцы. Как и их публицистика, литература. При этом в "Нойес лебен" нет не только национальных кадров, но и профессиональных журналистов и литераторов вообще.
В то время, как пишутся эти строки, в обезлюдевшем отделе литературы газеты приглашенный туда временно историк, бывший сотрудник военной администрации в послевоенной Германии, опять ушел из отдела; ему на смену пришел, опять же временно, бывший военный переводчик той же администрации… Какой-то злой рок преследует литературу советских немцев!
Эта позиция главного редактора в отношении всего национального в публицистике и литературе, жестко выдерживавшаяся до 1987 года, когда вдруг публикации по истории советских немцев были сверху признаны желательными и нужными, весьма сильно отразилась и на содержании альманаха. Пренебрежительное высокомерие, свойственное дилетантам, вызывала у руководства газеты вся советская немецкая литература. Тем более после вырезания из ее произведений всех "идеологических ошибок".
Схожая ситуация в те годы была и в "немецкой" газете "Фройндшафт", где главным редактором стал Л.Вайдман, пришедший на смену А.Шмелеву. При нем ничего не писалось о проблемах и истории советских немцев и нельзя было использовать слово "Волга", хотя оно уже широко употреблялось в "Нойес лебен" и "Хайматлихе вайтен". Сменивший в 1988 году Л.Вайдмана новый главный редактор, Константин Эрлих, много сделавший до этого в качестве редактора немецкой литературы издательства "Казахстан", резко повернул "Фройндшафт" на курс перестройки и гласности. Возрождая в читателях газеты уверенность в том, что этот курс приведет к окончательному восстановлению справедливости и по отношению к советским немцам, он еще раз показал, как много в каждом деле зависит от того, кто находится на должности руководителя.
Будем надеяться, что к тому времени, когда эта статья будет опубликована, и "Нойес лебен" получит нового капитана, соответствующего требованиям времени…
Подводя итоги третьего этапа в нашей послевоенной литературе, можно сказать, что за тридцать два года, прошедшие с 1955 года, советская немецкая литература, понесшая большие потери и преодолевая огромные трудности, стоявшие перед ней, во многом достигла довоенного уровня развития, а по некоторым моментам (профессиональный уровень писателей, уровень поэзии, детской литературы, публицистики) и значительно превзошла его. Была наработана литературная "масса", которая в более благоприятных условиях могла бы уже обеспечить свое дальнейшее саморазвитие, вовлекая в себя и взращивая всё новых и новых авторов.
Однако конкретные условия, в которых находились и находятся еще сегодня советские немцы, налагают и свой отрицательный отпечаток на этот результат. С каждым днем тревожнее становится для дальнейшей судьбы нашей литературы тот фактор, что она всё больше превращается в сферу деятельности постоянно уменьшающегося числа людей. Для того, чтобы считаться нормально развитой литературой двухмиллионного народа, ей не хватает не только писателей, но и читателей. Это становится особенно видным, когда сравниваешь ее "личный состав", ее объем и тиражи с другими национальными литературами.
Так, в нашей стране три народа, по численности меньше советских немцев, имеют свои союзные республики: это киргизы, латыши и эстонцы. По переписи 1979 года было киргизов 1 млн. 906 тыс. человек,
латышей — 1 млн. 439 тыс.,
эстонцев — 1 млн. 20 тыс.
В 1982 году на их национальных языках выходило:
газет -
в Киргизии 61 (разовый тираж 757 тысяч);
в Латвии — 63 (разовый тираж 1178 тысяч);
в Эстонии — 31 (разовый тираж 1022 тысячи);[14]
журналов -
в Киргизии 10 (разовый тираж 540 тысяч);
в Латвии — 21 (разовый тираж 1416 тысяч);
в Эстонии — 19 (разовый тираж 658 тысяч)[15];
книг и брошюр художественной литературы (наименований) -
в Киргизии — 173 (общий тираж 4447500),
в Латвии — 154 (общий тираж 5 685 500),
в Эстонии — 180 (общий тираж 7 941 900)[16].
Советских немцев в 1979 году по той же переписи населения было I млн. 936 тысяч человек. У них в 1982 было:
газет — 3 (разовый тираж около 100 тысяч);
журнал (альманах) — I (выходил два раза в год, тогда тиражом 10 тысяч, сейчас, после сокращения розницы, 6 тысяч);
книг и брошюр художественной литературы — 14 наименований общим тиражом, не превышающим 50 тысяч экз. (это, кстати, был еще очень удачный год).
То есть, если на I человека в 1982 году приходилось примерно газет у киргизов 65 экз., у латышей 150, у эстонцев 206, то у советских немцев всего 5 экз.; журналов у киргизов 3,3 экз. у латышей 13,3, у эстонцев 9, у советских немцев — 0,01 экз.; книг художественной литературы у киргизов примерно 2,5, у латышей 4, у эстонцев 8, у советских немцев — 0,025. Это значит, что у советских немцев приходилось на I человека газет по сравнению с киргизами в 13 раз меньше, с латышами в 30 раз, и с эстонцами в 41 раз; журналов соответственно в 330, 1330 и 900 раз; и художественной литературы в 100, 160 и 320 раз меньше. Если же учесть еще и объем этих книг, то соотношения усугубятся раз в пять…
Думаю, цифры эти дают некоторое представление и о пути, пройденном с 1941 года советским немецким народом, и о положении, в котором он находился до самых последних лет, и о состоянии его литературы (в других сферах положение вообще несопоставимо, ибо других сфер практически нет). Эта арифметика, если бы ею занялись в те годы, позволила бы многим и многим газетчикам, бичевавшим выезжающих советских немцев своими обвинениями в предательстве родины, в погоне за заграничными тряпками и легкой жизнью, сэкономить много чернил и предупредить тем самым много недобрых эмоций: такие цифры в сочетании с полным отсутствием национальных школ, вузов, национальной культуры, национальной жизни, даже национальной самодеятельности — могли бы другой народ привести к гораздо более активным формам протеста, чем тихий выезд на родину своих предков.
Последний этап восстановительного периода нашей литературы связан и с новыми ее большими утратами. Ушли из жизни Андреас Закс, Рейнгардт Кельн, Фридрих Больгер, Эдмунд Гюнтер, Давид Йост, Виллибальд Фейст; значительно снизили свою творческую активность или совсем отошли от литературы престарелые Доминик Гольман, Зепп Эстеррайхер, Карл Вельц; вышел из советской немецкой литературы, уехав в ГДР, Иоганн Варкентин. На смену им в те годы не пришел практически никто.
Как и раньше, в литературе этих лет не было (кроме Р.Вебера) никого, кто мог бы целиком отдаться литературной работе. По-прежнему основные силы литераторов уходили на преподавательскую, газетную, журналистскую работу. По-прежнему не готовились кадры для советской немецкой литературы, и за пятидесятилетним теперь "младшим поколением" в ней не видно почти никого.
Хроническим недостатком нашей литературы стало отсутствие всяческого руководства ею, организационной работы в ней, отсутствие у нее представительства в Союзе писателей СССР. Последний раз наши литераторы собирались на рабочее совещание пять лет назад. Избранная тогда Комиссия по советской немецкой литературе для работы при Правлении Союза писателей СССР числится только на бумаге. Всё это сильно осложняет и без того трудное положение советской немецкой литературы.
Полтора года назад мне пришлось бы закончить свою статью именно на такой ноте. И хотя многие из названных проблем остались по сей день, можно всё же сказать, что в главном положение советской немецкой литературы начинает меняться коренным образом. Я имею ввиду основу литературы — жизнь ее читателей, советских немцев, отношение к их коренным проблемам.
Годы перестройки заставляют пересмотреть многие ранее казавшиеся решенными навсегда вопросы. Пересматривается и вопрос о советских немцах, их положении в нашей стране. Три делегации советских немцев, бывшие в 1988 году в Москве, вновь после 1965 года поставили перед руководством страны и партии вопрос о восстановлении их автономной республики на Волге. Готовящийся пленум ЦК КПСС по межнациональным отношениям, видимо, продвинет этот вопрос вплотную к его решению. Для меня лично его решение — лишь дело времени, потому что нерешенным он оставаться уже не может — если не будет повернута вспять перестройка.
О коренном переломе в отношении к советским немцам говорят и публикации по их истории и сегодняшнему положению, прошедшие в последнее время в центральных газетах и журналах. После сорока семи лет пребывания в "пособниках врага", советские немцы наконец-то предстают опять перед советскими людьми как один из советских народов, вместе с другими испытавший весь драматизм культа личности, трагедию войны, вместе с другими внесший свой немалый вклад в развитие экономики и культуры своей советской родины.
После тридцатилетнего восстановительного периода начался и в советской немецкой литературе новый период. Период, о котором еще несколько лет назад нереально казалось даже мечтать. Процесс перестройки освободил, наконец, советскую немецкую литературу от многих пут и оков, внешних и внутренних, приблизив ее к тому положению, когда литература имеет единственную и неодолимую для писателя узду — узду законов самого творчества, возлагающего ответственность за его результат целиком на самого писателя.
Началом этого периода (хотя для его наступления в советской немецкой литературе было сделано немало за все предыдущие тридцать лет) следует, на мой взгляд, считать публикацию поэмы Вольдемара Гердта "Волга, колыбель надежды нашей" в "Нойес лебен" от 16 декабря 1987 года. Поэма, помеченная датой "1942/43" и местом "Северный Урал", многое добавляет сегодня к тому, что теперь уже известно из воспоминаний трудармейцев о их мужестве в годы войны, о преданности родине, о героическом труде для скорейшей победы над врагом, о неприятии оскорбительных обвинений, сделанных на правительственном уровне, о несоответствии этих обвинений всей истории советских и российских немцев.
Не пой, поэт, о синих струях Волги,
пока вокруг лишь стон глухой тайги…,-
задает автор мощный и четкий настрой всему своему произведению с первых его двух строк. И заканчивает мужественно и упрямо:
И вечно юная надежда говорит,
что скоро будет все опять иначе.
В этой поэме впервые в советской немецкой поэзии открытым текстом была высказана та боль советского немецкого народа, которую пытался я, сдавливая себе горло, прохрипеть почти за двадцать лет до этой публикации в своей небольшой повести "Наш двор", полный текст которой пришел к читателю лишь в середине 1988 года. Поэма В.Гердта открывает, на мой взгляд, новую эпоху во всей нашей литературе. Думаю, если бы он вообще ничего кроме нее не написал в своей жизни, то всё равно бы вошел в нашу литературу, в ее историю достаточно весомо и навсегда…
Надо полагать, наша литература еще воздаст должное мужеству, смелости, героизму своих писателей, таких, как Виктор Клейн, Вольдемар Шпаар, Рейнгардт Кельн, Вольдемар Гердт, Иоганн Варкентин, которые в самые суровые для нее годы многое сделали для воспитания и сохранения в ней честности, стойкости и ответственности перед своим многострадальным народом. Недаром тонкий и умный поэт Виктор Шнитке назвал как-то нашу послевоенную литературу мостом от бывшей автономии к будущей. Действительно, послевоенная советская немецкая литература пронесла идею восстановления автономии советских немцев до сегодняшнего дня, сделав эту идею идеей всего народа. Призыв одного из героев А.Лонзингера "Только не сдаваться!", ставший в начале века призывом самого писателя к своему народу быть стойким и не терять надежды — этот призыв послевоенная советская немецкая литература восприняла как программу и явила собой своему народу пример этой деятельной стойкости.
Своей поэмой В.Гердт как бы пробил брешь в глухой стене вокруг нашей литературы. И хлынул в нее воздух перестройки, и сразу стало свободней дышать, опять появились надежды, многие перестали бояться говорить в полный голос то, что наболело за почти полвека "национальной замкнутости". Думаю, всем нам известно, каких нечеловеческих сил, какого личного гражданского мужества, какого бесстрашия требует иногда литературный подвиг. Только могучее сердце, наполненное любовью к своему народу, чувством ответственности за судьбы народа, может такой подвиг совершить.
Процесс перестройки, мощно поддержанный советской литературой вообще, коренные перемены, начавшиеся в советской немецкой публицистике и литературе, вызвали уже за последний год рождение ряда новых произведений, отодвинувших многое из написанного раньше на второй план. Впервые ряд авторов открыто и прямо написали о запретных еще недавно временах и событиях: о драматических двадцатых и тридцатых годах, о трагических событиях времен войны, о трудармейских лагерях и неисчислимых их жертвах. Но от этого трагического фона не померк трудовой подвиг народа. Наоборот: показанный теперь в условиях, в которых он на самом деле совершался, он предстал еще более великим. И еще больше стала видна общность судьбы советских немцев со всеми другими советскими народами.
Каково же сегодня состояние советской немецкой литературы? Какие у нее особенности, вызванные ее вступлением в новый период развития? Какие проблемы стоят перед ней?
Отвечая на первый вопрос, можно еще раз сказать: само существование советской немецкой литературы после сорока семи лет труднейшего, неравноправного положения советского немецкого народа является феноменом, достойным изумления; сам факт ее существования является и ее высшим достижением. Другим большим ее достижением является ее уровень, который в лучших ее произведениях не уступает уровню многих других национальных литератур, особенно если говорить о поэзии.
К особенностям сегодняшнего этапа в нашей литературе относится то, что коренной перелом в ней, связанный с перестройкой, происходит пока за счет не столько художественной, сколько документальной литературы. Неожиданным явилось основательное пополнение "личного состава" литературы за счет нелитераторов: им принадлежит в ней сегодня очень большое место. Отмечается также снижение активности ряда писателей в сфере художественного творчества из-за их переключения на публицистику и занятости общественной работой. Вследствие этого снизилось и значение художественной литературы вообще при резко возросшем значении более оперативной публицистики и документалистики, что характерно и для всей советской литературы.
Мощный толчок развитию литературы (как и культурной и национальной жизни советских немцев) дал Немецкий драматический театр, ставший как бы действенным усилителем ее идей. Пропуская эти идеи через свое горячее сердце и влучая их потом непосредственно в сердца своих зрителей, театр все годы своего существования был на переднем крае борьбы за сохранение и развитие национального самосознания, стойко и мужественно возрождал и укреплял в народе веру в торжество справедливости, в приход лучших времен. Театр внес уже и непосредственный вклад в литературу, создав несколько актуальных спектаклей своими силами.
Какие же проблемы стоят сегодня перед нашей литературой?
Во многом это прежние проблемы: малочисленность, преклонный возраст, пониженная активность значительной части кадрового ее состава; разбросанность литераторов по всей стране, затрудненность контактов между ними, отсутствие у писателей настоящей трибуны и организационной работы в литературе. Угнетающе действует на литераторов и то, что вопросы их творчества, оценки и публикации их произведений десятилетиями находятся в ведении чужих людей, далеких от литературы вообще, тем более от их национальной литературы, в ведении печатных органов совсем не литературного плана. Всё это обоснованно воспринимается ими как сохранение до сих пор, причем именно в центральной газете для советских немцев, режима духовной спецкомендатуры, пришедшей тридцать три года назад на смену административной спецкомендатуре НКВД.
Сильно ощущается отсутствие в литературе достойной смены (сегодня она, пусть и достаточно реально, лишь просматривается в лице ряда молодых журналистов, педагогов и актеров Немецкого драмтеатра).
Добавились и новые проблемы, связанные уже с перестройкой: труднее стало опубликовать художественное произведение — оно не всегда выдерживает конкуренции с документальными или публицистическими произведениями. Значительно возросли и требования к художественной литературе. Стремительное развитие общественной, политической жизни в стране требует от литератора писать с большим упреждением, что не каждому пока удавалось, в результате произведение иногда устаревает еще до его публикации. Устарело и многое из того, что было написано еще несколько лет назад, в других условиях и в расчете на иные критерии, из-за чего приходится часто отказываться от публикации этих произведений вообще или, в лучшем случае, печатать их в значительно сокращенном виде.
Определенный удар по изданию книг советских немецких авторов нанес переход ряда издательств на хозрасчет. При полном отсутствии работы по изучению читательского спроса и распространению советской немецкой литературы, тиражи ее убийственно малы, и издательствам невыгодно ее выпускать. Не сдвигается с мертвой точки решение ряда наболевших проблем советской немецкой литературы из-за того, что оно связывается наверху с решением главного вопроса — о восстановлении автономии, которое всё затягивается. И само ожидание восстановления автономии сдерживает осуществление многих творческих планов у ряда писателей. Сказывается на нормальном ходе литературного процесса и очередной кризис в редакции "Нойес лебен", доведенной бездумной кадровой политикой до практической недееспособности, одним из моментов которой является очередное отсутствие в редакции отдела литературы.[17]
Что могло бы, на мой взгляд, помочь создать условия для нормального развития советской немецкой литературы?
Восстановление автономии советских немцев, которое, по моему глубокому убеждению, должно произойти в ближайшее время, станет главным таким условием. Но уже сейчас, не дожидаясь этого акта, можно сделать то, что всё равно придется сделать. Начать следовало бы с созыва всесоюзного совещания советских немецких литераторов — первого в годы перестройки, с тем, чтобы обсудить на нем все имеющиеся в литературе проблемы и то, как их лучше решить. Пора создать действенную, работающую Комиссию по советской немецкой литературе при Правлении Союза писателей СССР, введя одновременно штатную должность консультанта по советской немецкой литературе. Давно назрела пора образовать самостоятельную редакцию журнала "Хайматлихе вайтен", увеличив его периодичность до 4–6 номеров в год. Острую необходимость испытывает советская немецкая литература в создании центрального журнала советской немецкой литературы на русском языке. Многие проблемы решила бы передача издания книг советской немецкой литературы, с увеличением объема их выпуска, из издательства "Радуга" в качестве приложения к альманаху "Хайматлихе вайтен", и книг на русском языке как приложение к будущему русскоязычному журналу. Уже в этом году надо бы осуществить набор группы советской немецкой молодежи в вузы с целью подготовки литературных редакторов для газет, журналов и издательств, а также литературной смены, предусмотрев двух-трехгодичную языковую практику для нее в ГДР.
Всё это надо делать не откладывая, ибо вопросы, решенные сегодня, не только перестанут сдерживать развитие советской немецкой литературы, но и будут способствовать ее более активной работе на перестройку. А в ходе предстоящих крупных перемен в жизни советских немцев в этой работе важен каждый день.
* * *
Этот год, юбилейный для советского немецкого народа, является юбилейным и для его ровесницы — советской немецкой литературы. Он юбилейный еще и тем, что семьдесят лет назад Лениным был подписан декрет об образовании Автономной области немцев Поволжья, преобразованной в 1924 году в АССР немцев Поволжья. Отмечая все эти даты и ощущая, как перестройка постепенно проламывается всё больше и больше вперед, нельзя не проникнуться твердым убеждением, что этот трижды юбилейный год станет для советских немцев годом еще одного торжества — торжества ленинских принципов национальной политики, долгожданного восстановления справедливости по отношению к ним, восстановления их государственности — автономной республики на Волге. А это явится и началом совершенно нового этапа в истории нашей литературы — этапа ее нормального, ничем не ограниченного развития.
И если это произойдет, и если многочисленные памятники и бюсты, сооруженные нами в более и в менее отдаленные времена и свергнутые сегодня, своей эфемерностью не совсем вытравили из нас естественную потребность выразить свое уважение к тем, кто в нашей истории действительно достоин его, то будут, наверное, сооружены памятники и в АССР советских немцев. Думаю, одним из первых должен бы быть воздвигнут памятник советской немецкой литературе. Мне этот памятник представляется в образе женщины — советской немецкой матери, потерявшей в годы войны и трудармии всех своих детей. Сама обессиленная и истощенная, она, понимая свою громадную ответственность за продолжение рода, за сохранение своего народа, мужественно вынашивала в себе свое последнее дитя, упрямо и стойко отвергая все попытки довести ее до аборта и работая, работая не покладая рук, чтобы создать хотя бы чуть-чуть более благоприятные условия для него, чем были у нее, у матери. И вот дитя увидело, наконец, свет. Оно уже вдохнуло воздуха свободы, оно уже подало свой голос.
Что ждет его впереди?
Февраль 1989 г.
Примечания
1
Hugo Wormsbecher. Im Anfang war die Tat. "Neues Leben" Nr. 9, 24. Februar 1988
(обратно)2
Hugo Wormsbecher. Die Sowjetdeutschen: Probleme und Hoffnungen. "Heimatliche Weilen", 1/1988.
(обратно)3
Georg Luft. Oktoberfunken. In: "Anthologie der sowjetdeutschen Literatur; B. 1. Alma-Ata, "Kasachstan", 1981, S. 160.
(обратно)4
Ebenda, S. 161
(обратно)5
Siehe: Woldemar Ekkert. Die Literatur der Rußlanddeutschen bis 1917 und der Sowjetdeutschen von 1917 bis 1957. In: "Anthologie der sowjetdeutschen Literatur", B. 1. Alma-Ata, "Kasachstan", 1981, S. 37.
(обратно)6
Karl Herdt. Wann, wie und wo starb Franz Bach? "Neues Leben" Nr. 46, 9. November 1988, S. 14.
(обратно)7
Friedrich Süptiz. Mit Moskau im Herzen. "Heimatliche Weiten", 2/1986.
(обратно)8
David Penner. Prokopjewsk, Arbeitsarmee. "Heimatliche Weiten", 1/1989.
(обратно)9
"Hand in Hand". Gedichte und Erzahlungen. Moskau, Verlag für fremdsprachige Literatur, 1960, S. 3.
(обратно)10
Rosa Pflug. Im Recht wie im Unrecht. "Neues Leben" Nr. 4, 18. Januar 1989
(обратно)11
Hugo Wormsbecher. Deinen Namen gibt der Sieg dir wieder. "Neues Leben", 1975, Nr. 25–36.
(обратно)12
Woldemar Ekkert. Im Dienste der Heimat. "Heimatliche Weiten", 1/1984, 1/1986. Woldemar Ekkert. Bis zum Oktober. "Heimatliche Werten", 2/1986.
(обратно)13
Woldemar Ekkert. Franz Schiller. "Heimatliche Weiten", 1/1983.
(обратно)14
Печать в CCCP B 1982 году. Статистический сборник. M., "Финансы и статистика", 1983, стр. 238.
(обратно)15
Taм жe, стр. 107.
(обратно)16
Taм же, cтp. 98.
(обратно)17
Чтобы читатель не был удивлен, что в таком объемном очерке автор практически обошел молчанием роль советских немецких газет в развитии советской немецкой литературы, должен сказать, что эта роль, как позитивная, так и негативная, газет "Нойес лебен" и "Фройндшафт" и их прежних и сегодняшних главных редакторов, была отражена. Однако сегодняшнее руководство "Нойес лебен" сочло нежелательным, чтобы мое мнение об их "заслугах" дошло до читателей. На мое предложение опровергнуть, в духе гласности, это мое мнение, если оно неправильно, послесловием к публикации, руководство не согласилось. Так ряд страниц очерка были вырезаны: право принимать решения по всем вопросам, касающимся альманаха, всё еще принадлежит руководству "Нойес лебен". — Прим. автора.
(обратно)



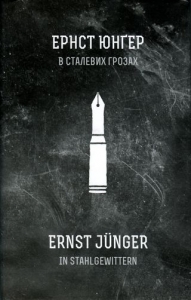

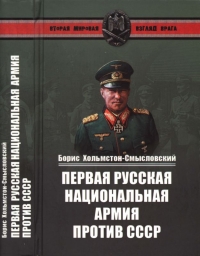


Комментарии к книге «"Шаг влево, шаг вправо..." (Неюбилейные заметки о советской немецкой литературе)», Гуго Густавович Вормсбехер
Всего 0 комментариев