Стивен Уэстаби Хрупкие жизни. Истории кардиохирурга о профессии, где нет места сомнениям и страху
Stephen Westaby
Fragile Lives: A Heart Surgeon’s Stories of Life and Death on the Operating Table
© Stephen Westaby, 2017
© Иван Чорный, перевод на русский язык, 2017
© Грунина П., иллюстрации, 2017
© Оформление ООО «Издательство «Э», 2018
* * *
Эта книга посвящена моим чудесным детям Джемме и Марку, а также моим внучкам Элис и Клои
Предисловие рецензента
Книга написана одним из знаменитейших кардиохирургов современности – профессором Стивеном Уэстаби, который разработал и впервые в мире применил целый ряд технических устройств для торакальной хирургии. В их числе вживляемые аппараты искусственного кровообращения – искусственные сердца.
На протяжении всего повествования автобиографические эпизоды тесно переплетаются с описаниями интересных клинических случаев. Профессор откровенно рассказывает о трудностях экстренных операций, о невероятной эмоциональной нагрузке и о необходимости противостоять как безграмотным коллегам, так и системе здравоохранения, ориентированной на экономию.
Медицинские истории доктор Уэстаби описывает с бесконечным уважением к пациентам, которые вместе с врачами-новаторами открывали дорогу к продлению жизни других людей. Через попытку обосновать «бессердечие» хирурга прорывается сильнейшая способность сопереживать – один из наиболее мощных стимулов для успешного движения хирурга вперед. Особого мужества и неравнодушия требует работа с детьми: сделать разрез, чтобы спасти.
Увлеченность автора своей профессией может воспламенить сердца будущих кардиохирургов, но не следует забывать, что медицинская специальность не исчерпывается романтикой. За интересными описаниями клинических случаев угадывается портрет человека с неординарным мышлением и высокой физической выносливостью, которые так нужны для принятия ответственных решений и практического воплощения их в жизнь. Взгляд художника и хорошее пространственное воображение, равное владение обеими руками, «хорошая связь между пальцами и мозгом» – вот лишь некоторые качества, позволившие профессору Уэстаби столько сделать. Он также отдает должное своим учителям и коллегам из разных стран. На страницах книги вырисовывается образ человека, погруженного в работу до полной самоотдачи, даже в ущерб семье: такова цена спасенных жизней и карьерного успеха.
Важную роль во многих начинаниях профессора Уэстаби сыграло международное сотрудничество, ставшее возможным благодаря его участию во всемирных медицинских конференциях, а также поддержка энтузиастов из числа коллег и благодарных пациентов. Лишь благодаря совместной деятельности всех этих людей – порой вопреки действующим указам – стало возможным применение ряда изобретений и, как следствие, спасение многих пациентов, прежде обреченных на мучительную гибель. В то же время автор упоминает и о таком препятствии в работе, как боязнь штатных врачей взять на себя ответственность, когда в результате бездействия гибнут люди.
Перестав оперировать в 68 лет, профессор Уэстаби не прекратил активной деятельности: под его руководством и сегодня продолжаются разработки в области сердечных вспомогательных систем и клеточной терапии кардиальных заболеваний.
Остается пожелать профессору – дальнейших успехов, любому национальному здравоохранению – побольше таких специалистов, будущим врачам – брать пример с доктора Уэстаби, и всем без исключения – интересного чтения.
Доктор медицинских наук М. В. Тардов
Предисловие от автора
Как известно, Вуди Аллен любил говорить: «Мозг – мой второй любимый орган». У меня же аналогичная тяга к сердцу. Мне нравится наблюдать за ним, останавливать его, приводить в порядок, а затем снова запускать, подобно автослесарю, ковыряющемуся в двигателе под капотом автомобиля. Стоило мне только разобраться, как оно устроено, и дальше все пошло как по маслу. В конце концов, в юности я занимался живописью, и мне оставалось лишь сменить кисти и холст на скальпель и человеческую плоть. Кардиохирургия стала для меня скорее хобби, чем работой. Она приносила мне сплошное удовольствие, а у меня к этому делу оказался настоящий талант.
Мой карьерный путь был на удивление хаотичным: замкнутый школьник стал на редкость открытым и общительным студентом-медиком, а пришедший ему на смену крайне амбициозный молодой врач превратился в итоге в сдержанного хирурга-первооткрывателя и учителя. На протяжении всего пути меня не раз спрашивали, чем же кардиохирургия так сильно привлекает меня. Надеюсь, что на следующих страницах вы найдете развернутый ответ на этот вопрос.
Однако прежде, чем мы приступим, позвольте поделиться с вами некоторыми фактами об этом потрясающем органе. У всех у нас сердца разные. У одних сердце жирное, у других худое. У одних быстрое, у других медленное. Не бывает двух одинаковых сердец. Почти все из двенадцати тысяч сердец, с которыми мне довелось работать, были тяжело больны, вызывая у своего хозяина чудовищные муки, невыносимую боль в груди, бесконечную усталость и ужасную одышку.
Больше всего в человеческом сердце поражает то, как оно двигается – ритмично и чрезвычайно эффективно. Поразительно, но сердце совершает более 60 ударов в минуту, перекачивая через себя при этом пять литров крови.
Рис. 1. Расположение сердца и легких в грудной клетке
Таким образом, количество сердцебиений за час составляет 3600, а за сутки – 86 400. За год сердце сокращается более 31 миллиона раз, а за восемьдесят лет успевает совершить более двух с половиной миллиардов ударов. Левая и правая стороны сердца ежедневно выбрасывают в легкие[1] и остальную часть тела[2] более 6000 литров крови (рис. 1). Это поистине невероятная нагрузка, требующая колоссального количества энергии. Неудивительно, что сбои в работе сердца приводят к весьма печальным последствиям. Итак, из года в год сердце проделывает огромную работу, и как вообще кому-то в голову могла прийти идея заменить этот животворящий орган механическим устройством? Или даже сердцем мертвеца?
Рис. 2. Сердце человека, вид спереди
На уроках биологии в школе я узнал, что сердце расположено в центре груди и состоит из четырех частей: двух камер, собирающих кровь, – левого и правого предсердия; и двух камер, выбрасывающих кровь, – левого и правого желудочка (рис. 2). На рисунках в учебнике они изображены рядом друг с другом – вроде дома с двумя спальнями на втором этаже и кухней с гостиной на первом. Губчатые эластичные легкие, окружающие сердце, напоминают крышу шведского шале, они постоянно поддерживают необходимый уровень кислорода в крови, выделяя в атмосферу образующийся углекислый газ. (Большинство из нас знает, что с выдыхаемым воздухом могут выделяться и другие вещества, в частности спирт, когда его уровень в крови становится слишком высоким и печень не успевает его перерабатывать).
Рис. 3. Сердечные камеры, клапаны и главные кровеносные сосуды, вид спереди
Насыщенная кислородом кровь покидает легкие, чтобы попасть в левое предсердие через четыре отдельные вены, по две с каждой стороны. Во время фазы наполнения сердца, или диастолы, кровь через митральный клапан, названный так из-за сходства с митрой священника, попадает в мощный левый желудочек (рис. 3). Во время сокращения желудочка, или систолы, митральный клапан закрывается. Содержимое левого желудочка выбрасывается через аортальный клапан из сердца в аорту, а затем по артериям кровь разносится по всему организму.
Любопытно, что правый желудочек работает совершенно по другому принципу. Он имеет серповидную форму, и от левого желудочка его отделяет межжелудочковая перегородка. За счет своей формы «молодого месяца» правый желудочек накачивает кровь, подобно раздувающимся мехам. Таким образом, оба желудочка действуют сообща, полагаясь в работе друг на друга. Именно сердечный ритм и пленил меня: он неизменно приковывал к себе мое внимание точно так же, как руки пианиста или ноги танцора.
Но неужели все на самом деле так просто? Помню, когда я был ребенком, мама частенько покупала в мясной лавке овечье сердце. Оно было недорогим и довольно вкусным – и к тому же прекрасно подходило для препарирования. Впервые разрезав сердце овцы, я узнал, что оно устроено гораздо сложнее, чем можно судить по иллюстрациям в школьном учебнике. Правда в том, что желудочки кардинально отличаются друг от друга по форме и мышечному строению. Кроме того, их сложно называть левым и правым – скорее передним и задним. Левый желудочек с более толстыми стенками имеет форму конуса, а его сжатие и вращение происходят за счет кольцевых мышечных волокон. Теперь мы можем представить, как работает левый желудочек. По мере сокращения и утолщения стенок этой мощнейшей мышцы ее полость уменьшается в размере[3]. Когда мышца расслабляется, наступает диастолическая фаза сердечного цикла: левый желудочек растягивается и аортальный клапан закрывается. Расширяясь, полость желудочка засасывает в себя кровь из предсердия через митральный клапан. Таким образом, каждый цикл сокращения и расслабления сердечной мышцы включает в себя сужение, поворот и уменьшение, после чего происходят расширение, растягивание и удлинение. Ну чем не аргентинское танго… С двумя важнейшими отличиями: на все про все уходит менее секунды, а танец продолжается бесконечно.
Все клетки нашего организма нуждаются в «живой» крови и кислороде, при отсутствии которых ткани умирают – каждая со своей скоростью: мозг – первым, кости – последними. Все зависит от того, сколько именно кислорода требуется той или иной клетке для нормальной жизнедеятельности. Когда сердце останавливается, повреждение мозга и нервной системы наступает менее чем за пять минут. А потом мозг умирает.
Что ж, теперь вы кардиолог[4]. Вы знаете, как устроено сердце и как циркулирует кровь. Но чтобы помочь пациенту, вам не обойтись без помощи хирурга.
1. Эфирный купол
[5]
Благодарю за смену; резкий холод, И сердце мне щемит. Уильям Шекспир «Гамлет», акт 1, сцена 1[6]Тончайшая грань отделяет жизнь от смерти, победу от поражения, надежду от отчаяния – чуть больше мертвых клеток мышечной ткани, чуть выше концентрация молочной кислоты в крови, чуть сильнее отек мозга. Старуха с косой дышит в затылок каждому хирургу, а смертный приговор всегда окончателен и бесповоротен. Второго шанса никто не даст.
На первой неделе обучения в Медицинской школе при больнице Чаринг-Кросс, что в самом центре Лондона, я отправился искать эфирный купол. Мне не терпелось увидеть живое, бьющееся сердце. Школьный администратор предупредил, что студентам, которые еще не проходят практику, нельзя находится в кардиохирургическом отделении, и посоветовал никому не попадаться на глаза.
День приближался к концу, на улице стемнело и начало моросить, когда я отправился на поиски эфирного купола, которым оказался старинный купол из свинцового стекла прямо над операционной в больнице Чаринг-Кросс. После вступительного собеседования я не переступал ее священный порог. Нам, студентам, приходится завоевывать это право, сдавая экзамены по анатомии, физиологии и биохимии, так что я не решился пройти через главный вход, украшенный колоннами, а прошмыгнул через утопающее в ультрафиолете отделение «Скорой помощи» и наткнулся на лифт – расшатанную древнюю клетку, в которой оборудование и трупы переправлялись в больничный подвал.
В 1960-х годах операции на сердце все еще были в новинку, хирургов, которые их проводили, можно было по пальцам пересчитать, и мало кого этому должным образом учили. Зачастую за такие операции брались талантливые хирурги общей практики, посетившие один из передовых медицинских центров и затем пожелавшие освоить новую специализацию. Они учились методом проб и ошибок, нередко расплачиваясь за опыт человеческими жизнями.
Я боялся опоздать, переживал, что операцию к моему появлению уже закончат и что зеленая дверь окажется заперта. К счастью, она была открыта. Зеленая дверь вела в темный пыльный коридор, заставленный устаревшими наркозными аппаратами и списанными хирургическими инструментами. В десяти метрах перед собой я увидел операционные лампы, сиявшие прямо под стеклянным куполом. Я очутился на старой смотровой площадке, отделенной толстым стеклом от того, что творилось на операционном столе, который находился в каких-то трех метрах под моими ногами. Купол окружали перила и деревянные скамейки, отполированные до блеска суетливыми задницами будущих хирургов.
Я уселся, вцепился в перила – только я и старуха с косой – и принялся внимательно наблюдать через запотевшее стекло. Внизу проводили операцию на сердце, и грудная клетка пациента была открыта. Я подвинулся, чтобы найти наилучший угол обзора, и оказался прямо над головой хирурга. Он слыл знаменитостью – во всяком случае, в нашей медицинской школе: высокий худощавый импозантный мужчина с очень длинными пальцами.
Два ассистента хирурга и операционная медсестра сгрудились поверх зияющей раны и судорожно передавали инструменты из рук в руки. И наконец я увидел то, чем было захвачено все их внимание и к чему меня так влекло. Передо мной билось человеческое сердце. Вернее, оно скорее съеживалось, чем билось, и к тому же посредством игл и трубок было подсоединено к аппарату искусственного кровообращения. Цилиндрические диски вращались в огромном сосуде с насыщенной кислородом кровью, которая с помощью перистальтического насоса проталкивалась по трубкам и возвращалась обратно в организм. Я присмотрелся получше, но все равно видел лишь сердце: остальное тело пациента было полностью прикрыто зелеными хирургическими простынями, совершенно его обезличивая.
Хирург то и дело переминался с ноги на ногу – на нем были большие белые сапоги, которые раньше носили во время операций, чтобы кровь не попадала на носки. Операционная бригада заменила митральный клапан, но восстановить естественное кровообращение никак не удавалось. Впервые в жизни я воочию наблюдал бьющееся человеческое сердце, но даже мне оно казалось слишком ослабленным, надутым, словно воздушный шар, пульсирующим, но не качающим кровь. На стене позади себя я заметил коробочку с надписью «Интерком». Я щелкнул выключателем, и теперь у действия, разворачивавшегося у меня перед глазами, появилось звуковое сопровождение.
За фоновым шумом, усиленным колонками, я смог разобрать, как хирург сказал:
– Давайте попробуем еще разок. Увеличьте адреналин. Вентилируйте. Может быть, у нас еще получится.
В полной тишине все наблюдали за тем, как сердце отчаянно сражается за свою жизнь.
– Воздух в левой коронарной, – сказал один из помощников. – Подайте иглу.
Он вставил иглу в аорту, пеной пошла кровь, и давление пациента начало стабилизироваться.
Почувствовав, что момент удачный, хирург повернулся к перфузиологу.
– Вырубайте немедленно! Это наш последний шанс.
– АИК отключен, – последовал сухой ответ; уверенности в голосе говорившего не было.
Итак, аппарат искусственного кровообращения больше не работал, и сердце осталось без поддержки. Левый желудочек направлял кровь во всему телу, правый – в легкие, и оба с трудом справлялись со своими обязанностями. Анестезиолог уставился на экран, наблюдая за показателями кровяного давления и сердечного ритма. Понимая, что больше ничего сделать нельзя, хирурги безмолвно достали из сердца катетер и принялись зашивать, надеясь, что сердце справится. Какое-то время оно слабо и неровно, но билось, однако затем давление стало медленно падать. Где-то явно было кровотечение. Не сильное, но непрекращающееся. Где-то сзади. Там, куда не подобраться.
Когда сердце приподняли, началась его фибрилляция[7]. Теперь оно дергалось – извивалось, словно мешок с червями, – но не сокращалось, управляемое нескоординированными электрическими сигналами. Столько усилий – и все впустую. Анестезиологу понадобилось время, чтобы заметить это на своем экране.
– ФЖ! – наконец закричал он (вскоре я узнал, что это сокращение означает фибрилляцию желудочков). – Готовьте разряд.
Хирург был к этому готов и уже прижал пластины дефибриллятора к груди пациента.
– Тридцать джоулей.
Разряд! Без изменений.
– Давайте шестьдесят.
Разряд! На этот раз дефибрилляция прошла успешно, но сердце замерло – не проявлявшее никакой электрической активности, своим видом оно напоминало промокший бумажный пакет. Полная остановка сердца, или, как мы ее называем, асистолия.
Кровь продолжала приливать в грудь, и хирург ткнул в сердце пальцем. Желудочки в ответ сократились. От ткнул еще раз, и сердечный ритм восстановился.
– Слишком медленно. Дайте мне шприц с адреналином.
Он бесцеремонно засунул иглу через правый желудочек в левый и впрыснул туда физраствор[8], а затем принялся массировать сердце длинными пальцами, чтобы мощный стимулятор проник в коронарные артерии.
Благодарная сердечная мышца не заставила ждать с ответом. Прямо как по учебнику, сердечный ритм ускорился, и давление начало возрастать, проверяя на прочность свежие швы. Затем, словно в замедленном воспроизведении, та область аорты, куда устанавливали катетер, не выдержала. Как при извержении гейзера, кровавый фонтан устремился прямо к операционным лампам, обдав хирургов и залив хирургические простыни. Кто-то пробормотал: «Вот дерьмо». Мягко сказано. Пациента было уже не спасти.
Прежде чем отверстие успели заткнуть пальцем, сердце опустело. Кровь капала с ламп, и по мраморному полу струились красные ручейки, из-за чего резиновые подошвы сильно липли к нему. Анестезиолог принялся судорожно вливать пакет за пакетом кровь в вены пациенту, но было поздно. Жизнь быстро покидала его. Когда действие введенного адреналина закончилось, набухшее сердце попросту сдулось, как спущенный воздушный шар, и остановилось. Теперь уже навсегда.
Врачи застыли в молчаливом отчаянии – впрочем, для них это привычное дело. Потом старший хирург пропал из моего поля зрения, а анестезиолог дождался, пока на электрокардиограмме не появится прямая линия, и выключил аппарат искусственной вентиляции легких. Он достал из трахеи пациента трубку, после чего тоже скрылся из виду. Мозг пациента уже умер.
В считаных метрах от меня туманная дымка опустилась на Стрэнд[9]. Пассажиры спешили укрыться от дождя в здании вокзала Чаринг-Кросс; в «Симпсонз» и «Рулз» посетители заканчивали поздний обед, а в барах «Уолдорфа» и «Савоя»[10] гостям смешивали коктейли. Там была жизнь, а здесь – смерть. Одинокая смерть на операционном столе. Больше никакой боли, никакой одышки, никакой любви, никакой ненависти. Больше вообще ничего.
Перфузиолог выкатил аппарат искусственного кровообращения из операционной – понадобится несколько часов, чтобы его разобрать, почистить, снова собрать и простерилизовать для следующего пациента. Только операционная медсестра немного замешкалась. Затем к ней присоединилась медсестра-анестезист, которая недавно подбадривала пациента в предоперационной. Они сняли маски и какое-то время стояли молча, совершенно не обращая внимания на липкую кровь повсюду и на по-прежнему открытую грудную клетку. Медсестра-анестезист нащупала голову пациента под простынями и взяла ее в руки. Операционная медсестра сняла покрывало и встряхнула его. Я увидел, что пациентом была молодая девушка.
Я осторожно подвинулся вдоль скамейки, чтобы получше разглядеть лицо девушки. Ее глаза были широко открыты – она словно смотрела сквозь стеклянный купол, простиравшийся над ее головой. Она была мертвенно-бледной, но по-прежнему красивой – с высокими скулами и черными как смоль волосами.
Врачи не знали, что я наблюдал за ними над куполом в амфитеатре. Меня могла заметить разве что старуха с косой, но она уже отправилась восвояси, прихватив душу пациентки.
Как и медсестры, я не мог просто уйти. Мне нужно было узнать, что будет дальше. Они собрали окровавленные простыни с обнаженного тела. Мысленно я умолял их убрать омерзительный ретрактор, раздвигавший грудину, чтобы несчастное сердце могло вернуться на место. Когда они наконец это сделали, ребра соединились вместе, и безжизненное сердце бедняжки снова оказалось прикрыто. Оно застыло без движения, опустошенное и потерпевшее окончательное поражение, – осталась только зловещая дыра, зиявшая в груди у девушки.
Интерком был по-прежнему включен, когда медсестры заговорили.
– Что будет с ее малышом?
– Пойдет в приемную семью, наверное. Она не была замужем, а родители погибли во время бомбежки.
– Где она жила?
– Уайтчепел[11], но я не уверена, что в Лондонской больнице проводят операции на сердце. Во время беременности у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Острая ревматическая лихорадка. Она чуть не умерла, когда рожала. Наверное, так было бы даже лучше.
– А где сейчас ребенок?
– Думаю, в палате. Старшей сестре нужно будет им заняться.
– А она в курсе?
– Пока нет. Пойди отыщи ее. Я попрошу кого-нибудь, чтобы мне помогли здесь закончить.
Их разговор был таким прозаичным! Молодая женщина только что умерла, а ее малыш остался один-одинешенек на белом свете. Он лишился любви, тепла, которые исчезли посреди спутанных проводов в залитой кровью операционной. Был ли я к этому готов? Этого ли я ожидал?
Две студентки-медсестры пришли, чтобы вымыть тело. Я узнал их: мы виделись на танцах, устраиваемых для первокурсников. Обе учились в престижной частной школе. Девушки принесли ведро с мыльной водой и губки и принялись за работу. Они убрали катетеры и явно расстроились, увидев дыру в груди и то, что скрывалось за ней. Оттуда продолжала сочиться кровь.
– Что с ней случилось? – спросила девушка, с которой я однажды танцевал.
– Очевидно же, что операция на сердце, – последовал ответ. – Думаю, хотели поставить протез клапана. Бедная девочка. Она ведь не старше нас. Ее мама, должно быть, убита горем.
Они накрыли разрез марлей, чтобы кровь впиталась, а затем стянули края разреза и зафиксировали пластырем. Вернулась операционная медсестра и поблагодарила их за то, что они хорошо поработали, после чего попросила вернуться ординатора, чтобы тот зашил рану и тело можно было отвезти в морг: всех пациентов, умерших на операционном столе, направляют к коронеру на вскрытие. Труп бедной девушки разрежут сверху донизу, так что не было никакого смысла закрывать грудину или собирать воедино грудную клетку. Ординатор взял огромную иглу с толстой нитью и зашил разрез так, будто перед ним был мешок для писем. Шов получился грубым – местами виднелись края раны и сочилась серозная жидкость. Мешки с письмами зашивают куда тщательнее.
Было около половины седьмого; я, по идее, должен был сидеть в пабе неподалеку отсюда и ругать нашу команду по регби, но я все никак не мог уйти. Я не мог оставить эту безжизненную пустую оболочку, это тощее тело, с которым никогда не встречался, хотя теперь мне казалось, будто я знаю его бывшую владелицу очень хорошо.
Три медсестры одели ее в накрахмаленный белоснежный саван с жестким гофрированным воротником, завязали его сзади, а затем зафиксировали лодыжки бинтом. У пациентки уже началось трупное окоченение. Студентки выполняли работу по-доброму и уважительно. Я знал, что непременно встречусь с ними снова. Возможно, спрошу, что они при этом чувствовали.
И вот мы остались вдвоем – я и безжизненное тело. Операционные лампы все так же освещали лицо девушки, и она смотрела прямо на меня. Почему ей не закрыли глаза, как обычно делают в фильмах? Казалось, через ее расширенные зрачки я мог разглядеть отпечатавшуюся в мозге мучительную боль.
Опираясь на услышанные обрывки разговоров и свои незначительные знания по медицине, я мог приблизительно представить историю ее жизни. Родилась в Ист-Энде. Когда ее родители погибли при бомбардировке Лондона, она была совсем маленькой. Все увиденное и услышанное оставило глубочайшие шрамы в ее душе, там поселилась боязнь одиночества – в конце концов, мир рушился прямо у нее на глазах. Она выросла в нищете и заболела ревматической лихорадкой – по сути, это простой стрептококковый фарингит, который, однако, провоцирует развитие сильнейшего воспалительного процесса в организме. Ревматическая лихорадка была обычным делом в перенаселенных бедных районах. Возможно, несколько недель бедняжка мучилась от болей в воспаленных суставах, только ей было невдомек, что воспаление затронуло и клапаны сердца. В те годы не существовало методов, позволявших диагностировать подобные проблемы.
Итак, у девочки развилась хроническая ревматическая болезнь сердца, и с тех пор ее считали хилым ребенком. Возможно, она страдала и ревматической хореей[12], для которой характерны неконтролируемые резкие движения, шаткая походка и эмоциональная неустойчивость. Позднее больная забеременела (издержки профессии), отчего ее состояние резко ухудшилось, так как сердцу пришлось работать гораздо усерднее. У нее появились отеки и одышка, но она смогла выносить ребенка до конца срока. Вероятно, врачи в Лондонской больнице смогли благополучно принять роды, но обнаружили у пациентки сердечную недостаточность. Шумы в сердце. Проблемы с митральным клапаном. Ей назначили дигоксин[13], чтобы помочь сердцу, но от лекарства ее тошнило, и она перестала его принимать. Вскоре из-за сильной одышки и усталости она уже не могла полноценно ухаживать за ребенком. Даже просто лежать ей было тяжело. Сердечная недостаточность обострилась, и прогноз был неблагоприятный. Ее направили к хирургу – настоящему джентльмену в деловом костюме с брюками в тонкую полоску. Он держался доброжелательно и сказал, что только операция на митральном клапане может помочь. Однако она не помогла. Она лишь поставила точку в печальной истории жизни, оставив еще одного ребенка в Ист-Энде сиротой.
К тому времени как санитары пришли забрать тело, операционные лампы давно были выключены. К операционному столу подкатили специальную тележку для перевозки покойников – фактически жестяной гроб на колесиках. К этому моменту суставы у трупа успели окончательно окоченеть. Тело бесцеремонно переложили в эту «консервную банку», при движении которой голова с неприятным звуком билась о жестяные стенки. Но ничто уже не могло причинить пациентке боль. Потеряв с ней зрительный контакт, я почувствовал облегчение. Тележку прикрыли зеленым шерстяным одеялом, чтобы она не привлекала внимания, и санитары отправились в морг, где тело положили в холодильную камеру. Ребенок этой женщины никогда больше ее не увидит, у него никогда больше не будет матери.
Добро пожаловать в кардиохирургию.
* * *
Я все сидел и сидел, ухватившись за перила и положив подбородок на руки. Я смотрел сквозь стеклянный купол на черную резиновую поверхность опустевшего операционного стола, как на протяжении многих поколений поступали будущие хирурги до меня. Эфирный купол был сродни амфитеатру для показа гладиаторских боев: люди приходили сюда поглазеть на представление, в котором решалось, жить или умереть другому человеку. Возможно, будь рядом со мной кто-нибудь еще, это зрелище не показалось бы мне таким уж бесчеловечным – мне было бы с кем поделиться потрясением от смерти бедной девушки и мыслями о страданиях, ожидающих ее ребенка.
Появились младшие медсестры с тряпками и ведрами, чтобы навсегда убрать последние следы, оставшиеся от пациентки: кровь, засохшую вокруг операционного стола; кровавые отпечатки обуви, ведущие к двери; кровь на наркозном аппарате и на операционных лампах. Кровь повсюду – и теперь ее старательно оттирали. Худощавая девушка потянулась, чтобы вытереть лампы, и увидела через стеклянный купол мое бледное лицо и устремленные во мрак глаза. Я ее напугал – это был четкий сигнал о том, что мне пора уходить.
Я закрыл за собой зеленую дверь и направился к трясущемуся лифту, в котором бездыханное тело отвезли в холодильную камеру морга.
Поверх операционных ламп – там, где ее никто не видел, – осталась незамеченной одна капля крови. Липкая и черная, эта последняя частичка несчастной девушки словно говорила: «Помните меня».
Списки пациентов, чьи тела предстояло вскрывать, появлялись на стенде в фойе медицинской школы. Чаще всего это были пожилые люди. Те, что помоложе, обычно были наркоманами, жертвами автомобильных аварий, самоубийцами из подземки или пациентами кардиохирургического отделения. Я нашел ее в списке, вывешенном в пятницу утром. Ее звали Бет. Не Элизабет – просто Бет. Двадцать шесть лет. Это точно была она. В день вскрытия тела пациентов переносили из больничного морга в подвал, откуда затем в жестяном ящике доставляли по проложенным под дорогой рельсам прямо к нам, в медицинскую школу, и поднимали в секционный зал. Сходить ли мне на вскрытие? Сходить, чтобы увидеть, как вырезают ее кишки и мозг, как ее мертвое сердце разрезают на кусочки? Чтобы рассказать всем, как она умерла на самом деле, рассказать об этом ужасном кровавом фонтане?
Нет уж, для меня это слишком.
В тот вечер, что я провел над эфирным куполом, Бет преподала мне очень важный урок. Ни за что не привязывайся к пациентам. Разворачивайся и уходи, как сделали хирурги, оперировавшие Бет, а назавтра попробуй помочь кому-то еще. Сэр Рассел Брок, самый выдающийся кардиохирург той эпохи, славился напускным безразличием к людям, которые умерли под его скальпелем: «Сегодня у меня запланировано три операции. Интересно, кто из пациентов выживет?» Кто-то назовет такой подход равнодушным и даже бессердечным, но врачи не могут позволить себе предаваться сожалениям из-за смерти пациента – это было бы непростительной ошибкой. И тогда, и сейчас. Мы должны учиться на своих неудачах, чтобы в следующий раз, если удастся, добиться лучшего результата. Если будешь каждый раз переживать и горевать, страдания станут невыносимыми.
История с Бет преподала мне важный урок – нельзя привязываться к пациентам, давать волю чувствам и эмоциям. Если не получилось спасти человека, нужно развернуться к нему спиной и уйти, чтобы завтра попробовать спасти другую жизнь.
Мне довелось в очередной раз столкнуться с этой проблемой, когда моя карьера претерпела резкий поворот и я начал оперировать маленьких детей с серьезными врожденными патологиями сердца. Некоторые из них приходили в больницу с довольным видом, в одной руке держа любимого плюшевого мишку, а другой крепко сжимая мамину ладонь. Синие губы, одышка, густая, как патока, кровь. Они не знали лучшей жизни, а я изо всех сил пытался подарить им ее. Сделать их розовыми и энергичными, избавить от нависшего над ними злого рока. Я трудился добросовестно, но порой терпел неудачу. И как же мне следовало поступать? Сидеть вместе с заплаканными родителями в сумраке морга, держа в ладонях холодную безжизненную ручку их малыша и обвиняя себя в том, что я решился пойти на риск?
Любая операция на сердце связана с риском. Те из нас, кому удалось стать хирургом, никогда не оглядываются назад. Мы сразу переключаемся на следующего пациента, всегда надеясь, что уж с ним-то все сложится благополучно, и никогда в этом не сомневаемся.
2. Первые скромные успехи
Быть храбрым – значит делать то, чего ты боишься. Храбрость может проявиться, только когда ты напуган.
Эдуард Рикенбекер, «Нью-Йорк таймс», 24 ноября 1963 годаЯ появился на свет в самом начале послевоенного всплеска рождаемости. Дело было 27 июля 1948 года (по знаку Зодиака я Лев) в родильном отделении Сканторпского военного мемориального госпиталя. Старый добрый Сканторп – город металлургов, многострадальная жертва английских комиков. Там я провел все детство.
Моя дорогая матушка, измученная затяжными и болезненными родами, тем не менее безмерно обрадовалась своему первому отпрыску и в целости и сохранности доставила меня домой. Я был розовым крепким младенцем, который вопил во всю мощь только что раскрывшихся легких.
Мама была умной женщиной, доброй и заботливой. Ее все любили. Во время войны она управляла небольшим коммерческим банком, и люди, у многих из которых на счету не осталось ни копейки, выстраивались к ней в очередь, чтобы рассказать о своих проблемах. Мой отец в шестнадцать лет поступил на службу в Королевские военно-воздушные силы, чтобы сражаться с немцами, а после войны получил работу в местном кооперативном продуктовом магазине, где трудился не покладая рук, чтобы хоть как-то улучшить наше финансовое положение. Жилось тогда нелегко.
Бедные как церковные мыши, мы жили в закопченном рабочем районе. Дом номер тринадцать. Никаких фотографий и плакатов на стенах, чтобы не осыпалась штукатурка. С бомбоубежищем из гофрированной жести на заднем дворе, где мы разводили гусей и кур, и с туалетом на улице.
Мамины родители жили через дорогу от нас. Бабушка была болезненной, но доброй, она всегда меня защищала. Дедушка работал на сталелитейном заводе, а во время войны был местным уполномоченным по гражданской обороне. В день выдачи зарплаты я вместе с ним ходил забирать его жалованье. Зрелище работающего завода неизменно зачаровывало меня: раскаленный добела жидкий металл разливался по литейным формам; потные мужчины с голым торсом, но в кепках подбрасывали в печи уголь; изрыгающие пламя паровозы громыхали вверх-вниз между прокатными станами и шлаковыми отвалами, и повсюду летали яркие искры.
Дедушка терпеливо учил меня рисовать карандашами и красками. Он сидел рядом, попыхивая дешевой папиросой, а я рисовал алое вечернее небо над дымовыми трубами, уличные фонари и движущиеся по рельсам поезда. Дедушка выкуривал по пачке в день, а кроме того, он всю жизнь проработал в дыму сталелитейного завода. Не самое полезное для здоровья сочетание.
В 1955 году мы обзавелись первым черно-белым телевизором – квадратным ящиком с диагональю двадцать сантиметров, который транслировал всего один канал – «Би-би-си». Телевидение кардинально расширило мои представления об окружающем мире. В том же году двое ученых из Кембриджа, Крик и Уотсон, описали молекулярную структуру ДНК. Врач Ричард Долл из Оксфорда установил прямую связь между курением и раком легких. А затем из программы «Ваша жизнь в их руках» я узнал волнующую новость, которая и определила мой дальнейший жизненный путь. Хирурги из Соединенных Штатов залатали отверстие в сердце с помощью специального механизма, который они назвали аппаратом «искусственное сердце – легкие», поскольку тот выполнял функцию обоих органов[14]. Врачи на экране телевизора носили длинные, до самого пола, белые халаты, на медсестрах была белоснежная, накрахмаленная, идеально выглаженная униформа, а на голове – белые чепчики. Медики почти все время молчали, а пациенты скованно сидели на кроватях.
Речь в передаче шла об операциях на сердце и о том, что хирурги из Хаммерсмитской больницы запланировали вскоре провести подобную операцию. Они тоже собирались закрыть отверстие в сердце. Семилетний мальчик, сидевший перед экраном, был заворожен. Почти загипнотизирован. Именно в тот момент я решил, что обязательно стану кардиохирургом.
В десять лет я сдал вступительный экзамен в местную начальную школу, превратившись к тому времени в тихого, послушного, застенчивого мальчика. На меня возлагали надежды, так что я трудился изо всех сил. Я обладал природным талантом к живописи, однако пришлось отказаться от уроков рисования в пользу изучения естественных наук. И все же одно было известно наверняка: руки у меня ловкие, а пальцы подчиняются сигналам мозга.
Обладая талантом к живописи, я все же выбрал занятия естественными науками. Несомненно, мои ловкие руки были полезны в любом из этих занятий.
Однажды после школы мы с дедушкой и его шотландским терьером Виски гуляли по городским окраинам. Внезапно дедушка остановился как вкопанный и схватился за воротник своей рубашки. Он мгновенно вспотел, его голова склонилась, а лицо стало мертвенно-бледным. Бездыханный, он рухнул на землю, словно поваленное дерево. Он не мог произнести ни слова, и я отчетливо увидел страх в его глазах. Я хотел побежать за врачом, но дедушка меня не отпустил. Даже в свои пятьдесят восемь он боялся остаться без работы. Поэтому я просто поддерживал его голову, пока боль не ушла. Приступ длился полчаса, и, когда дедушка пришел в себя, мы неторопливо побрели домой.
Мама знала, что у ее отца проблемы со здоровьем. Она сказала мне, что у него не раз было «несварение», когда он ехал на велосипеде на работу. Пусть и неохотно, дедушка согласился отказаться от велосипеда, но лучше от этого не стало. Приступы повторялись все чаще, даже когда он ничего не делал, а особенно – когда поднимался по лестнице. Холод тоже был вреден для его груди, так что мы перенесли старую железную кровать вниз к камину, а заодно поставили рядом стульчак с ночным горшком, чтобы дедушке не нужно было каждый раз выходить на улицу.
Его лодыжки и икры настолько распухли, что старая обувь стала мала. Он прилагал огромные усилия, просто чтобы завязать шнурки, поэтому с тех пор почти не выходил на улицу, передвигаясь в основном от кровати к стоявшему напротив открытого огня стулу. Я сидел рядом и рисовал для дедушки, чтобы отвлечь его мысли от зловещих симптомов.
До сих пор помню хмурый дождливый ноябрьский вечер – ровно за день до убийства в Далласе президента Кеннеди. Я вернулся из школы и увидел возле дома бабушки с дедушкой черный «Остин-Хили», в котором ездил местный врач. Я понимал, что это означает. Я заглянул в запотевшее окно, но занавески были задернуты, так что я обошел дом сзади и тихонько проскользнул в дверь кухни. Я услышал плач, и мое сердце оборвалось.
Дверь в гостиную была приоткрыта. Внутри царил полу-мрак. Возле кровати со шприцем в руке стоял врач, а мама с бабушкой стояли у изголовья кровати, крепко обняв друг друга. Дедушкино лицо приобрело свинцовый оттенок, его грудь тяжело поднималась, а с посиневших губ и из побагровевшего носа сочилась розоватая жидкость. Он судорожно кашлял, разбрызгивая по постельному белью кровавую пену. Затем его голова откинулась в сторону, и широко распахнутые глаза уставились в стену, прямо на плакат, гласивший: «Да будет благословлен этот дом». Врач взял дедушкино запястье, чтобы проверить пульс, а потом прошептал: «Он ушел». Комнату окутала атмосфера покоя и облегчения. Мучения закончились.
Позже в свидетельстве о смерти напишут: «Смерть из-за сердечной недостаточности». Оставшись незамеченным, я прошмыгнул на улицу, добрался до бомбоубежища с цыплятами, уселся там и тихонько расплакался.
Вскоре после этого у бабушки обнаружили рак щитовидной железы, опухоль начала перекрывать трахею. «Стридор» – так медики называют свистящий шумный звук, с которым ребра и диафрагма изо всех сил проталкивают воздух через суженные дыхательные пути. Именно его я и слышал. Она уехала за сорок миль от дома – в Линкольн, чтобы пройти курс лучевой терапии, но из-за лечения у бабушки только потемнела кожа, а глотать стало еще сложнее. Перед нами замаячил лучик надежды, когда бабушке назначили хирургическую трахеостомию, но хирургу не удалось проделать отверстие в трахее на достаточном расстоянии от опухоли. Все наши надежды рухнули в одночасье – бабушка была обречена на страдания до самой смерти. Все было бы не так плохо, если бы врачи позволили ей принимать обезболивающее. Каждый день я сидел с бабушкой после школы, делая все возможное, чтобы ей хоть чуточку полегчало. Постепенно из-за опиатов и нехватки кислорода ее разум затуманился, и однажды ночью она мирно отошла в мир иной из-за сильного кровоизлияния в мозг. В свои шестьдесят три она стала самой долгоживущей из всех моих бабушек и дедушек.
Когда мне столкнуло шестнадцать, на время школьных каникул я устроился на работу в сталелитейный цех. Но потом самосвал столкнулся с дизельным поездом, перевозившим расплавленное железо, и мои услуги оказались не нужны руководству завода. Я наткнулся на вакансию санитара в больнице и согласился работать в операционной. Здесь всем надо было угождать по-своему. Пациенты – не кормленные перед операцией, испуганные и лишенные человеческого достоинства в больничных сорочках – нуждались в доброте, ободрении и уважительном отношении. Помощницы медсестер были дружелюбными и веселыми, сами медсестры ходили с важным, деловым видом и любили командовать – я должен был молча выполнять все их просьбы, а анестезиологи не любили ждать. Что касается надменных хирургов, то они меня попросту не замечали – по крайней мере поначалу.
Одна из моих первых обязанностей заключалась в том, чтобы помогать переносить пациентов с каталок на операционный стол. Я знал, какая операция предстоит каждому из них, поскольку изучал список намеченных на день операций, и помогал настраивать операционные лампы над головой, направляя их на место, где предполагалось делать разрез (как художник я интересовался анатомией и немного знал, где что расположено). Постепенно хирурги начали обращать на меня внимание, а некоторые даже стали расспрашивать о моих планах. Я говорил, что хочу в будущем стать кардиохирургом, и вскоре мне разрешили наблюдать за ходом операций.
Работать по ночам было здорово – и все благодаря несчастным случаям: сломанным костям, разрывами брюшной полости и кровоточащим аневризмам. Большинство пациентов с аневризмами умирали, после чего медсестры мыли тела и одевали в саван, а я перекладывал их с операционного стола в жестяной ящик тележки для трупов, что всегда сопровождалось неприятным глухим ударом. Потом я катил очередное тело в морг, чтобы положить его в холодильную камеру. Я быстро втянулся, и работа стала для меня привычной.
Разумеется, впервые я попал в морг посреди глубокой ночи. Серое кирпичное здание без окон располагалось за пределами основной территории больницы, и я изрядно боялся того, что могло меня там ожидать. Я повернул ключ в замке массивной деревянной двери, ведущей прямо в секционный зал, заглянул внутрь – и не смог найти выключатель света. Мне дали с собой фонарик, и его луч пританцовывал вокруг, пока я набирался мужества, чтобы войти.
Зеленые полиэтиленовые фартуки, острые металлические инструменты и блестящий мрамор сверкали в окружавшем меня сумраке. В помещении стоял устойчивый запах смерти – во всяком случае, именно таким я его представлял. Наконец луч фонаря лег на выключатель, и я включил неоновые лампы, закрепленные под потолком. Лучше мне от этого не стало. На одной из стен – от пола до потолка – я заметил небольшие квадратные дверцы, которые вели в холодильные камеры. Я должен был положить тело в холодильник, но не знал, какой из них пустой.
На некоторых дверях висели картонные таблички с именами, и я понял, что эти камеры уж точно заняты. Я повернул ручку дверцы, на которой не было имени, но за ней обнаружилась обнаженная женщина, прикрытая белой простыней. Неподписанный труп. Вот дерьмо. Ладно, попробую снова. На этот раз мне повезло: я выдвинул пустой жестяной поддон и направил скрипучую механическую лебедку в сторону своего жмурика. Как переложить тело с каталки, не уронив его на пол? При помощи ремней, кривошипной рукоятки и собственной физической силы. Кое-как я справился с задачей и задвинул поддон в холодильную камеру.
Даже за неподписанной дверцей ящика может лежать чье-то обнаженное тело.
Все это время входная дверь была распахнута настежь: мне не хотелось одному находиться в закрытом морге. Я поспешно вышел и двинулся к зданию больницы, толкая перед собой тележку для трупов: надо было подготовить ее для следующего клиента. И как патологоанатомы умудряются проводить в подобной обстановке добрую половину рабочего времени, выпуская кишки из трупов?
В конце концов, подключив свое обаяние, я уговорил пожилую женщину-патологоанатома, чтобы та разрешила мне присутствовать на вскрытии. К этому зрелищу я привык не сразу, хотя уже не раз становился свидетелем серьезных, кровавых операций и повидал немало ужасных травм. В морге всех, от мала до велика, разрезали от горла до лобковой кости, потрошили, а затем делали разрез на скальпе от уха до уха, чтобы стянуть кожу, словно апельсиновую кожуру, на лицо. Орудуя вибрационной пилой, вскрывали черепную коробку – будто чистили сваренное всмятку яйцо, после чего моему взору представал человеческий мозг во всем его великолепии. И как этой мягкой извилистой серой массе удается управлять нашими жизнями? Как вообще хирурги могут проводить операции на этом трясущемся холодце?
В этой тусклой, безжизненной комнате для вскрытий я многому научился: понял, насколько сложна человеческая анатомия, постиг тонкую грань, отделяющую жизнь от смерти, и ощутил на себе, что такое психология отчуждения. В патологической анатомии нет места сантиментам. Крупица сострадания, может, и будет уместна, но ни о каком сопереживании трупам и речи быть не может. И все же я жалел тех, кто попал сюда, так и не достигнув зрелости. Младенцев, детей и подростков с раком или пороком сердца – тех, чья жизнь с рождения должна была стать короткой и безрадостной либо же внезапно оборвалась из-за трагической случайности. Сердце как источник любви и преданности? Мозг как средоточие человеческой души? Просто забудь и режь их пополам.
Вскоре я научился опознавать коронарный тромбоз, инфаркт миокарда, поврежденный ревматической лихорадкой сердечный клапан и повреждение аорты, а также раковые метастазы в печени или легких. Самые распространенные причины, по которым пациенты сюда попадали. Обуглившиеся и разложившиеся тела отвратительно воняли, и, чтобы пощадить свои обонятельные нервы, мы втирали в ноздри ароматический бальзам.
Я заметил, что употребление алкоголя занимает почетное место в списке занятий, которым хирурги любят предаваться на досуге, а их состояние во время неожиданных ночных вызовов лишь подкрепляло мои подозрения. Но кто я такой, чтобы их судить?
Самоубийства расстраивали меня сильнее всего, но, когда я произнес это вслух, мне заявили: «Привыкай, если хочешь быть хирургом». А еще меня заверили, что станет проще, когда я подрасту и мне можно будет пить спиртное.
Я начал всерьез задумываться: а смогу ли я попасть в медицинскую школу? С учебой у меня складывалось непросто, причем математика с физикой доставляли особые хлопоты, а ведь я считал, что именно эти предметы позволяют определить реальный уровень интеллекта. Вместе с тем в биологии мне не было равных, да и химия давалась более-менее легко, и я же сдал кучу экзаменов по предметам, которые мне в жизни не понадобятся, вроде латыни, французской литературы и религиоведения, а также экзамен по алгебре. Всего этого я добился усердием, а не умом, но мои старания не пропали даром, и в конечном итоге мне удалось выбраться из бедного района. Кроме того, проведенное в больнице время многому меня научило. Я еще не бывал за пределами Сканторпа, но уже немало знал о жизни и смерти.
Я принялся подыскивать университет, а на каникулах неизменно подрабатывал в больнице. Меня повысили до «ассистента хирургического отделения», и я сделался большим специалистом в уборке крови, рвоты, костной пыли и дерьма. Такие вот первые скромные успехи.
Я удивился, когда меня пригласили на собеседование в величественный Кембриджский университет. Должно быть, кто-то замолвил за меня словечко, но я так и не узнал, кто именно. На улицах Кембриджа было полно жизнерадостных студентов в мантиях, которые громко переговаривались с акцентом, характерным для престижных частных школ, – все они казались гораздо умнее меня. По булыжным мостовым колесили на велосипедах профессора – в очках и академических шапочках, – спешившие выпить вина перед обедом. В моей голове непроизвольно вспыхнула картина: мрачные работники сталелитейного завода в своих вечных кепках и перчатках молча возвращаются домой, чтобы перекусить хлебом с картошкой и, если повезет, запить ужин кружкой портера. Я тут же упал духом. Здесь я был чужаком.
Собеседование проводили два заслуженных преподавателя, а проходило оно в обшитым дубовыми панелями кабинете с видом на главный двор колледжа. Мы сидели в изрядно потертых кожаных креслах. Предполагалось, что атмосфера будет расслабленной, так что никто и словом не обмолвился о моем происхождении. Вопрос, которого я так ждал: «Почему вы хотите изучать медицину?» – тоже не прозвучал. Да уж, возможность попрактиковаться перед будущими собеседованиями была упущена. Вместо этого меня спросили, почему американцы решили захватить Вьетнам и слышал ли я о тропических болезнях, с которыми могли столкнуться солдаты в Азии. Я не был уверен, гуляла ли во Вьетнаме малярия, так что назвал сифилис.
Это помогло немного растопить лед, особенно когда я высказал мнение, что напалм и пули представляют для здоровья куда более серьезную проблему. Затем меня спросили, могло ли курение сигар поспособствовать скоропостижной кончине Уинстона Черчилля (он умер незадолго до этого). Курение было одним из ключевых слов, которых я так ждал. Из моего рта пулеметом полетели слова: рак, бронхит, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, подробное описание трупов курильщиков. «Доводилось ли мне видеть вскрытие?» – «Много раз». А затем убирать мозг, кишки и всякие физиологические жидкости. «Благодарим вас. Мы свяжемся с вами через несколько недель».
Следом меня пригласили в больницу Чаринг-Кросс, что между Трафальгарской площадью и Ковент-Гарден на улице Стрэнд. Изначально больницу построили, чтобы помогать беднякам, живущим в центре Лондона, и в войну она сыграла заметную роль. Я приехал пораньше, однако нас вызывали по алфавиту, и я, как всегда, был последним, так что пришлось нетерпеливо дожидаться своей очередь – долгие часы, как мне показалось. Добродушная старшая медсестра угощала абитуриентов чаем с тортом, и мы с ней учтиво побеседовали о том, что происходило в больнице во время войны.
Собеседование проходило в конференц-зале больницы. По другую сторону стола сидел председатель приемной комиссии – выдающийся хирург, работавший в Клинике Харли-Стрит – бок о бок с профессором анатомии из Шотландии, известным своей вспыльчивостью (он стал прототипом главного героя фильма «Доктор в доме»). Я, вытянувшись в струну, сидел на деревянном стуле без подлокотников: сутулиться тут явно было не к месту. Первым делом меня спросили, что я знаю о больнице. Слава тебе, Господи. Ну или старшей медсестре. Или им обоим. Затем комиссия поинтересовалась моими успехами в крикете, а также тем, играю ли я в регби. На этом собеседование подошло к концу: я в тот день был последним, все уже порядком устали. Мне сказали, что со мной обязательно свяжутся.
Идя мимо пестрых торговых палаток и многочисленных пабов, я забрел в Ковент-Гарден. Жизнь тут била ключом: вокруг сновали бездомные, проститутки, уличные музыканты – вся клиентура больницы Чаринг-Кросс, а вверх-вниз по Стрэнд шныряли черные такси и ярко-красные лондонские автобусы. Маневрируя в толпе и уворачиваясь от машин, я добрался до центрального входа в отель «Савой». Я задумался, хватит ли мне наглости туда войти. Я, безусловно, выглядел элегантно – в костюме, надетом по случаю интервью, и с напомаженными волосами. Однако вышколенный швейцар не стал дожидаться и принял решение за меня: он распахнул передо мной дверь со словами «Добро пожаловать, сэр». Я прошел проверку. Из Сканторпа – прямиком в «Савой».
С целеустремленным видом я зашагал по атриуму мимо ресторана «Савой Гриль», отважившись лишь пробежаться глазами по висевшему у входа меню в позолоченной рамке. Ну и цены! Я даже не стал останавливаться. Тут я увидел знак, указывавший в направлении «Американского бара». Холл был увешан подписанными карикатурами, фотографиями и рисунками, изображавшими звезд театра из Уэст-Энда, а в баре совсем не было посетителей, так как часы показывали всего пять вечера. Взобравшись на высокий стул, я украдкой проглотил пару бесплатных канапе и принялся изучать коктейльное меню. Мне не доводилось раньше пить спиртное, так что я в этом ровным счетом ничего не смыслил, но нужно было что-то выбрать. «Будьте добры, «Сингапур Слинг». Словно по щелчку, все вокруг изменилось. Попроси я вторую порцию – и в жизни не добрался бы до вокзала Кинг-Кросс.
Мне первому в моей семье удалось поступить в университет, первому выпал шанс стать врачом и, если повезет, кардиохирургом.
Уже через неделю пришло письмо из Медицинской школы при больнице Чаринг-Кросс. Открывая конверт под взглядами взволнованных родителей, я чувствовал себя сапером, который обезвреживает бомбу. Меня взяли. На каких условиях? Всего-то требовалось сдать биологию, химию и физику, причем на какую оценку, не уточнялось. Эта медицинская школа была совсем небольшая: ежегодно туда принимали лишь пятьдесят студентов, но мне предстояло пойти по стопам таких ее выдающихся учеников, как зоолог Томас Хаксли и исследователь Дэвид Ливингстон.
3. Сапоги лорда Брока
Вот уже год, как он стал врачом, и у него было два пациента.
Хотя нет, думаю, три. Я был на их похоронах.
Марк ТвенЛучший способ подготовиться к сдаче экзамена на членство в Королевском хирургическом колледже – поработать на семинарах по анатомии в секционном зале медицинской школы, обучая новоиспеченных студентов анатомии и помогая им разрезать трупы слой за слоем: кожу, жировую ткань, мышцы, сухожилия и внутренние органы. Лоснящиеся забальзамированные тела развозили в жестяной тележке и выдавали по одному на шестерых желторотых и чрезвычайно впечатлительных студентов. Они приходили на занятие в накрахмаленных белых воротничках и с новенькими наборами для препарирования: скальпелем, ножницами, щипцами и зажимами, завернутыми в кусок парусины, – все как один зеленые. Прямо как я в начале карьеры.
Я переходил от группы к группе, чтобы они не расхолаживались. Кое для кого все это было чересчур: часами напролет разбирать на кусочки трупы – не так они представляли себе обучение медицине. Поэтому я изо всех сил старался помочь им: советовал использовать пахучие духи, не отказываться от завтрака и по возможности думать о чем-нибудь другом: о футболе, сексе, покупках – да о чем угодно. Все, что требуется от студентов, – узнать достаточно для того, чтобы сдать экзамен, и не позволить жмурикам свести себя с ума. Кому-то это помогало. Другим же снились кошмары: препарированные трупы навещали их по ночам.
К своему первому экзамену по хирургии я должен был досконально изучить анатомию, физиологию и патологию – все это не имело никакого отношения к практическому умению оперировать. В Лондоне были подготовительные курсы, на которых студентам попросту вдалбливали в голову сухие факты: занятия вели преподаватели, умевшие подать информацию так, как того требовали в колледже. Посыл был очевиден: заплати – и сдашь, если ты, конечно, не полный идиот. Тем не менее две трети слушателей все равно заваливали экзамен, в том числе я, когда попробовал сдать его первый раз.
В самый разгар всей этой академической рутины Королевский госпиталь Бромптон объявил о наборе ординаторов для прохождения практики по хирургии; отмечалось, что членство в Королевском хирургическом колледже «желательно, но не обязательно». Мог ли я рассчитывать, что меня возьмут? Я сдал лишь первую часть экзамена. Пройдет еще как минимум три года, прежде чем меня допустят до итогового экзамена. Но я ничего не терял и решил попробовать.
Несмотря на то что шансов было мало, мне удалось заполучить эту должность, и спустя несколько недель я приступил к работе. Меня прикрепили к мистеру Маттиасу Панету, импозантному немцу под два метра ростом, а также к мистеру Кристоферу Линкольну, детскому кардиохирургу приблизительно того же роста, недавно назначенному на эту должность. Они были совершенно разными, но каждый из них по-своему меня пугал, пока я не познакомился с ними поближе. За время нелегкой интернатуры в больнице Чаринг-Кросс я усвоил, что единственный способ ничего не забыть – все фиксировать на бумаге. Записывать любой приказ или просьбу, как только их произнесли. Забудешь хоть что-нибудь – и ты в полном дерьме, так что я всегда носил с собой планшет для бумаг. Мистера Панета это чрезвычайно забавляло, и он постоянно спрашивал меня:
– Записал, Уэстаби? Записал?
Начало моей хирургической практики выдалось крайне эффектным. Завершив прием амбулаторных больных, операционная бригада Панета должна была провести операцию – протезирование митрального клапана у маленькой старушки из Уэльса. Мой начальник предложил мне начать без него, чтобы он успел принять еще парочку частных пациентов. Я гордо переоделся в голубой хирургический костюм. Более того, в открытом шкафчике я нашел пару белых резиновых хирургических сапог, правда изношенных и грязных. Я мог взять новые башмаки, но предпочел эти видавшие виды сапоги. Почему? Потому что сзади они были подписаны: «Брок». Мне в наследство достались сапоги самого лорда Брока!
К тому времени Броку, барону Уимблдона, стукнуло семьдесят и он перестал оперировать – по словам Панета, дело было в «вечном разочаровании из-за недостижимости полного совершенства». Когда я учился в медицинской школе, он был президентом Королевского хирургического колледжа, а кроме того, значился деканом хирургического факультета, и вот теперь мне предстояло пойти по его стопам. В буквальном смысле. С важным видом я вышел из комнаты для переодевания, чтобы представиться.
Пожилая дама лежала на операционном столе. Операционная медсестра, которая уже протерла кожу пациентки йодным раствором, используемым для антисептической обработки, и накрыла обнаженное тело выцветшим зеленым покрывалом, нетерпеливо постукивала ногой по мраморному полу, а многострадальный анестезиолог, доктор Инглиш, вместе со старшим перфузиологом играл в шахматы у наркозного аппарата. Я почувствовал, что они ждут хирурга довольно долго. Я надел на лицо маску и быстренько продезинфицировал руки, радуясь первой возможности блеснуть навыками.
Я аккуратно отметил границы разреза: яремную ямку у основания шеи и выступающий снизу грудины хрящ – и бережно соединил их между собой идеально прямой линией, которую провел скальпелем. Старушка отличалась худобой, так что между кожей и костью было совсем немного жировой ткани, которую я удалил с помощью электрокоагулятора. До сих пор не было и намека на появление второго ассистента хирурга, но я все равно продолжил, желая произвести впечатление на медсестер.
Я знал, что сейчас случилось на операционном столе, но не мог понять, почему это произошло.
Я взял вибрационную костную пилу и проверил, как она работает. Пила зажужжала. Довольно-таки резко. Итак, я отважно начал вести ее вдоль грудины по направлению к шее, как вдруг произошла катастрофа. Вслед за легкими брызгами костного мозга прямо по центру из разреза хлынула темно-красная кровь. Вот дерьмо! Меня мгновенно прошибло потом, однако медсестра знала свое дело: она проворно заняла место первого ассистента хирурга. Я схватил отсос, но командовала она.
– Надави посильней туда, откуда течет кровь.
Доктор Инглиш запоздало поднял голову, оторвавшись от шахматной доски; бешеная активность, развернувшаяся вокруг, явно его не встревожила.
– Один пакет крови, – невозмутимым голосом проинструктировал он медсестру-анестезиста. – А затем позвоните мистеру Панету.
Я знал, что случилось. Пила задела правый желудочек. Но как? За грудиной должно быть тканевое пространство, а в мешочке вокруг сердца – жидкость. Медсестра прочитала мои мысли (в следующие шесть месяцев она еще не раз удивит меня этим).
– Вы же знаете, что это повторная операция.
Утверждение, которое на самом деле было вопросом.
– Нет, я совершенно не в курсе, – судорожно ответил я. – Где же тогда чертов шрам?
– Это была закрытая митральная комиссуротомия[15]. Шрам сбоку на груди, просто под ее бюстом его не видно. Разве мистер Панет не сказал вам, что операция повторная?
Тут я решил закрыть рот на замок. Сейчас время что-нибудь предпринять, а не заниматься поисками виноватого.
При повторных операциях сердце и окружающие ткани бывают скреплены воспалительными спайками, так что исчезает пространство между сердцем и сердечной сумкой. В этом случае правый желудочек оказался подпаян к внутренней стороне грудины, а все вместе представляло единый конгломерат. Ситуация ухудшалась тем, что правый желудочек был расширен из-за высокого давления в легочной артерии, связанного с выраженным сужением ревматического митрального клапана.
Мы должны были заменить митральный клапан, а я с самого начала все испортил. Замечательно.
Я давил изо всех сил, но кровотечение не останавливалось. Кровь продолжала литься сквозь грудину, которая еще была не до конца раскрыта. Давление у пациентки начало падать, а поскольку она была дамой миниатюрной, то и крови у нее было не так уж много. Доктор Инглиш принялся переливать донорскую кровь, но что толку? Все равно что лить воду в канализацию. С одной стороны пришло, с другой тут же ушло. Как хирург, именно я должен был остановить кровотечение, а для этого мне нужно было видеть отверстие, через которое течет кровь.
Мой пот капал прямо в разрез и струился по ногам вниз, в сапоги лорда Брока. Кровь старушки стекала с простыней на белую резину. К этому времени к нам присоединилась одна из дежурных медсестер. Подрастеряв былую отвагу, я снова взял пилу и попросил медсестру убрать руки. Опустив пилу в кровавую лужу, я прошелся лезвием по нетронутой грудине – самой толстой ее части, что прямо под шеей. Затем мы снова надавили на место кровотечения, тогда как благодаря переливанию крови давление начало восстанавливаться.
Когда давление падает, кровотечение замедляется. Так что мне подвернулась удачная возможность рассечь ткань, соединяющую сердце с грудиной, и вставить металлический ретрактор для грудины, чтобы раздвинуть грудную клетку. Теперь я отчетливо видел поврежденный правый желудочек, разбрызгивающий наружу свое содержимое. Когда все срастается подобным образом, при попытке раздвинуть грудину можно запросто разорвать сердечную мышцу пополам – порой это и вовсе неизбежно. К счастью, мне повезло, и сердце осталось невредимым. Ну почти.
Мое собственное сердце колотилось, словно обезумевшее. Мне удалось разглядеть источник проблемы: неровный разрыв длиной пять сантиметров на свободной стенке правого желудочка – достаточно далеко от главных коронарных артерий, что не могло не радовать. Сестра инстинктивно поставила кулак прямо на него, едва я раскрыл ретрактор, – и кровотечение наконец-то остановилось. Доктор Инглиш залил в капельницы еще один пакет с кровью, и давление пациентки поднялось до 80 миллиметров ртутного столба, а вторая медсестра подключила длинные пластиковые трубки к аппарату искусственного кровообращения, чтобы мы сразу же смогли воспользоваться им, когда будем готовы. Только вот мы еще не были готовы. Перво-наперво я должен был зашить проклятую дыру. В ординатуре мне не раз доводилось зашивать кожу, кровеносные сосуды и кишки – но не сердце.
Сестра подсказала, какие стежки использовать, и объяснила, что лучше было делать непрерывный шов, чем накладывать отдельные стежки. Так быстрее, да и держаться будет лучше.
– Не затягивай узлы слишком туго, – добавила она, – иначе нить разрежет мышечную ткань. Она очень мягкая. Приступай – может быть, закончишь до того, как придет Панет и порвет тебя на куски.
Зашивать аккуратно было сложно, потому что с каждым ударом из сердца выплескивалась кровь. Мои перчатки были залиты кровью снаружи и по́том изнутри – задача казалась практически невыполнимой.
Доктор Инглиш заметил это и крикнул:
– Возьми фибриллятор! Останови сердце на пару минут.
Фибриллятор – это электрический аппарат, вызывающий то, чего мы обычно стараемся избежать, – фибрилляцию желудочков, при которой сердце перестает биться и начинает дрожать, а кровь при нормальной температуре тела перестает поступать в мозг. Уже через четыре минуты начинается его необратимое повреждение.
Доктор Инглиш успокоил меня:
– Просто уложись за две минуты. Если не успеешь, то мы можем подождать немного, а затем снова вызвать фибрилляцию.
Я чувствовал себя марионеткой, которую дергают за ниточки опытные игроки. Впрочем, я ничего не имел против, поэтому разместил электроды фибриллятора на видимой поверхности сердечной мышцы, и доктор Инглиш щелкнул выключателем. Сердце перестало биться и начало дрожать, а я принялся зашивать в ускоренном темпе. Как раз в этот момент на пороге операционной показался мистер Панет. Он увидел на кардиомониторе фибрилляцию желудочков и не на шутку испугался. Я, не поднимая головы, продолжил орудовать иглой. Когда доктор Инглиш объявил, что две минуты истекли, я почти закончил сшивать края мышцы. Я справился за три минуты. Итак, дыра была закрыта – осталось лишь завязать узелок.
Положив подушки дефибриллятора как можно ближе к сердцу, я сказал:
– Разряд.
Ничего не произошло. Провода электродных подушек не были подсоединены к аппарату – сущий пустяк. Секунды неумолимо тикали. Затем я услышал долгожданный звук от удара током. Сердце на миг замерло, после чего фибрилляция продолжилась.
Панет подошел к операционному столу – прямо в элегантном костюме и в уличной обуви. Без шапочки, без маски. Он бросил взгляд на дрожащее сердце и произнес очевидное:
– Больше вольт.
Еще один разряд. На этот раз дефибрилляция прошла успешно, и сердце принялось энергично биться.
Панет ухмыльнулся, а потом спросил:
– Ничего не хотите мне рассказать, Уэстаби? Митральный клапан, знаете, расположен не в правом желудочке. Я думал, вы умнее.
Он подмигнул сестре, объявил, что пойдет пить чай, и велел проследить, чтобы я не набедокурил.
Я собрал нервы в кулак и завязал последний узелок. Сердце вроде бы работало без особых проблем, будто я на него и не покушался. Кровь была повсюду: на моем халате, на сапогах лорда Брока, а на мраморном полу набралась целая лужа, но давление пациентки стабилизировалось. В сегодняшней битве мы одержали победу.
Я посмотрел на сестру – над маской виднелись лишь голубые глаза – и взял ее за руку в окровавленной резиновой перчатке, чтобы поблагодарить, ведь она спасла нас обоих. Мистер Панет продолжил операцию, словно ничего и не произошло, лишь изредка подшучивая насчет дополнительной вышивки на сердце. Мне хотелось заорать на него: «Какого хрена вы не сказали, что операция повторная?» – но тут до меня дошло, что он, вероятнее всего, не помнил об этом, поскольку старушка приезжала к нему на прием много месяцев тому назад.
Заключительная часть операции прошла гладко. Доктор Инглиш и перфузиолог продолжили шахматную партию, я взял в руки отсос, а Панет обрубил поврежденный клапан и заменил его шаровым протезом. Потом мы наложили уйму швов.
После трудной операции я сидел в отделении неотложной терапии и думал: «Умри мой пациент во время операции, хватило бы мне воли продолжать лечить людей?»
Такого понятия, как конец рабочего дня, у хирургов-стажеров не было. Той ночью я сидел в отделении неотложной терапии, дожидаясь, когда старушка придет в себя, отчаянно надеясь, что ее мозг не был поврежден, и размышляя о том, что я чувствовал бы, умри она от потери крови на операционном столе. Хватило бы мне выдержки продолжить работу? Или моя карьера хирурга завершилась бы в тот же день? Триумф от провала отделяет тонкая грань, но я справился. И теперь мне просто хотелось, чтобы пациентка очнулась.
Ее муж с дочерью дежурили у ее постели. Муж спросил, нормально ли прошла операция. Я, не вдаваясь в подробности о том, как напортачил, бойко ответил:
– Да, очень хорошо. Мистер Панет проделал отличную работу.
Как по заказу, пациентка тут же открыла глаза. У меня словно гора с плеч свалилась. Муж с дочерью принялись подпрыгивать, чтобы она их увидела, так как она, прикованная к месту дыхательной трубкой, могла смотреть лишь в потолок. Кто-то из них двоих взял ее за руку. В ту секунду я кое-что осознал: операции на сердце, может, и станут для меня обыденностью, но для каждого пациента и его родственников это исключительная ситуация, которая не на шутку пугает. Нужно быть с ними подобрее.
* * *
Кардиохирургия сродни зыбучим пескам. Стоит начать ею заниматься – и ты увязаешь все сильнее. Мне не хотелось покидать больницу: я боялся, что пропущу что-нибудь примечательное. Я просиживал бесконечные часы у кроватей детишек, прооперированных мистером Линкольном, слушая пиканье мониторов, наблюдая, как падает, а потом снова поднимается давление, и надеясь, что кровь перестанет капать в дренажные трубки.
Понятно, что сосредоточиться, когда мочевой пузырь вот-вот лопнет, мне вряд ли удастся, но я не мог ударить лицом в грязь и отпроситься в туалет, будто скулящий школьник с вытянутой рукой.
Следующая передряга не заставила себя долго ждать. Субботним вечером в канун Рождества мы с другими ординаторами, поужинав в столовой, отправились в паб пропустить по пинте-другой. В Бромптоне не было отделения «Скорой помощи» и неотложные операции по ночам почти никогда не проводились, тем более на выходных. Мы успели выпить по паре кружек, когда нас известили о том, что из Исландии вылетел реактивный самолет ВВС США с попавшим в автомобильную аварию парнем. У него случился разрыв аорты, и мистера Панета вызвали провести операцию. Двойная проблема: мало того что травма серьезная, так еще и пиво. Не то чтобы меня волновало количество спирта в моей крови – к этому мы все уже привыкли, – просто за четырехчасовую операцию мне явно захочется по-маленькому. С другой стороны, отказаться я не мог, ведь Панету понадобятся два помощника.
Старший ординатор ушел готовиться к операции, а я все сидел, взвешивая возможные варианты. Как насчет мочевого катетера и дренажного мешка? Не по душе мне была идея самому вставлять себе катетер. Да и стоять с прикрепленным к ноге пакетом с мочой – сомнительная радость. И вдруг меня осенило. Ну конечно же: хирургические сапоги лорда Брока! В одном таком запросто поместится пара пинт, а с трубкой Пауля – тонкостенной резиновой трубкой, которую раньше использовали для пациентов мужского пола с недержанием мочи, – риск инфекции мочевого пузыря будет куда ниже, чем если бы я поставил себе катетер.
Я отправился по палатам в поисках трубки. Их выпускают в рулонах, чтобы можно было отрезать кусок нужной длины – в моем случае речь шла о длине внутренней поверхности ноги. Раздобыв все необходимое, я двинулся в комнату для переодевания: к тому времени, как придет начальство, мне очень хотелось оказаться в операционной во всеоружии – со своим планшетом и в белых сапогах, как обычно, только на этот раз еще и с вставленной в них резиновой трубкой, прикрепленной скотчем к ноге. И я едва успел: «Скорая» из «Хитроу» примчалась гораздо раньше, чем мы ожидали. Эти реактивные самолеты такие быстрые.
К полуночи мы вскрыли грудную клетку слева, а вскоре началось кровотечение. Панет, очевидно, был не в духе, ведь его вызвали в разгар рождественской вечеринки. Как я и предполагал, выпитое пиво быстро дало о себе знать – мой товарищ-ординатор начал ерзать и переминаться с ноги на ногу, теряя концентрацию. В итоге ему ничего не осталось, кроме как извиниться и отлучиться в туалет, и я – громко покашливая, чтобы заглушить хлюпающие звуки в сапоге, – занял место главного помощника. Когда коллега вернулся, я остался на его месте, поскольку чувствовал себя прекрасно, несмотря на то что правый резиновый сапог постепенно наполнялся. Прошло еще двадцать минут, и второй ординатор снова удалился.
К этому времени пациенту уже ничего не угрожало, но Панет взорвался.
– Да что с ним не так? Он был в пабе, да? Пил, значит.
– Ничего об этом не знаю, мистер Панет. Я весь вечер занимался в библиотеке, – ответил я, ожидая, что в наказание меня поразит удар молнии, которого так и не последовало.
– Молодец, Уэстаби, – услышал я вместо этого. – Можешь закончить и закрыть грудную клетку. Пускай для разнообразия он побудет в роли помощника. Увидимся в понедельник.
Я избавился от улик и сопроводил пациента в отделение интенсивной терапии. Никто так и не узнал о том, что произошло.
Мне той ночью было не до сна, и я, попивая кофе, сидел в детском отделении интенсивной терапии. Я болтал с медсестрами и наблюдал, как под Рождество малыши в закрытых инкубаторах борются за свою жизнь.
Как и все стажеры-хирурги, я сильно не высыпался, но воспринимал сон как пустую трату времени. Выспаться можно и на выходных. Мы были адреналиновыми наркоманами, постоянно жаждущими действия и постоянно под кайфом.
Недосып закаляет хирурга – повышает стрессоустойчивость, развивает способность идти на риск, избавляет от ненужного сочувствия пациентам. Шаг за шагом, постепенно я становился членом клуба, куда попадали только избранные.
4. Мальчик из пригорода
Гений – это один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота.
Томас ЭдисонОктябрь 1979 года. Я работал старшим ординатором в операционной бригаде, специализировавшейся на торакальной хирургии, в лондонской больнице Хэрфилд. Программа подготовки кардиохирургов включала в себя обязательное проведение операций на легких и пищеводе, а это означало необходимость сталкиваться с раком, что меня сильно угнетало. Слишком часто выяснялось, что болезнь распространилась по всему организму, и для большинства пациентов прогноз был весьма печальным, так что они тоже не отличались жизнерадостностью. Помимо прочего, работа оказалась удручающе однообразной. Выбор, как правило, был скудный: удалить пол-легкого или легкое целиком, вырезать правое или левое легкое либо нижнюю или верхнюю часть пищевода. После того как выполнишь каждое из этих действий по сотне раз, энтузиазма не прибавляется.
Впрочем, изредка попадались и более сложные случаи. Так было с Марио, сорокадвухлетним инженером из Италии, работавшим в Саудовской Аравии. Жизнерадостный семьянин, Марио отправился в это южное королевство в надежде скопить достаточно денег на покупку дома. Днями напролет он вкалывал на гигантском промышленном комплексе, расположенном на окраине Джидды, под палящими лучами пустынного солнца. А потом произошло непоправимое. Когда он работал в замкнутом помещении, внезапно взорвался огромный паровой котел, наполнив воздух перегретым водяным паром. Паром под высоким давлением. Марио обварило лицо и обожгло стенки трахеи и бронхов.
От шока он чуть не умер на месте. Обваренная паром ткань была мертва, и слизистая оболочка пластами слезала со стенок бронхов. Все эти ошметки, мешающие дышать, нужно было удалять, что и делали с помощью устаревшего негнущегося бронхоскопа – длинной латунной трубки с фонариком на одном конце, которую вводили через горло вдоль задней стенки глотки и голосовых связок, а затем вниз по дыхательным путям.
Чтобы Марио не задохнулся, процедуру повторяли регулярно, чуть ли не каждый день, но проталкивать бронхоскоп туда-обратно через гортань становилось с каждым разом все труднее. Вскоре образовалось так много рубцовой ткани, что бронхоскоп уже не пролезал, и потребовалось провести трахеостомию – хирургическим путем проделать отверстие в шее, через которое Марио мог бы дышать. Проблема заключалась в том, что омертвевшая слизистая оболочка бронхов быстро замещалась воспаленными тканями, и клеточные скопления начали заполнять дыхательные пути подобно кальциевым отложениям, которые мешают жидкости течь по трубам. Марио больше не мог дышать, и его состояние неумолимо ухудшалось.
Я ответил на звонок из Джидды. Врач-комбустиолог[16], лечивший Марио, подробно описал эту ужасную ситуацию и попросил у нас совета. Единственное, что я мог предложить, – доставить пациента самолетом в «Хитроу», чтобы мы попробовали спасти ему жизнь. Уже на следующий день строительная компания организовала его транспортировку, и он попал в нашу больницу. К тому времени карьера моего начальника близилась к закату, и он с радостью отдавал мне все случаи, за которые я был готов взяться. А я не отказывался ни от чего. Я не знал страха. Но это был полный кошмар. И я попросил, чтобы мы вместе осмотрели трахею, после чего попытались что-нибудь сообразить.
Врач, шефствовавший надо мной, заканчивал свою карьеру, поэтому все случаи, за которые я мог взяться, он отдавал мне. Это было и здорово и страшно одновременно.
Марио выглядел жалко. Он дышал с трудом, издавая жуткие булькающие звуки, которые возникали из-за инфицированной пены, сочившейся из трахеостомической трубки. Его алое лицо было сильно обожжено. Оно покрылось коркой, омертвевшая кожа слезала клочьями, местами сочилась серозная жидкость. Пациент обгорел снаружи и изнутри; из-за ткани, разросшейся в трахее, ему грозила смерть от удушья. Мы поместили Марио под наркоз, ненадолго избавив его от страданий.
Пока он был без сознания, я с помощью отсоса очистил отверстие на шее от липких выделений с прожилками крови, подключил ручной аппарат искусственной вентиляции легких к трахеостомической трубке и принялся сжимать черную резиновую грушу. Легкие с трудом наполнялись воздухом. Я решил, что следует вставить негибкий бронхоскоп традиционным способом – напрямую через голосовые связки и гортань. Это сродни глотанию шпаги – с той разницей, что она проходит через дыхательные пути, а не через пищевод.
Нам было необходимо видеть всю трахею целиком, а также оба главных бронха – правый и левый. Для этого голову пациента пришлось запрокинуть под определенным углом, чтобы показались голосовые связки, расположенные у задней стенки горла. Мы, как могли, старались не выбить Марио зубы. Поскольку раньше вечно не хватало физиотерапевтов, этот метод применяли, чтобы после операции на легких удалить из них жидкость, пациенты при этом оставались в сознании. Грубовато, но всяко лучше, чем дать пациенту захлебнуться.
Я аккуратно просунул негнущуюся телескопическую трубку мимо зубов, вдоль корня языка, а затем принялся высматривать небольшой хрящик – надгортанник, который защищает вход в гортань, когда мы глотаем. Если приподнять его за краешек с помощью бронхоскопа, то можно обнаружить белые поблескивающие голосовые связки с вертикальной щелью между ними. Это и есть путь, ведущий в трахею. Я проделывал эту процедуру сотни раз, когда проводил биопсию для диагностики рака легких. Ну или чтобы извлечь застрявший арахис. В данном же случае вся гортань была обожжена, а воспаленные голосовые связки напоминали сосиски и выглядели пугающе – через них было не протиснуться. Марио всецело зависел от трахеостомической трубки.
Я отошел в сторону, удерживая бронхоскоп на месте, чтобы мой начальник тоже мог посмотреть, что там творится. Он закряхтел и покачал головой:
– Постарайся пропихнуть его дальше. Терять нам, полагаю, нечего.
Я снова прицелился, поднес конец бронхоскопа туда, где должна быть щель между связками, и с силой его протолкнул. Распухшие голосовые связки разошлись, и инструмент ударился о трахеостомическую трубку. Мы подсоединили аппарат для вентиляции легких сбоку к бронхоскопу и вытащили вставшую на пути трубку. По идее, мы должны были увидеть трахею во всю ее длину вплоть до того места, где она делится на главные бронхи. Но только не в этот раз. Дыхательные пути были практически уничтожены разросшимися клетками, так что я продолжил опускать негнущийся инструмент вниз, удаляя с помощью отсоса кровь и поврежденные ткани и одновременно закачивая через бронхоскоп в легкие кислород. Я надеялся, что ожоги закончатся, и наконец, достигнув середины обоих главных бронхов, мы увидели нетронутые стенки дыхательных путей. Проблема заключалась в том, что теперь травмированные стенки бронхов сочились кровью.
Ярко-красное лицо Марио стало фиолетовым и продолжало быстро синеть, так что мой начальник взял дело в свои руки. Он принялся всматриваться в трубку, периодически вставляя в нее длинную зрительную трубу, чтобы лучше видеть. Ситуация была крайне опасной, и мы совершенно не знали, что делать. Чтобы жить, человеку нужно дышать. К счастью, постепенно кровотечение прекратилось, и, после того как мы удалили перемешанную с кровью мокроту, дыхательные пути стали выглядеть куда лучше. Мы вставили трахеостомическую трубку обратно и снова подключили Марио к аппарату искусственной вентиляции легких. Грудная клетка с обеих сторон продолжала двигаться, и воздух поступал в оба легких. Это уже было достижением, но все еще оставалось неясно, что делать дальше. Мы сошлись на том, что прогноз весьма неблагоприятный.
Два дня спустя левое легкое Марио сдулось, и мы повторили ту же процедуру. Лучше не стало. Ткань продолжала неумолимо разрастаться. Подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких, Марио оставался в сознании, но ему приходилось несладко.
Смерть от удушья самая неприятная. Я помню, как умирала, задыхаясь от опухоли щитовидной железы, моя бабушка. Ей должны были провести трахеостомию, но операцию пришлось отменить, и бабушка сутками сидела на кровати, с трудом хватая воздух ртом. Помню, как пытался ей помочь. Почему нельзя было поставить трубку ниже – там, где дыхательные пути оставались свободными? Почему нельзя сделать трахеостомические трубки длиннее? Раз за разом мне повторяли, что это невозможно.
Судя по тому, что я видел через бронхоскоп, ситуация с Марио была практически идентичной. Требовалось как-то обойти всю трахею и оба главных бронха, иначе через считаные дни его ждала мучительная смерть. Мы не могли снова и снова прочищать дыхательные пути бронхоскопом. Старуха с косой одерживала победу – она уже готовилась забрать с собой очередную жертву.
Даже я, прирожденный оптимист, сомневался, что в наших силах предпринять хоть что-нибудь. Могли ли мы сделать раздвоенную трубку, чтобы обойти поврежденные дыхательные пути? Мой начальник сказал, что это невозможно, так как трубка тут же забьется выделениями. Иначе, конечно же, такой метод давно применяли бы при лечении больных раком. Затем мне в голову кое-что пришло: бостонская компания Hood Laboratories выпустила трубку из силиконового каучука с трахеостомическим ответвлением, которую назвали «Т-образный стент Монтгомери» в честь хирурга-отоларинголога, который ее изобрел. Может, следует поговорить с представителями компании и описать проблему, с которой мы столкнулись.
В тот день, проводя Марио очередную бронхоскопию, я измерил, какой длины трубка нужна, чтобы достать до обоих главных бронхов, и вечером позвонил в Hood Laboratories. Это была небольшая семейная фирма, и ее глава подтвердил, что никто ранее не пробовал подобный подход, но согласился изготовить раздвоенную трубку требуемых размеров. Я сказал, что трубка необходима срочно. Обрадовавшись возможности помочь с уникальным случаем, сотрудники фирмы доставили ее менее чем через неделю. Теперь предстояло придумать, как ее установить.
Нужно было вставить разветвленные концы трубки по направляющим проволокам одновременно в оба главных бронха. Однако проволока была слишком острой и могла повредить тонкую силиконовую резину, так что требовалось заменить ее чем-то более безопасным. С помощью резиновых зондов мы не раз раздвигали суженные участки пищевода. Самые узкие из имеющихся у нас зондов помещались в присланную мне раздвоенную трубку и даже проходили через нижние ответвления. Я мог ввести зонды по одному через поврежденную трахею в бронхи, а затем, используя их как направляющие, протолкнуть и саму трубку. Я набросал пошаговое описание придуманного мной метода и показал рисунки другим торакальным хирургам. Все сошлись на том, что терять нечего. Только безумное новаторское решение и могло спасти Марио жизнь.
Рис. 4. Методика установки трубки Уэстаби
На следующий день его доставили в операционную. Убрав трахеостомическую трубку, мы вставили в обожженную гортань негнущийся бронхоскоп. На этот раз я действовал особенно осторожно, чтобы было как можно меньше крови. Хирургическим путем мы расширили трахеостомическое отверстие, через которое планировалось вставлять нашу причудливую трубку, затем ввели резиновые зонды в правый и левый бронхи, непосредственно следя за происходящим через зрительную трубку и не забывая после каждого действия усердно закачивать в легкие стопроцентный кислород. Пока что все шло хорошо. Я смазал силиконовую резину вазелином и с усилием протолкнул трубку вниз. Бронхиальные ответвления трубки разошлись в стороны в месте раздвоения трахеи и до упора вошли внутрь. Лучше и не придумаешь. Мы скрестили пальцы, и мой начальник резким, решительным движением выдвинул бронхоскоп в гортань.
Всегда славившийся своим ирландским темпераментом, он воскликнул:
– Черт побери, вы только посмотрите! Ты чертов гений, Уэстаби!
Разваливавшуюся на части трахею заменила чистенькая белая силиконовая трубка, ответвления которой идеально сидели в бронхах. Трубка нигде не перекручивалась и не сдавливалась, а ниже нее начинались здоровые дыхательные пути (рис. 4).
Между тем Марио успел посинеть от гипоксии. Мы были настолько взбудоражены, что напрочь забыли закачивать в его легкие кислород, поэтому с двойным усердием принялись за дело. К счастью, теперь это не составляло особого труда: широкие резиновые дыхательные пути значительно облегчали задачу. Настоящая сенсация! Мы не знали, долговечным ли будет это решение – время покажет. Все зависело от того, хватит ли Марио сил отхаркивать выделения через трубку, а нам оставалось только удалять их отсосом и продолжать вентилировать легкие через боковое ответвление трубки. Когда с гортани и голосовых связок сойдет отек, мы закроем это отверстие резиновой пробкой. Тогда Марио сможет дышать и говорить через собственную гортань, если, конечно, она восстановится. Ситуация по-прежнему оставалась в высшей степени неопределенной, но сейчас Марио хотя бы был в безопасности. Он мог дышать. Через пятнадцать минут он пришел в себя, и ему невероятно полегчало.
Я должен был несказанно радоваться тому, что мой замысел удалось воплотить в жизнь, но радостью тут и не пахло. На душе было муторно. Недавно у меня родилась чудесная дочка – Джемма, но я ее практически не видел. Я жил в больнице. Это потихоньку грызло меня изнутри, и, чтобы компенсировать тягостное чувство, я фанатично оперировал все, что ни попадалось мне под руку. Я всегда был наготове, но при этом был словно одержим болезненной неугомонностью.
Тем временем Марио пошел на поправку, хотя отсутствие голоса порядком осложнило ему жизнь. Он успешно отхаркивал выделения через трубку, не давая ей закупориться (а ведь всем казалось, что это невозможно), и его отправили в Италию – домой, к семье. Мне было приятно узнать, что Hood Laboratories стала выпускать придуманный мной «T-Y-стент», назвав его трубкой Уэстаби. Мы начали активно использовать эту трубку для пациентов с раком легких, которым угрожала закупорка нижних дыхательных путей, и тем самым избавили их от ужасного, мучительного удушья, которое моя бабушка вынуждена была стойко выносить. Почему никто не смог придумать нечто подобное, когда она так нуждалась в помощи, а я пребывал в полном отчаянии?
Не знаю, сколько трубок Уэстаби было выпущено, но в списке изделий, предлагаемых Hood Laboratories, мое детище значилось многие годы. Сделанные мной наброски опубликовали в журнале по грудной хирургии, и они стали наглядным пособием для других хирургов. Занимаясь торакальной хирургией, я продолжал использовать эти трубки при серьезных проблемах с дыхательными путями, нередко в качестве временного решения – до тех пор, пока опухоль не уменьшится благодаря лучевой терапии или противораковым лекарствам. Это было наследие моей бабушки. А затем представилась уникальная возможность использовать искусственные дыхательные пути в кардиохирургии совместно с аппаратом искусственного кровообращения.
* * *
В 1992 году меня пригласили в Кейптаун на конференцию, устроенную в честь двадцатипятилетия первой в мире операции по пересадке сердца, которую как раз в этом городе провел хирург Кристиан Барнард. На конференции выдающийся детский кардиохирург Сьюзан Восло попросила меня взглянуть на двухлетнего пациента, которого она вот уже несколько недель наблюдала в детской больнице Красного Креста. Маленький Ослин жил в кейптаунском гетто, раскинувшемся между городом и аэропортом. Миля за милей тут теснились жестяные хижины, деревянные сараи и навесы; вода была непригодной для питья, и всюду царила антисанитария. Так или иначе, Ослин оказался жизнерадостным мальчуганом, хотя нефтяные бочки, жестяные консервные банки и деревяшки заменили ему игрушки. Другой жизни он не знал.
Однажды бракованный газовый баллон, которым пользовалась его семья, взорвался прямо в хижине, из-за чего загорелись стены и крыша. Отец Ослина при взрыве погиб на месте, а у мальчика сильно обгорели лицо и грудь. Хуже того, он вдохнул раскаленный газ – точно так же, как и Марио. В отделении «Скорой помощи» Красного Креста Ослину спасли жизнь, вовремя вставив трубку и подключив его к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем залечили ожоги с помощью внутривенных вливаний и антибиотиков. Впрочем, внешние ожоги не представляли особой опасности, а вот обожженные трахея и главные бронхи ставили жизнь малыша под угрозу: без регулярной бронхоскопии, которая позволила бы удалять выделения и омертвевшие ткани, он был обречен на скорую смерть от удушья. Помимо прочего, его лицо было изуродовано, он практически ослеп и не мог глотать пищу – только слюну. Кормили Ослина через трубку, так что пища сразу поступала в желудок.
Случилось так, что Сьюзан попалась на глаза статья про Марио и «трубку Уэстаби», и она решила поговорить со мной, чтобы вместе попробовать как-то помочь Ослину, хотя он и был гораздо меньше моего итальянского пациента. Впервые войдя в палату, где лежал Ослин, я увидел мальчика в ярко-красной рубашке с короткими кудрявыми волосами, который катался на детском велосипеде. Сьюзан позвала его, и он обернулся. Я взглянул ему в лицо, и у меня перехватило дыхание. Спереди на голове не было волос, равно как и ресниц – только белая склера, а нос и губы были сильно обожжены. Шею покрывали свежие шрамы, а посередине из нее торчала трахеостомическая трубка. Из нее доносился звук, от которого разрывалось сердце: шумные хрипы из-за густых слизистых выделений при вдохе и пронзительный свист при выдохе. Такое и в страшном сне нельзя было представить.
Первое, о чем я подумал: «Бедный ребенок, лучше бы он умер вместе с отцом. Так было бы гораздо милостивее по отношению к нему». Как ни странно, мальчик чувствовал себя счастливым, ведь до взрыва у него не было велосипеда.
Я опустился на колени, чтобы с ним поговорить. Он посмотрел прямо на меня, но я не мог понять, видит ли он мое лицо, поскольку его роговица была мутной. Я взял его за ручку. О бесстрастном отношении к пациенту не могло быть и речи. Я обязан был помочь Ослину, хоть и не представлял, как это сделать. Однако я верил, что мы что-нибудь придумаем.
К тому времени я уже заведовал кардиохирургическим отделением в Оксфорде и вскоре должен был вернуться туда: меня ждали пациенты. К тому же в Кейптауне трубку Уэстаби было не достать, и в любом случае она оказалась бы слишком большой для такого маленького мальчика. Мог ли я уговорить компанию из Бостона изготовить трубку поменьше? Возможно, но на это не было времени: если бы в ближайшие пару недель у Ослина началась пневмония, он неизбежно умер бы.
Обратный вылет в «Хитроу» намечался уже на следующий день, поэтому вместо запланированного ужина в порту я попросил Сьюзан показать мне, где живет Ослин. Кейптаун был моим любимым городом на планете, но видеть эту его сторону мне прежде не доводилось: тысячи акров нищеты и безнравственности, куда без вооруженной охраны лучше не соваться. Я сказал Сьюзан, что вернусь через пару недель с трубкой и планом проведения операции. Я быстренько набросал все в голове, и еще до того, как самолет коснулся лондонской земли, операция оказалась расписана поминутно.
Три недели спустя я вернулся в детскую больницу Кейптауна. Там уже начали собирать деньги в помощь Ослину, рассчитывая из этих средств покрыть мои расходы, но это не имело значения. Мною двигало желание помочь ребенку: ни один ребенок на свете не заслуживает подобной участи. Подозреваю, тысячи вьетнамских детей пережили нечто похожее из-за напалма, но мне не довелось с ними встретиться. Ослина же я знал лично, и меня волновала его судьба. Волновала она и врачей с медсестрами из Красного Креста. Да что уж там говорить – наверное, весь Кейптаун за него переживал. Когда такси из аэропорта подъезжало к городу, чуть ли не на каждом столбе я заметил расклеенные плакаты с заголовком «Английский врач прилетает, чтобы спасти мальчика из пригорода».
Ни один ребенок в мире не заслуживает страданий. Ну как тут расслабиться, когда все ждут от тебя чуда?
В больнице я впервые встретился с матерью Ослина. Когда в доме взорвался газовый баллон, она была на работе, а теперь ее явно одолевала депрессия. Она почти ничего не сказала, лишь подписала форму информированного согласия перед операцией, которую даже я толком не понимал.
Мы оперировали на следующее утро. Мне пришлось обрезать предназначенную для взрослого человека трубку, укоротив оба бронхиальных ответвления, боковую трахеостомическую трубку, а также верхнюю часть, которая должна была расположиться под голосовыми связками. Но и в укороченном виде трубка не поместилась бы в трахее двухлетнего мальчика, узкой из-за рубцовой ткани. Моя задача состояла в том, чтобы восстановить основные дыхательные пути вокруг трубки. Если бы все получилось, они стали бы шире, чем до несчастного случая.
Было очевидно, что во время операции Ослин не сможет дышать даже через аппарат искусственной вентиляции легких, поэтому его подключили к аппарату искусственного кровообращения. Для этого мы вскрыли грудину, как при операциях на открытом сердце. Сложность заключалась в том, чтобы через разрез в грудной клетке получить полный доступ к бронхам, расположенным прямо за сердцем и крупными кровеносными сосудами.
Я проработал все нюансы на трупах в секционном зале в Оксфорде. Если обвязать аорту и прилегающую к ней полую вену, то их можно раздвинуть, чтобы обнажить тыльную часть околосердечной сумки – все равно что раздвинуть шторы, чтобы взглянуть на дерево за окном. Затем нужно сделать вертикальный разрез между аортой и веной, чтобы обнажить нижнюю часть трахеи и оба главных бронха.
Мой план состоял в том, чтобы разрезать поврежденные бронхи и трахею и вставить в них обрезанный T-Y-стент. Затем мы должны были зашить раскрытые дыхательные пути спереди и закрыть трубку с помощью заплатки из собственной ткани Ослина, взятой из околосердечной сумки. Почти то же самое, что наложить заплатку на рукав изношенного пиджака, порвавшийся на локте. Проще простого. Ткань вокруг трубки зарастет, и, может быть, в один прекрасный день мы сможем убрать протез, когда все окончательно заживет и сформируются новые дыхательные пути вдоль силиконовых стенок. Как бы то ни было, в этом и заключался мой план. Возможно, «фантазия» – более подходящее слово, но лучшего варианта никто предложить не смог.
Разрез начинался на шее Ослина, сразу под гортанью, и спускался до хряща на нижнем конце грудины. Поскольку мальчик не мог есть и был истощен, жировая ткань отсутствовала, так что электрокоагулятор, разрезав кожу, сразу же попадал в кость, которую мы распилили посередине. Я вырезал вставшую на пути мясистую вилочковую железу, которая только мешала, и добрался до верхней части воспаленной трахеи – все это время легкие вентилировались через трахеостомическую трубку. Прежде чем ее удалить, чтобы можно было добраться до нижних дыхательных путей, нам требовалось подключить мальчика к аппарату искусственного кровообращения. С помощью металлического ретрактора мы раскрыли покрытую шрамами маленькую грудную клетку, обнажая фиброзную ткань околосердечной сумки. Ее переднюю часть вырезали, чтобы залатать трахею, и маленькое сердечко отважно билось на моих глазах. Редко мне удается увидеть здоровое детское сердце – обычно они изуродованы болезнью и с трудом выполняют свою работу.
Когда я был готов резать трахею, запустили аппарат искусственного кровообращения. Организм теперь обходился без легких, и я мог спокойно убрать инфицированную трахеостомическую трубку подальше от стерильного операционного поля. Через дыру было отчетливо видно, какое внутри творится безобразие. Бедному Ослину приходилось дышать через сточную трубу, не иначе. Я разрезал трахею по всей длине и продолжил делать разрез вдоль обоих главных бронхов, пока на внутренних стенках дыхательных путей не увидел здоровую ткань; еще бы чуть дальше – и мы не смогли бы получить к ней доступ. Из заблокированных дыхательных путей потекли обильные выделения. Затем мы соскребли поврежденные ткани со стенок, что привело к слишком уж предсказуемому кровотечению.
В конечном счете с помощью электрокоагулятора кровотечение удалось остановить, и мы вставили белый блестящий T-Y-стент, а поверх наложили заплатку из тканей околосердечной сумки. Напоследок я еще раз скорректировал длину резинового цилиндра, чтобы она была ровно такой, какая требовалась, после чего закрыл протез заплаткой. Она должна прилегать герметично, иначе аппарат искусственной вентиляции легких будет нагнетать воздух в ткани шеи и грудной клетки и мальчик надуется, словно мишленовский человечек[17]. Через новенькие искусственные дыхательные пути, подключенные к аппарату вентиляции легких, мы принялись вдувать воздух в маленькие легкие. Утечки не было. Оба легких совершенно нормально наполнились воздухом и так же нормально сдулись. В помещении воцарилась радостная атмосфера. Мой рискованный план сработал!
Мы отсоединили сердце Ослина от аппарата искусственного кровообращения, и легкие снова взялись за работу. Наш анестезиолог пробормотал:
– Невероятно. Никогда не думал, что такое возможно.
Я зашил заднюю стенку околосердечной сумки, после чего попросил ординатора установить дренаж и закрыть грудную клетку.
Через окно операционной мы видели сидевшую в приемной мать Ослина – застывшую от страха и по-прежнему не проявлявшую эмоций. Я ожидал бурной реакции в ответ на хорошие новости, но женщина была слишком истощена душевно, для того чтобы выразить облегчение. Она просто вязала меня за руки и сжала их.
– Да хранит вас господь, – прошептала она, и слеза зигзагом скатилась по щеке, испещренной оспинами.
Я пожелал ей, чтобы жизнь ее в будущем стала хоть чуточку лучше.
Персонал отделения интенсивной терапии обрадовался возвращению маленького пациента. Большинство других детей, лежавших в больнице, были такими же трущобными обитателями, нуждавшимися в операции на сердце, да и некоторые медсестры жили в столь же ужасных условиях. Они много недель заботились об Ослине и его матери, которым на глазах становилось все хуже и хуже. Но вот прилетел «английский врач», чтобы спасти «мальчика из пригорода», и ему это удалось. Я невероятно гордился собой. Однако настало время улететь в закат.
Я сделал успешную операцию и гордился собой, пока к реальности меня не вернула новость, что мой пациент умер при неизвестных обстоятельствах полтора года спустя. Жизнь непредсказуема.
Ослин поправился и смог свободно дышать через установленную в шее белую резиновую трубку. Он не мог говорить, но ему пересадили роговицу. Теперь он получил возможность и дышать, и видеть – на большее нельзя было и надеяться. Его с матерью переселили в муниципальную квартирку на окраине города, и их жилищные условия заметно улучшились: здесь все было по-простому, зато чисто и относительно безопасно. Мальчик все еще мог умереть от инфекции дыхательных путей, и первые несколько месяцев после операции я регулярно связывался с Кейптауном, чтобы узнать, как у Ослина дела. С ним все было в порядке, да и его матери стало лучше благодаря антидепрессантам. А потом я перестал звонить.
Прошло полтора года. Из больницы Красного Креста пришло письмо. Ослина нашли мертвым у него дома, и никто не знал, что произошло. Порой жизнь – полное дерьмо.
5. Девушка без имени
Увидеть во сне, что моя малышка снова жива, что она просто замерзла, что мы растерли ее у камина, и она ожила.
Очнуться и увидеть, что ребенка нет.
Мэри Шелли, автор «Франкенштейна»Девушка была незабываемо красива – с глазами, которые прожигали насквозь, словно лазеры, как будто палящего пустынного зноя было недостаточно (50 градусов Цельсия в течение дня). Уставившись своими глазами в мои, она словно посылала сообщение – глаза в глаза, зрачки в зрачки, сетчатка в сетчатку – прямо в кору моего головного мозга. Она стояла, держа в руках завернутого в тряпье малыша, и я отчетливо понял, что она хотела сказать: «Пожалуйста, спасите моего ребенка». Вслух же она ни разу не заговорила. Ни с кем из нас. И мы так и не узнали ее имени.
* * *
Королевство Саудовская Аравия, 1987 год. Я был молод и бесстрашен, на вид непобедим и чересчур уверен в себе. Меня только что назначили на должность старшего врача в Оксфорде. Так как же я очутился в этой пустыне? Операции на сердце стоят дорого. Мы трудились не покладая рук, чтобы построить новый кардиологический центр в Оксфорде и разделаться со всеми пациентами, стоявшими в очереди на операцию. Но выделенный на год бюджет оказался исчерпан уже через пять месяцев, и руководство решило закрыть наш центр. К чертям пациентов. Кардиологам было велено, как и раньше, направлять их в Лондон.
За день до того, как меня выставили из операционной, я получил звонок из престижного кардиологического центра в Саудовской Аравии, предоставлявшего услуги всем жителям арабского мира. Тамошнему ведущему хирургу нужно было взять больничный на три месяца, и ему искали временную замену – специалиста, хорошо знакомого как с детской, так и с взрослой кардиохирургией. Чрезвычайно редкий вид. Тогда предложение меня не очень-то заинтересовало, но буквально на следующий день ситуация кардинально изменилась, и уже три дня спустя я сидел в самолете.
На Среднем Востоке стоял джумада аль-таи – «второй месяц засухи», и с такой сильной жарой я никогда раньше не сталкивался. Обжигающий зной не прекращался ни на секунду, а ветер шамал приносил из пустыни в город тучи песка. Вместе с тем кардиологический центр здесь был что надо. Бок о бок со мной работала весьма разношерстная публика: саудовские мужчины, получившие образование за границей, американцы из крупных медицинских центров, проходящие практику, и отряд наемников из Европы и Австралии.
С медсестрами ситуация обстояла иначе. Саудовские женщины не занимались сестринским делом, так как относились к этой профессии неуважительно и с подозрением, к тому же культура запрещала им работать вместе с мужчинами. Таким образом, все медсестры были иностранками, причем большинство заключало контракт на один-два года. Им предоставляли жилье, они не платили налогов и работали ровно столько, чтобы накопить на погашение закладной за дом у себя на родине. Выяснилось, что им нельзя было садиться за руль, они должны были ездить в задней части автобуса и появляться в общественных местах укутанными с ног до головы.
Меня заинтересовал необычный уклад жизни: постоянные призывы к молитве, раздающиеся с минаретов; ароматы сандалового дерева, ладана и желтой амбры, витающие повсюду в больнице; арабский кофе, жарящийся на сковородах или варящийся вместе с кардамоном. Совершенно другой мир, где очень важно не нарушать местные традиции и правила, иначе постигнет суровое наказание.
В Саудовской Аравии я получил уникальную возможность оперировать все мыслимые врожденные патологии. Здесь было бесчисленное множество юных пациентов с ревматической болезнью сердца, прибывших в больницу из отдаленных городов и деревень, где не было доступа к антикоагулянтной терапии или лекарствам, которые мы на Западе воспринимаем как должное. Уровень здравоохранения в деревнях был не выше, чем в Средние века, и мы были вынуждены импровизировать, проявлять смекалку, чтобы приводить сердечные клапаны в порядок, а не просто заменять их протезами. Помню, как думал, что каждый кардиохирург должен обязательно пройти здесь практику.
Однажды утром ко мне в операционную заглянул молодой и сметливый детский кардиолог из клиники Майо – известного во всем мире медицинского центра в Миннесоте. Он знал, как меня заинтересовать, поэтому начал разговор с фразы:
– Хотите, я вам покажу кое-что по-настоящему интересное? Готов поспорить, вы никогда ничего подобного раньше не видели.
Еще не ознакомившись с историей болезни, я решительно настроился его разубедить: опытных хирургов мало чем удивишь.
Он повесил на негатоскоп рентгеновский снимок. На снимке грудной клетки сердце выглядит серой тенью, но для опытного глаза и этого достаточно, чтобы многое понять. Все было ясно как день. Пациент – маленький ребенок с увеличенным сердцем, расположенным не с той стороны груди, – редкая аномалия, именуемая декстрокардией (обычно сердце находится слева). Кроме того, в легких имелась жидкость. Вместе с тем сама по себе декстрокардия не могла стать причиной сердечной недостаточности. Должно быть что-то еще.
Полный энтузиазма кардиолог из клиники Майо проверял меня. Он уже провел катетеризацию сердца и знал, в чем проблема у этого полуторагодовалого мальчика. Стремясь блеснуть знаниями, я выдвинул проницательное предположение:
– В этой части мира речь может идти о синдроме Лютембаше.
Так называется правостороннее сердце с большой дырой между правым и левым предсердиями, а также суженным из-за ревматической лихорадки митральным клапаном. Довольно редкое сочетание, при котором легкие наполняются кровью и остальному организму ее начинает не хватать. Парень из Майо был впечатлен. Я почти угадал. Почти, но не совсем!
Он отвел меня в лабораторию катетеризации сердца и показал ангиограмму (сменяющие друг друга рентгеновские снимки, сделанные после того, как в кровоток ввели краситель; это помогает исследовать строение кровеносной системы). К тому моменту загаданная коллегой шарада мне изрядно надоела, но я все равно пошел. В полости левого желудочка под аортальным клапаном располагалось зловещее массивное образование, практически перекрывавшее кровоток по всему организму. Было очевидно, что это опухоль, и не важно, злокачественная или доброкачественная: ребенку с ней долго не протянуть. Итак, мог ли я ее вырезать?
Никогда раньше я не оперировал правостороннее сердце. Мало кому из хирургов представляется такая возможность, а большинство и вовсе ни разу не сталкивается с подобными пациентами за свою карьеру. Однако о детские опухолях в сердце я знал порядочно. В США я даже опубликовал на эту тему научную статью, которую и прочитал мой коллега, что автоматически сделало меня в его глазах главным экспертом по данному вопросу в Саудовской Аравии.
Самым распространенным видом опухоли у маленьких детей является рабдомиома – доброкачественное образование, состоящее из патологической мышечной и фиброзной тканей сердца. Зачастую она сочетается с нарушениями в строении мозга, вызывающими эпилептические припадки. Неизвестно, страдал ли бедный малыш от припадков, но от опухоли в сердце он умирал наверняка. Я поинтересовался возрастом ребенка и уточнил, понимают ли родители, насколько плохи его дела, – и услышал драматичную историю.
Оказалось, что мальчик и его юная мать были чуть ли не при смерти, когда представители Красного Креста нашли их на границе между Оманом и Южным Йеменом. Из-за палящей жары оба были истощены, обезвожены и сильно ослабли. Очевидно, девушка пронесла своего ребенка через пустыню и йеменские горы, отчаянно стремясь добраться до врачей. По воздуху их доставили в Военный госпиталь Маската, столицы Омана, где выяснилось, что мать все еще упорно пыталась кормить сына грудью. Ей больше нечего было ему дать, но у нее совсем не осталось молока. После внутривенных вливаний запас воды в организме мальчика восстановился, но у него началась одышка, и врачи диагностировали сердечную недостаточность. Мать, в свою очередь, страдала от болей в животе и повышенной температуры из-за инфекции органов малого таза.
В Йемене в те годы царило беззаконие. Девушку изнасиловали, избили и покалечили. Кроме того, она была африканкой, а не арабкой. Сотрудники Красного Креста предположили, что ее похитили в Сомали и переправили через Аденский залив, чтобы продать в рабство. Правда, никто не мог сказать с уверенностью, так ли это. По одной занятной причине: за все время девушка не произнесла ни слова. Ни единого. Эмоций она тоже практически не проявляла. Даже когда ей было больно.
Оманцы сделали рентгеновский снимок грудной клетки мальчика и диагностировали у него декстрокардию и сердечную недостаточность, после чего направили его в нашу больницу. И вот теперь американский кардиолог спрашивал, смогу ли я сотворить чудо. Я знал, что в клинике Майо работает первоклассный детский кардиохирург, и осторожно поинтересовался у коллеги, как бы, по его мнению, поступил доктор Дэниелсон.
– Думаю, он бы взялся оперировать. Терять особо нечего, ведь дальше будет только хуже.
Ничего другого я и не ожидал услышать.
– Хорошо, сделаю все, что в моих силах, – вздохнул я. – По крайней мере, так мы хотя бы узнаем наверняка, что это за опухоль.
Что еще я должен был знать о мальчике? Не только его сердце размещалось с противоположной стороны грудной клетки – все органы брюшной полости тоже поменялись местами. Зеркальное расположение внутренних органов. Таким образом, печень находилась в левом верхнем квадранте живота, а желудок и селезенка – справа. Серьезная проблема заключалась в том, что между левым и правым предсердиями имелась огромная дыра, из-за чего насыщенная кислородом кровь, идущая от легких, свободно смешивалась с кровью, которая возвращалась в сердце, пройдя по всему организму. Это приводило к тому, что уровень кислорода в артериях организма был ниже нормы. Не будь мальчик чернокожим, он был бы «синюшным ребенком» – так называют детей, у которых венозная кровь смешивается с артериальной, из-за чего кожные покровы приобретают синий оттенок. Сложная тема. Даже для врачей.
Вопрос о деньгах не стоял. У нас имелся передовой аппарат для проведения эхокардиографии, который в те дни был абсолютным новшеством. Он использовал те же самые ультразвуковые волны, что применялись для обнаружения под водой вражеских подводных лодок, и обученный техник мог с помощью прибора выдать четкое изображение внутреннего строения сердца, а также измерить градиент давления вдоль разросшейся ткани. Я увидел отчетливое изображение опухоли в крошечном левом желудочке: она была гладкой и круглой, словно яйцо бентамки[18]. Стало очевидно, что она доброкачественная. Если бы мне только удалось избавить ребенка от опухоли, то она никогда не выросла бы снова.
Я планировал убрать все лишнее и зашить щель в сердце – смелая попытка восстановить его нормальную физиологию. Задача была по сути простой, но расположение сердца задом наперед и с другой стороны груди все существенно усложняло, а я не хотел сюрпризов, поэтому сделал то, что делаю всегда в затруднительных обстоятельствах, – принялся рисовать анатомию в мельчайших подробностях.
Была ли операция выполнима в принципе? Я не знал ответа, но должен был попытаться. Даже если нам и не удастся удалить опухоль целиком, это все равно поможет.
Пришло время встретиться с мальчиком и его матерью. Парень из клиники Майо отвел меня в палату интенсивной терапии педиатрического отделения, где ребенка до сих пор кормили через вставленную в нос трубку, что ему крайне не нравилось. Мать, скрестив ноги, сидела на полу возле кроватки: и днем и ночью она не отходила от сына ни на шаг.
Когда мы подошли, она встала. И оказалась совсем не такой, как я себе представлял. Она была сногсшибательно красивой и обладала поразительным сходством с моделью Иман, вдовой Дэвида Боуи. Волосы у нее были прямые, длинные и черные как уголь, а худощавые руки она скрестила на груди. В Красном Кресте установили, что девушка действительно родом из Сомали, и, поскольку она исповедовала христианство, голова ее была непокрыта.
Длинными изящными пальцами она сжимала своего драгоценного сына, завернутого в лохмотья, что в пустыне защищали его от палящего солнца днем и сохраняли в тепле холодными ночами. Наподобие пуповины, из пеленок торчала трубка капельницы, которая вела к бутылочке с питательной жидкостью, представляющей собой белый, как молоко, раствор, насыщенный глюкозой, аминокислотами, витаминами и минералами. Он должен был помочь малышу восстановить мышечную массу.
Взгляд матери остановился на незнакомце – английском кардиохирурге, о котором ей говорили. Стараясь не выдать волнения, она слегка откинула голову назад; у основания шеи выступила капелька пота, которая тут же скатилась вниз к яремной ямке. Девушка занервничала, в кровь ударил адреналин.
Я обратился к ней на арабском:
– Сабак эльхер, аишь исмак? («Доброе утро, как вас зовут?»)
Она ничего не ответила и уставилась в пол. Я продолжил:
– Терреф араби? («Вы понимаете по-арабски?»)
Затем:
– Инта мин вейн? («Откуда вы?»)
В ответ по-прежнему тишина. Окончательно отчаявшись, я спросил:
– Титакеллем инглези? («Вы говорите по-английски?») Ана мин инглитерра («Я из Англии.»)
Она подняла глаза, и я понял, что она меня услышала. Ее губы приоткрылись, но она так ничего и не сказала. Коллега из Майо тоже онемел, пораженный моими лингвистическими талантами, которые – чего он знать не мог – были уже практически полностью исчерпаны. Судя по всему, мать оценила мои старания, и ее плечи расслабились. Она успокоилась. Я хотел продемонстрировать ей доброту, взять ее за руку, но в такой обстановке это было недопустимо.
Жестом я дал ей понять, что хочу осмотреть мальчика. Она не имела ничего против, до тех пор пока никто не забирал сына у нее из рук. Когда она приподняла полотняное покрывало, я обомлел. Малыш был до крайности истощен, его ребра торчали. Жировой ткани почти не осталось, и я видел, как необычное сердечко бьется в груди. Мальчик часто дышал, чтобы компенсировать скопление жидкости в легких, его выступающий живот был заполнен жидкостью, а увеличенная печень отчетливо просматривалась со стороны, противоположной ее обычному расположению. Цвет его кожи был светлее, чем у матери, и я решил, что отец ребенка – араб. Темно-оливковую кожу покрывала необычная сыпь; и мне показалось, что я заметил в глазах малыша страх.
Мать заботливо укрыла его покрывалом. Кроме сына – этого мальчика, да еще лохмотьев и пары колец, у нее в мире больше никого и ничего не было, и я не мог сдержать нарастающую жалость к ним обоим. Мое дело – прооперировать. Однако меня уже затянуло в водоворот отчаяния, и я начисто утратил объективность.
В те дни я использовал красный стетоскоп, который и разместил на груди ребенка, стараясь выглядеть профессионально. Я услышал резкий шум, который производила кровь, протискивающаяся мимо опухоли через аортальный клапан, затем хрипы в наполненных жидкостью легких и даже бульканье пустого кишечника. Какофония звуков человеческого организма.
Я спросил:
– Мамкен асадукк? («Вы позволите мне вам помочь?»)
На секунду мне показалось, что она ответила. Ее губы шевельнулись, и она смотрела мне прямо в глаза. Я почувствовал, что она пробормотала:
– Наам («Да»).
Я попытался объяснить, что нужно прооперировать сердце ее мальчика, чтобы он поправился и их жизнь улучшилась. На глазах у нее выступили слезы, и я мог поклясться, что она все поняла.
Но мог ли я убедить ее подписать форму информированного согласия? Мы вызвали переводчика на сомалийский, который повторил все сказанное мной, но в ответ ничего не услышали. Мать сохраняла бесстрастный вид, пока я изо всех сил старался донести до нее то, насколько сложной будет операция. Название операции: «Ликвидация сужения выходного отдела левого желудочка при декстрокардии». Затем еще одна короткая фраза, вставленная в моих интересах: «Высокий риск осложнений!», которая избавляла меня от ответственности в случае неудачи – по крайней мере, на бумаге. Я не сомневался, что другого шанса на спасение у ребенка нет, поэтому простого крестика, поставленного матерью на документе, было бы достаточно. Но тем самым она соглашалась отдать в наши руки все, у нее осталось, единственный смысл своей жизни. В конце концов она взяла ручку и нацарапала что-то на бумаге, после чего я попросил расписаться парня из Майо и подписал форму сам. Я смотрел в глаза матери, а не на документ – наверное, искал в ее взгляде одобрения. К этому времени ее кожа блестела от пота и ее буквально трясло от волнения.
Пора было оставить ее в покое. Я объяснил, что проведу операцию в воскресенье, когда на работу выйдет лучший из здешних детских анестезиологов, а потом попрощался с девушкой и на английском, и на арабском, чтобы дать ей понять, что я не перестал стараться.
Дело было в четверг, за день до саудовских выходных, и коллеги решили взять меня с собой в пустыню: разбить палатки в дюнах под ночным небом, чтобы сбежать от давящего городского гнета. Мы выдвинулись ранним вечером, как раз когда палящая жара начала спадать. После того как дорога закончилась, джипы поехали прямо по песку.
Ночь в пустыне выдалась ясной и холодной. Мы сидели вокруг костра, потягивая самогон и наблюдая за падающими звездами. Верблюжий караван безмолвно прошел мимо нас в каких-то двух сотнях метров, поблескивая в лунном свете мечами и автоматами Калашникова. Бедуины не обратили на нас ни малейшего внимания.
У местных было правило: никогда не отправляйся в поездку только с одной машиной. Если она сломается, то пиши пропало, даже если ты всего милях в двадцати от больницы.
Мне стало не по себе, и я задумался над тем, как выживала мать моего маленького пациента. Ночью она шла, рассчитывая найти убежище на светлое время суток. Она несла ребенка и воду, питаясь, судя по всему, одной лишь надеждой и ничем иным. Вопреки всем возможным трудностям, я был решительно настроен спасти мальчика, помочь им обоим.
Операция предстояла далеко не рядовая, и я все еще не был уверен, как доберусь до злосчастной опухоли. Получить доступ к ней можно будет, только разрезав верхнюю часть левого желудочка, а это нарушит его способность закачивать кровь. Я продолжал мысленно прорабатывать операцию шаг за шагом, каждый раз возвращаясь к одному и тому же вопросу: «А вдруг?» Для традиционной хирургии трудности технического характера, связанные с правосторонним сердцем, оказывались практически непреодолимыми. Было бы для мальчика лучше, если бы его прооперировал более опытный хирург из Штатов? Вроде бы нет: патология была, пожалуй, уникальной в своем роде. Никто из именитых кардиохирургов не имел особого опыта в проведении подобных операций, пусть даже операционная бригада у них, возможно, и получше, чем у меня. Впрочем, моя бригада была достаточно хороша, да и оборудование у нас было на высоте – лучшее из того, что можно купить за деньги. Выходит, я просто создан для этой работы?
И тут на меня снизошло озарение. Любуясь Млечным Путем, я вдруг осознал, что есть один до боли очевидный способ добраться до опухоли. Возможно, осенившая меня идея и была слишком смелой, но, по крайней мере, теперь у меня имелся четкий план.
В субботу я собрал операционную бригаду и анестезиологов, чтобы обсудить предстоящую операцию. Я показал им сделанные мной схемы необычного расположения внутренних органов пациента, а затем рассказал душераздирающую историю мальчика и его матери, хотя это и не принято: обычно все происходящее в операционной должно быть максимально обезличенным – это, вероятно, наилучший подход, когда оперируешь человека, который может не выжить. Все согласились, что мальчик обречен, если мы не приложим все усилия, а лишь сошлемся – пусть и совершенно правомерно – на то, что при декстрокардии такая опухоль неоперабельна. Я сказал, что, пока не попробуем, не узнаем, хотя и не стал ни с кем делиться дерзким планом операции.
Ночь выдалась жаркой, и я никак не мог уснуть: в голову одна за другой навязчиво лезли дурацкие мысли. Пошел бы я на подобный риск у себя дома, в Англии? Делал ли я все это для маленького пациента или для его матери – а может, и вовсе для себя самого, чтобы потом написать об этом статью? Если у меня все получится, кто позаботится о девушке, попавшей в рабство, и о ее незаконнорожденном ребенке? Ребенок был помехой. В Йемене его бы попросту оставили в кустах на растерзание волкам. Работорговцам нужна была только его мать.
Утренний призыв к молитве положил конец моим внутренним терзаниям. Когда я вышел из дома, где меня поселили, на улице было уже 28 градусов. Мать вместе с мальчиком явилась в операционный комплекс к семи утра. До самого рассвета девушка не спала, держа ребенка на руках, и медсестры переживали, что она может передумать и убежать. Не убежала, но медсестры все равно беспокоились, что она не захочет передать им ребенка.
Несмотря на препараты, введенные при предоперационной подготовке, мальчик кричал и метался, пока ему пытались дать наркоз. Обычное дело для детской хирургии, хотя мать, конечно, пришла в ужас (а бригаде анестезиологов пришлось повозиться). Поданный через маску газ в конечном итоге утихомирил мальчика достаточно для того, чтобы вставить в вену канюлю и погрузить его в бессознательное состояние. Мать порывалась проскользнуть вслед за ним в операционную, и медсестра вынуждена была ее оттаскивать. Тут-то эмоции и прорвались через маску отчужденности: какие бы физические страдания ни испытывала сама мать, все творившееся с малышом было для нее гораздо хуже. Однако голоса ее так никто и не услышал.
Я хладнокровно сидел в кафетерии и завтракал финиками с турецким кофе, ожидая, пока суматоха не уляжется. Кофеин отлично помогал сосредоточиться, но пробуждал и мое чувство ответственности. Что, если мальчик умрет? Тогда у его матери не останется ничего. Никого на всем белом свете.
Пришла одна из медсестер, австралийка, с просьбой проверить оборудование, которое я заказал дополнительно для воплощения в жизнь радикального плана, составленного под темным небом пустыни. Мне еще только предстояло поделиться им с операционной бригадой.
Истощенный маленький мальчик, лежащий на блестящем черном операционном столе и ничем не прикрытый, являл собой жалкое зрелище. В нем не было ни грамма младенческого жирка, на который имеет право каждый ребенок. Между тем его тонкие ножки распухли от скопившейся в них жидкости. Такой вот парадокс сердечной недостаточности: мышечная ткань заменяется водой, но вес при этом не меняется. Выступающие ребра поднимались и опускались в такт работе аппарата искусственной вентиляции легких – мальчику больше не нужно было прилагать усилия, чтобы дышать самостоятельно. Теперь все поняли, почему мать столь неистово его оберегала. Мы видели, как справа неустанно бьется сердце, а контур печени проступал с противоположной стороны выпяченного живота. Все выглядело не так, как надо, – наблюдавших со стороны это завораживало, тогда как передо мной вставала сложнейшая задача. Мне доводилось присутствовать при одной операции на правостороннем сердце в США и еще при одной – в детской больнице на Грейт-Ормонд-стрит в Лондоне. Однако сам я впервые намеревался провести нечто подобное.
На щеках малыша виднелись полоски высохшей соли, оставшиеся после душераздирающего расставания с матерью. Что я там обычно говорю, когда меня спрашивают, волнуюсь ли я перед операцией? «Нет. На столе ведь не я!» Я и сейчас не слишком нервничал. И все же… Я находился где-то у черта на куличках и собирался впервые провести операцию, которую никто не делал прежде, да еще в непривычной обстановке… Я почувствовал, как по спине струится пот. Как же далеко я забрался от Оксфорда!
Все испытали облегчение, когда хрупкого малыша накрыли хирургическими простынями, оставив обнаженным лишь небольшой квадратный участок темной кожи над грудиной. Теперь перед нами был не ребенок, а всего лишь очень непростая задача. Во всяком случае, так всем казалось до тех пор, пока мы не услышали, как в двери операционной стучится измученная мать. Ускользнув от сестер, которые за ней присматривали, она примчалась обратно, и после непродолжительной борьбы ей разрешили остаться в коридоре операционной. Матери и без того сегодня досталось, чтобы повторно оттаскивать ее от дверей.
В операционной тем временем лезвие скальпеля скользнуло слева направо вдоль грудины мальчика, и струйка ярко-алой крови поползла по полиэтиленовым простыням. Электрокоагулятор быстро ее остановил, прожигая ткань до самой грудины, (мне припомнился фраза из фильма «Апокалипсис сегодня»: «Люблю запах напалма по утрам»). По клубам белого дыма я понял, что у ножа слишком большая мощность, и напомнил вспомогательному персоналу, что мы оперируем ребенка, а не выбираем нового папу, так что неплохо бы снизить напряжение.
Мне не терпелось поскорее увидеть деформированное с рождения сердце, и я удалил мешавшую вилочковую железу, а потом разрезал околосердечную сумку (окружающий сердце мешочек из фиброзной ткани) с теми же волнением и предвкушением, с какими разворачивают рождественские подарки.
Скопившаяся из-за сердечной недостаточности жидкость давила на диафрагму. Я проделал небольшое отверстие в брюшной полости, и оттуда потекла бледно-желтая, как моча, жидкость. Шумный отсос набрал в дренажную емкость чуть ли не пол-литра жидкости, и живот мальчика сдулся. Очень быстрый способ похудеть. Пила разделила грудину пополам, обрызгав пластик кусочками костного мозга. Грудная клетка справа была вскрыта, и перед нами предстало маленькое – не больше кулака – розовое легкое, залитое водой. Из него продолжала вытекать жидкость, и емкость отсоса пришлось поменять. Больше ни у кого не оставалось сомнений, что ребенок серьезно болен.
Всем хотелось получше рассмотреть правостороннее сердце, прежде чем я приступлю к операции, так что я сделал шаг назад и на минутку расслабился. Мой план заключался в том, чтобы удалить как можно большую часть опухоли, открыв тем самым суженный канал, ведущий к аортальному клапану, а затем зашить щель в перегородке между предсердиями. Я дал указание запустить аппарат искусственного кровообращения и принялся заливать кардиоплегический раствор, чтобы остановить опустевшее сердце. Обмякшее, холодное и неподвижное, оно лежало на дне околосердечной сумки. Я аккуратно надавил на сердечную мышцу и нащупал через стенку эластичную опухоль. Теперь я был уверен, что традиционным способом до нее не добраться, а резать желудочки, от которых зависело кровообращение, лишь для того, чтобы побольше узнать об опухоли, особого смысла не было. Тогда я сказал себе: «Просто сделай, и все». Мой запасной план. Озарившее меня решение, которое, вероятно, до меня никто не пробовал применить на практике. Перфузиолог начал охлаждать тело с 37 до 28 градусов Цельсия. Мальчик, скорее всего, не менее двух часов проведет подключенным к аппарату искусственного кровообращения.
На тот момент у меня не оставалось другого выбора, кроме как поделиться запасным планом с остальными членам операционной бригады. Я собирался вырезать сердце мальчика из груди, положить его на почкообразный лоток со льдом, чтобы держать его в холоде, и прямо там его прооперировать. Так я смогу вертеть и крутить сердце, как мне заблагорассудится, чтобы качественно выполнить свою работу. Эта идея казалась мне гениальной, но следовало все делать как можно быстрее.
Чтобы спасти жизнь ребенка, я собирался вырезать его сердце, прооперировать его на почкообразном лотке со льдом и снова вернуть в тело мальчика. Действовать нужно было очень быстро, и у меня не было права на ошибку.
Это было все равно что вырезать у донора сердце для трансплантации, а затем пришить его тому же пациенту. Занимаясь исследовательской деятельностью, я не раз пересаживал крысиные сердца. С сердцем этого мальчика не должно было возникнуть накладок, даже несмотря на его нестандартное строение. Я рассек аорту прямо под основанием коронарных артерий и разрезал главную легочную артерию. Подтянув к себе эти кровеносные сосуды, я обнажил верхнюю часть левого предсердия с задней стороны сердца. Я разрезал предсердие, оставив на месте крупные вены, ведущие к нему от легких и остальной части организма, после чего вытащил желудочки наружу, а большую часть предсердия оставил там, где оно было. Потом я положил обмякшую холодную мышцу на лед, как поступают с донорским сердцем.
Наконец-то я смог разглядеть опухоль в той части левого желудочка, в которой из него вытекала кровь. Я принялся резать опухоль, проделывая в ней своего рода канал, чтобы она не создавала препятствий нормальному кровотоку. То, что текстура опухоли была эластичной, подтверждало ее доброкачественность, и я поверил, что нахожусь на верном пути. Оба моих помощника были шокированы и загипнотизированы видом пустой грудной клетки, отчего ассистировали мне из рук вон плохо. А чем дольше сердце было лишено кровоснабжения, тем выше была вероятность, что оно не запустится, когда мы вернем его на место. К счастью, австралийская медсестра оказалась куда смышленее и проворнее обоих стажеров, и я попросил ее помочь. Она интуитивно поняла, что от нее требуется, и дело пошло быстрее.
Я разрывался между стремлением удалить опухоль полностью и желанием не перестараться – вырезать ровно столько, чтобы восстановить кровоток. Но мне очень хотелось сказать матери мальчика, что опухоли больше нет, так что я рискнул и добрался до межжелудочковой перегородки, оказавшись в непосредственной близости от проводящей системы сердца. Я прекрасно знал, где она находится в нормальном сердце, но в данном случае место ее расположения было для меня не столь очевидным. Провозившись полчаса, я ввел очередную дозу кардиоплегического раствора в обе коронарные артерии, чтобы сердце оставалось хорошо охлажденным и расслабленным, а еще через пятнадцать минут все было сделано.
Я вернул сердце в тело мальчика, соединил желудочки с предсердиями и принялся зашивать. Я очень гордился собой, и статья для журнала уже была наполовину написана в моей голове. В процессе «трансплантации» сердца я заодно закрыл и щель между предсердиями, благодаря чему возникала надежда на то, что с мальчиком все будет в порядке.
На данном этапе я должен был сработать безукоризненно: когда сердце начнет биться, добраться до этих швов будет невозможно. И наконец, настало время пришить обратно аорту и пустить кровь в коронарные артерии. Сердце снова начнет биться, и мы сможем вернуть температуру тела мальчика в норму. Все, что оставалось, – подсоединить главную легочную артерию. Мои ассистенты успели немного прийти в себя – когда сердце вернулось на свое законно место, они почувствовали себя куда увереннее.
Обычно детское сердце сразу же начинает усиленно биться, стоит восстановить кровоток. Но на этот раз сердцебиение было слишком медленным. Более того, я видел, что предсердия и желудочки сокращаются асинхронно. Это означало, что проводящая система, призванная согласовывать их работу, не функционировала, что крайне плохо, так как именно ритмичные сердечные сокращения обеспечивают эффективную работу мышцы. Анестезиолог уже заметил это на электрокардиограмме, но предпочел ничего не говорить. После охлаждения проводящая система нередко отключается, а затем внезапно вновь оживает.
Прошло десять минут – ничего не изменилось. Должно быть, я все-таки разрезал проводящий узел, пока разбирался с опухолью. Стыд и позор. Теперь мальчику не обойтись без электрокардиостимулятора. Потом я начал переживать по другому поводу. Пересаженное сердце теряет связь с нервами, идущими от головного мозга, которые автоматически замедляют или ускоряют его работу при физических нагрузках или при изменении объема крови. Денервация вкупе с повреждением проводящей системы сердца могла стать серьезной проблемой.
От эйфории, оптимизма и самодовольства в мгновение ока не осталось и следа, и мои мысли вернулись к матери нашего маленького пациента. Да уж, не лучшее время для того, чтобы терять концентрацию. В камерах сердца по-прежнему оставался воздух, который надо было выпустить, так что я вставил полую иглу в аорту и легочную артерию. Из обеих со свистом вышел воздух. Когда он попал в самую верхнюю правую коронарную артерию, правый желудочек надулся и перестал работать.
Нужно было продержать мальчика еще пятнадцать минут на аппарате искусственного кровообращения, пока все не придет в норму. Я подсоединил электроды временного кардиостимулятора к правым желудочку и предсердию. Так мы будем контролировать сердечный ритм, пока кардиологи не смогут установить мальчику постоянный электрокардиостимулятор. Постепенно функция сердца улучшилась. Кровь потекла через него свободно, легкие очистились, с сердечной недостаточностью и одышкой было покончено. Во всяком случае, я на это надеялся.
Частота пульса составляла всего 40 ударов в минуту – в два с лишним раза ниже нормы. С помощью внешнего кардиостимулятора мы повысили ее до 90 ударов в минуту, и позади сердца начала собираться кровь. Я было решил, что это кровоточат швы, и попросил перфузиолога выключить аппарат искусственного кровообращения и опустошить сердце, чтобы я смог его приподнять и изучить место наложения швов. Ничего. Все в порядке. Никаких признаков протечки.
Спустя тридцать секунд мы снова запустили АИК – крови стало еще больше. Я внимательно изучил швы на аорте и легочной артерии. Здесь тоже все чисто. Наконец мой главный ассистент заметил, что с аорты капает кровь. Игла, с помощью которой я выпускал воздух, проткнула ее насквозь, проделав сзади крохотное отверстие. После того как кровообращение восстановится, эта проблема решится сама собой, так что мы отсоединили мальчика от АИК и закрыли грудную клетку.
Мои размышления об успехе проведенной операции быстро прервало сообщение, поступившее от одного из кардиологов. Только что к нам поступил парень, попавший в автомобильную аварию. Он мчался на большой скорости, не был пристегнут ремнем безопасности и с огромной силой ударился грудью о руль. У него был шок, и инфузионная реанимация не помогала стабилизировать артериальное давление.
Снимок грудной клетки, сделанный в больнице, из которой пациента к нам прислали, показал раздробленную грудину и увеличенную тень сердца, а шейные вены набухли, что говорило о наличии крови под давлением в околосердечной сумке. Но и это еще не все. Электрокардиограмма показала, что трехстворчатый клапан, разделяющий правый желудочек и правое предсердие, дал сильную течь, чем и объяснялись пониженное артериальное давление и шок. Молодой человек нуждался в неотложной операции на сердце, и меня попросили ему помочь, пока не поздно.
Мне не хотелось оставлять прооперированного ребенка, но выбора не было. Покинув операционную, я наткнулся на мать малыша: несчастная и одинокая, она сидела в коридоре. Девушка прождала здесь пять часов, и я чувствовал, что она на грани эмоционального взрыва: ее эмоции слишком долго не находили выхода, из-за того что она по какой-то причине не могла говорить. А теперь у нее к тому же отняли ее малыша, завернутого в тряпье. Увидев меня, она в панике вскочила. Удачно ли прошла операция? Мне не нужно было ничего ей объяснять. Наши глаза встретились, и моей улыбки оказалось достаточно, чтобы она поняла: ее сын все еще жив.
К чертям собачьим правила и наблюдавших за нами кардиологов. Я должен был как-то выразить свое расположение и протянул ей потную руку, не зная, пожмет она ее или останется безучастной. Это проявление доброты растопило лед. Она схватила мою ладонь и принялась ее судорожно трясти.
Я прижал девушку к себе и крепко обнял, словно говоря: «Ты в безопасности, мы больше никому не позволим тебя обидеть». Когда я ее отпустил, она продолжала крепко за меня держаться, а потом заплакала навзрыд, вынуждая моих саудовских коллег сохранять неловкую тишину. Успокоить ее удалось не сразу, а кардиологи все сильнее волновались из-за попавшего в аварию парня.
Матери, ожидающей ребенка с операции, достаточно улыбки хирурга, чтобы понять, что ее малыш жив.
Я сказал, что малыш вскоре покинет операционную, его положат в кроватку в отделении интенсивной терапии и подсоединят к капельницам и дренажным трубкам, объяснил, что это зрелище может ее напугать, и добавил, что она сможет навещать сына, но, разумеется, не должна мешать медсестрам. И снова мне почудилось, будто она понимает по-английски, но на всякий случай один из кардиологов повторил сказанное мной на арабском. Наконец мы ушли, чтобы изучить эхокардиограмму (снимки УЗИ сердца) парня с разбитой грудной клеткой.
К этому времени пациент уже умирал. У него был разорван трехстворчатый клапан – довольно редкая травма, полученная в результате столкновения на большой скорости. В Англии мы с такими практически не имеем дела, потому что закон обязывает всех пристегивать ремень безопасности. Правый желудочек был с силой придавлен к позвоночнику сломанной грудиной, артериальное давление резко повысилось, и клапан разорвало. Когда сердце сокращалось, кровь свободно перемещалась туда-сюда, до легких почти ничего не доходило, а из-за крови в околосердечной сумке сердце толком не могло наполниться. Мы называем это тампонадой сердца.
Увидев снимки, я не стал попусту тратить время на осмотр пациента. Все, что требовалось сделать, – вскрыть грудную клетку, удалить кровь из околосердечной сумки и, если получится, восстановить трехстворчатый клапан. Нужно было как можно скорее подключить пациента к аппарату искусственного кровообращения, чтобы восстановить кровоток к мозгу и привести нарушенный обмен веществ в порядок. Кто-то прошептал у меня за спиной:
– Не спешите. Он псих. Он убил другого водителя.
Я ничего не ответил. Это не мое дело. Целеустремленно шагая к операционной, я наткнулся по пути на небольшую процессию, направлявшуюся в палату интенсивной терапии детского отделения. Частое и равномерное пиканье кардиомонитора меня успокоило. Когда я проходил мимо, мать ребенка, не отводя от него глаз, вытянула руку навстречу мне, и я сделал то же самое. Контакт.
Мне следовало сидеть вместе с мальчиком в палате интенсивной терапии – по крайней мере первые пару часов, пока я не буду уверен, что его состояние стабилизировалось. Увы, сейчас это было невозможно. Вскоре пациент с травмой уже лежал на операционном столе, и его пытались вернуть к жизни. Лицо парня было обезображено, грудную клетку усыпали обширные кровоподтеки, а края сломанной грудины заходили друг на друга ступенькой. К счастью, с помощью спиц и проволоки все это можно было исправить.
В считаные минуты я вскрыл грудную клетку и принялся вычерпывать комки свернувшейся крови. Давление пациента начало стабилизироваться, но его правый желудочек напоминал отбивную – и сокращался ничуть не лучше отбивной, – а правое предсердие готово было лопнуть в любой момент. Я вставил трубки АИК напрямую в главные вены, и мы запустили искусственное кровообращение в обход многострадального сердца, которое тут же сдулось и осело на дно околосердечной сумки, словно попавшая в сеть рыба. Пациент был спасен – как раз вовремя!
Я сделал надрез в правом предсердии, и поврежденный клапан оказался прямо передо мной. Он был порван, как тряпка, но, подобно куску ткани, его без труда удалось починить с помощью ниток. Я проверил, как работает клапан, наполнив правый желудочек аспиратором. Все герметично. Тогда я зашил предсердие и снова наполнил желудочек. Все в порядке. Отбитое мясо выполняло свою работу лучше, чем я мог предположить, и вскоре естественное кровообращение восстановилось. На сегодня с меня было достаточно, и я оставил ассистентов, чтобы те самостоятельно привели в порядок грудину и закрыли грудную клетку. Вне всяких сомнений, парень выживет… чтобы потом отправиться в тюрьму.
Спасая человека, ты думаешь о том, что он будет жить. Как сложится его жизнь – это вопрос не медицинский.
Тяжелый день близился к завершению, солнце садилось за горизонт. Я наслаждался чувством удовлетворения: в конце концов, я провел две сложнейшие операции подряд, и случаи попались незаурядные – такие, с которыми многие кардиохирурги не сталкиваются ни разу за всю карьеру. Мне требовалось пиво, как можно больше пива, но об этом можно было только мечтать. Мне стало интересно, полегчало ли матери больного мальчика хотя бы чуточку. Она добилась своего: ее умирающего ребенка вылечили.
Новостей из палаты интенсивной терапии не поступало, и я решил, что с малышом все в порядке. Как бы не так. По какой-то причине врачи вмешались в работу временного электрокардиостимулятора, и электрический импульс от генератора совпал с естественным ритмом сердца, вызвав его фибрилляцию и мгновенно спровоцировав нескоординированные, дрожащие сокращения сердечной мышцы – предвестник надвигающейся смерти.
Чтобы исправить ситуацию, реаниматологи сразу начали проводить непрямой массаж сердца, ожидая, пока к кроватке принесут дефибриллятор. Малышу так сильно сдавили грудь, что провода кардиостимулятора сместились из предсердия, и хотя фибрилляция прекратилась после первого же разряда, желудочки и предсердия вновь стали сокращаться асинхронно. Теперь сигнал подавался только на желудочки. Как результат, резко уменьшился сердечный выброс и почки перестали вырабатывать мочу. Состояние мальчика ухудшалось, но мне никто ничего не сообщил, потому что я проводил другую серьезную операцию. Дерьмо.
Все это время бедная мать находилась рядом с кроваткой своего сына, наблюдая, как врачи сдавливают его грудь, а потом используют электрошок, от которого малыш подпрыгнул в кровати и забился в конвульсиях. Равномерное пиканье кардиомонитора не успокоило молодую мать, и ей – как и ее чаду – становилось все хуже и хуже.
Когда я пришел, она сжимала в ладони крохотную ручку, а по ее щекам катились слезы. Она так радовалась, когда шла сюда из операционной! Теперь же она была глубоко несчастна – и я заодно с ней. Стало очевидно, что здешние медики ни черта не смыслят в физиологии пересаженного сердца.
Да и с чего вдруг они должны что-то в этом понимать? Они никогда не участвовали в трансплантации сердца, и им невдомек, что, если сердце вырезать из тела, оно лишается обычной иннервации. Они заставили сердце биться с частотой 100 ударов в минуту при недостаточном объеме крови, одновременно подстегнув его большой дозой адреналина, чтобы поднять давление. Это привело к спазму мышечных и органных артерий, что вызвало падение артериального давления и усугубило нарушение метаболизма.
Медсестра, присматривавшая за мальчиком в палате интенсивной терапии, выглядела обеспокоенной и явно обрадовалась моему приходу. Эта способная новозеландка была невысокого мнения о местных ординаторах. Она с ходу сказала:
– У него перестала вырабатываться моча, а они ничего не хотят с этим делать. – После чего откровенно выпалила: – Если вы не проследите, они могу запороть все то, чего вы с таким трудом достигли!
Я положил ладонь на ножку малыша: это лучший способ оценить сердечный выброс. Ступни должны быть теплыми, а пульс – выраженным. В действительности же они оказались холодными. Нужно было сделать так, чтобы артерии мальчика расширились, кровотоку ничто не препятствовало, а потребность организма в кислороде снизилась. И я все исправил. Теперь медсестра была довольна, но ординаторов выставили за дверь, и они тут же позвонили дежурному старшему врачу. И отлично. Я сообщил ему, что он может приехать сюда из дома, чтобы мы все обсудили лично.
Мы балансировали на тонкой грани между выздоровлением и смертью. Многое зависело от грамотной тактики лечения, просчитанной поминутно и даже посекундно – для каждого удара сердца. Важно было не ошибиться с пропорциями мощных препаратов и максимально повысить производительность измотанного сердечка. После длительного подключения в аппарату искусственного кровообращения легкие мальчика были воспалены и плохо функционировали, поэтому кровь слабо насыщалась кислородом. Развилась почечная недостаточность, в связи с чем понадобился диализ: в брюшную полость малыша должны были залить специальный концентрированный раствор, используя катетер, через мембраны которого токсины выводились бы из тканей. Мне требовалась помощь человека, на которого можно целиком положиться. Ну конечно же, врач из клиники Майо! Я сказал медсестрам, что буду неподалеку – в одной из комнат для ночных дежурств, где обычно ночуют ординаторы.
Мать малыша не хотела меня отпускать. Она не сводила с меня глаз, а по ее высоким скулам текли слезы. Мной тоже овладел страх расставания – меня тянуло обратно, но я был выжат как лимон и, если честно, боялся того, что может произойти, если ребенок умрет, ведь мать лишится единственного родного человека. Да, я старался утешить ее, но настало время отступиться. Можете назвать это профессионализмом – или самозащитой. Возможно, причина была и в том и в другом. Итак, я заверил девушку, что врач уже в пути, после чего ушел.
Было далеко за полночь. Окна комнат для ночных дежурных смотрели на крыши зданий, а в комнате отдыха имелся выход на веранду – прямо на свежий воздух. Вид оттуда открывался не такой потрясающий, как песчаные дюны в ночном мраке, но тоже весьма недурной. Тут были сок, кофе, оливки и финики. И восточные сладости. А особенно меня порадовал телескоп для созерцания звезд. Я посмотрел вдаль, жалея, что не могу разглядеть в нем Англию и свой дом. Больше всего, конечно, мне не хватало в этой стране моей маленькой семьи.
Я постарался отключиться. Врач из Майо знал, что утром мне предстояло оперировать других детей, поэтому без крайней необходимости не стал бы меня вызывать. Мне отчаянно хотелось на следующий день увидеть, что малыш пошел на поправку, что его ножки теплые, а в мочевом катетере сверкает жидкое золото. Я мечтал увидеть его мать счастливой и снова обнимающей своего завернутого в лохмотья ребенка.
Я отрубился, но перед моими глазами по-прежнему стоял пронзительный взгляд, молящий меня все исправить.
Песнопения с минаретов разбудили меня на рассвете. На часах было полшестого, и тот факт, что ночью меня не вызывали в палату интенсивной терапии, служил поводом для осторожного оптимизма. Намеченные на день операции не должны были создать проблем: залатать отверстие в сердце, все аккуратно зашить – и ребенок вне опасности. На радость родителям.
Вскоре мои мысли обратились к несчастной матери. Каково ей сейчас? Я взял чай с собой на крышу. Обжигающий солнечный диск только-только начал свое медленное восхождение на небосвод, воздух был еще прохладным и свежим, а температура – терпимой.
В шесть утра мне позвонил парень из Майо. Сперва я слышал в трубке лишь тяжелое дыхание, но наконец он сказал:
– Простите, что бужу вас плохими новостями. Мальчик умер в начале четвертого. Весьма неожиданно. Нам не удалось вернуть его к жизни.
В трубке воцарилась тишина: он ждал моих вопросов.
Отсутствие ночного вызова в палату интенсивной терапии – хороший знак: значит, пациенту не стало хуже.
Подобные звонки я получал на протяжении всей карьеры, но этот расстроил меня как никогда. Я спросил, что случилось. Сначала у мальчика развился судорожный припадок – возможно, из-за проблем с обменом веществ и высокой температуры, – причем судороги были очень сильными и барбитураты не помогали. Кислотность и уровень калия в крови оставались повышенными, так как к диализу еще не приступили. Потом остановилось сердце, и реанимировать малыша никто не смог. Коллега не решился будить меня посреди ночи такими ужасными новостями; он сказал, что сожалеет о моей утрате.
Мило с его стороны, но что насчет девушки? Может, мне стоит с ней поговорить? Коллега сказал, что это не лучшая идея. В конце концов, она стояла рядом с кроваткой, когда медики проводили реанимационные мероприятия. Как и следовало ожидать, ее состояние было ужасным, а когда ей сообщили, что ребенок умер, у нее началась неудержимая истерика. Кроватку переставили в отдельную палату, чтобы мать могла взять малыша на руки и оплакать в уединении. Все катетеры, дренажные трубки и провода от кардиостимулятора пришлось оставить на месте до вскрытия. Меня это беспокоило. Как она могла обнимать безжизненного младенца, из каждого отверстия у которого торчит пластиковая трубка?
Такая вот она, кардиохирургия. Очередной рабочий день для меня – конец света для матери.
Меня тянуло к девушке, словно магнитом, но я должен был избегать встречи с ней, чтобы не расстраиваться слишком сильно. Через час мне предстояло вернуться в операционную, чтобы спасти жизнь другого ребенка, у которого тоже была любящая мать. Что за гребаная работа! Я не выспался, испытывал душевное смятение и при этом должен был оперировать крошечных младенцев где-то у черта на куличках!
Я позвонил в отделение интенсивной терапии для взрослых, чтобы узнать насчет пациента с травмой – лихача, который разбил собственную машину, убив заодно другого водителя. С ним было все в порядке. Реаниматологи рассчитывали привести его в чувство и отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Во всем происходящем была какая-то дурацкая ирония. Я искренне желал, чтобы все сложилось наоборот и выжил мальчик. Но нельзя о таком думать. Хирурги должны сохранять объективность и не давать волю человеческим эмоциям.
Полный отчаяния, я направился в столовую, где заметил печального ординатора из педиатрического отделения, запихивавшего в себя завтрак. Я хотел пройти мимо, не обращать на него внимания, но я понимал, что он ни в чем не виноват. Операцию провел я и теперь сожалел, что не остался с мальчиком на ночь, чтобы все проконтролировать. Когда ординатор увидел меня, я понял, что ему не терпится чем-то со мной поделиться.
Он рассказал, что мать пропала из больницы, забрав с собой мертвого ребенка. Никто не видел и не слышал, как она уходила, и с тех пор о ней не было известий. Я произнес одно-единственное слово: «Дерьмо». Мне не хотелось продолжать разговор. Я представил, как девушка исчезает в ночи – точно так же, как она сбежала из Йемена, – только на сей раз ребенок у нее на руках был мертв. Она могла быть где угодно, и я за нее тревожился.
Я услышал новости о ней, накладывая заплатку на первую в тот день дефектную межжелудочковую перегородку. Кто-то из сотрудников больницы по дороге на работу наткнулся на два тела, лежавших в куче тряпья у подножия многоэтажного здания. Мать вытащила из крохотного тельца трубки и капельницы, прежде чем прыгнуть в пустоту, чтобы воссоединиться с сыном на небесах. Сейчас они вдвоем лежали в ледяном морге, так и не разлученные смертью. Смертность двести процентов – как вам?
Я всегда присутствую на вскрытии прооперированных мной пациентов. Во-первых, чтобы защитить свои интересы – убедиться, что патологоанатом в точности понял, что именно было сделано и почему. Во-вторых, чтобы приобрести полезный опыт – попытаться понять, можно ли было что-нибудь сделать по-другому.
Большинство писателей закончили бы эту трагическую историю самоубийством матери и двумя телами, обнаруженными возле многоэтажки, – чудовищным завершением двух хрупких жизней. Однако в реальной жизни кардиохирургия не мыльная опера. Работа продолжается, а в этом случае много вопросов оставалось без ответа.
День за днем, с утра до вечера занимаясь трупами, работники морга отличаются от остальных людей. Я прекрасно знал это по собственному опыту, полученному во время работы в Сканторпском военном мемориальном госпитале. Технический персонал выполняет роль мясников, вскрывая трупы один за другим, вынимая кишки и распиливая черепные коробки, чтобы извлечь мозг. В морге саудовской больницы всем заведовал пожилой патологоанатом из Шотландии. В блестящем полиэтиленовом фартуке зеленого цвета и в белых резиновых сапогах, с закатанными рукавами и свисающей из уголка рта сигаретой, он что-то бормотал, записывая причину смерти мужчины, которого убил мой вчерашний пациент. Перелом шеи и кровоизлияние в мозг в сочетании с разрывом аорты – типичные травмы для автомобильной аварии, произошедшей на большой скорости. Мой приход стал для шотландца неожиданностью: в здешнем морге хирурги были редкими гостями. Наемные врачи нечасто изъявляли желание учиться на собственных ошибках.
Тем утром в морге лежало семь обнаженных трупов – каждый на отдельном мраморном столе. Мое внимание сразу же привлекли мать с ребенком, тела которых пока оставались нетронутыми. Я объяснил патологоанатому, что у меня мало времени. Он поворчал, но быстро уступил и вместе с помощником взялся за дело. Формально моим пациентом был только мальчик. Его голова ударилась о землю первой, череп раскололся, и мозг разнесло, словно брошенный на пол холодец. Крови было мало, потому что он уже несколько часов был мертв. Мне требовалось прояснить некоторые важные вопросы, касающиеся его мозга. Был ли у ребенка туберозный склероз – врожденная патология мозга, которая частенько идет рука об руку с рабдомиомой в сердце? Это расстройство вызывает припадки, и, возможно, именно оно ускорило смерть.
Я собственноручно вскрыл грудную клетку – снова, для чего было достаточно распороть швы. Прав ли я был насчет отсоединившегося электрода кардиостимулятора? Сложно сказать, потому что мать вытащила его после смерти ребенка. Но одна улика имелась – сгусток крови рядом с правым предсердием. Во всем остальном операция прошла успешно: опухоль была удалена, а кровоток восстановлен. Шотландец опустил сердце ребенка в банку с формальдегидом и поставил ее на полку – все-таки редкий экземпляр.
Не желая сбавлять темп, помощник вскрыл брюшную полость и выпотрошил ребенка. Все внутренние органы были перевернуты и плавали в скопившейся из-за сердечной недостаточности жидкости, но в целом выглядели нормально. Причина смерти: врожденный порок сердца – прооперирован. Подключился второй техник, вернул мозг и кишки обратно, а затем зашил тело мальчика. После того как прореху в голове малыша заделали, тело положили в черный поли-этиленовый мешок. Конец истории. Кровь и биологические жидкости смыли с мраморной плиты, и от короткой жизни мальчика не осталось ни единого следа. Хоронить его было некому.
Меня потянуло к черному как смоль, переломанному телу матери, лежавшему на соседнем столе. Такая худенькая. По-прежнему не утратившая достоинства. Ее красивая голова и длинная шея уцелели, а когда-то горящие глаза потухли и уставились в потолок. Не нужно было ничего разрезать, чтобы понять, какие травмы у нее имелись: переломы рук, раз-дробленные ноги, распухший из-за разрыва печени живот. Никто не выжил бы после такого падения, и она это понимала. Насколько иначе все могло сложиться, если бы ее сын выжил после операции! Какой счастливой она была бы, воспитывая малыша со здоровым сердцем! Я смотрел, как техник откидывает скальп на лицо и срезает циркулярной пилой верхушку черепа, открывая мозг с его трагичными воспоминаниями. Почему девушка молчала?
Словно на археологических раскопках, мы постепенно находили подсказки. Над левым ухом остался след от давнего перелома черепа, из-за которого оказались повреждены мозговая оболочка и расположенный за ней мозг. Под удар попал и центр Брока – участок коры больших полушарий, отвечающий за речь. Когда шотландец разрезал мягкие ткани мозга, мы отчетливо разглядели глубокий рубец, который разделял нервы, ведущие к языку. Девушке еще повезло, что она выжила после подобной травмы, которую получила, вероятнее всего, при похищении в Сомали. Потому-то она и не произнесла ни слова – все понимала, но ответить не могла.
Я увидел достаточно. Мне не хотелось становиться свидетелем того, как ее потрошат, как ее кровь льется на мраморный стол, видеть ее разорванную печень и сломанный пополам позвоночник. Девушка умерла от внутреннего кровотечения, и я, помнится, подумал, что смертельная черепно-мозговая травма была бы куда более гуманной участью и что лучше бы ей умереть в Сомали и избежать мучительной жизни в Южном Йемене. На этом я поблагодарил шотландца за содействие и вернулся в операционную, на свое место, надеясь на более удачный день и отчаянно желая сделать что-нибудь хорошее.
6. Человек с двумя сердцами
Успешный кардиохирург – это такой человек, который на просьбу назвать трех лучших хирургов в мире затрудняется выбрать еще двоих.
Дентон КулиС Робертом Джарвиком я познакомился по чистой случайности. Шел 1995 год, и я приехал в Сан-Антонио, штат Техас, на ежегодное собрание Американской ассоциации торакальных хирургов. Когда я прогуливался вокруг крепости Аламо, топ-менеджер компании, специализирующейся на производстве протезов и комплектующих для сердечно-сосудистой системы, попросил меня высказать мнение по поводу их нового продукта. Он устроил мне встречу с инженером, чье имя я хорошо знал: его звали Роберт Джарвик.
Прибор, о котором шла речь, представлял собой крохотный турбинный насос, разработанный для стимуляции кровотока в ногах у пациентов с тяжелым атеросклерозом периферических артерий. Когда менеджер ушел на обед с клиентами, Джарвик повернулся ко мне и сказал:
– Приходите ко мне в гостиницу. Я покажу вам кое-что интересное.
Обычно я остерегаюсь подобных предложений от мужчин, но в этот раз был заинтригован.
Первым делом он наполнил раковину в ванной, а затем достал из дипломата небольшой пластиковый контейнер. Внешне он напоминал коробку для завтраков, а внутри лежал титановый цилиндр размером с большой палец, к которому крепились трубка сосудистого имплантата и питающий кабель в силиконовой оболочке. Джарвик опустил титановый цилиндр в воду, прикрепив кабель к контроллеру размером с телефон, и включил его. Вода пришла в движение.
Этот небольшой прямоточный насос перекачивал порядка пяти литров воды в минуту, направляя ее через трубку обратно в раковину, причем абсолютно бесшумно и даже без вибраций. Джарвик много лет разрабатывал концепцию подкачивающего насоса для левого желудочка, который был бы «функциональным, но незаметным» для пациента.
Я тут же сморозил глупость:
– Отличный насос для воды, но если подключить его к кровеносной системе, то эритроциты или разрушатся, или слипнутся.
Как будто Джарвик не задумывался о подобных проблемах и не пытался их решить! Я тут же исправился, сказав нечто более вразумительное:
– Но я бы с удовольствием занялся совместными испытаниями насоса, только подальше от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Если все сложится, то мы сможем применять его в Англии задолго до того, как вы получите здесь разрешение.
Я не был уверен, нужно ли ему это, и спросил, начал ли он сотрудничать с каким-либо медицинским центром на территории США. Оказалось, что он уже тестирует свое изобретение вместе с Бадом Фрейзером, руководителем трансплантационной службы Техасского института сердца. Бад был главным в Америке борцом за продвижение механических приборов для улучшения циркуляции крови. Джарвик сообщил мне, что собирается встретиться с ним в тот же день, и предложил нас познакомить.
Бад был техасцем до мозга костей: на встречу он пришел в ковбойских сапогах и шляпе, а также в стильной рубашке. Человеком он оказался обаятельным и при этом сдержанным, а помимо кардиохирургии увлекался коллекционированием старинных книг. Он выразил уверенность в успехе нового насоса, который на тот момент был известен как «Джарвик-2000», поскольку именно в 2000 году планировалось начать его применение на людях. Разумеется, если лабораторные исследования дадут обнадеживающие результаты. Бад предложил мне взглянуть на телят, которым имплантировали насос в Техасском институте сердца.
Институтские лаборатории для опытов на животных впечатляли: они были оснащены новейшим оборудованием, на которое я в жизни не смог бы выбить деньги для своих пациентов. Да, я оперировал людей в гораздо худших условиях.
Добравшись до телят, я застал их жующими сено с довольным видом. Согласно показаниям на мониторе, ротор насоса вращался со скоростью 10 000 оборотов в минуту, ежеминутно перекачивая порядка шести литров крови – больше, чем нужно пациенту в состоянии покоя. Бад протянул мне стетоскоп, чтобы я послушал слабый непрекращающийся вой крошечной турбины, перекачивающей кровь.
Я был неправ. Клетки крови оставались невредимыми, и, хотя в лаборатории не использовали разжижающие кровь препараты, кровяных сгустков тоже не образовывалось. Увиденное стало для меня абсолютным откровением. Мог ли этот прибор стать грандиозным шагом вперед для пациентов, умирающих от сердечной недостаточности? Что касается меня, то это была уникальная возможность поучаствовать в чем-то поистине грандиозном, и я предложил начать испытания «Джарвика-2000» на овцах в родном Оксфорде.
Возвращаясь в Оксфорд после той знаменательной – и, повторюсь, совершенно случайной – встречи, я думал о том, какой грандиозный международный проект вот-вот стартует: Хьюстон, Нью-Йорк с его «сердцем Джарвика»… и Оксфорд. Эта идея меня окрыляла, и, казалось, я мог долететь до Лондона своим ходом. Стоило мне, однако, поразмышлять обо всем чуточку дольше, и моего оптимизма поубавилось. В конце концов, у меня не было денег на исследования, равно как и доступа к крупной лаборатории для опытов на животных. Все, что имелось в моем распоряжении, – голый энтузиазм и желание преуспеть.
За несколько месяцев мне удалось заручиться достаточной спонсорской поддержкой, чтобы наконец приступить к проекту. В Кембридже вовсю продвигали программу пересадки человеку свиного сердца, а Оксфорд теперь занимался изучением миниатюрного искусственного сердца – ну чем не «Университетский матч»?[19] Вскоре мы подтвердили то, что предполагали в Хьюстоне: непрерывный кровоток без пульсового давления оказался безопасным и эффективным. Это в корне меняло сложившееся представление о приборах для перекачивания крови, так как избавляло от необходимости имитировать пульсацию живого человеческого сердца.
Гонка между университетами за сенсационными открытиями в области здоровья человека напоминает спортивное соревнование, и выигрывает не только одна из команд, но и человечество в целом.
На фоне успешной исследовательской программы я счел правомерным создать в Оксфорде трансплантационную службу. В Великобритании ежегодно диагностировали сердечную недостаточность в терминальной стадии у многих тысяч больных, но сердец, пригодных для пересадки, появлялось не более двухсот в год. Причем большинство пациентов с нарушенной функцией почек и печени считались слишком больными, и им отказывали в праве занять очередь на пересадку. Паллиативная медицина гарантировала им спокойный уход в мир иной с помощью лекарств. Я же решил, что этим отчаявшимся людям, страдающим от мучительных симптомов, мог прийти на помощь «пожизненный» кровяной насос – готовый механический прибор, который избавлял от необходимости дожидаться смерти донора или перевозки донорского сердца посреди ночи на вертолете. Мания величия побуждала меня превратить Оксфорд в национальный центр по механической поддержке кровообращения.
В Хьюстоне тем временем Бад активно имплантировал более традиционные, пульсирующие искусственные желудочки сердца, которые позволяли поддерживать в пациентах жизнь в ожидании донорского органа. Так называемый переходный трансплантат HeartMate, производившийся компанией Thermo Cardiosystems, был призван заменить пораженный болезнью левый желудочек, чтоб точно так же ритмично наполняться кровью и вбрасывать ее в кровоток. По форме он напоминал круглую коробку для конфет и был слишком велик, чтобы уместиться в грудной клетке, так что его имплантировали в карман брюшной полости, откуда наружу выводили негнущийся электрический провод, который вел к внешним аккумуляторам и контроллеру. Спасительный прибор также включал в себя воздушный клапан, который шипел в такт насосному механизму настолько громко, что его было слышно с другого конца улицы.
Длительное пребывание в больнице (в среднем пациенты с HeartMate ожидали пересадки сердца 245 дней, а люди с первой группой крови – гораздо дольше[20]) обходилось чрезвычайно дорого и плохо влияло на психику. Расходы росли, и хьюстонские врачи все сильнее убеждались в том, что таким пациентам не место в больнице. Более того, они начали всерьез рассматривать этот механический кровяной насос как альтернативу операции по пересадке сердца.
Бад знал, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов не станет рассматривать этот вариант как постоянное решение. Он позвонил мне в Оксфорд и предложил – раз уж мы вместе работали над «Джарвиком-2000» – протестировать на британских пациентах концепцию «пожизненного поддержания жизнедеятельности» с использованием того самого аппарата HeartMate. Компания Thermo Cardiosystems пообещала бесплатно обеспечить нас кровяными насосами, которые стали бы спасительной соломинкой для безнадежно больных людей – тех, кому трансплантационные центры отказали в помощи, тех, кто начинал задыхаться при малейшем усилии, распухал от скопившейся в организме жидкости и был вынужден сидеть взаперти у себя дома. Короче говоря, для ходячих мертвецов, хотя, вообще-то, они почти не ходили.
Подобной возможности я ждал давно. Я прилетел в Хьюстон, чтобы изучить HeartMate и встретиться с претендентами на пересадку сердца, которым имплантировали этот прибор. Когда мне предложили ассистировать при операции, я мигом согласился. Пациентом был студент Среднезападного колледжа, в прошлом спортсмен (играл в американский футбол), подхвативший вирулентнейший из вирусов, который превратил атлета в астеника. Бедный парень был истощен, он страдал от сильных отеков, а его жизнь необъяснимым образом угасала. Его девушка сидела рядом с кроватью и, казалось, не могла подобрать слова. В конце концов, что можно сказать человеку, нуждающемуся в пересадке сердца?
Что до самой девушки, то она была хорошенькой чирлидершей, чей герой умирал прямо у нее на глазах. Она наблюдала, как ему становилось все хуже и хуже, как его выгнали из команды, а потом отчислили из колледжа. Понадобилось слишком много времени, прежде чем до всех дошло, что он серьезно болен и что дело не в легких наркотиках, как кто-то предположил. Что ей было делать теперь? Оставить парня и вернуться к учебе или же остаться рядом с человеком, лучший вариант для которого – пересадка сердца?
Жизнь бывает той еще стервой, а мы редко задумываемся о том, каково людям по другую сторону. Впрочем, оно и к лучшему: толку от досужих размышлений обычно мало.
В операционной медсестры помогли хирургу надеть хирургический костюм и перчатки, затем протерли пациента антисептическим раствором и накрыли простынями, оставив обнаженной грудную клетку и верхнюю часть живота. Когда-то молодой человек мог похвастать рельефными бицепсами, прессом и грудными мышцами – ну просто картинка. Теперь же от него остались лишь кожа да кости, да еще выступающая под ребрами раздутая печень. Сердечная недостаточность – то еще дерьмо. Уродам, которые отказали нам в финансировании, следовало бы прийти и встать у операционного стола, чтобы самим все увидеть.
Бад сделал разрез от шеи пациента до живота, потому что для прибора HeartMate нужен был подходящего размера карман в стенке брюшной полости – после операции все будет выглядеть так, словно у пациента под кожей будильник. Раздутое сердце казалось огромным, а левый желудочек практически не двигался. Из околосердечной сумки сочилась привычная желтоватая жидкость, скапливавшаяся в только что сделанном кармане, пока отсос не удалил из него все лишнее.
Пока я уныло размышлял о печальной судьбе могучего спортсмена, Бад сосредоточился на поиске подходящего места для того, чтобы просунуть под кожу жесткий электропривод; место требовалось такое, чтобы брюки и ремень не стали помехой, чтобы привод сохранял максимальную неподвижность, а пациент мог без труда поддерживать его в чистоте. Наконец Бад проткнул кожу скальпелем и просунул через нее привод. Тот был больше сантиметра в ширину и достаточно жесткий, чтобы воздушный клапан не перекрутился. Это вам не шнур питания от настольной лампы – это брошенный парню спасательный трос, не менее важный, чем пуповина для плода. Затем мы быстро пришили выпускную трубку насоса к восходящей аорте там, где она выходила из сердца. Мы убедились, что шов герметичный, иначе трубка впоследствии будет постоянно кровоточить под давлением.
Оставалось присоединить ограничивающую манжету к верхушке сердца и циркулярным ножом проделать отверстие размером с доллар под впускную канюлю. Теперь кровь, возвращающаяся от легких к сердцу, будет проходить через митральный клапан и попадать в прибор, минуя поврежденный желудочек. Я же не мог отделаться от мысли о придуманном Джарвиком устройстве, которое было не намного больше впускной канюли. По сравнению с ним титановая оболочка пульсирующей насосной камеры HeartMate казалась огромной.
Временное сердце тоже может сослужить хорошую службу.
Перед включением насос HeartMate следовало наполнить кровью, чтобы удалить весь воздух. «Воздух в мозг – жизнь под откос», – сострил я. Может, и поэтично, но в тот момент я был несколько не в себе: сказались недосып из-за смены часовых поясов и нервное перевозбуждение. Техники все подсоединили, и мы были готовы к грандиозному запуску. Нажимной диск задвигался в кожухе насоса, и воздух начал ходить туда-обратно в воздушном клапане, словно у трогающегося с места паровоза. Камера наполнилась кровью и вытолкнула ее в аорту, вытесняя остатки воздуха через тончайшие отверстия. Бесполезная сердечная мышца сдулась – больше она не пыталась судорожно сжиматься, чтобы поддержать в парне жизнь. Теперь у него было новое сердце. Пускай временное, но я надеялся, что оно сослужит ему хорошую службу.
Мне стало любопытно, как девушка отреагирует на пульсирующего, шипящего монстра, который поселился внутри любимого, и на торчащий из живота жесткий придаток. Сколько еще она с ним пробудет? Я обычно не позволяю себе подобных мыслей, но сильнейший стресс и усталость напрочь лишили меня эмпатии[21]. Я решил, что если снова ее увижу, то обязательно постараюсь поддержать и расскажу, как замечательно прошла операция. Объясню, что молодому человеку непременно полегчает и он быстро поправится. И добавлю, что совсем скоро кто-нибудь в Хьюстоне вышибет себе мозги и сердце этого человека достанется ее парню.
Иногда хочется забыть о врачебной конфиденциальности и рассказать родственникам пациента обо всем, что думаешь об этом случае.
Мы не сразу справились с кровотечением и типичными для сердечной недостаточности выделениями, связанными с плохой работой печени и костного мозга. Кровотечение, литры донорской крови, затем проблемы с легкими и почками – обычное дело после подобных операций. Что ж, а мне предстояло ехать в аэропорт, чтобы через сутки вернуться в совершенно другой мир, где ничего этого не произошло бы и парня просто оставили бы умирать. Но прежде я хотел повидаться с его девушкой. К ней недавно присоединились родители пациента, тоже обеспокоенные сверх меры.
Девушка меня узнала, и я незамедлительно сообщил ей, что операция прошла успешно – как правило, эти три волшебных слова мгновенно снимают напряжение, принося волны облегчения. Она тут же расслабилась, и ее хорошенькое личико озарилось радостью, а через секунду она расплакалась. Выходит, она не просто запала за звезду футбола – у нее действительно были к нему чувства. Я ощутил себя жалким куском дерьма, из-за того что усомнился в ее искренности. Родители парня обняли меня и поблагодарили. «За что?» – подумал я. Я лишь ассистировал Баду. Впрочем, когда все заканчивается хорошо, благодарности хватает на всех. Я пожелал им всего доброго, а также как можно скорее заполучить донорское сердце. Пусть даже это и станет сильнейшим горем для какой-то другой семьи.
* * *
Вместе с профессором Филипом Пул-Уилсоном из Королевского госпиталя Бромптон мы вскоре отобрали в Лондоне потенциальных кандидатов для установки насоса HeartMate. К несчастью, самый первый и молодой из них умер до того, как ему смогли помочь. Зато второй кандидат, казалось, подходил идеально. Ему исполнилось шестьдесят четыре, он был высоким и худощавым, и ему уже отказали в пересадке сердца. Как и у американского футболиста, у него диагностировали дилатационную кардиомиопатию, возможно наследственную, но, скорее всего, она стала результатом вирусной инфекции или аутоиммунного заболевания. Таким образом, у интеллигентного еврея Абеля Гудмана сердце было большое в буквальном смысле слова, и он был практически прикован к постели.
С другой стороны, его коронарные артерии не были поражены атеросклерозом, а почки и печень работали приемлемо. Мы надеялись, что благодаря этому послеоперационный уход окажется менее проблематичным – и менее дорогостоящим. Но одышка у нашего пациента все усиливалась, так что он вынужден был полусидеть в кровати, обложенный подушками: из-за отеков ног и живота лежать он не мог. Чтобы его состояние стабилизировалось перед операцией, Филип предварительно положил Абеля в госпиталь Бромптон, куда я и пришел, чтобы с ним встретиться. Я всегда любил возвращаться в эту больницу – на этот раз в роли состоявшегося человека, самого настоящего кардиохирурга, а не паренька из города, про который так любят шутить юмористы.
Абель сидел в кровати прямой, как штырь. Дышал он с трудом, лоб его покрывала испарина, а полные страха глаза словно говорили: «Недолго мне осталось на этом свете». Ему было настолько плохо, что он не мог произнести ни слова. «Слишком болен для стрижки», как у нас принято говорить. Готовый встретиться с Создателем, в душе он явно надеялся, что вместо этого придет Спаситель. Я пожал распухшую ладонь. Та была холодной и скользкой – кровь к ней уже почти не поступала. Я объяснил, что насос HeartMate, работу которого мне довелось увидеть в Хьюстоне, избавит его от мучений и что он станет первым человеком в мире, которому эту технологию предлагают в качестве «пожизненного», а не временного решения. Раньше ее применяли исключительно для претендентов на пересадку сердце. Надолго ли это «пожизненное» решение продлит его жизнь? Я не знал, но без HeartMate он наверняка умер бы в считаные недели. И это в лучшем случае (мне, например, казалось, что он может отойти в мир иной прямо во время нашей беседы).
Он попытался переварить сказанное мною. До мозга Абеля тоже доходило не так уж много крови, но ему удалось оторвать голову от подушки и пробормотать:
– Тогда давайте сделаем это.
Думаю, он надеялся, что операцию проведут в тот же день. Что ж, не все сразу.
В Лондоне было три часа пополудни, в Хьюстоне – на шесть часов меньше. Я позвонил Баду, чтобы объяснить, что у нас мало времени и что нам разрешили имплантировать насос только умирающему пациенту – «из соображений гуманности». У нас на руках был умирающий пациент, так можем ли мы приступить на следующей неделе? В трубке повисла тишина – казалось, она длилась долгие минуты, после чего последовал короткий ответ:
– Ага.
Я почувствовал всплеск адреналина и радостное возбуждение. Мы вживим искусственное сердце здесь, в Оксфорде. Но за кого я радовался – за Абеля или за себя?
Операционная бригада из Хьюстона прибыла в Оксфорд 22 октября. Тем же вечером в конференц-зале собрались вместе бригады анестезиологов, перфузиологов и медсестер. Нам нужно было ознакомиться с оборудованием и детально обсудить предстоящую операцию, а заодно привыкнуть к моим товарищам из Техаса и их специфической манере одеваться – в Оксфорде ковбойские сапоги встретишь нечасто.
Я был амбициозным ублюдком, да и все мы мечтали осуществить нечто особенное, рискнуть – не только ради пациентов, но и ради самих себя, так как знали, что о нас напишут в газетах.
Пациент пережил транспортировку из Лондона. Присутствие многонациональной медицинской бригады наверняка смущало его, хотя проблемы с дыханием определенно беспокоили его куда больше. Медсестры предложили ему подумать о чем-нибудь хорошем, а нянечка спросила, что он хочет на завтрашний ужин. От окорока Абель отказался. Пришел раввин, чтобы подготовить его к возможной смерти.
Бад раньше не бывал в Оксфорде. Поскольку он интересовался старинными книгами, я хотел показать ему Бодлианскую библиотеку, что в центре города: от Хьюстона она отличалась разительно – словно они находились на разных планетах. Мы выпили пива в пабе «Орел и дитя», где Толкин не раз проводил вечера вместе со своим другом К. С. Льюисом в тридцатых годах прошлого века. Я слушал рассказы Бада о Вьетнамской войне, о том, как медицинский вертолет доставлял его к раненым в самый разгар военных действий, и о том, что он всегда сидел на шлеме, чтобы не оторвало мошонку. Несколько его коллег-хирургов так и не вернулись домой живыми. Бад сохранил свои яйца – и по нему это было видно. Он провел больше операций по пересадке сердца, чем кто-либо другой, и больше всех вживил искусственных желудочков. Он предавался воспоминаниям о горестях и восторгах тех дней, когда я еще учился в медицинской школе.
Я спросил, что стало с футболистом, которого мы вместе оперировали. Он все еще разгуливал по коридорам Техасского института сердца, уже не мучимый сердечной недостаточностью, и снова начал набирать мышечную массу. Донора, однако, по-прежнему не находилось. Его девушка вернулась в колледж.
Для меня тот вечер был сродни затишью перед бурей. Бад же надеялся, что мы стоим на пороге новой эры, в которой кровяные насосы будут повсеместно ставить пациентам, лишенным других возможностей на спасение. Почему эти приборы, позволяющие спасть жизнь, должны быть неразрывно связаны с пересадкой сердца? Каждый из них стоил тысячи долларов, но после пересадки их попросту выбрасывали. Какая пустая трата средств и какое неэффективное использование бесценных технологий! Я задумался о том, какие еще ставшие историческими беседы происходили в старинном пабе на протяжении веков. Должно быть, об искусственном сердце здесь говорили впервые.
Утром следующего дня обстановка была гораздо более расслабленной, чем я ожидал. Представители компании, выпускающей насос для сердца, беседовали с Бадом в комнате отдыха. Его помощник по техническим вопросам Тим Майерс уже начал устанавливать оборудование вместе с медсестрами – оживленными, хотя и боявшимися напортачить перед почетными гостями. Абеля прикатили из палаты в окружении целой свиты родственников и друзей, которые пожелали его проводить. Открытым оставался лишь вопрос, куда именно. Абель, склонив голову, сидел на каталке: белая сорочка, руки на тощих коленях, тяжелое дыхание и беспокойные глаза. Все, чего ему хотелось, – чтобы его побыстрее ввели в наркоз. Когда процессия поравнялась со мной, он робко приподнял голову и пробормотал:
– До скорого.
Он до последнего сохранял оптимизм.
На этот раз операцию проводил я, Бад ассистировал, а роль второго ассистента взял на себя мой коллега Дэвид Таггарт. Мы очень многое поставили на кон, но умудрялись оставаться спокойными и собранными, чуть ли не беззаботными. Производители кровяного насоса, понимая, что хирурги не самые умные среди медиков, предусмотрительно нарисовали стрелочки на титановом корпусе прибора, чтобы мы наверняка не ошиблись при его установке. Я с удовольствием сделал огромный надрез от шеи до пупка – хирургия минимального доступа никогда меня не прельщала. Правда, хотя хирургическими навыками я и мог похвастать, за наше устаревшее оборудование мне было стыдно. Старая пила с шумом разрезала грудину, еле-еле справившись с ее самой толстой верхней частью. Мы сформировали карман для установки насоса в верхней левой части передней брюшной стенки, а затем вскрыли натянутую околосердечную сумку, обнажив огромное сердце Абеля.
Боевое крещение хирурга – операция, которую он проводит первым в истории.
Эта операция стала для меня боевым крещением, поэтому я проводил ее, руководствуясь пошаговыми инструкциями Бада. Установить трубки для аппарата искусственного кровообращения, подключить его, опорожнить сердце Абеля, аккуратно пришить ограничивающую манжету к верхней части левого желудочка, а сосудистый имплантат – к аорте. Мы вырезали из пораженной болезнью мышцы диск в месте установки манжеты и сохранили его, чтобы позднее изучить под микроскопом. Наступил черед установить впускную канюлю насоса – и дело было сделано.
Важнейший заключительный шаг состоял в том, чтобы перед запуском прибора выпустить весь воздух из сердечно-сосудистой системы. Мы заполнили сердце, перекрыв поток от аппарата искусственного кровообращения. Левый желудочек наполнился, и кровь поступила в насос через впускную канюлю. Воздух перешел в сосудистый имплантат и вышел оттуда через широкую полую иглу. Итак, титановая «коробка с конфетами» была надежно зафиксирована в кармане брюшной полости, и Тиму было велено «запускать». Шумный механизм заработал с характерным шипящим звуком, и последние пузырьки воздуха покинули полую иглу. Теперь у Абеля был новый мощный левый желудочек – тот самый, который можно услышать на другом конце улицы; к счастью, со временем пациенты к этому привыкают, точно так же как люди с искусственными клапанами привыкают к тиканью в тишине ночи. Это крохотное неудобство становится частью их новой жизни, и оно гораздо предпочтительнее угрюмой альтернативы. Как правило.
Абель быстро пришел в себя. Пожалуй, слишком быстро. Его тут же отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, а трахеальную трубку убрали. По нему было видно, что его самочувствие улучшилось. Появились блеск в глазах и озорная улыбка, а лицо выражало облегчение и некоторое замешательство, характерные для любого человека после наркоза – в тот миг, когда осознаешь, что ты все еще жив. Все четыре конечности Абеля двигались свободно, неврологических проблем не наблюдалось. Мне хотелось позвонить директору фирмы – подобно тому, как это сделал знаменитый Кристиан Барнард после исторической операции по пересадке сердца, – чтобы сказать: «Сэр, мы вживили искусственное сердце, и пациент чувствует себя хорошо». Однако что-то подсказывало мне, что лучше не торопить события и сохранять бдительность на случай, если состояние пациента ухудшится. В конце концов, все это делалось не ради меня, а ради того, чтобы поставить Абеля на ноги, и я слегка переживал из-за его повышенного кровяного давления. Вместо слабого левого желудочка у него теперь был мощный аппарат, управляющий циркуляцией крови, а от волнения его организм вырабатывал море адреналина. Реаниматологи дали Абелю сосудорасширяющие препараты, а заодно антикоагулянты в связи с нарушенным сердечным ритмом его собственного сердца, после чего ввели успокоительное, чтобы он как следует выспался ночью. Послеоперационный уход не менее важен, чем операция. Мне бы тоже не помешало успокоительное, но в целом день сложился удачно.
Когда нет новостей – это уже хорошая новость, и на протяжении ночи о пациенте ничего не было слышно. Ранним утром Бад вместе со своей операционной бригадой уехал в «Хитроу» – у него всегда был плотный график, – а я добрался до больницы в семь утра, полный оптимизма и самодовольства.
Мысленно я сочинял заявление для прессы и воображал газетные заголовки: «Хирург из Оксфорда вживил искусственное сердце» или «Умирающий мужчина спасен благодаря рискованной операции». Так что я заслуживал всего того дерьма, которое ждало меня в больнице.
Подойдя к кровати Абеля, по его отсутствующему взгляду я мгновенно все понял. С правого уголка рта текла слюна, веки были опущены, и он не встретил меня с энтузиазмом и благодарностью, на которые я рассчитывал. Да он даже не мог поднять правые руку и ногу. Гребаный инсульт.
Все существующие на свете ругательства пронеслись в моей голове под шипение насоса, установленного накануне. Пациент был розовым, теплым и с отличным кровообращением – вот только, к чертям собачьим, парализованным. А ведь все складывалось так хорошо! Почему никто не удосужился меня предупредить? Интуитивно мне хотелось обвинить кого-то другого. Но в чем именно? Нутром я чувствовал, что причина в оторвавшемся тромбе – либо из-за собственного сердца Абеля, либо из-за чужеродной поверхности насоса или сосудистого имплантата, – и в этом случае следовало незамедлительно дать ему быстродействующий антикоагулянт гепарин, поскольку варфарин действует слишком медленно. Однако невролог убедил меня сначала сделать снимок, определить масштабы повреждений мозга и исключить кровоизлияние в мозг. Если бы мы дали гепарин пациенту с кровотечением в мозге, смертельный исход был бы гарантирован. Так или иначе, произошла катастрофа, в том числе из-за предстоящих расходов на длительную интенсивную терапию, которые должны быть покрыты за счет средств, выделенных на мой исследовательский проект.
Я сопроводил Абеля к томографу. Бад с коллегами уже добрались до «Хитроу», оставаясь в неведении, а я был слишком зол, чтобы им звонить. Пусть они спокойно долетят до дома. Я смотрел, как на экране слой за слоем появляются снимки мозга. Проблема была очевидной, хоть и неожиданной. Действительно, произошло кровоизлияние в мозг. Но это не все. Источником кровотечения оказался участок мозга, пораженный инсультом ранее – явно не в последние дни, возможно, несколько месяцев назад. Почему мы ничего об этом не знали? Выяснилось, что жена Абеля тоже ничего не знала. Его иногда беспокоили головные боли, но слабости или паралича в конечностях замечено не было. Во всяком случае, до сих пор. Вероятно, мы столкнулись со скрытым инсультом, который поставил нас меж двух огней. В итоге мы были заведомо обречены, что бы ни предприняли. Сейчас Абель был парализован, но уже не при смерти. Тут одно из двух: либо надейся на лучшее, либо вообще не ввязывайся в рискованные дела.
Я дал отмашку. Пациент нуждался в кардио- и нейрореабилитации. Многим больным с инсультом удавалось поправиться. Абель не мог самостоятельно глотать, и пришлось кормить его через гастростомическую трубку. Гастроэнтеролог ввел ее прямо в желудок через брюшную стенку. Кашлять Абель тоже толком не мог, в связи с чем потребовались частые физиотерапевтические процедуры. Когда у него развилась пневмония, ему назначили антибиотики. Когда он раскашлялся так сильно, что надорвалась кожа вокруг места, где выходил кабель электропривода, мы тут же все исправили в операционной. Физиотерапевты работали не покладая рук, стремясь вернуть Абелю способность двигаться. Через три месяца паралич сменился слабостью в конечностях, с которой справились благодаря физическим упражнениям. Вскоре Абель встал на ноги и стремительно пошел на поправку. К нему вернулась речь, и проблемы с глотанием постепенно отступили. Он безустанно бродил по больничным коридорам: сердечная недостаточность, одышка и отеки больше не приковывали его к постели. К нему возвращалась жизнь, а ко мне – решимость продолжить начатое.
По звуку работающего насоса и шипению воздушного клапана – будто шипела змея, только с частотой 60 раз в минуту – мы всегда знали, что Абель где-то поблизости, еще до того, как он попадался на глаза. Жить с этим было непросто, но одышка, оставшаяся в прошлом, мешала гораздо сильнее. Однажды я прошел мимо Абеля, сидевшего на стуле. Он пожаловался, что чувствует себя неважно. Когда мы убедили его вернуться в кровать и присоединили к мониторам, то увидели, в чем дело. Началась желудочковая фибрилляция его собственного сердца – то самое неритмичное сердцебиение, которое у человека без дополнительной поддержки кровообращения быстро приводит к неминуемой смерти. Но в данном случае, несмотря на то что правый желудочек больше не функционировал, прибор, заменивший левый желудочек, поддерживал в пациенте жизнь. Невероятно! Ситуация повторилась еще четырежды, и каждый раз мы проводили дефибрилляцию. Успокоительное, дефибриллятор, «разряд!» – и сердце снова в деле. Через какое-то время мы заметили кое-что еще. Сердце Абеля возвращалось к своему нормальному размеру и сокращалось куда интенсивнее, подтверждая наблюдения Бада, согласно которым увеличенное при кардиомиопатии сердце благодаря отдыху восстанавливает свои функции. Нам было важно понять на молекулярном уровне, почему так происходит.
Умри Абель от инсульта – и наша благотворительная поддержка могла умереть вместе с ним. К счастью, он выжил и пошел на поправку. Прибор HeartMate прилежно трудился, и мы планировали в ближайшем будущем выписать Абеля из больницы. Тогда к нам направили следующего пациента.
* * *
Его звали Ральф Лоуренс, и он раньше положенного срока ушел на пенсию с должности финансового аудитора в компании «Ровер». Они с женой Джин увлекались энергичными танцами: народными, шотландскими, бальными, а кроме того, любили колесить по стране в фургоне.
Когда Ральфу перевалило за шестьдесят, одышка начала мучить его все сильнее. Рентгенография органов грудной клетки выявила увеличенное сердце, и из местной больницы Уорикшира Ральфа направили в клинику сердечной недостаточности при Королевском госпитале Бромптон, где профессор Пул-Уилсон диагностировал дилатационную кардиомиопатию. Первым делом пациенту назначили лекарственные препараты от сердечной недостаточности, после чего он начал проходить курс новаторской для того времени терапии – восстановления сердечного ритма с помощью специального кардиостимулятора. Суть этой терапии заключалась в том, чтобы синхронизировать сокращения различных участков сердца и тем самым повысить эффективность его работы. Проблема в том, что по мере дальнейшего увеличения сердца благоприятный эффект от такого лечения может снизиться, вот Ральф и оказался снова в плачевном положении, причем прогноз был довольно мрачным. Мог ли он рассчитывать на пересадку сердца? Когда Ральфу сказали, что человеку его возраста никто не предоставит трансплантат, он, как ни странно, с этим смирился, согласившись, что дефицитные донорские органы должны доставаться молодым пациентам. Это был невероятно приятный человек, пользовавшийся поддержкой всей семьи, и мы увидели в нем идеального кандидата для вживления HeartMate.
Храбрость нужна не только врачу и пациенту, – родственникам, принимающим решение о жизни их близкого, иногда приходится труднее всех.
Хотя Ральф не мог ничего делать, его состояние было все же не столь удручающим, как у Абеля Гудмана. Таким образом, у него имелась в запасе пара недель, чтобы взвесить все за и против, прежде чем согласиться на наше предложение. Мы вручили его близким руководство для пациентов с HeartMate, чтобы они ознакомились с тем, что ждет Ральфа после операции. Перспективы выглядели довольно пугающими даже для тех, кто мог со временем рассчитывать на пересадку сердца. Нельзя плавать и принимать ванну. Душ разрешен, но обязательно нужно защитить электрооборудование от воды. Следует избегать обтягивающей одежды и тугих повязок, которые могут погнуть или перекрутить трубку воздушного клапана. Под рукой всегда должно быть запасное оборудование на случай непредвиденных обстоятельств. Загоревшийся желтый индикатор с изображением гаечного ключа означает неисправность. Если замигает красный значок в виде сердца с характерным звуком, это будет означать отказ насоса – необходимо немедленно обратиться за специализированной помощью. И так далее в том же духе. Много тревожной информации, которую у Абеля не было времени изучить.
Я принял Ральфа с Джин в своем кабинете в Оксфорде. Информационный буклет их не переубедил, потому что нынешняя жизнь Ральфа была невыносимой. Он не мог выходить из дома на прогулку и спал в кресле, подложив под спину подушки, а его лодыжки и ступни отекали так сильно, что обувь на них не налезала. И в любую секунду он мог скоропостижно скончаться. Его близкие прекрасно об этом знали. Меня беспокоило, что Ральф страдал инсулинозависимым диабетом, но он превосходно справлялся с этой болезнью и привык нести ответственность за свое здоровье. Он был настроен позитивно и хотел как можно скорее приступить к операции.
– Так почему бы не начать сегодня же? – предложил я.
Я решил, что Ральфу и Джин стоит познакомиться с Абелем, чтобы они могли расспросить его о жизни с «чужим» внутри. Я знал, каким будет его ответ: «Лучше, чем сердечная недостаточность. Лучше, чем умереть». Джин должна была знать про HeartMate не меньше своего мужа, так как в экстренном случае ей пришлось бы самостоятельно решать возникшую проблему в домашних условиях, возможно, даже перейти на ручной режим при отключении электроэнергии.
Итак, мы назначили дату операции на среду через четыре недели, чтобы успеть обо всем договориться с Хьюстоном. В этот раз, однако, необходимо было принять во внимание еще один фактор. Об операции Абеля поползли слухи. Из-за перенесенного им инсульта мы старались держаться в тени, но операцию Ральфа начали планировать за месяц до проведения, так что информация неизбежно должна была просочиться в прессу, а это палка о двух концах. С одной стороны, интерес общественности помог мне привлечь достаточно денег для продолжения программы. С другой – если пациент умрет, наша репутация окажется подмоченной, и это могло нас погубить. Ослабленным пациентам с сердечной недостаточностью больше никогда не предложили бы даже операцию на грыже, не говоря уже о кардиохирургии. Как свести риск к минимуму?
Между собой мы сошлись вот в чем: чтобы избежать шумихи в СМИ, лучше разрешить сотрудникам одной газеты присутствовать на операции Ральфа. Главное требование – оставить семью Ральфа в покое, когда (или если) он покинет больницу и вернется домой. Мы остановили выбор на «Санди таймс». Ее корреспонденты получили полный доступ ко всему происходящему при условии уважительного отношения к пациенту и его близким. Взамен мы были бы рады принять от издания благотворительное пожертвование. Нет, мы не пытались на этом заработать. Но без пожертвований Ральфа никогда не прооперировали бы.
Ночь перед операцией Ральф и Джин провели в предоставленном больницей номере. Позднее Джин расскажет «Санди таймс»:
– Мы были спокойны. Он уже со всем смирился и предвкушал предстоящую операцию.
Утром среды, в половине десятого, спящего благодаря успокоительному Ральфа доставили на каталке в пятую операционную; в положении лежа ему опять-таки дышалось с трудом. Мы надеялись, что после операции он перестанет задыхаться. Вся больница с интересом следила за происходящим, так что мы решили записывать операцию на видео и транслировать ее в конференц-зале. Я был рад, что журналисты и администрация больницы смогут увидеть все воочию. В хирургии есть поговорка: «Увидел, сделал, научил». Я видел, как проводят такую операцию в Хьюстоне, провел ее самостоятельно в Оксфорде, но при этом не собирался позволять кому-либо другому оперировать Ральфа под моим наблюдением. Вместе с Бадом мы тихо ждали своего часа в комнате отдыха, пока анестезиолог погружал пациента в наркоз.
Часы, висевшие в душной комнате ожидания, показывали пять часов – как и в любой другой день недели на протяжении суток: эти часы остановились очень давно. Лишь растущие стопки пустых пластиковых стаканчиков отмечали медленное течение времени. Джин будто оцепенела, с тревогой ожидая новостей из операционной. В два часа пополудни она их дождалась: Ральфа катили в палату интенсивной терапии.
12 мая 1996 года рентгеновский снимок грудной клетки Ральфа с установленным в ней искусственным сердцем занял всю первую страницу журнала-приложения к «Санди таймс». Подпись под снимком гласила: «Человек с двумя сердцами. Почему кусок титана, полиэстера и пластика тикает внутри Ральфа Лоуренса?» Мы пошли на риск, когда предоставили передовому национальному изданию полный доступ к операции по вживлению искусственного сердца и разрешили сделать фотографии в операционной и взять интервью у родственников пациента и больничного персонала. К счастью, журналисты представили все в наилучшем свете, и кто угодно мог прочитать о нашем успехе: премьер-министр, члены парламента – даже сама королева. В журнале опубликовали подробный рассказ о ходе операции, который помог нашей лаборатории привлечь деньги для продолжения исследовательской программы. История Ральфа вызвала отклик у тех, кто считал, что разработка и внедрение инноваций – задача Национальной службы здравоохранения[22], однако с самой НСЗ этот номер не прошел. Наша технология стоила немалых денег, и никто не собирался поддерживать ее на государственном уровне.
Мы с самого начала полагали, что кровоизлияние в мозг у Абеля стало следствием повышенного кровяного давления, поэтому продержали Ральфа в состоянии глубокого наркоза еще несколько часов после операции. Лишь посреди ночи он очнулся в палате интенсивной терапии, окруженный многочисленной аппаратурой. Джин сидела возле его кровати и наблюдала за хорошо заметной снаружи работой насоса, который глухо шумел в животе мужа. Через кислородную маску Ральф что-то произнес.
– Хочешь пить? – переспросила она.
– Нет. Сейчас четверг?
Уже через два дня Ральф поднялся с постели и мог сидеть на стуле. Еще через день, в субботу, он ходил по палате интенсивной терапии под руку с физиотерапевтом, чья задача заключалась в том, чтобы помочь ему оправиться после операции.
А потом произошло непоправимое. Я совершал пробежку в Бленхеймском парке, когда зазвонил телефон. Абеля терзала невыносимая боль, к тому же у него начался геморрагический шок из-за острого кровотечения вокруг насоса. Это спровоцировало сильный отек в подреберной области. А ведь еще чуть-чуть – и сердце Абеля полностью восстановило бы работоспособность. Надо было незамедлительно удалить насос и остановить кровотечение, иначе пациента ждала смерть. Я дал указание немедленно собрать операционную бригаду.
Я прибежал домой быстрее, чем полезно в моем возрасте, и запрыгнул в машину. К счастью, в выходной на дорогах было спокойно, но я сомневался, что мы успеем вовремя прооперировать Абеля. Что ж, спасем мы его или нет, следовало сохранять оптимизм и хладнокровие: перевозбужденный или нервничающий хирург никогда не преуспеет в сложной ситуации. Я продумал последовательность действий еще в машине. Мы не сможем быстро вскрыть грудную клетку, ничего не повредив, вместо этого я обнажу артерию и вену в паху, установлю на них канюли и подключу к аппарату искусственного кровообращения. Дальше Абель будет в безопасности. С помощью донорской крови мы сможем поддерживать нормальное кровоснабжение мозга и отключить насос HeartMate. Успели мы едва-едва: давление Абеля упало в два раза, даже несмотря на переливание крови.
Врачу следует сохранять хладнокровие: перевозбужденный или нервничающий хирург никогда не преуспеет в сложной ситуации.
Я вытащил из грудины проволоку и провел по центру кости вибрационной пилой. Как только края грудины были раздвинуты, из щели наружу поползли блестящие багрово-фиолетовые кровяные сгустки, а снизу потекла ярко-красная кровь. До меня дошло: из-за того что сердце Абеля уменьшилось, впускная канюля насоса сместилась, повредив верхушку сердца. Вскоре мои подозрения подтвердились. Рассекая воспаленную массу, я увидел, что аорта по-прежнему герметично соединена с сосудистым имплантатом.
Выход был только один: насос нужно убрать. Либо сердце Абеля сможет обеспечить нормальное кровообращение, либо он умрет. Простейший способ остановить кровотечение, до которого мы не могли добраться, заключался в том, чтобы охладить тело до 20 градусов Цельсия, а затем полностью остановить кровообращение. Между тем я обрезал и выбросил кабель питания, после чего удалил свернувшуюся кровь из кармана в брюшной стенке, где был установлен насос. Что-то начало вырисовываться, но я поймал себя на мысли о том, что выходные могли сложиться и поприятней.
Для близких Абеля случившееся стало тяжелым ударом. Они с нетерпением ждали его возвращения домой после пяти месяцев в больнице: он был уже в достаточно хорошей форме, чтобы выписаться. Жены Абеля и Ральфа сидели в комнате ожидания вместе: первая надеялась на чудо, а вторая вдруг осознала, что успешный исход операции вовсе не гарантирует беззаботного будущего. Плохие вести распространяются молниеносно, и вскоре во всей больнице воцарилась мрачная атмосфера. Медсестры и физиотерапевты, месяц за месяцем прилагавшие столько усилий, чтобы Абель поправился после кровоизлияния в мозг, уже решили, что потеряли его. Для каждого из нас это стало бы настоящей трагедией.
К счастью, все оказалось не так плохо. Далеко не так плохо. Я был поражен тем, как сильно изменилось сердце Абеля. Месяцы отдыха после установки HeartMate безусловно пошли ему на пользу: наблюдались признаки обратного развития сердечной недостаточности, и сердце, когда-то раздутое, словно шар, вновь приобрело нормальную форму. Аккуратно вырезав впускную канюлю, мы нашли источник кровотечения – разрыв в сердечной мышце. Я срезал кусочек мышцы, к которому крепилась металлическая впускная канюля, и сохранил для дальнейшего исследования, чтобы сравнить его с образцом мышечной ткани, вырезанным при установке впускной канюли во время первой операции.
Это было нечто! Мы продемонстрировали, что увеличенные клетки сердечной мышцы способны вернуться к нормальным размеру и структуре и что мы можем помочь больному сердцу восстановиться. Мы назвали это стратегией «Сохрани свое сердце». Но насколько устойчивы структурные изменения? И сможет ли сердце нормально работать? Этого мы не знали. Только время могло ответить на эти вопросы, но открытие само по себе было грандиозным.
Операция длилась семь часов. Мы извлекли насос из грудной клетки Абеля так осторожно, будто принимали роды: я не хотел, чтобы дорогой прибор пришлось выбросить. Место крепления впускной канюли к сердечной мышце мы починили с помощью глубоких, укрепленных тефлоном швов. Сердце Абеля напоминало теперь чудовище Франкенштейна, но все еще работало и успешно сокращалось, разгоняя заново нагретую кровь. Мы отключили пациента от аппарата искусственного кровообращения, словно операция была совершенно рядовая. Из каждого надреза сочилась кровь, но давление стабилизировалось.
Кровотечение в конце концов прекратилось, мы закрыли грудную клетку и брюшную полость. Победа! Близкие Абеля пришли в восторг, Ральф с Джин вздохнули с облегчением, а мои коллеги воспряли духом. Я же по-прежнему волновался. Мы ходили по лезвию ножа.
Неужели перед нами первый в мире пример того, как искусственный желудочек сердца стал мостиком к выздоровлению у пациента с хронической дилатационной кардиомиопатией?
Мне ничего не оставалось, кроме как доверить послеоперационный уход за пациентом бригаде интенсивной терапии. Я был изнурен, и это лучшее, что можно было сказать. А что насчет худшего? Да то, что я психопат, который слишком любит рисковать, ставя под удар собственную жизнь, а заодно и жизни других людей. С хирургией я справляюсь без проблем, а вот с политикой – гораздо хуже. Рисковать, имея бессрочные счета от НСЗ, чревато лишним стрессом. На кону были не просто жизни отдельных пациентов.
Многие влиятельные персоны утверждали, что искусственное сердце никогда не заменит живое, и нужно было сражаться изо всех сил, чтобы доказать обратное.
В течение следующих тридцати часов состояние Абеля оставалось стабильным – все было в порядке. Несмотря на длительный шок, его почки вырабатывали мочу. Однако на душе у меня скребли кошки. Ставки были чересчур высоки, и я ходил по тонкому льду. Что ж, долго ждать не пришлось. Ночью у Абеля началась фибрилляция предсердий – они сокращались с такой частотой, что причиняли вред левому желудочку. Это распространенная проблема, с которой сталкивается добрая половина пациентов после операций на сердце. Справиться с ней не составило бы труда, но никто из младших врачей не осмелился воспользоваться дефибриллятором, и состояние Абеля быстро ухудшилось. Я стремглав примчался в больницу, но ему уже было не помочь.
Абель умер в окружении близких. Передо мной стоял выбор: выйти из себя и позволить эмоциям завладеть мной или же вернуться домой. И я сделал правильный выбор. По пути к выходу я прошел мимо кровати Ральфа. Джин спала, положив голову на простыни, она и не догадывалась о случившемся. Ральф смотрел перед собой, поглощенный тревожными переживаниями. Он проводил меня взглядом. Он понимал, что творится у меня на душе, а мне нечего было сказать, чтобы его приободрить. Он сам все прекрасно слышал: «Может, дефибрилляцию? Может, позвонить старшему? А что, если?..» И затем неизбежное. Полное дерьмо.
* * *
Чтобы сердечный ритм Абеля восстановился, нужно было всего-то воспользоваться дефибриллятором. Кто-то должен был взять на себя ответственность и спасти ситуацию, но этого не произошло. «Непринятие мер по спасению» – так это сейчас называется. После стольких трудов смерть Абеля казалась напрасной.
Грань между жизнью и смертью очень тонка. Выживет ли человек, зависит от того, смогут ли присутствующие справиться с проблемой, выберут ли они правильный способ ее решения и вовремя ли все будет сделано.
К счастью, Ральф крепчал день ото дня. Прибор его преобразил, и вскоре он научился жить с «чужим» внутри, который громко шипел через воздушный клапан и ежеминутно перекачивал шесть литров крови. За две недели и Ральф, и его семья освоили оборудование. Самой большой проблемой был торчавший сбоку негнущийся белый кабель питания. Его нужно было поддерживать в идеальной чистоте и защищать от микробов, потому что кожа вплотную прилегала к его лавсановому покрытию. Наибольшую угрозу для Ральфа представляла возможность подхватить инфекцию через электропривод – явление очень распространенное при использовании таких приборов, особенно опасное для диабетиков. По этой причине больных диабетом изначально никто не рассматривал в качестве кандидатов на установку кровяного насоса.
Джин училась справляться с неожиданными проблемами и устранять неполадки при появлении тревожного сигнала. В критических ситуациях жизнь ее мужа будет напрямую зависеть от того, сможет ли она все сделать правильно, поэтому она научилась вручную качать насос HeartMate на случай отключения электричества. И наконец их отправили домой – довольных и уверенных в себе, предвкушающих новую жизнь; самая стремительная выписка пациента с искусственным сердцем на тот момент. Ральф должен был ежемесячно появляться в больнице для осмотра, но они с Джин смогли, как и раньше, путешествовать по стране в фургоне, извлекая максимум из каждого очередного прожитого дня. Он был счастлив.
Зима принесла предсказуемую проблему – простуду и сопутствующие ей кашель и чихание. Из-за этого кожа вокруг места, где жесткий кабель электропривода выходил наружу из брюшной полости, постоянно двигалась, и в итоге тонкий слой клеток, приросший к лавсановому волокну, разрушился, открыв дорогу бактериям. Джин старалась поддерживать этот участок в чистоте с помощью стандартных методов ухода, но затем появились гной и покраснение: началось воспаление. Терапевт взял у Ральфа мазок и прописал ему антибиотики. Из-за инфекции стало сложнее контролировать диабет, а повышенный уровень сахара в крови способствовал размножению вредоносных бактерий. После нескольких недель на антибиотиках присоединилась еще и грибковая инфекция, и нам пришлось положить Ральфа в больницу, чтобы разобраться с его проблемой. К этому времени вокруг кабеля электропривода образовалась воспаленная болезненная лунка, и мы попытались исправить ситуацию хирургическим путем. Стало заметно лучше, да и сердце Ральфа значительно набралось сил: он проводил на велотренажере целые часы, набирая мышечную массу.
Со временем грибковая инфекция добралась до самого насоса, и я знал, что это дурное предзнаменование. В Хьюстоне Бад имел дело с похожими проблемами у пациентов, которым вживили кровяной насос в качестве временного решения (хотя диабетиков среди них не было), и я регулярно ему звонил, чтобы посоветоваться. Было понятно, что одними антибиотиками насос не простерилизуешь, но могли ли мы рискнуть и убрать его, как в случае с Абелем? Я уже всерьез обдумывал этот вариант, когда инфекция добралась до кровотока. Мы называем это сепсисом. Теперь насос был инфицирован как снаружи, так и изнутри, свиные сердечные клапаны покрылись грибковой массой и начали разрушаться. С этим ничего нельзя было поделать. Пришлось объяснить Джин, что рисковать слишком поздно.
Септический шок привел к отказу почек и печени, Ральф весь пожелтел, его легкие наполнялись жидкостью, а клапаны насоса начали обильно протекать. HeartMate даже работал теперь с другим звуком (почти как у стиральной машины), гоняя кровь туда-обратно по насосной камере, а воздушный клапан своим шипением больше напоминал не змею, а закипающий чайник со свистком. Я знал, что все кончено, и Джин тоже это поняла, когда я сказал, что не стоит рисковать «в духе Абеля». Ральф этого не пережил бы. Следовало облегчить ему дыхание с помощью искусственной вентиляции легких и позволить уйти в мир иной с достоинством, которого он заслуживал.
* * *
Ральф помог нам начать нечто очень важное. «Человек с двумя сердцами», как его окрестили в «Санди таймс», прекрасно перенес операцию. Он умер спустя полтора года после вживления имплантата в окружении своей семьи и, вопреки перенесенным страданиям, остался благодарен за эту возможность и за хорошо проведенное время.
Жизнь с искусственным сердцем может оказаться короткой, но каждый день, отвоеванный у смерти, стоит такой жизни.
Ральф и Абель многому нас научили. Они были первопроходцами – первыми пациентами, которым искусственное сердце установили «пожизненно». Надо признать, что жизнь эта оказалась короткой, но каждый отвоеванный у смерти день бесценен. Можете спросить об этом больных раком. Все, что нам требовалось, – более совершенный кровяной насос, и мы над этим усердно работали.
7. Спасая сердце Джули
Ничто не слишком поздно! Поздно станет, Когда в нас сердце биться перестанет[23]. Генри Уодсворт ЛонгфеллоПочему пациенты умирали после операции на сердце? Из-за некомпетентности хирурга, который допустил техническую ошибку и начал оперировать не тот клапан или не ту коронарную артерию либо позволил пациенту истечь кровью? Очень редко дело было в чем-то подобном. Обычно причина крылась в ином: пациент изначально был настолько болен, что даже после успешной операции его жизнь оставалась под большим вопросом. Конечно, как и в любой другой профессии, ошибки не исключены, и они действительно случаются, однако большинство пациентов все-таки умирали из-за того, что за время операции состояние их ослабленного болезнью сердца постепенно становилось еще хуже.
Если говорить о традиционной хирургии той эпохи, то сердцу приходилось несладко на протяжении всего периода, когда его целенаправленно останавливали и лишали кровоснабжения. Разумеется, мы использовали защитные кардиоплегические растворы, но они были далеки от совершенства и помогали плохо. К концу операции сердце слишком слабело, чтобы поддерживать циркуляцию крови в организме, – оно попросту уставало, хотя надежда на восстановление и оставалась. Когда аппарат искусственного кровообращения отключали, сердце не могло взять кровообращение на себя, и без надлежащей помощи пациент умирал на операционном столе. Частенько случалось и так, что сердце поначалу с трудом, но справлялось без аппарата, однако в течение следующих часов постепенно отказывало, сколько бы мы ни пытались подстегнуть его лекарствами; таким образом, пациент был обречен еще в операционной. Чем дольше сердечная мышца была лишена кровоснабжения, тем выше была вероятность подобного исхода, после которого тело пациента отправляли прямиком в морг на вскрытие, оставляя горевать его несчастных родных.
Сердце – самый уязвимый орган, от работоспособности которого зависит, выживет пациент или нет.
Я верил, что такое развитие событий, заканчивающееся смертью, можно предотвратить. Сердцу всего лишь нужна возможность восстановить свои силы. Однако более длительное использование аппарата искусственного кровообращения не позволяло решить проблему. На самом деле от этого становилось только хуже. Чем дольше кровь контактировала с инородными поверхностями, тем выше была вероятность системного воспаления, которое приводило к дальнейшему угасанию функций сердца и усилению кровотечения.
А что насчет какого-нибудь другого насоса? Простой контур искусственного кровообращения без оксигенатора, вероятно, справился бы с задачей лучше, и его можно было бы использовать в течение нескольких часов, возможно, дней, а в самых тяжелых случаях – даже недель, чтобы дать сердцу время оправиться после операции и восстановить свою сократительную функцию.
Такой безопасный и надежный кровяной насос позволил бы спасти, пожалуй, от половины до двух третей пациентов, которым иначе суждено было умереть. Откуда мы это знали? Вскрытие в большинстве случаев показывало, что сердце не было повреждено. Оно всего-навсего уставало. Если бы насос дал ему отдохнуть, взяв на себя кровоснабжение остальных органов, то пациент мог запросто пойти на поправку.
Пионеры в области кровяных насосов были убеждены: чтобы воспроизвести естественное кровообращение, обязательно нужно воссоздать пульс. Первые насосы должны были наполняться и опорожняться, и к тому же быть достаточно большими, чтобы подражать человеческому сердцу. Обычно в помощи нуждался лишь левый желудочек; при необходимости можно было бы использовать две отдельные вспомогательные системы для левого и правого желудочков. Однако первые пульсирующие устройства с мехами и клапанами вызывали завихрения и трение в проходящей через них крови, а также нагревали ее, создавая идеальные условия для образования тромбов, способных обернуться инсультом со всеми вытекающими для пациента последствиями. Печальный и устрашающий исход борьбы за жизнь человека.
Джордж Маговерн, заведующий хирургическим отделением клиники общего профиля округа Аллегейни в Питтсбурге, не был так уж уверен в необходимости пульсового давления. Его главный аргумент состоял в том, что кровь попадает в ткани организма через крошечные капилляры толщиной в одну-единственную клетку. В этих микроскопических сосудах нет пульса, поскольку пульсовое давление гасится в малых артериях еще до поступления крови в капилляры. Если же необходимости в пульсе действительно нет – как мы и предполагали, – то можно было создать куда более компактные и менее травмоопасные насосы, которые вращались бы на высокой скорости, пропуская через себя от пяти до десяти литров в минуту. Главное, чтобы такой насос бережно обращался с кровью. Итак, Маговерн привлек к работе своего друга – профессора Ричарда Кларка, руководителя исследований в области кардиохирургии при Национальных институтах здравоохранения (Вашингтон, округ Колумбия), и они принялись активно трудиться над этим проектом.
Их исследовательской команде понадобилось пять лет, чтобы создать первый прототип вращающегося кровяного насоса, который получил рабочее название «AB-180». Он был размером с велосипедный звонок и весил не более четверти килограмма. Его единственная подвижная часть – турбина с шестью лопастями – приводилась в движение с помощью электромагнитов. Этот прибор мог поддерживать кровообращение до полугода – достаточно долго для временного решения перед трансплантацией сердца. Устройство AB-180 было настолько простым, что один из лаборантов подсоединил прототип к садовому шлангу и использовал его, чтобы убрать воду из искусственного прудика для рыб в своем саду. Прибор показал отличные результаты в лаборатории: он не повреждал эритроциты и прекрасно справлялся со своими функциями при вживлении овцам. Таким образом, в 1997 году Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США дало добро на проведение клинических испытаний AB-180 на людях, поставив жесткое условие – использовать насос исключительно как «последнюю надежду» на спасение. То есть участвовать в испытаниях могли лишь пациенты, которых иначе ждала неминуемая смерть.
Первый прототип вращающегося кровяного насоса был создан за пять лет. Он получил лучшие рекомендации, но использовать его разрешалось только в тех случаях, когда пациенту больше не на что было рассчитывать.
В феврале 1998 года меня пригласили в Вашингтон на конференцию кардиологов, чтобы я прочитал доклад о случаях Абеля и Ральфа. Там я и познакомился с Ричардом Кларком: ему давно пророчили выход на пенсию, но он отказывался расставаться с кардиохирургией – в конце концов, он ею жил. За ужином он показал мне AB-180 и попросил меня взять к себе на год научным сотрудником. Я был польщен и предложил привезти насос с собой. Седьмого августа того же года Ричард вместе с женой прилетел в Оксфорд. Для него контраст с привычным окружением был разительный: дремлющие шпили вместе небоскребов, Национальная служба здравоохранения Великобритании вместо системы здравоохранения с самым большим финансированием в мире. Вплоть до того момента не было случаев успешного применения AB-180 у пациентов: три отважные попытки спасти от смерти больных в состоянии шока не увенчались успехом – и все шло к тому, что клинические испытания прибора в США скоро будут остановлены.
* * *
Два часа ночи, девятое августа 1998 года. Меня разбудил телефонный звонок, что было довольно странно, так как в ту ночь дежурил не я. Звонила кардиолог из Мидлсекской больницы в Лондоне. У нее была пациентка по имени Джули (двадцать один год, учитель-практикант), которая на лето уехала домой к родителям в Суррей. Изначально девушка жаловалась на гриппоподобные симптомы. Прошло несколько дней, и развились сильнейшая усталость, апатия и одышка, пациентка потела, но оставалась холодной, и у нее не вырабатывалась моча. Фактически она умирала.
В окружной больнице поняли, что дело плохо, и спешно направили Джули в лондонскую клинику, где УЗИ показало, что сердце сокращается слишком вяло. У нее диагностировали вирусный миокардит – заболевание вроде обычной простуды, но только затрагивающее сердце и с потенциальным фатальным исходом. Из-за воспалительного процесса и скопления жидкости сердце Джули функционировало плохо, и монитор сердечного выброса подтвердил слабый кровоток в организме: сердце перекачивало как минимум в три раза меньше крови, чем нужно. Девушка, которая всего неделю назад была абсолютно здорова, оказалась в отчаянном положении.
Кардиолог положила Джули в отделение кардиореанимации, чтобы подключить к так называемому баллон-насосу. Он представляет собой нечто вроде латексного воздушного шарика в форме сосиски, который крепится через катетер к внешнему воздушному компрессору. В катетер из артерии в ноге подается кровь, которая затем поступает в аорту через центральный катетер, и баллон наполняется воздухом, когда сердечная мышца расслабляется. Это позволяет повысить артериальное давление и несколько снизить энергозатраты сердца, но для эффективной работы такой системы требуется наличие хотя бы минимального давления и кровотока. Джули этот баллон-насос не принес никакого толка – он лишь нарушил кровоснабжение ноги. Та уже посинела (в мышцах накапливалась молочная кислота), и к моменту, когда мне позвонили, величина систолического давления у Джули составляла 60 миллиметров ртутного столба – ровно в два раза ниже нормы.
Меня сочли последней надеждой, и кардиолог из Мидлсекса решила узнать, можно ли хоть что-нибудь предпринять, чтобы спасти девушку.
– Может, у вас есть прибор, который мог бы помочь? – спросила она, заверив меня, что мы можем попробовать что угодно, так как шокированные случившимся родители Джули и ее младшая сестра уже с ней простились.
Для них Джули умерла уже тогда, когда ее погрузили в наркоз, чтобы подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Обычно вентиляция легких и баллон-насос были последним средством, но Джули они не помогли, и ее давление неумолимо падало.
Порой, когда тебя будят ни свет ни заря, так и подмывает ответить: «Простите, но я сегодня не на дежурстве. Вечером я выпил пивка и никак не могу вам помочь».
Большинство пациентов с вирусным миокардитом рано или поздно поправляются. Как и при гриппе, действие вируса со временем проходит, и сердце выздоравливает, однако с Джули этого не произошло. Смертоносные биохимические процессы в ее крови зашли слишком далеко, и функцию сердца было уже не восстановить – развилась острая сердечная недостаточность, которая неизбежно заканчивается смертью.
Если честно, я точно не помню, что сказал той ночью, но наверняка что-нибудь в духе: «Как можно скорее доставьте ее в Оксфорд. Я соберу всех для операции».
Итак, посреди ночи «Скорая» доставила Джули из Лондона в Оксфорд вместе с врачами, медсестрами и кучей оборудования. Я позвонил Ричарду Кларку, который тут же при-мчался, обрадовавшись возможности так быстро приступить к делу. Ассистировать нам должен был усердный Такахиро Кацумата – мой верный помощник родом из Японии.
Мы встретили Джули и ее свиту, спешно преодолевших без малого сотню миль, в отделении неотложной помощи. К этому времени у пациентки отказали почки и печень, а ее давление упало почти до нуля. У нас не оставалось другого выбора, кроме как срочно отправить ее в операционную. Одной ногой она уже была в могиле. Ее родители еще не приехали: даже в столь ранний час выехать из Лондона не так-то просто.
Я был из тех амбициозных врачей, которые не позволят пациенту умереть только из-за бюрократических тонкостей.
В своих последующих публикациях СМИ ошиблись в одном. Сообщалось, что наш больничный комитет по этике разрешил мне воспользоваться AB-180, но, к несчастью, это было не так. Более того, никто, кроме меня и Кларка, не догадывался, что в нашем распоряжении имелся такой прибор, и никто из нас двоих не мог представить, что он так быстро пригодится. Вплоть до того момента показатель смертности у AB-180 равнялся ста процентам, а это, мягко говоря, немало. Однако я не из тех врачей, которые готовы позволить молодому пациенту умереть из-за бюрократических тонкостей.
Повезло, что Брайан, наш перфузиолог, уже подготовил к работе аппарат искусственного кровообращения. Сопровождавшие Джули реаниматологи были уверены, что опоздали; когда я прикоснулся к ее ноге, мне тоже показалось, что девушка умерла. Она была белой и холодной, ее вены выглядели пустыми, а ступни посинели. Хотя она почти ничего не весила, перемещать ее на каталке в ускоренном темпе оказалось непросто: все капельницы, аппарат искусственной вентиляции легких и баллон-насос следовало передвигать осторожно, чтобы ничего не отсоединилось. Вдвоем с Кацуматой мы переложили Джули на операционный стол, а сестра Линда, обработав антисептиком руки и надев перчатки, принялась за дело.
Доун, вторая медсестра, разрезала белую больничную сорочку Джули. Мочевой катетер зацепился за аппаратуру и растянулся, словно резинка на рогатке, – только надутый баллон в мочевом пузыре удерживал его на месте. Доун все поправила. Я сказал Линде нанести антисептический раствор на кожу и накрыть пациентку простынями. Мы с Кацуматой торопливо вымыли руки: что сейчас было важнее – жизнь девушки или стерильность? Майк, наш анестезиолог, судорожно пытался разобраться с многочисленными трубками и лекарствами, ему помогал анестезиолог, приехавший вместе с Джули, у которого имелся ключ к разгадке. На самом деле было почти не важно, что именно налили в капельницы: ей уже ничто не помогало. Я попросил Майка сфокусировать свет операционных ламп на груди Джули и схватился за скальпель.
Лезвие мгновенно уткнулось в кость. Про электрокоагулятор можно было забыть: он был нам не нужен. Кровообращение Джули остановилось, поэтому о кровотечении не могло быть и речи, а сердце билось чудовищно медленно. Я прошелся пилой по грудине – опять-таки, никаких брызг костного мозга. Мы вставили ретрактор и поспешно вскрыли ножницами околосердечную сумку. Майк заметил, что на ЭКГ сердечная активность замедлилась почти до нуля, но я и без него все прекрасно понял по распухшему, пораженному вирусом сердцу. Оно жалобно сжималось, напоминая детскую игрушку с садящейся батарейкой – оловянного солдатика, который все медленнее и медленнее бьет в барабан, пока его рука не замирает в воздухе. Конец.
Пока сердце Джули останавливалось, я продолжал трудиться. Я наложил кисетные швы на аорту и правое предсердие, чтобы закрепить трубки аппарата искусственного кровообращения. Аорта была мягкой, давление в ней отсутствовало, а правое предсердие вздулось от скопившейся крови, словно собиралось вот-вот лопнуть. Из каждого шва сочилась лишенная кислорода темно-фиолетовая кровь. К легким кровь почти не поступала, и к этому времени я начал сомневаться, что Джули в принципе можно спасти.
Даже когда сердце пациента останавливается, хирург продолжает бороться за жизнь оперируемого до последней минуты.
Работая как по нотам и не произнося ни слова, мы вставили канюли, чтобы подсоединить АИК. После каждого важного шага я брал в руку обессилевшие желудочки сердца Джули и принимался ритмично, с силой их сдавливать, как будто выжимал сок из грейпфрута, – такой вид прямого массажа сердца должен был поддерживать некое подобие кровотока в мозге и коронарных артериях. Только это и имело значение. К черту кишки и прочие потроха – лишь бы поддерживать жизнь в мозге и в сердце с помощью кислорода, оставшегося в липкой крови.
Кацумата, человек немногословный, пробурчал:
– Только не надо про войну[24].
Я дал Брайану отмашку запускать АИК еще до того, как подсоединили венозную дренажную трубку, и почти черная кровь лениво потекла по трубкам. В спешке мы не удалили воздух из дренажной трубки, ведущей к правому предсердию, но в этом не было особой проблемы. Мы приподняли трубку, из-за чего воздух переместился вверх, а затем, когда трубку опустили на операционный стол, весь воздух вышел в резервуар.
Когда еще недавно пустое сердце начало стабильно биться, получая кровь от аппарата, в операционной воцарился покой. Уровень кислорода в крови быстро повысился, и черная кровь снова стала красной, избавившись от скопившейся молочной кислоты. Джули была в безопасности – если, конечно, мозг не пострадал. Еще бы чуть-чуть – и было бы точно поздно.
Я повернулся к Ричарду.
– Как будем ставить эту штуку?
Все выглядело элементарно. У прибора имелась впускная трубка, показавшаяся мне слишком жесткой. Ее предполагалось вставить в левое предсердие, чтобы направлять насыщенную кислородом кровь, поступившую из легких, в центробежный насос. Он станет новым левым желудочком. Был тут и сосудистый имплантат, через который кровь возвращалась в аорту, чтобы оттуда разносить кислород по всему организму. Куда уж проще. Сам прибор разместится в правой части грудной клетки между легкими и сердцем. Он заменит левую часть ослабевшего сердца Джули, и ее мозг, а заодно и остальной организм будут спасены. Что ж, за работу.
Ричард протянул сестре Линде стерильный прибор. Я задумался над тем, как лучше всего вставить негнущуюся впускную трубку в небольшую тонкостенную камеру предсердия. Место введения трубки должно долгое время оставаться герметичным, и я решил пришить к левому предсердию кусочек человеческой аорты. Это добавит немного гибкости точке ввода канюли, да и после ее удаления не осталось бы огромной дыры в сердце. Эта простейшая уловка могла стать решающим фактором в успехе операции – возможно, именно от нее зависело, жить Джули или умереть.
Мы хранили донорские сердечные клапаны и кусочки кровеносных сосудов в холодильнике операционной для неотложных случаев, а сбором донорских органов и обрезков из секционного зала занималась специальная бригада. Эти законсервированные кусочки человеческой плоти были незаменимы в случае операций при врожденных пороках (нам частенько приходилось восстанавливать детские сердца).
Доун нашла в холодильнике подходящий отрезок аорты. Я осторожно пришил его к левому предсердию Джули и вставил в него впускную канюлю. Я словно собирал по частям хитроумный механизм с одного из рисунков Хита Робинсона[25], на ходу додумывая детали. Затем осторожными тугими стежками, исключающими протекание крови, я пришил выпускную трубку сосудистого имплантата AB-180 к аорте с помощью бокового зажима. Оставался последний штрих – вывести наружу совмещенный с кабелем питания смазочный канал через отверстие в верхней части брюшной стенки. Все выглядело так, будто мы подключаем андроида. Я передал провода Ричарду, и он подсоединил их к аккумулятору.
Итак, благодаря АИК ток крови стабилизировался и сердце Джули снова забилось. И все же оно оставалось слабым. Я решил поддерживать кровообращение еще полчаса, прежде чем переключаться на AB-180: хотя насос и должен был взять на себя функцию воспаленного, отекшего левого желудочка, правому желудочку предстоит справляться со своей работой самостоятельно. По мере того как кровообращение восстанавливалось, разрезы на теле начали кровоточить. Вдобавок температура умирающего организма была понижена, а сейчас за счет теплообмена в АИК она вновь повышалась.
На меня накатила усталость, хотелось поскорее со всем разделаться. Я попросил Майка снова приступить к вентиляции легких, а Брайану сказал оставить в сердце немного крови. Прежде чем переключиться на AB-180, нужно было наполнить сердце Джули кровью, иначе насос втянул бы в себя сердечную мышцу и засорился бы. Требовалось незаметно перейти с одного аппарата на другой. Но как? Я попросил Брайана выключить АИК. Он так и сделал, и стало понято, что от сердца Джули толку действительно никакого.
Затем я попросил Ричарда включить AB-180 и постепенно увеличить объем перекачиваемой насосом крови до пяти литров в минуту (эквивалент нормального сердечного выброса). Крайне взволнованный, он щелкнул выключателем и запустил прибор. Насос мгновенно пришел в движение. Теперь по телу Джули циркулировала ярко-красная кровь.
На кардиомониторе не было и следа кровяного давления: ни систолы, ни диастолы – одна лишь сплошная линия, потому что кровь из-за центробежного насоса текла непрерывным потоком. Сработает ли это? Ответ нам предстояло узнать в предстоящие несколько дней. Вплоть до того дня уровень смертности среди людей с вживленным агрегатом равнялся ста процентам. Вместе с тем, судя по взятым образцам крови, прибор все делал как надо. Биохимический состав крови соответствовал норме. Более того, трубка из человеческой аорты тоже прекрасно выполняла свою функцию. Вокруг этой невероятной впускной трубки не было кровотечения, а именно в нем и заключалась основная проблема в случае с тремя американскими пациентами. Турбина насоса вращалась со скоростью 4000 оборотов в минуту, а объем перекачиваемой им крови даже превышал нормальный сердечный выброс. Сам насос уютно расположился над правой частью диафрагмы Джули.
Нам удавалось поддерживать в ней жизнь.
Майка немного тревожила прямая линия на кардиомониторе, и он попросил Брайана еще разок включить баллон-насос. На мониторе промелькнул слабый импульс, но на кровоток он никак не повлиял. Что ж, пульс сейчас был гораздо менее важен, чем нормальный кровоток.
По тем временам это было полным откровением. Систола и диастола всегда считались чрезвычайно важными, и их требовалось постоянно измерять. А если давление падало, его нужно было тут же повысить. Однако с прямоточным насосом все обстояло по-другому. Чем ниже было давление, тем легче ему было работать. Когда же давление поднималось, подача насоса падала. Это противоречило привычной логике, и нам еще предстояло к этому привыкнуть.
Каждая клетка нашего тела нуждается в насыщенной кислородом крови, несущей в себе глюкозу, белки, жиры, витамины и минералы, и не имело значения, пульсирует она при этом или просто течет. Главное, чтобы было кровообращение.
Было почти восемь утра, и солнце ярко освещало дремлющие шпили. Я оставил Кацумату закрывать грудную клетку и отправился предупредить персонал отделения интенсивной терапии о том, что скоро к ним поступит пациентка. Я сказал, что в следующие двенадцать часов – критический период для Джули – у нее не будет пульса, а среднее значение кровяного давления 70 миллиметров ртутного столба совершенно нас устроит. Почки отказали, так что в течение нескольких дней понадобится делать диализ. Кроме того, кожа девушки слегка пожелтела, поскольку печени тоже пришлось несладко. Фактически, к моменту, когда примчалась «Скорая» из Лондона, в соответствии с большинством критериев Джули была мертва. Теперь же мы надеялись, что она будет жить. Неплохо, да?
Дезире Робсон, старшая медсестра, поинтересовалась, говорил ли я уже с близкими пациентки. Они сидели в комнате для родственников: мама, папа и младшая сестренка, измотанные после ночного переезда по югу Англии. Встретили их тепло и то и дело подливали чаю, но они все равно ожидали дурных вестей.
– Идите и расскажите им, что творится, – приказным тоном велела мне сестра. – Праздновать будем потом.
А я не знал, что им сообщить. Как вам, например, такое: «Вашу драгоценную дочурку привезли слишком поздно. Мы думали, что она умерла, несмотря на вентиляцию легких и баллон-насос, но все-таки решились поставить ей нелицензированный американский прибор, прежде показавший себя совершенно бесполезным. По сути, мы вернули ее из мертвых. Если, конечно, ее мозг все еще работает». Так звучала горькая правда.
Я зашел в унылую комнату ожидания, где часы неизменно показывали пять. Три опущенные головы, ладони на коленях. Все одновременно подняли на меня глаза, и по взглядам стало понятно: хотя родные Джули и не имеют представления о том, кто я такой, они знают, что я пришел сообщить им плохие новости. А потом они заметили мое выражение лица. Под подбородком у меня болталась маска, а ботинки были залиты кровью, но выглядел я довольным: на моем лице отсутствовало то льстивое натянутое сочувствие, которое свойственно врачам, когда те собираются сообщить плохие новости. Джули была по-прежнему жива – чем не чудо науки?
Я не стал вдаваться в подробности и объяснять, что мы использовали новый, еще толком не испробованный прибор, который прежде никому не смог помочь. Медсестра реанимационного отделения, приставленная к Джули, подкралась ко мне сзади – как раз вовремя – чтобы послушать, что я собираюсь сказать. Дело в том, что медсестры ненавидят, когда я предполагаю, что все будет хорошо. Они хотят, чтобы я с серьезным видом рассказывал близким о критическом после-операционном периоде – на случай, если что-то пойдет не так. Им не нравится чувствовать на себе слишком большой груз ответственности.
Итак, я сказал родным Джули только то, что использованный насос поддерживает в ней жизнь и что нам очень повезло. Насос прибыл из Штатов всего за два дня до операции, и мы распаковали его, когда Джули уже подключили к аппарату искусственного кровообращения.
– Каковы ее шансы? – спросила мать Джули.
Мы надеялись, что прибор поможет девушке дожить до пересадки сердца, – так я ответил. Мы не были трансплантационным центром, но я собирался обо всем договориться. И вряд ли стоило упоминать, что через три дня меня ждали в Японии.
На этом я покинул комнату ожидания. Мне сказали, что Майк и Кацумата уже закончили и что родители вскоре смогут увидеть Джули. Хотя для них зрелище будет печальное: к миниатюрному телу вело множество трубок и было подключено всевозможное оборудование. Но это всяко лучше, чем видеть дочь – мертвенно-бледную, с размякшими холодными руками и синяками на губах от трахеальной трубки – на столе в морге. По своему опыту я знал: все что угодно было предпочтительней.
Пришла сестра Дезире, чтобы все подготовить: распутать трубки капельниц, подключить аппаратуру, настроить мониторы. Сделать все идеально. К обеду Дезире и Кацумате предстояло стать экспертами по AB-180, пока же им нужно было лишь привыкнуть присматривать за девушкой, у которой отсутствовал пульс. Я не был им нужен, что меня совершенно устраивало. Мой мобильный зазвонил. Сигнал был слабый, но смысл я уловил: главврач вызывал меня к себе.
Вполне предсказуемо. Я знал, что меня зовут не попить кофе. Главврачи для остальных больничных врачей все равно что офицеры Штази[26]. Проще говоря, их основная задача – следить за тем, чтобы никто не вздумал сделать что-нибудь новое или интересное. Ничего такого, что могло бы подпортить репутацию больницы. А у меня, как любят говорить на судебных заседаниях, уже были приводы. Да, я всегда был безответственным и ненадежным человеком.
Лицо главврача было пунцовым от злости. Как я посмел использовать прибор, который не был никем одобрен? Кто еще об это знал? Замешан ли здесь комитет по этике? Какого черта я вздумал сохранить девушке жизнь? Ничего такого он прямо не сказал, но суть его претензий я уловил.
Основная задача главврачей – следить за тем, чтобы никто из докторов не вздумал сделать что-нибудь новое или интересное.
Я не оправдывался. Я сидел в операционной одежде, испачканной кровью, и думал: «Какой же ерундой ты маешься». Пришло время разыграть предсказуемую карту. Я заявил, что мне некогда распивать чаи и нужно вернуться к пациенту. Напоследок он пригрозил:
– Еще хоть раз выкинете что-нибудь подобное, и вас отсюда вышвырнут.
Мне вспомнилось, как в детстве родители угрожали отправить меня в интернат для плохих мальчиков. Это никогда не срабатывало.
Я пошел в палату интенсивной терапии. Близкие Джули сидели у ее кровати, а Дезире рассказывала им обо всех механизмах, что поддерживали в девушке жизнь: об аппарате искусственной вентиляции легких, о баллон-насосе, о консоли AB-180, об инфузионных насосах и об электроодеяле. На самом деле все просто. Кроме того, Джули подключили к аппарату для диализа, чтобы тот временно заменил неработающие почки. Было утро, и вот-вот должны были начаться запланированные на тот день операции. Я сказал, что готов оперировать первого пациента – недоношенного младенца с огромной дырой в сердце; родители сильно за него переживали.
В перерывах между операциями я возвращался к Джули. За столпившимися врачами я не мог разглядеть ее кровать. Один из коллег-кардиологов попытался с помощью УЗИ сделать четкий снимок сердца Джули, сведя к минимуму помехи от насоса, и это вызвало огромный интерес. Мышца желудочка обмякла и отдыхала, ничего не делая, и лишь ее небольшие подергивания свидетельствовали о том, что электрическая активность не пропала. Прямая линия на кардиомониторе раздражала кое-кого из медперсонала.
Ближе к вечеру состояние Джули оставалось стабильным, толпа рассосалась. Поскольку левый желудочек был пустым, а артериальное давление – низким, баллон-насос оказался бесполезен. Более того, он частично закупоривал артерию в ноге Джули и открывал еще один потенциальный путь бактериям в организм. Я настоял, чтобы его убрали. Кацумата жил на территории больничного комплекса, а сестра Дезире – всего в паре кварталов отсюда. Они пообещали, что присмотрят за Джули, и я отправился на ночь домой, подальше от этого дурдома.
Джули, очнувшаяся рано утром, выглядела напуганной и возбужденной. Она не имела ни малейшего представления о том, где находится и почему из каждого отверстия в ее теле торчат трубки. Кроме того, ее мучили сильные боли, и пришлось дать ей успокоительное. Не слишком много, чтобы давление не упало окончательно. Немного барбитурата в капельницу, и Джули вновь погрузилась в небытие – пожалуй, в данных обстоятельствах лучшего варианта и не приду-маешь.
Я разместил стетоскоп поверх грудины и услышал непрерывное громкое жужжание турбины (она по-прежнему была настроена на 4000 оборотов в минуту), перекачивавшей пять литров крови в минуту – столько же проходит за это время и через здоровое человеческое сердце. Мало кто из людей, находившихся возле кровати Джули, в палате интенсивной терапии, в больнице, в Оксфорде – даже во всей стране – осознавал, насколько значимым было это событие. Кровообращение без пульса помогло восстановить функции внутренних органов пациентки: мозга, почек, а затем и печени. Создатели технологии искусственного сердца отрицали, что такое возможно, заявляя, что кровяные насосы непременно должны пульсировать, и списывая три предыдущие неудачи с AB-180 именно на это.
Так чем же важно было это открытие и почему меня охватило радостное волнение? Если кровоток без пульса прекрасно справлялся с задачей в качестве временного решения, то новое «сердце Джарвика», по идее, должно было успешно работать и при установке на постоянной основе.
В семь утра меня вызвали к телефону на сестринском посту: со мной хотел поговорить кто-то с американским акцентом (имени им не сказали). Это был Джордж Маговерн – человек, который положил начало разработке AB-180. Он звонил из Питтсбурга – там было далеко за полночь. Ричард уже связался с ним, но он хотел поблагодарить меня лично. Его инженеры все еще праздновали это событие; они передавали Джули наилучшие пожелания и выражали надежду, что мы сможем продержаться до тех пор, пока не раздобудем донорское сердце. Я ответил, что постараемся. Вот она – та самая поддержка, в которой я так нуждался и которая помогла мне закрыть глаза на скептиков. А заодно и на главврача.
На следующий день мы отключили АИК и достали трахеальную трубку. Удивительно, но с мозгом Джули, судя по всему, все было в норме. Она могла поддерживать разговор с родителями, а в мочеприемнике что-то плескалось. Я перевел взгляд на прямую линию на кардиомониторе и заметил кое-что любопытное. Регулярный сердечный ритм сменился беспорядочным мерцанием предсердий. Само по себе это было обычным явлением, но после длительной паузы вслед за нерегулярными сокращениями на мониторе наблюдался отчетливый всплеск: сердце начало выбрасывать кровь, когда у него появлялась возможность хоть немного наполниться.
Я ничего не сказал, но начал подозревать, что состояние сердца Джули улучшалось. В большинстве случаев медикаментозное лечение помогает больным вирусным миокардитом, и они выздоравливают, не достигая стадии шока. Тогда зачем же делать Джули пересадку сердца, если ее собственное сердце набиралось сил? Просто потому, что так принято при острой сердечной недостаточности? Я предложил ввести девушке дозу стероидов, чтобы снять воспаление в сердечной мышце. То еще колдовство, но она как минимум будет чувствовать себя не так паршиво.
Теперь мне предстояло принять очень сложное решение. Была среда. По чьему-то нелепому недосмотру у меня оказалось запланировано выступление на конференции в Японии в пятницу, а затем еще одно в субботу, только уже в Южной Африке. Как вообще можно было такое запланировать? Даты были записаны в ежедневнике так, словно речь шла о Лондоне и Бирмингеме. Однако при желании я теоретически мог успеть в оба места. Вопрос состоял не в том, куда ехать, а в том, следует ли мне в принципе ехать куда-либо. Из-за разницы во времени я даже не мог толком подсчитать, как долго меня не будет в Оксфорде. С другой стороны, незаменимых людей нет, на мою команду можно положиться, а состояние Джули стабилизировалось. Таким образом, я решил все же поехать.
Накануне отъезда я собрал Кацумату, Ричарда, Дезире и всех врачей из отделения интенсивной терапии, чтобы составить план на время моего отсутствия. Все выглядело много-обещающе: функции почек и печени Джули восстанавливались, на осциллограмме артериального давления отмечались регулярные всплески, а ее сердце, судя по ЭКГ, сокращалось все лучше и лучше. Насос справлялся со своими обязанностями. Наш план заключался в том, чтобы поддерживать Джули в стабильном состоянии и дать ее организму возможность постепенно восстановиться. Для этого требовались крепкие нервы.
Спустя несколько дней я получил сообщение, которого так боялся. В субботу, включив телефон по прилете в Йоханнесбург, я увидел тревожную СМС от Кацуматы. У Джули началось желудочное кровотечение – распространенная реакция организма на стресс, усугубляемая антикоагулянтами, которые давали Джули, чтобы насос работал без проблем. Но. Было одно большое «но». Сердце девушки на эхокардиограмме выглядело сейчас значительно лучше. Когда насос выключали, левый желудочек обеспечивал практически нормальное давление. Я заподозрил, что стероиды, которые помогли сердцу, вызвали кровотечение в желудке. Нужно было обсудить ситуацию.
Я послал Кацумате ответное сообщение: «Сейчас в Южной Африке. Позвоните мне».
Вскоре раздался звонок.
– Как там в Японии? – спросил Кацумата.
– Отлично. Только не надо про войну, – ответил я, а потом добил его: – Продолжайте пока что давать ей антикоагулянт. На час снизьте обороты насоса до тысячи в минуту. Если сердце будет по-прежнему нормально работать, убирайте насос.
В трубке повисла тишина. Готов поклясться, я чувствовал всю глубину недоумения, которое испытывал Кацумата. Наконец я прервал затянувшуюся паузу:
– Да ладно, Кацу. У вас с Ричардом все получится. Вытащите эту хреновину, и все.
Кацумата звонил мне из Оксфорда ранним утром в субботу. Они вместе с Ричардом вернулись к кровати пациентки и назначили еще одну эхокардиографию. Когда мощность насоса снизилась, левый желудочек начал набирать и выталкивать больше крови. Они спросили Джули, не изменилось ли ее самочувствие, и та ответила, что чувствует себя хорошо. Все, чего ей хотелось, – чтобы насос поскорее удалили. Одышка исчезла, а давление, судя по осциллограмме на экране, пришло в норму. Ричард знал, что чем ниже скорость насоса, тем выше риск образования тромба в его камере или в сосудистом имплантате.
Дезире, начавшая делать переливание крови, спросила, что я сказал по телефону.
– Он сказал убрать насос и не вспоминать про войну, – произнес Кацумата с дрожью в голосе. – И еще кое-что. Сообщить главврачу только после того, как вытащим насос. Мы же не хотим, чтобы его удар хватил.
– Тогда лучше предупредить операционную бригаду и начать подготовку, – ответила Дезире.
Ричард и Кацумата объяснили Джули и ее родителям, каков риск. Если сердце успело восстановиться, но девушка умрет от кровотечения в желудке, это будет катастрофа. Даже Ричард, несмотря на большой опыт в Вашингтоне, не на шутку волновался. Для него ставки были слишком высоки: впервые он и AB-180 настолько приблизились к успеху. Тем не менее жизнь пациентки была превыше всего.
Итак, Джули доставили в операционную через семь дней после вживления насоса. Забавно: именно столько времени обычно требуется, чтобы излечиться от вирусного заболевания. У Ричарда не было разрешения оперировать в нашей больнице, так что ему пришлось просто наблюдать за происходящим, хотя при возникновения проблемы он обязательно подключился бы. Полный сдержанного оптимизма и надежды на успех, он не имел ничего против.
На пороге сенсационного открытия в кардиохирургии на первом месте все равно остается жизнь пациента, а не успех компании.
Сердце Джули выглядело хорошо: отек прошел, давление стабилизировалось, и требовалась лишь незначительная медикаментозная поддержка. На всякий случай у хирургов имелся под рукой баллон-насос, но Джули он не был нужен. Кацумата протер всю грудную клетку теплым физраствором, тщательно удаляя запекшуюся кровь из грудной полости и околосердечной сумки. Он вставил чистую дренажную трубку, а затем крепко стянул грудину проволокой. Теперь уже раз и навсегда.
Очень важно было не сбавлять обороты. Джули быстро пришла в себя и чувствовала себя гораздо лучше, когда ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Позже тем же вечером убрали и трубку из трахеи. Несмотря на то что смена Дезире давно подошла к концу, она осталась с Джули, чтобы напоминать той глубоко дышать и кашлять, несмотря на боль. Антикоагулянты отменили, и вскоре кровотечение, начавшееся из-за поверхностного повреждения желудка, остановилось.
У нас получилось. Мы спасли сердце Джули.
Когда Кацумата позвонил мне, чтобы поделиться новостями, я, выступив на конференции, стоял в аэропорту Йоханнесбурга, готовый лететь домой. Он меня успокоил, и мне захотелось отпраздновать победу. Ричард позвонил Джорджу Маговерну в Питтсбург и поделился радостной вестью с ним и его коллегами. Но вряд ли кто-то радовался больше, чем близкие Джули, которые почти простились с ней. Им теперь не нужно было проливать горькие слезы и планировать похороны. Совсем скоро они заберут Джули домой, и Оксфорд станет для них лишь мрачным воспоминанием.
* * *
Еще в 1990-х годах в США устанавливали системы поддержки левого желудочка только тем пациентам, которые могли рассчитывать на пересадку сердца. Что же касается остальных стран, то доступ к этой технологии имелся лишь в немногих из них. В случае с Джули нам удалось добиться полного выздоровления, избавив ее от необходимости делать пересадку сердца. Подобные операции никогда раньше не проводились в Великобритании, однако «мостик к выздоровлению» – наша стратегия «Сохрани свое сердце» – вскоре стал общепринятым методом лечения при вирусном миокардите в критической стадии. Я этим гордился.
Перед Рождеством 1998 года доктор Маговерн организовал торжество, на которое пригласил инженеров и исследователей из Питтсбурга, работавших над AB-180. Никто не знал, по какому поводу проводится мероприятие, пока в дверях не появилась Джули в сопровождении младшей сестры. «Девушку без пульса» тут же узнали по фотографиям, которые висели повсюду на информационных стендах после революционной операции: лицу Джули суждено было украсить первые полосы газет. На мгновение все замерли, не веря своим глазам, а затем раздались бурные аплодисменты. Джордж пожал девушке руку, и она залилась краской.
– Твое присутствие здесь – лучший рождественский подарок, который каждый из нас мог получить, – сказал он.
Он был прав. Его компания устояла на ногах и начала процветать. AB-180 в итоге модифицировали, чтобы для его применения не требовалось вскрывать грудную клетку. Новый прибор, получивший название Tandem Heart, сегодня используется по всему миру для помощи пациентам в шоковом состоянии.
Прошло почти двадцать лет, и Джули, которая сейчас работает в больнице, по-прежнему в добром здравии. Я каждый год с нетерпением жду открытку на Рождество от ее семьи. Здоровья ей еще на долгие годы.
8. Черный банан
Мы не сдадимся никогда.
Уинстон Черчилль, речь во время «Битвы за Британию», 1940Понедельник, 15 января 1999 года, на часах 3:45. Никто не звонит по ночам с хорошими новостями. Я пробыл в Австралии всего тринадцать часов, потратив двадцать четыре часа на перелет. В кромешной темноте я перекатился на другой край кровати и, попытавшись дотянуться до телефонной трубки, скинул ее на пол. Звонок прервался. Я моментально погрузился в сон: спасибо таблеткам с мелатонином и выпитой за ужином бутылке мерло. Десять минут спустя телефон снова зазвонил. На этот раз я справился с трубкой, несмотря на раздражение.
Я отчетливо представил напуганных родителей, которые отчаянно хотели спасти малышку, пока еще не поздно, и дежурящих у кроватки двух бабушек и двоих дедушек, которые желали помочь, но лишь заражали всех своей тревогой.
– Уэстаби? Это Арчер. Где ты?
Ник Арчер работал старшим детским кардиологом в Оксфорде.
– Ник, черт тебя побери, ты прекрасно знаешь, что я в Австралии. И ты разбудил меня посреди гребаной ночи. Что стряслось?
Честно говоря, мне не хотелось, чтобы он отвечал.
– Прости, Стив, но ты нужен нам здесь. У нас тут больной ребенок с АОЛКА. Родители тебя знают и хотят, чтобы оперировал именно ты.
Приехали.
– Когда?
– Как можно скорее. У девочки сердечная недостаточность, и мы с трудом поддерживаем ее в стабильном состоянии. С желудочком беда.
Продолжать разговор не было смысла.
– Хорошо, прилечу сегодня. Сообщи моей команде, что операция назначена на завтра. Какой там у вас будет день недели?
* * *
В Южном полушарии лето было в разгаре, и солнечный свет уже начал проникать через шторы. Я даже не пытался снова уснуть: бессмысленно. Раздвинув шторы, я вышел на балкон, чтобы полюбоваться, пожалуй, лучшим городским пейзажем в мире. На противоположном берегу гавани первые лучи восходящего солнца отбрасывали тусклые тени на здание оперного театра. Внизу, в гавани, на мачтах реяли флаги, а справа от меня в розовом зареве утреннего неба сверкали белые городские огни. Тишину нарушил рев «Харлей-Дэвидсона». Возможно, какой-то хирург мчался в Сидней на работу.
В Оксфорде тем временем маленькая семья очутилась в эпицентре настоящей трагедии. Кирсти была чудесной полугодовалой девочкой, в организме которой по воле судьбы был взведен механизм самоуничтожения – крошечный дефект, обрекавший ее на смерть еще до первого дня рождения. АОЛКА (сокращение от «аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии») – крайне редкая врожденная патология.
Проще говоря, неправильное подсоединение артерий. Обе коронарные артерии должны выходить из аорты и снабжать сердечную мышцу насыщенной кислородом кровью под высоким давлением. Они ни в коем случае не должны присоединяться к легочным артериям: из-за этого снижается давление и одновременно уменьшается концентрация кислорода в крови, питающей сердце. Выживание новорожденного с АОЛКА зависит от образования новых «коллатеральных» кровеносных сосудов между нормальной правой коронарной артерией и смещенной левой коронарной артерией. Однако в конечном счете и их оказывается недостаточно для кровоснабжения левого желудочка. Клетки мышечной ткани, лишенные кислорода, погибают и заменяются рубцовой тканью, из-за чего ребенок страдает от многократных болезненных сердечных приступов. Рубцы растягиваются, левый желудочек увеличивается в размере, сердце постепенно отказывает, а в легких скапливается кровь, что вызывает сильную одышку и истощение. Даже во время кормления.
Таким образом, в шесть месяцев от роду у Кирсти возникла та же проблема, что и у моего дедушки, – сердечная недостаточность как следствие финальной стадии ишемической болезни сердца. Поскольку АОЛКА встречается исключительно редко, диагноз чаще всего ставят уже тогда, когда ребенка не спасти. К счастью, у Кирсти были очень умные родители: они поняли, что у их дочки серьезная проблема, и настойчиво пытались добиться помощи.
История Кирсти казалась мне особенно душераздирающей. У ее матери Бекки уже был трехлетний сын, и ее можно было назвать опытной и ответственной мамой. Она ничем не болела, не курила и не выпила ни капли спиртного за время беременности – в общем, не делала ничего, что могло навредить растущему внутри ее плоду. Она регулярно ходила на осмотры и УЗИ – ничто не предвещало беды. Кирсти появилась на свет 21 августа 1998 года путем запланированного кесарева сечения со спинальной анестезией, и поначалу все шло совершенно нормально. Но это длилось недолго.
Пока плод находится в материнской утробе, давление и уровень кислорода в его аорте и легочной артерии одинаковы, так что до рождения Кирсти ничто не угрожало. Однако после появления ребенка на свет кровообращение в его раскрывшихся легких отделяется от общего кровотока – давление и уровень кислорода в легочной артерии падают. Таким образом, у детей с АОЛКА и кровоток, и уровень насыщения крови кислородом в жизненно важной левой коронарной артерии тоже резко снижаются. Уже в больнице при первых попытках покормить Кирсти грудью девочка начинала кряхтеть, и Бекки заметила, что у нее на переносице выступала испарина. Кормление неизменно вызывало у ребенка беспокойство и доставляло ему явный дискомфорт.
С сыном все было по-другому, поэтому Бекки попросила педиатра осмотреть Кирсти еще раз. Ей сказали, что беспокоиться абсолютно не о чем. Только это и хотят услышать встревоженные родители, но в действительности никто не потрудился узнать, что же не так с младенцем. Такая вот паршивая у нас медицина. В итоге Бекки ничего не оставалось, кроме как забрать свою раздражительную, но от этого не менее драгоценную малышку домой.
Единственное, что хотят услышать родители больного ребенка, что «все будет хорошо», даже если на самом деле это не так.
Миновало несколько недель, и у Бекки не осталось сомнений: у ребенка серьезные проблемы со здоровьем, поскольку каждое кормление сопровождалось сильным потоотделением и рвотой. Кирсти дышала с трудом, сжимала крошечные кулачки и плакала до потери пульса. Мать показывала ее семейному врачу чуть ли не через день, но ей все так же расплывчато и неубедительно повторяли, что беспокоиться не о чем. Каждый такой визит к врачу оставлял неприятный осадок: складывалось впечатление, что у Бекки невроз и она не справляется с материнскими обязанностями.
Несмотря на частое дыхание, температуры у Кирсти не было. Признаки инфекции дыхательных путей отсутствовали, да и живот был мягким, а значит, причина не в непроходимости желудка или кишечника. Все распространенные детские заболевания были исключены. Друзья и родственники предлагали разумные объяснения: вероятно, это колики, и малышке обязательно станет лучше. Между тем Бекки, лишенная поддержки мужа, который работал за границей, все сильнее переживала. Кирсти не набирала вес. Вид у нее был нездоровый и измученный, а ее кашель напоминал собачий лай.
На самом же деле у ребенка раз за разом повторялись сердечные приступы, сопровождавшиеся мучительной болью в груди, на которую Кирсти не то что не могла пожаловаться – она даже не понимала, что происходит. Человеческий организм порой бывает до абсурда жестоким.
Наконец, устроив истерику в кабинете семейного врача, Бекки настояла на том, чтобы Кирсти направили в местную больницу. Дважды малышке делали рентген органов грудной клетки, и оба раза диагностировали бронхиолит – воспаление дыхательных путей.
Однажды во время послеобеденного сна кожа Кирсти посерела. Девочку с трудом удалось разбудить, и выглядела она очень вялой. Запаниковав, Бекки схватила ее и побежала к семейному врачу. Правда, к тому моменту, как он смог их принять, девочка пришла в себя и порозовела. В адрес Бекки снова полетела незаслуженная критика. Ей велели перестать волноваться по пустякам, добавив, что, пока она отнимает у врача время, в очереди ждут дети, которые действительно серьезно больны. Мать с ребенком практически вышвырнули из кабинета, всучив очередной рецепт на антибиотики. Никто так и не обнаружил, что у Кирсти увеличено сердце.
Тревога Бекки сменилась отчаянием. Инстинкты твердили ей, что произойдет нечто ужасное, если не проявить настойчивость, и она поехала в отделение неотложной помощи небольшой районной больницы, где попала на прием к сердобольной женщине-врачу, у которой тоже были дети. Зная по собственному опыту, что материнский инстинкт обычно не подводит, та направила их в более крупную городскую больницу на осмотр к дежурному педиатру.
Вечер выдался ужасно холодным, даже морозным, а Бекки и Кирсти несколько часов просидели в неотапливаемом больничном коридоре. Мать старалась согреть девочку, но та становилась все более вялой и серой. Ближе к ночи их наконец приняли. Младший врач предположил, что у ребенка бронхиолит, и хотел отправить их домой, даже не попытавшись во всем разобраться. Такое ощущение, что кроме бронхиолита эти врачи ни о каких других детских болезнях и не слышали. Бекки была на взводе, но боялась, что ее выдворят прочь, если она начнет возражать.
Чересчур обеспокоенных родителей врачи часто обделяют вниманием, тогда как на самом деле любое беспокойство должно служить призывом к тщательному осмотру ребенка.
Когда она заявила, что не уйдет без рентгена органов грудной клетки, ее отчитали за неблагоразумное поведение: с ее стороны было безрассудством беспокоить страшно занятого в столь поздний час дежурного рентгенолога. Однако в итоге мать с ребенком отправилась в одиночку по плохо освещенным коридорам и обледеневшим дорожкам больничной территории на поиски отделения рентгенологии. Уже давно перевалило за полночь, когда Бекки вернулась и показала медсестре снимок, говоривший сам за себя. А затем опять уселась в коридоре, чтобы ждать.
Прошло еще тридцать минут – и вдруг поведение больничного персонала резко изменилось. Кирсти и Бекки провели в палату, где находилось несколько врачей. Они перешептывались с серьезным выражением лица, туда-сюда сновали медсестры с капельницами и лекарствами. Это пугало больше, чем наплевательское отношение. Сначала недоброжелательная, а теперь смущенная медсестра отвела Бекки в сторонку, чтобы объяснить, что Кирсти переводят в отделение детской кардиологии в Оксфорде. Отвезут на «Скорой». Внезапно девочка оказалась настолько больна, что здешние врачи не в состоянии ей помочь.
Так что же обнаружилось на рентгеновском снимке? Из-за чего всполошилась вся больница? Сердце Кирсти было огромным. Никто так и не удосужился ее толком осмотреть, но на рентгеновской пленке проблема была очевидна.
Позже Бекки спросила у местного персонала: а что насчет снимков, сделанных ранее в этой же больнице? Ей сказали, что перепутали сердечную тень с жидкостью в легких: «Простите, но тут легко ошибиться». Вот тебе и перепутали!
Все было иначе, когда мать с дочерью прибыли в Оксфорд. Ординатор отделения детской кардиологии встретил «Скорую» и отвел их в палату, где лежали дети с серьезными заболеваниями сердца, наперебой пищали мониторы и даже глубокой ночью кипела активность.
Ник Арчер прибыл в три часа ночи. Когда он принялся осматривать Кирсти, его тут же обеспокоила температура ее тела. Несмотря на все усилия Бекки, девочка оставалась ледяной – ее требовалось поместить в инкубатор. Ей быстро сделали ЭКГ и взяли кровь на анализы, после чего принесли аппарат для эхокардиографии, чтобы внимательно изучить камеры сердца. Поначалу все выглядело многообещающе. Все четыре камеры были на месте, и явные щели между ними отсутствовали. Вместе с тем и левый желудочек, и левое предсердие были увеличены, особенно желудочек. Это объясняло сердечную недостаточность, а также шокирующий рентгеновский снимок.
Менее чем за час кардиологи диагностировали у Кирсти острую сердечную недостаточность, ставшую следствием множественных инфарктов. Левый желудочек теперь частично состоял из рубцовой ткани, которая перемежалась с плохо сокращавшейся мышечной тканью, – чрезвычайно редкая проблема для младенцев, но таким был наиболее вероятный диагноз. Чтобы его окончательно подтвердить, нужно было провести еще одну диагностическую процедуру – катетеризацию сердца, но для этого требуется общая анестезия, а состояние ребенка было слишком плохим для наркоза.
Между тем Бекки, истощенная физически и эмоционально, убивалась от горя. Ее муж находился по делам в Штатах, и она ощущала себя страшно одинокой. Она во всем винила себя, и в голову ей лезли дурацкие мысли. Может, она слишком усердно выполняла упражнения во время беременности? Пила слишком много кофе? Чем-то оскорбила Бога? Должна же быть причина всему происходившему! Ее охватило глубокое отчаяние, и вскоре на смену тревоге пришла бурная паника. Она не сомневалась, что потеряет Кирсти.
Некоторые родители видят в болезнях детей свое наказание, задаваясь вопросом: «Чем я мог так оскорбить Бога?»
Над горизонтом медленно взошло холодное зимнее солнце, и Бекки на пару часов отключилась. А когда она проснулась, в палате царило оживление: вокруг было полно доброжелательных и позитивно настроенных людей, которые старались ее заверить, что, хотя все действительно непросто, Кирсти в руках первоклассных профессионалов.
Прошло целых пять недель, прежде чем состояние Кирсти стало достаточно стабильным и удалось провести катетеризацию сердца. Муж Бекки вернулся из Штатов, чтобы разделить с ней горе. Накануне операции Майк, анестезиолог, зашел к ним поговорить. Майк всегда отличался веселым, оптимистичным характером, но на сей раз поводов для улыбок у него было мало. Он предупредил родителей, что сердце Кирсти сильно повреждено и она может не пережить процедуру. Они имели право об этом знать. Тем же вечером больничный священник окрестил девочку прямо в кроватке; вокруг собрались врачи, медсестры и другие семьи, чтобы поддержать несчастных родителей.
Все заранее знали, что покажет катетеризация. Существовала только одна редчайшая патология, способная вызвать множественные инфаркты в первые месяцы жизни и довести младенца до такого состояния, – АОЛКА. Бекки случайно услышала слова «досрочная операция» и надеялась, что речь шла не о пересадке сердца. Вместе с мужем она оставалась у кроватки всю ночь, боясь, что Кирсти может не дожить до рассвета. Наутро парализованная страхом Бекки, которая так и не сомкнула глаз, нарядила дочку в лучшую пижаму и завязала ей бант, перед тем как малышку отвезли в лабораторию катетеризации. Был День святого Валентина – какая ирония судьбы. Позже Бекки мне объяснила:
– Девочка всегда должна быть красивой, даже когда ей нездоровится.
Я сел в самолет, отправлявшийся в Англию, и тут же принялся делать наброски внутреннего строения аорты, легочной артерии и дефектной левой коронарной артерии Кирсти. Общепринятая на тот момент техника проведения операций при АОЛКА имела ряд ограничений и характеризовалась высоким уровнем смертности, поэтому я задался целью за время полета найти какую-нибудь альтернативу. К тому времени, когда мы пролетали над островом Ява, я уже продумал предстоящую операцию. В Австралии я регистрировался на рейс последним из пассажиров, а в Лондоне первым покидал самолет после посадки. Пока я дожидался, чтобы присоединили телескопический трап и открыли двери, старший стюард протянул мне бутылку шампанского, пожелал удачи и прошептал:
– Вы оперировали ребенка моей сестры.
Как тесен мир. Я его поблагодарил.
Добравшись до Оксфорда, я позвонил Кацумате, попросил его привести родителей Кирсти ко мне в кабинет и захватить с собой стандартную форму информированного согласия. Катетеризация сердца показала именно то, что заподозрил Арчер. Кирсти нуждалась в срочной операции.
При нашей первой встрече Бекки выглядела уставшей и осунувшейся. Она сразу догадалась, кто я такой. Ее лицо просияло, когда они с мужем вошли в мой холодный кабинет.
– Мы так рады вас видеть, – сказала она. – Как добрались?
– Хорошо. Тихо-спокойно, – солгал я. – Итак, нам пора браться за дело, правда?
Кацумата где-то раздобыл электрообогреватель, чтобы в помещении стало хоть чуточку теплее, и мы принялись обсуждать операцию. Родители Кристи объяснили, что один их родственник работал представителем фирмы, выпускающей искусственные клапаны сердца, и хорошо меня знал. Кстати, он собирался увидеться со мной на конференции в Австралии. Они выразили сожаление по поводу моей сорвавшейся поездки и огромную благодарность за то, что я вернулся, потому что они не позволили бы никому другому оперировать их малышку. Итак, молодые родители излучали энтузиазм, хотя Бекки не могла унять дрожь: страх одолевал ее. Бедняжка. После долгих томительных недель, проведенных в больнице, наконец пришел день, которого она так боялась, – день, когда она может потерять ребенка.
Обычно я делаю все, чтобы не заразиться беспокойством. Коллегам-анестезиологам в этом отношении сложнее: они присутствуют при мучительном расставании, когда родители вручают им маленького пациента. Я описал своей бригаде, какую операцию запланировал, и объяснил, почему мне кажется, что моя идея гораздо удачнее традиционной методики. Я собирался взять часть стенки аорты, состряпать из нее новую левую коронарную артерию и расположить ее ниже соответствующего участка в легочной артерии, чтобы образовалась трубка, вверху которой будет находиться смещенное начало собственной левой коронарной артерии Кристи. В результате должна была получиться новая коронарная артерия, которая поставляла бы в сердце насыщенную кислородом кровь под большим давлением прямиком из аорты, откуда она изначально и должна была поступать. Богатая кислородом кровь обеспечит необходимую подпитку мышцам отказывающего сердца и предотвратит дальнейшие сердечные приступы. Кацумату предложенный мной подход до того взволновал и заинтриговал, что он побежал собирать больничную съемочную бригаду.
Из-за тяжелой сердечной недостаточности операция была сопряжена со значительным риском. Трясущейся рукой Бекки подписала форму информированного согласия, и я вместе с ней и ее мужем зашел в детскую палату. Состояние Кирсти оказалось хуже, чем я ожидал. Если откровенно, у детей я прежде такого не видел. Она была тощей, практически без подкожного жира, ее ребра с заметным усилием поднимались и опускались, она часто дышала вследствие застоя в легких, а живот раздулся от скопившейся жидкости. Без срочного хирургического вмешательства этот чудесный ребенок не протянул бы и недели. Мысленно выругавшись, вслух я произнес:
– Я в операционную.
Майк вместе с медсестрами активно подготавливал препараты и катетеры в наркозной комнате. Он знал, что к чему, поскольку делал Кирсти наркоз перед катетеризацией сердца, а часть мониторов была по-прежнему подключена.
– Вы правда думаете, что удастся спасти ребенка? – спросил он с ходу.
Ничего не ответив, я принялся дружелюбно здороваться с медсестрами и перфузиологами, находившимися в операционной, а потом ушел в комнату отдыха. Я не хотел становиться свидетелем того, как Бекки оставляет своего ребенка с незнакомыми людьми: это всегда мучительный момент для родителей.
Когда я вернулся, Кирсти лежала на операционном столе, накрытая зелеными хирургическими простынями, которые удерживала на месте липкая пленка. На виду оставались лишь крошечная грудная клетка и раздутый живот. Любая операция на сердце должна быть обезличенной процедурой, техническим процессом.
Я присоединился к Кацумате и двухметровому Мэтью, нашему австралийскому коллеге, у раковины для мытья рук перед операцией. Пока мы в тишине обрабатывали руки антисептическим раствором, рядом с операционными лампами кто-то установил видеокамеру.
Вокруг царило возбуждение. Нам предстояло сделать нечто новаторское, таинственное и рискованное.
Когда я провел лезвием скальпеля вдоль грудины Кристи, на коже не выступило ни капли крови. Из-за шока кровь из кожных капилляров была перенаправлена к жизненно важным органам. Далее электрокоагулятор разрезал тончайший слой жировой ткани, чтобы добраться до кости. Это сопровождалось характерным жужжанием и запахом горелого, потому что ток прижигал кровоточащие сосуды, хотя таких было немного. Затем электропила прошлась вдоль ее грудины, обнажив ярко-красный костный мозг.
С помощью небольшого металлического ретрактора мы раскрыли крошечную грудную клетку, согнув и растянув суставы между ребрами и позвоночником. У младенцев мясистая вилочковая железа лежит между грудиной и околосердечной сумкой; она уже выполнила свою задачу, снабдив плод необходимыми антителами, так что мы смело ее удалили.
Электрокоагулятор продолжил свою грязную, но жизненно необходимую работу – разрезал околосердечную сумку, чтобы мы могли добраться до сердца. Изнутри полилась бледно-желтая жидкость, которую тут же удалили с помощью отсоса. Персонал трудился в полном молчании. Майк ввел гепарин, чтобы предотвратить образование тромбов в аппарате искусственного кровообращения, перфузиологи подключили многочисленные трубки, насосы и оборудование для насыщения крови и тканей кислородом, чтобы поддерживать в Кирсти жизнь, пока ее сердце будет бездействовать, а операционная медсестра Паулина сосредоточилась на том, чтобы в нужный момент мгновенно подавать мне необходимые хирургические инструменты. Мне редко приходилось о чем-то просить вслух. Для столь слаженной работы все члены команды должны быть мастерами своего дела и успеть друг с другом сработаться. С большинством из присутствовавших в операционной людей я проработал многие годы и всецело им доверял.
Когда мы раздвинули края околосердечной сумки, чтобы обнажить сердце, Кацумата громко втянул воздух и пробормотал:
– Вот дерьмо.
Зрелище и впрямь было пугающим. Майк, вернувшийся после первого перекура, склонился над простынями: комментарий Кацуматы его заинтриговал. Я согласился с тем, что на деле все оказалось еще хуже, чем мы ожидали. Остальные всё видели на экране.
Сердце, которому полагалось быть не больше грецкого ореха, в реальности оказалось размером с лимон. Раздутая правая коронарная артерия бросалась в глаза; множество ее расширенных ответвлений стремилось дотянуться до левого желудочка. Правая часть сердца активно качала кровь, стараясь противостоять повышенному давлению в легких, тогда как левый желудочек был очень увеличен и почти неподвижен. Участки омертвевших мышц чередовались с белой рубцовой тканью – таков результат многочисленных болезненных микроинфарктов, которые Кирсти перенесла за первые полгода жизни. Опасения Кацумата были уместны, но я решил не реагировать на его замечания. Нашей задачей было обеспечить сердцу нормальное кровоснабжение, чтобы девочке стало лучше. Кирсти еще была жива, и следовало потрудиться, чтобы так оставалось и дальше.
Обнажив сердце девочки, я ощутил сомнения: мудро ли я поступил, когда согласился взяться за столь сложную операцию сразу же после суточного перелета? С другой стороны, разве лучше было бы отложить операцию или вовсе от нее отказаться?
Для Кирсти другого выхода не было. Найти донорское сердце для срочной пересадки младенцу практически невозможно, поэтому «перепланировка» сосудов, снабжающих сердце кровью, была единственным шансом на спасение. Вместе с видеокамерой за происходящим в нетерпении наблюдала сама смерть, и все мы это понимали, но, раз уж я начал, обратного пути не было.
Мы подключили Кирсти к аппарату искусственного кровообращения, я дал отмашку, и его запустили. Перфузиолог включил насос, и сердце Кирсти медленно опустело. Машина взяла на себя его функцию, перенаправляя кровь от легких в камеру для искусственного насыщения кислородом. Обескровленное сердце продолжало биться, и я разрезал легочную артерию над тем местом, где от нее ответвлялась патологическая коронарная артерия. Здесь-то и должен был начинаться кровеносный сосуд. Наша задача состояла в том, чтобы, не создавая лишнего напряжения в тканях, соединить его с аортой, расположенной на пару сантиметров выше. Традиционный метод заключался в том, чтобы просто растянуть и переместить начало коронарной артерии сбоку на аорту. Проблема в том, что такой подход нередко приводил к тромбозу и закупорке артерии, поэтому я решил не отступать от своего плана.
Чтобы проделать эту тонкую работу, потребовалось пережать аорту зажимом и тем самым на время полностью лишить сердце кровоснабжения. Для защиты сердечной мышцы мы ввели кардиоплегический раствор в обе коронарные артерии, из-за чего вся кровь ушла, а желудочки сдулись, как проткнутый футбольный мяч. Кардиохирурги часто останавливают сердце подобным образом, а чтобы вернуть все как было, достаточно снять зажим с аорты и позволить крови от АИК вновь заполнить коронарные артерии.
Когда восстанавливаешь столь крошечный кровеносный сосуд, швы надо накладывать точные, аккуратные и абсолютно герметичные. У меня неплохо получилось. Через полчаса после того, как сердце Кирсти было остановлено, нам удалось придать левой коронарной артерии должный вид. Когда зажим с аорты сняли, в левый желудочек потекла ярко-красная, насыщенная кислородом кровь вместо лишенной кислорода крови синего оттенка, которой сердце девочки так долго довольствовалось. Цвет сердца сменился с бледно-розового на насыщенный фиолетовый, а затем оно местами чуть ли не почернело. Прежде чем заняться восстановлением легочной артерии, мы удостоверились, что из расположенных за ней швов не течет кровь. Вскоре электрокардиограмма показала нескоординированную электрическую активность, и сердечная мышца сжалась, вновь обретя тонус.
После того как кровоснабжение восстановилось, сердце продолжило беспорядочно сжиматься – наблюдалась фибрилляция желудочков, что необычно для маленького ребенка. Мы применили ток непосредственно к сердечной мышце, чтобы вернуть ей нормальный ритм. Десять джоулей – разряд! Дефибрилляция прошла успешно, и сердце перестало корчиться, словно в судорогах. Оно замерло неподвижно, но мы ожидали, что нормальный сердечный ритм вот-вот восстановится. К сожалению, этого не случилось. Фиолетовый мяч снова начало трясти, и анестезиолог склонился над девочкой, чтобы произнести очевидное:
– Еще разряд!
Мы так и сделали, но ситуация повторилась. Сердце не запускалось.
Причина крылась в серьезном нарушении электрической активности сердца из-за большого количества рубцовой ткани. Мы ввели специальные препараты, чтобы стабилизировать мембраны мышечных клеток.
– Надо дать ему больше времени, – сказал я Майку.
– Хорошо, пойду тогда перекурю, – ответил он.
Спустя двадцать минут мы попытались снова. Двадцать джоулей – разряд! На этот раз маленькое тельце подпрыгнуло на операционном столе, и фибрилляция прекратилась. Сердце начало биться, однако удары были слишком слабыми. Зловещий знак, но у нас в запасе имелись препараты, чтобы взбодрить сердце Кирсти.
Разряд в двадцать джоулей на маленькое тело ребенка – жуткое зрелище. Но если разряд поможет, у врачей еще есть шанс заставить сердце работать.
Я попросил Майка начать вливание адреналина и велел перфузиологу снизить мощность насоса АИК, чтобы в сердце осталось немного крови. Таков рабочий регламент в операционной – прямо как в армии. Когда тебе что-то нужно от коллеги-врача, ты его об этом просишь, в то время как техническому персоналу отдаешь приказы. Если начнешь приказывать анестезиологам, они пошлют тебя куда подальше, а сами займутся чем-нибудь другим.
Пока Майк с перфузиологом трудились над тем, чтобы улучшить биохимический состав крови, я не сводил взгляда с беспомощного сердечка Кирсти. С новой коронарной артерией было все в порядке: она нигде не перекручивалась и не кровоточила. Впервые левый желудочек получал насыщенную кислородом кровь под тем же давлением, что и остальной организм. Между тем сердце по-прежнему напоминало перезревшую сливу и почти не билось. Более того, ужасно протекал митральный клапан. Хотя я сам только что дал указание качать кровь еще полчаса, в действительности я считал, что сердце уже не спасти. Грандиозная операция – мертвый ребенок.
Разумеется, я не стал делиться своими мыслями с остальными. Моя команда не раз спасала безнадежных, казалось бы, пациентов, и сейчас все рассчитывали, что я помогу и этой девочке. Мой же собственный энтузиазм начал угасать. Я попросил оператора ненадолго прекратить съемку, потому что никаких изменений в ближайшее время не предвиделось, и предложил Кацумате занять мое место за операционным столом, чтобы мне удалось хоть немного отдохнуть. Я снял хирургический костюм и перчатки и вышел в наркозную позвонить. Майк последовал за мной.
– Вы сможете починить митральный клапан? – спросил он.
– Не думаю. Я попрошу Арчера предупредить родителей.
Я плюхнулся на стул и взял телефонную трубку. Одна из медсестер любезно поставила передо мной кофе и тарелку с пончиком. Дотронувшись до меня рукой, она почувствовала, как по моей шее течет холодный пот.
– Я принесу вам сухую рубашку, – сказала она.
Пять минут спустя Арчер спустился в операционную из отделения для приема амбулаторных больных.
– Подумал, что у тебя могут быть проблемы. Я могу чем-нибудь помочь?
– Взгляни на эхокардиограмму, – сказал я. – Восстановленные участки в порядке, но желудочки слишком слабы. Еще и митральный клапан пропускает кровь. Если так продолжится, не обойтись без внешнего насоса.
Полный мочевой пузырь дал о себе знать, и я отлучился в уборную. Когда я вернулся, мой мозг снова взял происходящее под контроль, уже ни на что не отвлекаясь, а мне как раз требовалось максимально сосредоточиться. Мог ли я сделать хоть что-нибудь, чтобы все исправить? Хорошие идеи стремительно заканчивались.
Левый желудочек был расширен, покрыт рубцами и к тому же принял форму шара, а не эллипса, как должно быть в норме. От такого перекоса митральный клапан раскрылся и теперь не мог самостоятельно закрываться. Пока левый желудочек усердно старался перекачивать кровь и доставлять ее по всему организму, более половины крови утекало обратно к легким. В ходе операции функция сердца всегда временно ухудшается, но в случае с Кирсти ухудшение казалось непоправимым. Я лишь надеялся, что сердце отдохнет, пока работает аппарат искусственного кровообращения. Этого не произошло.
Я вернулся в операционную, вымыл руки и поменялся местами с Кацуматой. Он ничего не сказал, но явно упал духом – все было понятно без слов. Я попросил Майка начать вентиляцию легких и сказал перфузиологу подготовиться к постепенному отключению аппарата. Отныне сердцу Кирсти предстояло взять кровообращение на себя, иначе девочка умрет прямо на операционном столе. Мы смотрели на экран кардиомонитора, надеясь увидеть, как поднимается ее артериальное давление. Оно ненадолго повысилось до половины от своего нормального значения, но быстро упало, когда насос окончательно отключили.
– Снова подключим? – спросил Кацумата.
Наблюдая за тем, как на экране эхокардиографа трепыхается левый желудочек, перфузиолог возразил:
– А стоит ли?
На самом же деле он спрашивал: «Ее уже не спасти, так ведь?» Я пока не был готов сдаться. Наша неудача означала бы смерть маленькой девочки и вселенское горе для ее родителей.
– Давайте подключим и подержим еще полчаса.
Затея была сомнительной, так как длительное подключение к аппарату искусственного кровообращение всегда снижает шансы на успех.
Родители Кирсти ждали новостей в детском отделении, и Арчер отправился их предупредить. Когда мы вызвали его обратно, Бекки настояла на том, чтобы прийти вместе с ним к дверям операционной. Невозможно передать словами, что чувствует мать в подобных обстоятельствах. Я понимал только одно: совсем скоро у нее на руках может оказаться истощенное, бездыханное тело ее ребенка. Следовало ли сказать ей, что сердце девочки пострадало слишком серьезно, что диагноз надо было поставить несколько месяцев назад и что Кирсти подвела наша перегруженная система здравоохранения?
Вот как сама Бекки позднее описала свои чувства, пережитые в тот день, в дневнике:
«Каждый час доктор Арчер приходил к нам. Спустя где-то четыре часа мне показалось, что все складывается хорошо. Кирсти собирались отключить от аппарата искусственного кровообращения, а затем перевезти в реанимацию. Я сбегала в столовую, чтобы захватить сандвич, но на обратном пути наткнулась на медсестру, которая меня разыскивала. Она сказала, что доктор Арчер ждет меня наверху. Я обрадовалась и спросила, нормально ли прошла операция. Можно ли нам увидеть Кирсти? Медсестра выглядела очень серьезной и сказала, что нам следует поговорить с доктором Арчером. Она вела себя очень дружелюбно и профессионально, но я заподозрила, что что-то не так.
Когда я вернулась в комнату, доктор Арчер с мрачным выражением лица попросил нас присесть. Он объяснил, что, несмотря на старания операционной бригады, сердце Кирсти не хотело работать после отключения аппарата. Хирурги продолжали сражаться за ее жизнь, но дела были совсем плохи. Мы могли ее потерять.
Потом он сказал, что его ждут. У меня голова пошла кругом. Помню, чувствовала себя так, будто изрядно выпила. Это не входило в наши планы. Мы надеялись, что наше терпеливое ожидание будет вознаграждено и все закончится хорошо, ведь именно так происходит с другими.
Потом доктор Арчер вернулся. Он сказал, что очень сожалеет. Хирурги испробовали все, что можно. Он пообещал договориться, чтобы мы смогли подержать Кирсти и попрощаться с ней. Я не могла смириться с мыслью, что в следующий раз увижу ледяное тело. Моя малышка была такой теплой и мягкой. Чудесный запах, шелковые волосы, горячие пухлые щечки. Я думала о том, что вид моей холодной, безжизненной девочки разобьет мне сердце. Это может показаться странным, но это чувство было очень сильным.
Очевидно, что тот момент был для нас самым тяжелым. Мы знали, что Кирсти сражается за свою жизнь, но ничем не могли ей помочь. С тем же успехом мы могли быть на другом конце земного шара. Мой обезумевший мозг начал судорожно представлять возможные последствия. Если она умрет, то ее положат на холодный стол в морге. В этом ужасном бездушном месте. Если это случится, то я останусь рядом с ней, пока ее не похоронят. Я дам отпор любому, кто попытается меня остановить. Моя маленькая девочка останется у меня на руках, и да поможет Бог тому, кто попытается забрать ее у меня.
Эти мысли и сейчас остались такими же ясными, как в тот день, потому что я никогда в жизни не была так решительно настроена. Мы успели сблизиться с родителями других детей в отделении. Весь день они заглядывали, чтобы узнать новости, молились за Кирсти и разделяли наши надежды.
После того как доктор Арчер ушел, больше никто к нам не заходил. Но я их не виню. Это было ужасное горе. Всех нас настолько волновала судьба других, что теперь никто не мог подобрать нужные слова».
Раздвижные двери операционного комплекса, ведущие в больничный коридор, автоматически открылись. Я увидел полные отчаяния и горя глаза. Помню, как Бекки сказала:
– Пожалуйста, спасите мою девочку.
В тех крайне редких случаях, когда ребенок умирал на операционном столе, я всегда лично разговаривал с родителями после операции. И всегда этого боялся. Пожалуй, это самое ужасное в моей работе.
Я, словно оцепенев, ничего не ответил. Арчер выглядел опустошенным. Он уже выполнил самую тяжелую работу. Я надел новую маску, еще раз вымыл руки и снова вошел в мрачную операционную.
Майк, вернувшийся с очередного перекура, сказал:
– Ничего не изменилось. Выключать аппарат?
– Нет, я собираюсь попробовать еще кое-что. Отключи вентиляцию легких. Включай камеру.
Моя последняя попытка. Чтобы оправдать то, что я собирался сделать, без привлечения законов физики не обойтись; никогда прежде никто не делал ничего подобного с ребенком. Полость левого желудочка Кирсти была увеличена, из-за чего давление на его стенку повысилось. Недавно на конференции я узнал, то один бразильский хирург проделал ряд операций по уменьшению сердца у взрослых людей с сердечной недостаточностью, ставшей следствием болезни Чагаса – тропической инфекции, которая ослабляет сердечную мышцу. Подобную операцию пробовали проводить при сердечной недостаточности и в Северной Америке, но этот подход подвергся разгромной критике, и от него отказались. Мне показалось, что эта смелая методика может спасти Кирсти жизнь.
Рисковать и снова останавливать сердце я не собирался, поэтому взял новый блестящий скальпель и разрезал бьющийся левый желудочек от основания до верхушки, словно расстегнул молнию на спальном мешке. Я начал с участка рубцовой ткани, стараясь не задеть мышцы, поддерживающие митральный клапан, и сердце девочки мгновенно отреагировало на радикальное вмешательство фибрилляцией. В этом не было особой проблемы, так как риск попадания воздуха в кровоток отсутствовал.
Честно говоря, неожиданный вид внутренней поверхности сердца меня ошеломил. Изнутри его покрывал плотный слой белой рубцовой ткани. Чтобы уменьшить диаметр желудочка, я принялся вырезать полоски ткани по обе стороны от сделанного разреза, пока не добрался до кровоточащей мышцы; пришлось удалить добрую треть желудочка. Я попытался решить проблему с протекающим митральным клапаном, сшив вместе два его лепестка по центру и превратив его отверстие из овального в двойное, по форме напоминающее очки. Затем я просто пришил края мышцы друг к другу двойным швом, чтобы закрыть сердце. В конечном итоге значительно уменьшенное сердце выглядело как дергающийся черный банан. Я ни на миг не поверил в то, что оно когда-либо снова заработает, – не верил в это и никто из моих коллег. Большинство из них подумало, что я тронулся умом.
Слухи о том, что творится в пятой операционной, быстро расползлись по больнице. Вокруг собрались зеваки, а оператор продолжал все снимать на камеру.
Когда сердце ребенка выглядит как маленький черный банан, никто уже не верит, что оно снова может заработать. Но я, наверное, тронулся умом, потому что продолжаю оживлять, и в итоге оно начинает биться.
Нужно было проследить, чтобы из сердца вышел весь воздух, иначе потом он может попасть в кровоток, дойти до мозга и вызвать инсульт. И вот наконец осталось только запустить дефибриллятор и, если повезет, восстановить нормальный сердечный ритм.
– Все, – объявил я. – Попробуйте 20 джоулей.
Разряд! Сердце перестало трепыхаться, и, казалось, целую вечность его спонтанная электрическая активность отсутствовала. Я ткнул сердечную мышцу щипцами, и та в ответ сократилась. На кардиомониторе появился всплеск. Каким-то чудом черный банан выбросил в аорту кровь.
Майк взглянул на монитор эхокардиографа.
– Оно определенно выглядит по-другому. Попробуем с кардиостимулятором?
Я уже пришивал тонкие провода кардиостимулятора. Мы выставили на приборе 100 ударов в минуту и запустили его. Я сказал перфузиологу сбавить обороты насоса и оставить в сердце немного крови, чтобы проверить, будет ли оно ее перекачивать. На этот раз сердце не подвело. Более того, судя по эхокардиограмме, митральный клапан не протекал. Я почувствовал, что у нас все-таки есть шанс. Жизнь человека действительно зависит от законов физики и геометрии.
Уже перевалило за полдень. Кирсти была подключена к аппарату искусственного кровообращения более трех часов подряд, и пора было ее отсоединять. Как по заказу, через сигнал кардиостимулятора начал пробиваться собственный сердечный ритм девочки. Естественный нормальный сердечный ритм гораздо эффективнее того, что генерируется за счет электрокардиостимулятора, потому что обеспечивает лучшие кровоток и давление.
В операционной словно выключателем щелкнули: мрачная атмосфера сменилась восторженным ликованием. У меня самого уровень адреналина подскочил, и от усталости внезапно не осталось и следа. Мы ввели Кирсти адреналин, чтобы помочь ее сердцу справиться с кровообращением после отключения аппарата, и я дал указание «медленно отключать». Мы все еще опасались, что артериальное давление понизится, но маленькое сердечко, несмотря на новую забавную форму, усердно качало кровь.
– АИК отключен. Не верю своим глазам, – сказал Майк.
Я промолчал, но посмотрел поверх маски на Кацумату. Он понял, что с меня достаточно.
– Позвольте мне закончить, – предложил он.
– Конечно.
Не веря своим глазам, я бросил последний взгляд на то, как трудится маленький черный банан, а затем повернулся к экрану эхокардиографа – белые, черные и голубые вспышки, не имеющие смысла для рядового человека, также вселяли уверенность. Было видно, как кровь течет по левой коронарной артерии, а в левый желудочек под давлением входит через митральный клапан сдвоенная струя. Перед нами было детское сердце невообразимой формы, которое наконец-то работало.
После нашей встречи у порога операционной Арчер и родители Кирсти были уверены, что девочка умерла. Неловкая и беспрецедентная ситуация, но я слишком устал, чтобы с ней разбираться. Я попросил медсестру-анестезиста вызвать доктора Арчера в операционную. Она выполнила мою просьбу, после чего предложила кофе.
Удостоверившись, что кровь нигде не подтекает, Кацумата старательно закрыл грудную клетку.
– Такого еще никто не делал, – произнес он, подняв на меня глаза.
Вскоре после этого Бекки пустили в детскую палату интенсивной терапии. Она взяла в руку крошечную ступню Кирсти и воскликнула:
– Она теплая! Она никогда еще не была такой теплой!
Когда Бекки расплакалась, я ушел. Уж очень долгий выдался день.
Ди, моя обаятельная и эксцентричная секретарша, отвезла меня домой в Блэдон, что минутах в двадцати от Оксфорда. Я не мог найти себе места – душевный подъем спорил с сильнейшей усталостью. Багровое зимнее солнце заходило над Бленхеймским дворцом. Чтобы развеяться, я отправился на пробежку вокруг озера, взяв с собой нашу собаку – немецкую овчарку по кличке Макс. Пробегая мимо старых дубов, мы распугивали кроликов и тех немногих фазанов, что уцелели в сезон охоты. Тени постепенно удлинялись. Лебеди зашипели на Макса, велев ему проваливать. Солнце закатилось за горизонт. Я покинул парк, перешел через дорогу и двинулся к церкви святого Мартина.
На церковном кладбище похоронен Уинстон Черчилль. Напротив надгробия, которое неизменно окружено увядшими цветами, склоняющими головы в знак уважения к политику, есть деревянная скамейка, поставленная на средства участников польского сопротивления времен Второй мировой войны. Разгоряченный и жадно хватающий ртом воздух, я присел, чтобы поговорить с великим человеком, который лежал всего метрах в трех подо мной в деревянном ящике. Я с отвращением представил, как, должно быть, выглядит сейчас его тело, а после подумал, что и тело Кирсти сейчас запросто могло бы лежать, холодное и окоченевшее, в больничном морге. Как бы то ни было, я прислушался к его наставлению – никогда не сдаваться.
Макс неуважительно задрал лапу у соседнего надгробия. Теперь мне нужно было поспать. Я надеялся, что телефон меня не потревожит. Так и произошло. Кирсти выжила.
* * *
Мы присматривали за ней следующие четыре года, наблюдая с помощью эхокардиографа за развитием ее сердца. Девочка росла веселой, общительной и энергичной, и единственное, что выдавало ее невероятную внутреннюю метаморфозу, – бледный шрам посреди груди.
Когда мы решили, что Кирсти достаточно подросла, чтобы это обсуждать, мы попросили у нее разрешения сделать магнитно-резонансную томографию: это помогло бы нам узнать, что стало с ее сердцем. И мы увидели нечто необыкновенное. Если не считать двойного отверстия митрального клапана, сердце выглядело совершенно нормальным, равно как и левая коронарная артерия. Лишь тонкий шрам давал понять, что сердце когда-то зашивали. Поразительно, но остальная рубцовая ткань исчезла. Раньше вся внутренняя поверхность левого желудочка была выстлана белой рубцовой тканью, которая куда-то пропала.
Это послужило одним из первых доказательств того, что стволовые клетки сердечной мышцы младенца позволяют ей регенерировать, фактически удаляя фиброзную ткань. У взрослых подобное восстановление сердца невозможно. Но что, если нам удастся выделить и культивировать стволовые клетки, которые делали бы то же самое с сердцем взрослых людей? Могло ли это спасти сотни тысяч пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которую вызвала ишемическая болезнь сердца? Моему дедушке это помогло бы. Мы могли бы вводить клетки во время операции по коронарному шунтированию либо доставлять их в сердце через центральный катетер. Какие клетки для этого подходят, где их можно найти, как их нужно хранить и пересаживать? Однажды мы обязательно это узнаем.
Стволовые клетки сердечной мышцы младенца позволяют ей регенерировать, фактически удаляя фиброзную ткань. Если нам удастся выделить и культивировать стволовые клетки взрослым, это могло бы спасти сотни тысяч пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которую вызвала ишемическая болезнь сердца.
Кирсти сейчас восемнадцать, это жизнерадостная, подвижная девушка. Умри она тогда, мы так и не узнали бы, что сердце способно к столь удивительной регенерации. Возможно, случай Кирсти еще поможет спасти в будущем бесчисленное множество жизней.
9. Сердце за сердце
И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.
Книга пророка Иезекииля, глава 36, стих 26Почти ежедневно я наведывался в детскую палату отделения интенсивной терапии, чтобы взглянуть на прооперированных мной детей и заверить родителей, что очень скоро дела пойдут в гору. Там я снова и снова соприкасался с чужими личными трагедиями. Нет ничего хуже, чем видеть младенцев с менингитом, чьи омертвевшие от гангрены конечности требуют ампутации. Или попавших в автомобильные аварии детей с многочисленными травмами или смертью мозга. Или ужасные осложнения, вызванные раком и химиотерапией.
* * *
Прошло три недели после нашего успеха с Джули. Меня вызвал детский кардиолог, желавший обсудить неотложный случай. Он попросил подойти как можно скорее.
Почему вообще маленькие дети болеют раком? Разве это справедливо? Или гидроцефалией, из-за которой череп – огромный и наполненный жидкостью – весит больше остального тела, так что малыш не в состоянии оторвать голову от пола? Хрупкие, несчастные жизни.
Возле детской кроватки несколько врачей внимательно изучали медкарту и результаты анализов. Осунувшаяся мать сидела рядом с сыном, сжимая его потную ручку, и напряженно вглядывалась в экран кардиомонитора. Мальчик полулежал под углом сорок пять градусов, под спину ему подложили подушки. Его глаза были закрыты, а грудь тяжело, с хрипящим звуком вздымалась и опускалась. Периодически он кашлял. Я обратил внимание на мертвенную бледность, крайнее истощение, вытянутую шею, запрокинутую назад голову и тяжелое дыхание – все свидетельствовало о терминальной стадии рака. Разум ребенка блуждал где-то далеко.
Так зачем же меня позвали? Может, у мальчика опухоль в сердце? Редкость, конечно, но мне доводилось оперировать маленьких детей с аналогичными проблемами. А может, рак распространился от почек или костей и достиг околосердечной сумки, в результате чего скопившаяся в ней жидкость сдавливала сердце? В подобных случаях меня часто просили проделать окошко в околосердечной сумке, чтобы жидкость стекала в грудную полость, где она причинит меньше вреда.
Какой бы ни была проблема, дело казалось безнадежным. Какое-то время меня не замечали (довольно необычно для кардиохирурга), поэтому я просто стоял за спинами врачей и слушал.
Мальчика звали Стефан, ему было десять, но выглядел он младше. По словам матери, с ним в последнее время было «не все в порядке»: он не поспевал за приятелями и не мог сосредоточиться на уроках. Даже в футбол играть перестал: стоило Стефану пробежать несколько метров, как он начинал задыхаться.
Наступили школьные каникулы, и родители всерьез обеспокоились, а вскоре состояние мальчика резко ухудшилось. Семейный врач, послушав его грудь, предположил, что внутри скопилась жидкость, и направил ребенка в больницу на рентген. Новости оказались на редкость плохими. Обнаружилось, что сердце Стефана сильно увеличено, левый желудочек отказал, а в легких полно жидкости – мы называем это отеком легких. Все это взялось словно из ниоткуда: прежде у Стефана не было проблем со здоровьем – никакого врожденного порока сердца, ничего, что могло объяснить, почему паренек умирает.
Атмосфера в палате была настолько напряженная, что я решил прервать молчание:
– Доброе утро. Могу ли я вам чем-нибудь помочь?
Арчер ответил своим стандартным приветствием:
– О, Уэстаби, что тебя задержало? Посмотришь на эхокардиограмму?
Стефан был худым, как узник концлагеря, а на его грудной стенке не нашлось бы и грамма жира – это говорило о том, что мальчик болеет не один месяц. Его мать не назовешь худышкой, так что недоедание явно ни при чем. Единственное преимущество сильной худобы – если так можно выразиться – заключалось в том, что снимки получились максимально четкие, и по ним я сразу понял, в чем дело. Оба желудочка были расширены, особенно левый. Огромный левый желудочек почти не двигался, а митральный клапан пропускал кровь. Два лепестка митрального клапана были оттянуты в стороны, потому что сердце из конуса (как должно быть у здорового человека) превратилось в сферу. Оно напоминало мяч для регби – совсем как у Кирсти.
Мысли замелькали у меня в голове. Арчер собирался попросить, чтобы я привел клапан в порядок и снял давление с легких. С другой стороны, очевидно, что изначально проблема крылась не в митральном клапане. У мальчика финальная стадия заболевания сердечной мышцы, и протекание митрального клапана лишь побочный эффект. Любая попытка провести операцию на сердце стандартными методами прикончила бы Стефана, хотя я и не произнес этого вслух, чтобы не перепугать родителей. И тут до меня дошло, какое направление примет беседа. Речь пойдет о кровяном насосе.
К тому времени о случае Джули знали все. Она еще лежала в больнице, но стремительно поправлялась. Нас засыпали звонками с просьбами о помощи изо всех уголков страны. Наверняка у Стефана тоже был вирусный миокардит, спровоцировавший хроническую сердечную недостаточность. Однако мальчик болел не дни, а целые месяцы, и маловероятно, что он выздоровеет так же, как Джули.
Я сказал, что понадобится новое сердце. Да поскорее. Как можно скорее. В те годы операции по пересадке сердца детям проводили только в больнице на Грейт-Ормонд-стрит. Я хорошо знал тамошних хирургов, потому что работал с ними. Так что предложил направить Стефана к ним: его поставили бы в очередь на экстренную пересадку. Проще простого.
На деле все оказалось далеко не так просто. Наши люди уже поговорили на эту тему с лондонскими трансплантологами, но те сообщили, что, к сожалению, свободных коек нет и срочной пересадки сердца уже дожидается несколько детей. И нет, не было ни малейшего шанса раздобыть для нас донорское сердце. Для ребенка – точно нет. Разумеется, они помогут, когда ситуация изменится, а до тех пор «делайте все что сможете».
«Сами делайте все что сможете» – такие слова часто приходится слышать врачам, когда им отказывают в помощи их коллеги.
Стефану внутривенно вводили большие дозы препаратов, стимулирующих работу сердечной мышцы, и диуретиков, чтобы удалять воду из легких. При пониженном артериальном давлении почки плохо справляются со своими функциями, и они уже начинали давать сбои. Стефан стоял на краю пропасти, готовый в любую секунду рухнуть вниз. Один из кардиологов, столпившихся у его кровати, решился задать мне прямой вопрос: смогу ли я использовать еще один прибор AB-180? С Джули мы создали прецедент. Если это действительно миокардит, мы, возможно, спасли бы мальчика и даже сохранили бы его сердце. Или хотя бы помогли ему продержаться до тех пор, пока о нем не позаботится детская больница на Грейт-Ормонд-стрит. Такова была последняя надежда семьи Стефана.
Я осознавал, что несчастная мать мальчика вслушивается в каждое мое слово. Одна из медсестер положила руку ей на плечо, тщетно пытаясь ее успокоить. Все взгляды устремились на меня. Я помолчал, стараясь привести мысли в порядок. Да, у нас действительно был еще один AB-180, но это не сработало бы. Впускная канюля прибора слишком большая и жесткая для того, чтобы соединять ее с левым желудочком детского сердца.
Я повторил эти мысли вслух перед группой врачей. На их мрачных лицах отобразилось неприкрытое разочарование, а мать Стефана заплакала, поскольку Арчер дал ей понять, что кровяной насос – единственный шанс на спасение ребенка и что если его состояние ухудшится (а это было неминуемо), то последует скоропостижная смерть. Таким образом, я фактически огласил смертный приговор.
Стефан был обычным ребенком из семьи рабочих. Впереди ждала целая жизнь. Ему бы сейчас играть на школьном дворе с приятелями, а не лежать в палате интенсивной терапии среди белых халатов и угрюмых физиономий. Впрочем, даже лежать здесь ему было крайне тяжело: банальное дыхание требовало от него огромных усилий. А потом еще этот ужасный кашель и ощущение сдавленности в горле, словно тебя душат. Мальчику было холодно, но простыни промокли насквозь от пота. Какие-то незнакомые люди вставляли ему в руки и в шею иголки, брали у него кровь, засовывали резиновые трубки в интимные места – ни с чем таким ребенок его возраста не должен был столкнуться. Ему было тяжело смотреть на опечаленных папу и маму, и он постоянно слышал слова, значения которых не знал. Вскоре у него закружилась голова, реальность побледнела перед глазами и сознание унеслось куда-то далеко. Начал действовать морфин, который забрал с собой все страхи.
Родители, напряженные и опустошенные эмоционально, сидели по обе стороны кровати, склонившись к Стефану, чтобы быть как можно ближе к нему. Сейчас им следовало быть на работе, а не в больнице – на самом деле они предпочли бы оказаться где угодно, лишь бы не здесь, где они не могли ни проконтролировать, ни повлиять на судьбу единственного сына, умирающего у них на глазах.
Ни один ребенок не должен лежать на больничной койке, вместо того чтобы играть с друзьями на школьном дворе. Никто этого не заслуживает.
Как такое могло произойти, ведь ничто не предвещало беды? Что они сделали не так? И вот они сидели, выслушивая жестокую правду: шансов на спасение практически нет. А еще из уст врачей звучало слово «трансплантация». Кроме того, упоминалась больница на Грейт-Ормонд-стрит. Беда в том, что на все нужно время, которого у них не было: Стефан находился в состоянии шока, а его внутренние органы отказывали один за другим. Время работало против них. Страх схватил их за горло и сдавил им грудь, усиливая душевные страдания. Сначала им с трудом давались связные предложения, затем – отдельные слова, и вскоре они уже не могли говорить: с каждым словом эмоции прорывались наружу. Между тем они старались не плакать при сыне. Слезы они приберегли напоследок.
Арчер нервничал все сильнее. Он хорошо знал врачей из больницы на Грейт-Ормонд-стрит и понимал, что чудеса случаются редко (другие дети точно так же дожидались нового сердца, а их родители оказались в таком же отчаянном положении), но еще чуть-чуть – и будет поздно что-либо предпринимать. Он просмотрел результаты анализов крови. Уровень калия поднимался, то же касалось и молочной кислоты, но их можно было нейтрализовать с помощью бикарбоната натрия. Вскоре Стефану понадобится искусственная фильтрация почек. Арчер сделал все возможное, чтобы предотвратить катастрофические изменения сердечного ритма, которые значительно ускорили бы смерть. Что еще он мог придумать в столь безнадежной ситуации?
Старший реаниматолог стоял позади нас, дожидаясь моего вердикта. Все это он видел не раз, присматривая за многими умирающими детьми, но непременно приложил бы максимум усилий, чтобы помочь Стефану. Вот только что, ради всего святого, он мог сделать? Мальчику очень скоро понадобится искусственная вентиляция легких, иначе он начнет задыхаться – проблемы с дыханием усугублялись действием морфина. Итак, врач застыл в ожидании, держа наготове лекарства и дыхательные трубки и не забывая о предстоящем обходе: помимо Стефана, он должен был позаботиться еще о девятерых больных детях.
Была здесь еще и медсестра Стефана. Медсестры, работающие в педиатрических палатах интенсивной терапии, принадлежат к особой породе людей: далеко не каждый создан для того, чтобы изо дня в день сталкиваться на работе с душераздирающими трагедиями. Эта зрелая дама, у которой были и собственные дети, любила ухаживать за моими маленькими пациентами после операции, потому что обычно они выздоравливали. И ей очень не нравилось наблюдать, как дети умирают. Безусловно, она активно сопереживала родителям Стефана, и кто-то же должен был сделать решительный шаг, иначе стало бы слишком поздно и ее пациента не удалось бы спасти. Именно она настояла на том, чтобы Арчер вызвал меня.
Напряжение вокруг кровати Стефана нарастало – все ощущали приближение трагедии. Никто не способен достать из ниоткуда донорское сердце, тем более для ребенка. Если говорить об операциях по пересадке сердца детям, то каждый год их число можно по пальцам пересчитать. И ко мне обратились в поисках альтернативного решения. Что ж, я не смог ничего предложить.
Я смотрел на убитых горем родителей и ощущал себя чертовски бесполезным. Как бы я чувствовал себя, если бы один из моих детей попал в такую же беду – слег с серьезной болезнью, хотя ничто не предвещало беды? А ведь я только что лишил их последней надежды. Очевидно, то, что я сам отец, сделало меня чувствительным к страданиям несчастных родителей. К тому времени моей дочери Джемме исполнилось двадцать, а мой сын Марк ходил в школу в Оксфорде.
Если я стану относиться к Стефану как к собственному ребенку, это будет проявлением эмпатии. Из очередного пациента он превратится для меня в человека. Кто-то скажет, что эмпатия – ключ к тому, чтобы стать хорошим врачом, «ключ к сострадательной заботе», что бы это ни означало. Но если бы мы, медики, действительно вникали в ужас каждой человеческой драмы, разыгрывающейся в палате интенсивной терапии, то быстро пошли бы ко дну. Вот почему мой коллега-реаниматолог так спешил заняться обходом палат – чтобы его не затянуло в водоворот надвигающейся гибели Стефана.
И я разозлился. В те времена лишь одна вспомогательная желудочковая система подходила для детей. Называлась она «берлинским сердцем», и совсем недавно Роланд Хетцер из Немецкого кардиологического центра в Берлине познакомил с ней научную общественность. Повезло, что мы с Роландом были хорошими друзьями – одно из преимуществ участия в многочисленных научных конференциях. Я решил позвонить ему и попросить об огромном одолжении. Может, в беседе стоит упомянуть, что Стефан немец? Это прозвучало бы правдоподобно. Плюс ко всему Роланд был англофилом.
К счастью, он находился у себя в офисе, и я дозвонился с первого раза. Мы обменялись традиционными любезностями, после чего я перешел к делу.
– Роланд, мне нужно «берлинское сердце». Мальчику десять, но для своего возраста он очень маленький. Есть надежда, что функция его сердца восстановится, но долго ему не протянуть. Сколько это будет стоить?
Я знал, что придется выделить деньги из своего благотворительного фонда.
Он ответил то, что я и ожидал услышать:
– Давай об этом потом. Когда оно тебе нужно?
Последовала короткая пауза.
– Ты мог бы передать его к завтрашнему утру через одного из своих ребят, который заодно помог бы нам?
Роланд был счастлив помочь.
В восемь утра в Оксфордском аэропорту приземлился частный самолет. Между тем я послал сообщение директору нашей больницы, предупредив о своих намерениях; главврач тоже получил копию. К тому времени дальновидный Найджел Крисп от нас уволился, и прошло меньше месяца с тех пор, как меня угрожали уволить за спасение Джули.
Арчер взял на себя благородную задачу: сходил к ним обоим и убедил, что других вариантов у нас нет. Все врачи сходятся во мнении, что мальчик может не дожить до конца дня, сообщил он им, а все возможные традиционные методы уже испробованы. Ни один не помог. Если у Уэстаби есть решение, продолжил он, то руководители больницы морально обязаны позволить ему попытаться. Сначала пусть сделает, а потом будем разбираться с обвинениями. Да, кстати, а кто-нибудь из руководства уже навестил Джули? Первая в своем роде операция, и ее провели у нас, в Оксфорде. Если не навещали, то почему?
Арчер всегда был и остается человеком религиозным. Он воздержался от аналогии с воскрешением из мертвых и согласился не только с тем, что Уэстаби не Бог, но и с тем, что он, возможно, и впрямь раздражающий сукин сын. Но разве его работа не заключается в том, чтобы спасать жизни? Лишь это его и заботит. Так что пока оставьте его в покое. Позвольте немцам приехать.
Что касается меня, то под врачебной этикой я всегда подразумевал спасение человеческой жизни любой ценой. Я не нуждался в дотошном комитете по этике, ставящем это под сомнение. И мне было все равно, уволят меня или нет. Я хотел работать там, где смог бы полностью раскрыть свой потенциал, раздвинуть горизонты возможного. Если Оксфорд не готов меня поддержать, я найду другое место!
«Берлинское сердце» представляло собой разделенный на две части резервуар для крови размером с апельсин – кровь с одной стороны, воздух с другой. За счет принудительного наполнения воздушной камеры кровь проталкивалась в снабженную клапаном трубку. Просто, но крайне эффективно. Насосная камера располагалась снаружи тела, что позволяло легко заменить ее при обнаружении кровяных сгустков. Впускные и выпускные трубки насоса присоединялись с двух сторон к сердцу и выходили наружу через брюшную стенку. Таким образом, кровь текла в обход обоих желудочков, и они могли отдыхать: большой и малый круги кровообращения брал на себя насос. То, что доктор прописал, надо полагать.
Под врачебной этикой я всегда подразумевал спасение человеческой жизни любой ценой, и ни один комитет по этике не убедит меня в обратном.
Теперь нужно было доставить Стефана вниз, в операционную. Но если бы только это. Частный самолет остался в аэропорту, чтобы после операции забрать немцев домой, и за все я платил из своего кармана. Это вам не такси с включенным счетчиком, ожидающее у подъезда.
Стефану удалось продержаться ночь без искусственной вентиляции легких. К утру он был измотан физически и очень напуган. Он был достаточно взрослым, чтобы осознать всю серьезность своего положения – по мрачным лицам врачей и слезам матери сложно было не догадаться, что дела плохи, – так что расставание в наркозной комнате прошло весьма эмоционально; я стараюсь всячески избегать подобных ситуаций. Детские анестезиологи сталкиваются с этим каждый день, но для меня это дополнительное психологическое давление, в котором я совершенно не нуждаюсь. Поэтому я повел медиков из Германии переодеваться. Мне было стыдно перед ними за нашу тесную неопрятную раздевалку, где плотным рядом стояли серые шкафчики для одежды, с коричневых деревянных скамеек сходила краска, со стен в туалете сыпалась штукатурка и повсюду валялись использованная операционная обувь, хирургические маски и одежда. Что им надеть на ноги? Пошарив вокруг, мы подобрали несколько пар, а затем вместе отправились в комнату к перфузиологам, чтобы ознакомить с оборудованием.
Дезире уже была тут как тут, готовая внимать указаниям. Кацумата с ординаторами тоже стояли наготове. Всех переполняло лихорадочное возбуждение: мы опять собирались сделать нечто необычное, о чем, вернувшись домой, непременно расскажем родным. Попадет ли это завтра в новости? Нет. Может быть, в местные оксфордские новости? Нет. Уволят ли меня? Вполне возможно. Вот это уж точно попадет в новости. Но пока мы ни о чем таком не говорили. Сперва нужно было помочь мальчику.
Когда Стефана вкатили в операционную, на него нельзя было взглянуть без боли – до того он отощал. К тому времени я пришел к выводу, что нет у него никакого вирусного миокардита. А хроническую сердечную недостаточность наверняка вызвала патология сердечной мышцы, которую вряд ли удастся исправить. Однако план оставался прежним. Сначала сохранить пациенту жизнь, а потом уже анализировать.
Я провел пилой по грудине и раздвинул ее края ретрактором. Мы вскрыли околосердечную сумку и прикрепили ее края к коже, чтобы приблизить к нам сердце Стефана. Наружу обильно потекла бледно-желтая жидкость. Я прикинул, что примерно четверть веса его тела приходилась на долю скопившейся в организме жидкости с большим содержанием соли и белка, которая теперь исчезала в резервуаре вакуумного отсоса. Я задумался: это каким же надо быть дураком, чтобы по доброй воле выбрать ужасный мир человеческих страданий? Ведь столько существует профессий попроще!
Теперь я мог хорошенько рассмотреть несчастное сердце. Правое предсердие было надутым и синим: его разрывало от повышенного давления в венах, из-за которого увеличилась в размерах и печень. Правый желудочек тоже оказался растянут, и я внимательно осмотрел правую коронарную артерию, чтобы исключить ту же проблему, что была у Кирсти. С артерией все было в порядке – да и в любом случае Арчер обязательно заметил бы, будь с ней что-то неладно. На большом левом желудочке не нашлось и следов рубцовой ткани – лишь бледная волокнистая мышца, которая почему-то перестала выполнять свою работу. Воспаления и отека, как у Джули, также не наблюдалось. Я решил взять биопсию сердечной мышцы, чтобы с помощью микроскопа узнать, в чем именно проблема.
Двое немцев стояли у края стола и разглядывали сердце. Как члены элитной команды трансплантологов, они не раз видели подобные изможденные сердца у себя в Берлине. Они использовали общий термин «идиопатическая дилатационная кардиомиопатия» – необычная патология для десятилетнего ребенка.
Было очевидно: чтобы сохранить Стефану жизнь, понадобятся обе вспомогательные системы – право- и левосторонняя. Левый насос в одиночку смог бы поставлять организму больше крови, но она вся возвращалась бы по венам в правый желудочек, который быстро вышел бы из строя, будучи не в состоянии справиться с таким потоком. Так что без правосторонней поддержки было не обойтись. Через брюшную стенку будут выходить четыре трубки, ведущие к двум искусственным желудочкам на воздушном приводе, которые станут пассивно наполняться кровью, а затем с силой ее выталкивать, пропуская через себя приблизительно столько же крови и с тем же ритмом, что и здоровое сердце ребенка. Неплохо, верно?
Я чувствовал, что обессилевшее сердце не перенесет манипуляций с ним: мы спровоцируем изменение сердечного ритма и лишь ухудшим ситуацию, прежде чем можно будет подсоединить насосы. Чтобы этого не произошло, я решил сначала подключить Стефана к аппарату искусственного кровообращения. И тут я подумал, что самое время разрядить атмосферу шуткой.
– Я только что удалил у себя из телефона всех немцев. – Пауза. – Теперь он Ганс-фри!
До коллег из Берлина не дошло. До Кацуматы, впрочем, тоже. Мы продолжили работать в тишине – проделали четыре отверстия в брюшной стенке, чтобы просунуть наружу канюли, прикрепив трубки одни концом к сердцу, другим – к насосам. Главным же было выпустить из системы весь воздух, что мы и сделали. Я решил попробовать еще одну шутку.
– Я часто чувствую себя как мокрая соль в солонке. Совсем не высыпаюсь!
И снова ни единого смешка.
Мы все сделали по намеченному плану, и наконец пришла пора запускать. Искусственные насосы были почти как обычные желудочки, только располагались снаружи тела, благодаря чему можно было воочию понаблюдать за их работой: тук-тук, тук-тук, тук-тук. Энергично и эффективно. Сердце Стефана сдулось, как спущенный воздушный шарик, а артериальное давление возросло – все благодаря активной пульсации в аорте и легочной артерии. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Этот подход поражал своей простотой, но результат был потрясающим – победа жизни над смертью. Пульсирующий кровоток был более привычным и приятным с эстетической точки зрения, однако в случае со Стефаном такие насосы могли располагаться лишь снаружи. По крайней мере насосы непрерывного потока были достаточно маленькими, чтобы уместиться внутри человека.
Желая предотвратить кровотечение, Кацумата обработал швы биологическим клеем. Пришлось оставить в груди Стефана две дренажные трубки, так что из его маленького тела торчало уже шесть разных трубок. Для этого мы многократно проткнули ему грудь, но так было нужно. Края грудины мы соединили, используя толстую стальную проволоку, которую крепко затянули и скрутили вместе.
После этого Стефана вновь отвезли в педиатрическую палату интенсивной терапии, где врачи и медперсонал впервые в жизни увидели вспомогательную желудочковую систему. Приборы могли напугать медсестер, но этого не произошло. Им сказали не обращать внимания на трубки и кнопки управляющей консоли, а также объяснили, что ничего менять не нужно. Все, что требовалось от медсестер, – позаботиться о мальчике, особенно когда он придет в себя и начнет активно двигаться.
Мы подчеркнули, насколько важно проследить, чтобы Стефан не выдернул из себя трубки: от них зависела его жизнь. Когда он очнется, лучше всего его усадить, отключить вентиляцию легких и удалить трахеальную трубку, чтобы хоть немного снизить дискомфорт. После этого будет гораздо проще его успокоить и все ему объяснить. Родителей можно пустить к нему, а Дезире будет неподалеку и всегда придет на помощь, даже когда ее смена закончится.
На этом немцы покинули Оксфорд, оставив нас самостоятельно управляться с новой техникой. Не проблема, тем более что состояние Стефана быстро улучшалось. В мочеприемник потекла моча, и мальчик – как мы и ожидали – проснулся ранним вечером, после чего трахеальную трубку убрали. Он злился на всех – даже на свою несчастную мать, – но зато порозовел, на его щеки вернулся румянец, а ноги и ладони, которые крепко сжимали родители, были теплыми. Просто Стефан не испытывал особого восторга от «чужих», что, выходя из его тела, пульсировали прямо у него под носом: бесценные, спасающие жизнь приборы, способные при этом не на шутку перепугать ребенка.
Шли дни, и мне не терпелось узнать результаты биопсии, чтобы продумать следующий шаг. С «берлинским сердцем» Стефан мог продержаться несколько недель, а возможно, и месяцев, но восстановится ли его сердце? Я в этом сильно сомневался, так что следовало позаботиться о пересадке. От природы крайне любопытный, я не выдержал и сам отправился в лабораторию, где попросил показать мне окрашенные образцы тканей, взятые у Стефана и Джули. Я всегда проявлял повышенный интерес к своим пациентам – собственно, поэтому я никогда не пропускал вскрытие тех из них, кто в конечном счете погиб. Лаборанты знали меня достаточно хорошо и всегда радовались возможности узнать мое мнение.
Сердечная мышца Джули была густо пронизана белыми клетками крови – лимфоцитами, которые участвуют в иммунной реакции на вирусную инфекцию. Вирусы слишком малы, чтобы их можно было разглядеть в световой микроскоп, но по лимфоцитам всегда можно понять, есть инфекция или нет. В этом образце обнаружились миллионы лимфоцитов, мышца распухла и отекла вследствие воспалительного процесса.
Со Стефаном все было иначе: я увидел такое, что никак не рассчитываешь обнаружить в сердце десятилетнего ребенка. Большая часть сердечной мышцы оказалась замещена фиброзной тканью, но произошло это не в результате нарушенного кровоснабжения. К тому же никаких лимфоцитов не было. У Стефана действительно развилась идиопатическая дилатационная кардиомиопатия – долгосрочное увеличение сердца без явной причины, и одним только отдыхом проблему не решить. Мальчику чертовски не повезло. В случаях Стефана и Джули имелась лишь одна общая характеристика: мы успели вовремя вмешаться. Еще чуть-чуть – и обоим не удалось бы помочь. Итак, дальнейший ход событий стал очевиден: Стефану не обойтись без чужого сердца.
В те дни, равно как и сейчас, ни одна больница и ни один хирург в стране не могли самостоятельно организовать пересадку сердца, даже если бы идеально подходящий донор с мертвым мозгом и пациент, нуждающийся в новом сердце, лежали на соседних койках. Требовалось неукоснительно соблюдать процедуру принятия решений и непременно обращаться в Трансплантационную службу Великобритании. А там в свое время решили – с целью оптимального использования дефицитных донорских органов и их равномерного распределения – упразднить категорию неотложных пациентов. Таким образом, в те дни донорские органы предоставлялись трансплантационным центрам в порядке строгой очередности. Многие из тех, кто получал донорское сердце, жили не в больнице, а у себя дома – подключенные, как и Стефан, к аппаратам жизнеобеспечения. Сейчас-то мы достоверно знаем, что большинству из таких амбулаторных пациентов пересадка практически не принесла пользы, многие и вовсе умерли из-за осложнений вскоре после операции. Драгоценные органы расходовались понапрасну, в том числе поэтому я так стремился найти альтернативу трансплантации. Более того, в случае проведения операции по пересадке донорского органа, полученного не по официальным каналам, отделение трансплантации, где это произошло, должно было отчитаться перед Трансплантационной службой, которая затем помещала это отделение в самый конец очереди.
Все сильнее переживая, что мы не найдем Стефану сердце, я постарался как можно раньше связаться с больницей на Грейт-Ормонд-стрит и поставить его в очередь. Я позвонил хирургу-трансплантологу Марку де Левалю, с которым вместе проходил практику, которого глубоко уважал и который активно поддержал мою идею создать в Оксфорде – фактически с нуля – центр врожденных патологий сердца. За долгие годы работы я направлял к нему всех тяжелых пациентов, когда чувствовал, что он справится лучше меня: в кардиохирургии нет места гордыне или заносчивости. Я объяснил ему, что мы уже пытались перевести к ним Стефана до того, как его состояние резко ухудшилось.
Марк знал об этом случае и хотел помочь. А кроме того, он хотел своими глазами увидеть работающее «берлинское сердце». Хотя состояние Стефана и стабилизировалось, ему все равно угрожала большая опасность, поэтому Марк без проблем поставил его в очередь, как если бы мы действительно доставили мальчика на Грейт-Ормонд-стрит неделей раньше.
Если ты не можешь с чем-то справиться – обратись за помощью. В хирургии нет места гордыне и заносчивости.
Правда, возникла другая проблема. Транспортировка Стефана, подключенного к «берлинскому сердцу», влекла за собой неоправданно высокий риск. Когда мы попросили службу скорой медицинской помощи переправить мальчика, нам не смогли гарантировать, что заряда батарей хватит на время перевозки, особенно если учесть вероятность попадания в пробку или поломки машины. Таким образом, мы с оксфордским трансплантационным координатором должны были предварительно все подготовить: подтвердить группу крови пациента, организовать проверку тканей на совместимость, а также анализ на наличие необычных антител в крови. Если мы найдем подходящее донорское сердце, то проведем пересадку здесь, в Оксфорде, – главврача наверняка хватит удар.
Развязка наступила раньше, чем мы ожидали, но у нас все было готово. С каждым днем Стефану становилось лучше: физическая слабость еще не прошла, но сердечная недостаточность больше не беспокоила его. На следующих выходных мы получили сообщение от трансплантационного центра. Всего в тридцати милях от Оксфорда в больнице Харфилда готовились пересадить сердце и легкие девушке-подростку с кистозным фиброзом, умиравшей от легочной недостаточности. Вот уже несколько лет она пользовалась дома кислородным баллоном, но в последнее время была прикована к кровати, и сейчас ее состояние стало критическим. Девушка вся посинела, с трудом хватала ртом воздух, постоянно кашляла кровью, давление в легочной артерии сильно возросло. После того как ей пересадят донорские легкие и сердце, ее собственное сердце можно будет отдать Стефану. Таков был план. Подобные процедуры по очевидным причинам называют домино-пересадками. В те годы такие операции были редкостью, а сейчас их и вовсе не проводят.
Едва пациентку с кистозным фиброзом положили в больницу Харфилда, команда по изъятию органов взялась за дело. Их транспортировка была задачей крайне непростой, поскольку донор находился за много миль от больницы и изымать органы должны были четыре хирургические бригады: одна должна была взять сердце и легкие, другая – печень, а еще две – по одной почке. После этого органы следовало доставить в разные города. Чем-то все это напоминало кружащих над жертвой стервятников, готовых оторвать лакомые кусочки от тела, пусть и с самыми благими намерениями. Члены команды отправились в путь посреди ночи; их поездки порой бывали рискованными: несколько вертолетов, перевозивших по воздуху донорские органы в плохую погоду, пропали без вести.
После того как была установлена тканевая совместимость между больной фиброзом девушкой и Стефаном и подтвердилось, что у них одна группа крови, мы запланировали все провернуть в ночь на субботу. Что могло быть лучше? Операцию проведем в Оксфорде тихим воскресным утром – шумихи будет минимум.
И еще одна хорошая новость: сердце не подверглось неблагоприятным физиологическим изменениям, которые являются следствием смерти мозга. Донорам с черепно-мозговой травмой нередко ограничивали потребление жидкости и назначали мочегонное, чтобы снизить давление в черепной коробке, что в итоге (наряду с повреждением гипофиза) часто требовало проведения реанимационных мероприятий с использованием нескольких литров жидкости. Многим донорам для поддержания нужного уровня давления давали убойные дозы лекарств – как результат, поврежденное сердце часто отказывало вскоре после пересадки. Я проработал в больнице Харфилда три года и знал что к чему.
Координатор из больницы на Грейт-Ормонд-стрит должен был держать нас в курсе происходящего. Сердце для домино-пересадки планировали вырезать из груди пациентки, ожидавшей донорских сердца и легких, в районе семи утра. К тому времени, как оно поступит к нам в пластиковом контейнере со льдом, грудная клетка Стефана должна быть раскрыта и подготовлена для пересадки. Мы подключим его к аппарату искусственного кровообращения, чтобы убрать «берлинское сердце», а затем вырежем бесполезный орган вместе с подсоединенными к нему трубками. Моя команда придет пораньше, чтобы сразу же ринуться в бой.
Десятилетнему ребенку психологически непросто в такой ситуации, но Стефан все понял. Было видно, что он обрадовался скорому избавлению от «чужого», который поселился у него в животе, и смирился с тем, что будет дальше, хотя и почувствовал смятение. Он ненавидел торчавшие из живота четыре трубки диаметром с садовый шланг, по двум из которых текла синяя кровь, а по двум другим – ярко-красная, и точно так же ненавидел шумные пульсирующие диски у себя под носом. Изначально мы предупредили Стефана, что он может провести месяцы подключенным к этому оборудованию, так что быстро появившийся донорский орган стал для него приятным сюрпризом.
Однако мы не сказали ему, каков риск плохого исхода, а в те дни он составлял от пятнадцати до двадцати процентов. Мальчик мог умереть из-за последующего отказа донорского сердца, инфекции или отторжения пересаженного органа. Впрочем, ему досталось сердце, взятое у живого человека, а значит, особенно сильное. Да и результат анализа тканей на совместимость обнадеживал. Никаких поводов для тревоги. Просто мы должны были сделать все как надо. Родители Стефана сидели с ним с шести утра и большую часть ночи не сомкнули глаз, переживая все сильнее, несмотря на веру в то, что все закончится хорошо. Постепенно они заразили своим беспокойством и сына.
Пересадка сердца, взятого у живого человека, увеличивает шансы на успешную операцию. Остается только все сделать правильно.
Я предложил Марку встретиться с ними. Они вместе со Стефаном уже находились в наркозной комнате, где не особо развернешься из-за стоящего вокруг оборудования. Марк забегал глазами по «берлинскому сердцу» – единственной на тот момент вспомогательной желудочковой системе, подходящей для маленьких детей. Больнице на Грейт-Ормонд-стрит не помешало бы обзавестись таким же устройством – оно спасло бы немало детей, которые иначе рисковали бы не дожить до пересадки сердца.
На пороге появился Кацумата с новостями: донорское сердце покинуло Харфилд. Поскольку воскресным утром пробок на дорогах не было, его доставят в Оксфорд через полчаса. Надо погружать Стефана в наркоз. Пришла пора прощаться – очень тяжелый момент для родителей и (к счастью, совсем ненадолго) для Стефана. Кейт, анестезиолог, успела все подготовить. В капельницу ввели анестетики – вскоре все душевные терзания мальчика закончатся. Луиза, медсестра-анестезист, кивнула, и родителей вывели за дверь. Те крепко обняли друг друга; их беспокойству не суждено закончиться так быстро. Как будто они недостаточно натерпелись!
Далее события развивались стремительно. Операционные медсестры Линда и Паулина протерли грудь ребенка розовым антисептическим раствором хлоргексидина, который я затем насухо вытер, потому что эта жидкость огнеопасна. Стефана накрыли стерильными зелеными простынями. Марк, Кацу и я вымыли руки, надели хирургические костюмы и перчатки. Часы тикали.
Мы вскрыли швы на коже Стефана, разрезали проволоку, удерживавшую грудину вместе, и аккуратно установили ретрактор между многочисленными трубками. Как всегда при повторных операциях на грудной клетке, вокруг сердца и трубок мы обнаружили свернувшуюся кровь, которую удалили отсосом, после чего промыли соляным раствором сердце и околосердечную сумку. Все должно быть идеально чистым: нового постояльца должен встретить опрятный дом, а не мусорная свалка – да и нам требовалось найти место для трубок аппарата искусственного кровообращения. Как только его подключили, мы могли бы отсоединить «берлинское сердце», разрезать трубки поближе к сердцу Стефана и убрать их из операционного поля.
Но мы не собирались этого делать, пока донорский орган не окажется у порога. В дороге могло произойти что угодно: авария, прокол колеса… Или же кто-нибудь мог уронить сердце на пол прямо в операционной, как случилось с Кристианом Барнардом в Кейптауне. Его брат Мариус уронил сердце, изымая из тела донора, в то время как ожидавший пересадки пациент находился в соседней комнате. Вот это я понимаю – оплошность!
В четверть десятого нам доставили коробку с донорским органом, обложенным пакетами льда. Мы поставили контейнер на отдельный стол, осторожно распаковали и опустили сердце на лоток из нержавеющей стали. Оно лежало в солевом растворе при четыре градусах выше нуля – холодное и безжизненное, словно сердце овцы на прилавке мясника. К счастью, мы знали, как его оживить, и были абсолютно уверены, что оно запустится и снова возьмется за работу. Итак, я сказал Брайану отключить «берлинское сердце» и запустить АИК.
Мы в последний раз опорожнили сердце Стефана, и оно, совершенно бесполезное, осело в околосердечной сумке. Марк занялся подготовкой донорского органа, а я по очереди отрезал четыре пластиковые канюли. Кацумата достал их из грудной клетки и выбросил. Настало время вырезать неисправное сердце Стефана, что мы и сделали, оставив околосердечную сумку пустой – любопытнейшее зрелище. Грудная клетка без сердца. Должно быть, Барнарду было по-настоящему страшно делать это в первый раз – все равно что не увидеть двигателя, заглянув под капот автомобиля.
Соблюдая строгую последовательность действий, мы пересадили донорское сердце, и теперь было крайне важно аккуратно совместить его с кровеносными сосудами, чтобы те нигде не перекручивались. Это может показаться очевидным, но донорские сердца скользкие и мокрые, и удержать их на месте чрезвычайно сложно.
Когда пересаживаешь сердце, полезно иметь в голове четкое трехмерное изображение конечного результата. Я в этом плане счастливчик: в наследство мне достались симметрично развитые полушария мозга, то есть я одинаково хорошо использую двигательную кору обоих полушарий. Я могу оперировать любой рукой. Пишу я обычно правой рукой, подаю в крикете левой, а играя в футбол, предпочитаю бить по мячу левой ногой. Подобное умение помогает во многом, но в хирургии – особенно, оно гораздо важнее способности учиться и сдавать экзамены.
С другой стороны, пересадка сердца – дело простое. Нужно взять солидные куски ткани предсердий у донора и реципиента и как можно аккуратней пришить их друг к другу, чтобы все было герметично. Когда пришьешь аорту к предсердию, с нее можно снимать зажим, что знаменует завершение «ишемического периода» – критически важного промежутка времени, в течение которого сердце было лишено кровоснабжения через коронарные артерии после извлечения из тела донора и от продолжительности которого зависит вероятность успешной пересадки. Мы знаем, что лучше всего пересаживать сердца от молодых доноров с коротким ишемическим периодом и совместимой группой крови. Но толку от этого знания мало. Пациентам приходится довольствоваться тем, что есть: заполучить донорское сердце – уже большая удача. Вот почему в наши дни сердце изымают даже у «пограничных» доноров: стариков за шестьдесят, курильщиков и людей с некоторыми видами рака.
Пересаженное сердце лучше приживается, если взято у молодых доноров. Но на практике заполучить хоть какое-нибудь донорское сердце – редкая удача, а потому приходится довольствоваться тем, что есть: сердцем старика или курильщика.
Однако в случае со Стефаном все выглядело многообещающе. Кровь заструилась по коронарным артериям и вернула сердечную мышцу к жизни. Буквально мгновением ранее она была обмякшей и светло-коричневой – теперь же стала практически фиолетовой и усердно трепыхалась в груди. Пока сердце приходило в себя, мы зашили последний стык между поврежденными легочными артериями, после чего удалили весь воздух. Воздушные пузырьки в мозгу точно не принесли бы Стефану пользы.
По предложению Марка мы на час оставили пересаженное сердце подключенным к аппарату искусственного кровообращения. Подумать только: этот драгоценный орган запросто могли выбросить в мусорный контейнер вместе с пораженными болезнью легкими! Его вторая жизнь – одно из чудес современной медицины. Без нашей помощи сердце восстановило естественный ритм и принялось перекачивать кровь, постепенно набираясь сил, после чего без труда переняло эстафету у АИК.
Теперь мы опасались двух основных проблем. С одной стороны, могло произойти отторжение донорского сердца, если окажется, что мы недостаточно сильно подавили иммунную реакцию организма. С другой – слишком сильное подавление иммунитета могло вызвать серьезную, а то и вовсе смертельную инфекцию. Таким образом, когда Стефан восстановится после операции, его нужно будет доставить в больницу на Грейт-Ормонд-стрит, где за ним присмотрят специалисты из трансплантационного центра. А до тех пор мы продолжим поддерживать в мальчике жизнь. Марк сообщит, когда появится свободная койка.
Всю следующую неделю Арчер вместе с персоналом педиатрической палаты интенсивной терапии помогал нам заботиться о Стефане, после чего мальчика перевели в Лондон. Мы поддерживали контакт с лондонскими врачами и следили за дальнейшим развитием событий. После нескольких скоротечных кризов отторжения Стефан поправился практически без осложнений, что казалось немыслимым, если учесть его первоначальное состояние. Прошло почти двадцать лет, и мы до сих пор следим за его судьбой. Он уже обзавелся собственной семьей, и все благодаря идеальному донорскому сердцу, пересаженному в кратчайшие сроки, – спасибо моим друзьям из Берлина и с Грейт-Ормонд-стрит.
Те несколько летних недель стали по-настоящему прорывными. Мы первыми в Великобритании временно вживили пациентке искусственный желудочек, послуживший мостом к выздоровлению, после чего – опять же первыми – временно вживили ребенку вспомогательную желудочковую систему, послужившую мостом к трансплантации сердца. Два неотложных случая, где нам пришлось импровизировать на ходу и подключать коллег из-за границы. Больница на Грейт-Ормонд-стрит взяла на вооружение «берлинское сердце» для своей программы по пересадке сердца, которая изначально финансировалась из благотворительных фондов. Затем эта технология стала первой и единственной одобренной в США вспомогательной системой для лечения детей с острой сердечной недостаточностью. Таковой она остается и по сей день. Стоит ли упоминать, что в Оксфорде мы больше никогда не применяли «берлинское сердце». Дети с острой сердечной недостаточностью либо своевременно попадали в больницу на Грейт-Ормонд-стрит, либо умирали. Джули и Стефан полностью опустошили мой научно-исследовательский фонд. Но разве есть цена у двух молодых жизней?
10. Жизнь на батарейках
Мы обсудим теперь несколько подробнее борьбу за существование.
Чарльз Дарвин. «Происхождение видов».Все началось теплым утром в первую неделю июня на рубеже тысячелетий. В одиннадцать часов раздался нерешительный, чуть ли не извиняющийся стук в дверь моего кабинета. На пороге показался Питер – ростом почти с дверной проем. Он опирался на трость, с трудом держась на ногах и обильно потея. Его голова была наклонена вперед, а губы и нос посинели. Дышал он с большим трудом. Из гордости он отказался, чтобы его вкатили в инвалидной коляске: подобные вещи по-прежнему имели для него значение, хотя несколькими неделями ранее он прошел обряд соборования. Тщетно стараясь скрыть боль, он медленно поднял голову и уставился перед собой. Мы с ним еще не встречались; как и Стефан, он напомнил мне жертву концлагеря – ходячего мертвеца, уже потерявшего надежду.
Вид Питера настолько потряс мою секретаршу Ди, что я решил заговорить первым.
– Должно быть, вы Питер. Проходите, пожалуйста, и присаживайтесь.
Позади согнувшегося Питера стоял его приемный сын, инвалидную коляску он оставил в коридоре. Я попробовал снять напряжение шуткой:
– А вы заплатили за парковку коляски?
Они не оценили моего юмора.
Шаркающей походкой Питер медленно пересек мой кабинет и начал рассматривать мои сертификаты, грамоты и прочие награды на стене. Он меня изучал. Будучи человеком религиозным, он работал духовным наставником для больных СПИДом в терминальной стадии. Теперь же круг замкнулся, и его самого ждала неминуемая смерть. Его светлая голова сделалась частью бесполезного из-за сердечной недостаточности тела. Он ожидал скорого конца – чем раньше, тем лучше. Жестом я предложил ему сесть в кресло. Поставив трость в сторону, он с кряхтением уселся.
Настала моя очередь его изучать. Малейшее усилие вызвало у него одышку, живот раздуло из-за увеличенной печени и скопившейся жидкости, а ноги отекли, сделавшись чуть ли не фиолетовыми. Он носил сандалии на несколько размеров больше с натянутыми на распухшие ступни носками, из-под носков выступала покрытая пятнами повязка, скрывавшая язвы на ногах. Не было нужды осматривать пациента. Очевидно было, что у него последняя стадия сердечной недостаточности. Я поразился тому, что он вообще решился выйти из дома, хотя в любую секунду мог умереть.
За несколько месяцев до этого мы с одним коллегой написали открытое письмо членам Британского кардиологического общества (так оно тогда называлось), чтобы объявить о нашей готовности приступить к испытаниям новой революционной разновидности искусственного сердца – модели «Джарвик-2000». Нам требовались пациенты с хронической сердечной недостаточностью в терминальной стадии, которым было отказано в пересадке сердца. Питер идеально подходил под эти критерии.
Я уже ознакомился с медицинской картой, которую мне предоставил кардиолог Питера. Несколько лет назад у него диагностировали дилатационную кардиомиопатию, которая стала следствием вирусной инфекции, поразившей сердечную мышцу. Питер заболел гриппом, который вызвал миокардит, но затем вроде бы поправился. Во всяком случае, такое складывалось впечатление. Однако сейчас его сердце было увеличенным и ослабевшим, сердечный ритм – нарушенным, а митральный клапан протекал. Такие пациенты обычно умирают в течение двух лет после постановки диагноза, а для Питера этот срок миновал. Его не раз госпитализировали в связи с затрудненным дыханием и жидкостью в легких, которая без экстренной терапии с применением диуретиков быстро погубила бы его.
С каждым разом Питеру давали все более убойные дозы лекарств, после чего симптомы ненадолго ослабевали. Наконец дозировки всех препаратов, которые в принципе могли ему помочь, достигли максимальных значений, а единственная почка начала отказывать. За несколько месяцев до этого кардиолог Питера поинтересовался у лондонских хирургов, не могут ли они хотя бы подлатать митральный клапан, тем самым увеличив шансы пациента прожить подольше. Но когда Питер пришел к ним на прием, ему сказали, что уже слишком поздно и операция была бы чересчур рискованной.
В больничной документации Питера описывали как пациента с огромным количеством жидкости в организме, жестокой одышкой и мгновенной утомляемостью при малейшем усилии; он был не в состоянии лежать на спине и спал с подложенными под спину подушками или сидя в кресле. Таким я запомнил своего дедушку.
Но вернемся ко мне в кабинет. Питер все потел, пытаясь перевести дыхание, чтобы заговорить. Помню, как подумал, что этому человеку повезет, если он переживет стрижку в парикмахерской, и поразился тому, что его действительно хотели отдать мне под нож. С другой стороны, именно для таких пациентов и предназначены искусственные сердца. Это то самое невыносимое существование, которое они призваны улучшить; симптомы, с которыми они должны помочь; жизнь, которую должны продлить. Между тем волнение Ди немного поутихло, и она принесла чай. Питер ее поблагодарил. Теперь мы могли поговорить.
Я поблагодарил Питера и его сына за усилия, которые они приложили, чтобы прийти, после чего спросил, как он попал ко мне. Выяснилось, что Питер работал психологом в Мидлсекской больнице Лондона и по иронии судьбы писал книгу под названием «Здоровая смерть». Всего несколькими днями ранее он, вопреки болезни, встретился со своим соавтором – доктором Робертом Джорджем, консультантом по паллиативной медицине в клинике Университетского колледжа Лондона.
Искусственные сердца предназначены для пациентов, существование которых невыносимо им самим.
Питер хотел попрощаться напоследок, но ему стало так плохо, что Роберт пошел к кардиологу, чтобы узнать, можно ли предпринять хоть что-нибудь. Ожидая, пока коллега закончит с пациентом, он бросил взгляд на информационный стенд и увидел объявление, где говорилось, что в Оксфорде занимаются испытаниями насосов для сердца. Он узнал имя хирурга – Стив Уэстаби, поскольку работал со мной, когда я был младшим врачом. Вместе с кардиологом они решили выяснить, смогу ли я помочь Питеру.
Чтобы не ходить вокруг да около, я сразу сообщил Питеру, что мы и правда можем помочь друг другу. Мне выпала возможность сделать то, чего никто до меня не делал. И если все получится, можно будет спасти сотни тысяч пациентов по всему миру. Я прямо заявил, что мне нужен подопытный кролик, на роль которого Питер идеально подходит.
Я достал «Джарвик-2000» из ящика стола, чтобы показать Питеру и его сыну. Титановая турбина была размером с мой большой палец, и я объяснил, что насос разместится непосредственно в сердце, у его заостренной верхушки: левый желудочек Питера настолько велик, что в нем более чем достаточно свободного пространства. Мы пришьем к мышце ограничительную манжету, которая будет удерживать насос на месте, после чего проделаем в стенке сердца отверстие и просунем насос внутрь. Турбинный насос будет на высокой скорости выкачивать кровь из отказывающего сердца и подавать ее через сосудистый имплантат в аорту – главный кровеносный сосуд организма.
Я продемонстрировал, как турбина насоса вращается внутри трубки. Она крутилась с невероятной скоростью: где-то между 10 и 12 тысячами оборотов в минуту, перекачивая ежеминутно не менее пяти литров крови – ровно столько же, сколько и обычное сердце, только непрерывным потоком. Насос не наполнялся, чтобы потом выбросить кровь в сосуды, как делает живое сердце, так что про пульс можно забыть. Единственная потенциальная проблема заключалась в том, что правой части сердца придется справляться с усиленным кровообращением. Но если правый желудочек выдержит напор насоса, сотворенного руками человека, то вся система будет работать не хуже пересаженного сердца. Если же правый желудочек не справится, то Питера ждет смерть.
Питер вздрогнул, услышав слово «пересадка».
Не следует недооценивать психологическую травму, которую получает пациент, когда ему отказывают в трансплантации сердца – последней надежде предотвратить надвигающуюся смерть.
Питер испытывал горечь, потому что дважды проходил отбор. В первый раз ему сказали, что он недостаточно болен, чтобы претендовать на донорское сердце. Во второй раз, когда Питеру стукнуло пятьдесят восемь, заявили, что он уже слишком болен.
Я постарался обрисовать ему общую картину. Отбор кандидатов на пересадку сердца – процесс безжалостный. Называть пересадку сердца традиционным, общепринятым методом лечения пациентов с сердечной недостаточностью – это то же самое, что заявить, будто выиграть в лотерею – лучший способ заработать деньги. В 1990-х годах пациентов старше шестидесяти вообще не рассматривали в качестве кандидатов. Ежегодно в Великобритании насчитывалось порядка двенадцати тысяч людей моложе шестидесяти пяти лет, страдающих тяжелой сердечной недостаточностью, тогда как донорских сердец не набиралось и ста пятидесяти. Само собой, трансплантологи отдавали предпочтение тем, кому донорское сердце принесло бы максимальную пользу, а таких было крайне мало.
Мне же хотелось помочь людям, оказавшимся в том же положении, что и Питер, – безнадежно больным, которым ни за что не дождаться донорского сердца и чьим последним пристанищем становилась «паллиативная помощь» – прием наркотических препаратов, заглушающих муки медленной, некрасивой смерти. Питер отказался от этого варианта. Он объяснил, что слишком хорошо знаком со смертью, так как ему довелось утешать более сотни пациентов в последние дни их жизни: «Я говорил, что им нужно сделать и что они могут сделать, описывал стадии принятия смерти и все в таком духе». Не лучший момент, чтобы мериться количеством погибших, но я к тому времени отправил на тот свет как минимум в три раза больше людей.
Немного восстановив силы, Питер смог оценить меня и слегка оживился – через истощенную болезнью телесную оболочку засияла выдающаяся личность. Улыбка осветила серое лицо и фиолетовый нос, и я проникся теплом к этому человеку. Он был столь удручен постоянными отказами, что ничего не ждал от нашей встречи. Совсем наоборот. Он ждал, что ему снова откажут.
Я всерьез сомневался, что он сможет перенести общий наркоз. Однако, если мы прооперируем Питера, никто потом не сможет заявить, будто мы взяли удобного для наших целей пациента или того, кому кровяной насос был не так уж и нужен. И больничный комитет по этике, и Агентство по медицинским приборам настояли на независимой проверке того, что первым, кому имплантируют «Джарвик-2000», будет безнадежно больной человек, которому осталось совсем недолго. Питер, безусловно, полностью соответствовал этому критерию. Таким образом, решение оставалось за мной. Поддавшись импульсу, я сказал Питеру, что для нас будет большой честью, если он позволит ему помочь, и что если он согласится, то получит прибор. На его лице промелькнуло удивление, а затем он расплылся в улыбке. Он получил свой выигрышный лотерейный билет.
Жизнь некоторых пациентов невыносима настолько, что сообщение о том, что в случае неудачной операции они умрут, – хорошая новость.
Он спросил, каковы его шансы. Я ответил, что где-то пятьдесят на пятьдесят, хотя и знал, что это чересчур оптимистичная оценка. Как и многие пациенты, сильнее всего Питер волновался из-за того, что во время операции пострадает мозг и в итоге состояние здоровья лишь ухудшится. Я заверил его, что в случае неудачи он непременно умрет. Странный способ успокаивать кого-либо, но Питера обрадовала идея того, что наша неудача обернется для него смертью. Его нынешняя жизнь была невыносимой, но он – набожный католик – не мог и помыслить о самоубийстве. Неудачная операция стала бы для него своего рода эвтаназией, причем не затрагивающей вопросы морали.
Я спросил его о жене. Почему она не пришла вместе с ним? Диана работала учительницей и не могла, не договорившись заранее, отлучиться из школы. Совместными усилиями они основали Национальную ассоциацию бездетных, написали книгу «Как справляться с бездетностью» и воспитали одиннадцать приемных детей. В молодости Питер играл в регби, прямо как я. Я чувствовал, что он хороший человек; если удастся продлить ему жизнь, он использует подаренное ему время с толком.
Я показал ему оборудование и спросил, сможет ли он смириться с жизнью на батарейках. Ему придется постоянно носить с собой контроллер и аккумуляторы в наплечной сумке. Если аккумуляторы сядут или отсоединятся, прозвучит сигнал тревоги. Придется менять их дважды в день, а на ночь подключаться к розетке. Прямо-таки научная фантастика.
На этом сюрпризы не закончились. Мы с доктором Джарвиком разработали революционный метод, позволяющий снабжать тело электроэнергией. Любой кабель, проходящий через брюшную стенку, в значительной степени уязвим для инфекции: кабель, окруженный жировой тканью и кожей, постоянно двигается, из-за чего в организм проникают бактерии, и иногда инфекция достигает самого электронасоса. У семидесяти процентов всех прооперированных пациентов из-за этого возникали проблемы, и многие нуждались в повторном хирургическом вмешательстве. Итак, вместо этого мы решили вставить Питеру в череп металлический штепсельный разъем. В коже головы почти нет жира, и она обильно снабжается кровью. А кость должна надежно зафиксировать штепсель на месте. Мы полагали, что эти факторы сведут к минимуму риск того, что кабель питания подхватит инфекцию.
Итак, в голове Питера будет встроенный штепсельный разъем, откуда электричество будет поступать в насос по кабелю, идущему через шею и грудную клетку. Чудеса! Чем вам не творение доктора Франкенштейна?
Питер нервно засмеялся. Его настроение менялось. Я объяснил, что придется сделать большой болезненный разрез с левой стороны грудной клетки, чтобы установить насос. Приятного мало. Кроме того, понадобятся дополнительные разрезы в шее и коже головы, чтобы закрепить систему электропитания. Питер спросил, делал ли кто-нибудь что-то подобное раньше. Нет, не делал.
– Но ведь это сработает? – уточнил он.
– Да, с овцами у меня все получилось.
Он снова засмеялся, а затем спросил, будет ли он слышать насос или чувствовать его у себя в сердце.
– Ну, овцы ни разу не жаловались!
Тут до меня дошло, что надо предупредить его об отсутствии пульса. Ротор насоса – его подвижная часть, вращающаяся на огромной скорости, – будет непрерывно подавать организму кровь, словно воду по трубам, тогда как живое сердце выбрасывает кровь порциями, из-за чего и появляется пульс. Выходит, медсестры и врачи не смогут нащупать у него пульс или измерить давление? Именно. Жизнь Питера будет другой, но, пожалуй, это предпочтительней неизбежной альтернативы.
Затем последовал другой вопрос, который напрашивался сам собой: если Питер потеряет сознание за пределами больницы, как окружающие смогут понять, жив он или нет? Затрагивать эту тему мне не хотелось, и я отделался расплывчатым ответом. Вместе с тем вопрос был совершенно уместен. Спустя несколько месяцев, зимой, другой пациент с насосом в сердце упал у себя дома и ударился головой. Через какое-то время его нашли – холодным, без сознания и без пульса. Бригада «Скорой» отвезла его прямиком в морг.
И последний вопрос Питера: нервничаю ли я из-за того, что собираюсь провести операцию из разряда научно-фантастических, которая к тому же с высокой вероятностью приведет к его смерти?
– Абсолютно нет, – ответил я. – Нет, если вы хотите, чтобы я это сделал. Я не из нервных. Профессия не позволяет.
Ответ не заставил себя долго ждать.
– Давайте тогда сделаем это.
Я попросил его в ближайшие дни обязательно обсудить эту затею с близкими и друзьями.
Оставалось еще кое-что. Мне нужно было своими глазами увидеть эхокардиограмму его сердца. На коляске мы отвезли Питера в отделение кардиологии и помогли ему забраться на кушетку. Одышка возобновилась, и вскоре мы узнали почему. Огромный левый желудочек чрезвычайно раздулся и почти не двигался. Из-за растянутой мышцы митральный клапан вообще не закрывался, но после установки насоса это станет не важно, при условии что не протекает аортальный клапан – а с ним все было в порядке. Насос будет засасывать кровь, не давая ей вернуться обратно. Левый желудочек работал достаточно хорошо, и в целом все выглядело благоприятно для проведения операции. Мне просто не стоило зацикливаться на вероятном риске. Права на неудачу у меня не было, потому что смерть первого же пациента означала бы закрытие программы.
Питер поднялся с кушетки и настоял на том, чтобы дойти до двери самому. Его походку сложно было назвать легкой, но у него имелось нечто куда более важное – надежда. Надежда, которая появилась впервые с тех пор, как ему дважды отказали в пересадке сердца. И теперь нам надо было браться за дело.
Жена Питера Диана и несколько из его приемных детей захотели поговорить со мной, и беседа вышла очень эмоциональной. Должен ли Питер цепляться за оставшееся ему непродолжительное время или стоит воспользоваться шансом на лучшую жизнь, несмотря на риск умереть на операционном столе? Диана сказала мужу, что не станет решать за него или указывать ему, как поступить, и что, какое бы решение он ни принял, она всецело поддержит его.
Через два дня после нашей встречи Питер подтвердил свое согласие на операцию. Теперь нужно было попросить Филипа Пул-Уилсона – ведущего европейского кардиолога, специализирующегося на сердечной недостаточности, – подтвердить неблагоприятный прогноз для Питера. Он мог прибыть в Оксфорд поздно вечером 19 июня. Уверенный в том, что он скажет, я запланировал операцию на 20-е.
Далее предстояло собрать команду из Хьюстона и Нью-Йорка. Предполагалось, что Бад Фрейзер, проводивший исследования на животных в Техасском институте сердца и имплантировавший куда больше искусственных сердец, чем любой другой хирург, станет почетным членом нашей операционной бригады. Доктор Джарвик должен был собственноручно привезти прибор из Нью-Йорка, а за два дня до операции мы положили бы Питера в больницу. Нужно было скорректировать медикаментозное лечение, которое он получал от сердечной недостаточности, и научить его управляться с контроллером и аккумуляторами. Кроме того, было не менее важно, чтобы с ним познакомились и другие члены операционной бригады.
Накануне операции Питера положили в отделение кардиореанимации. Сестра Дезире выбрила левую сторону его головы. Дэйв Пиготт, анестезиолог, вставил канюлю в артерию на запястье Питера, после чего установил широкую канюлю во внутреннюю яремную вену с правой стороны шеи. Затем он пропустил катетер-баллон через вены и правую часть сердца в легочную артерию.
Ближе к вечеру я привел Джарвика и Бада познакомиться с Питером. Тот поддерживал беседу довольно оживленно для человека, который менее чем через двенадцать часов мог с пятидесятипроцентной вероятностью умереть. Впервые за многие месяцы он заговорил о будущем – о том, что он сделает для поддержки нашей программы, если выживет, а также куда отправится в свой первый отпуск за несколько лет. В общем, говорили только о хорошем, что пошло на пользу всем нам. Теперь должен был появиться профессор.
Филип прибыл в пол-одиннадцатого вечера. Он обстоятельно поговорил с Питером, изучил его карту и уже после полуночи заглянул ко мне в кабинет, чтобы пожелать нам удачи. Эдриан Баннинг, оксфордский кардиолог Питера, сравнил его с человеком на трамплине, который готовится к прыжку, но при этом не знает, есть ли в бассейне вода.
Вот что написал Эдриан.
«С точки зрения функций организма Хоутон был мертв. Все, что у него оставалось, – исполненный разочарования разум. Прогноз при сердечной недостаточности хуже, чем при любой разновидности рака. Если состояние пациента не соответствует минимальным критериям для постановки в очередь на трансплантацию, то традиционная медицина мало чем способна помочь. У каждого кардиолога полно таких пациентов: будучи не в состоянии работать, они просто доживают свои последние дни в ожидании смерти».
Наутро, в половину восьмого, все собрались в наркозной комнате пятой операционной. Бад, как обычно, пришел в ковбойских сапогах и шляпе: привычное дело для Техаса, но не для Оксфорда. Я спросил у Питера, не появились ли у него сомнения и не хочет ли он что-нибудь сказать напоследок. Он ответил, что после операции ему станет лучше, независимо от ее исхода. Я бойко заверил его, что все будет в порядке: каждому пациенту не помешает услышать это перед общим наркозом.
Когда Питер отключился, мы уложили его правым боком на операционный стол, обнажив голову и шею слева, и я отметил линии предполагаемых хирургических разрезов несмываемым черным маркером. Мы собирались вывести питающий кабель через верхнюю часть грудной клетки, а затем провести его вдоль шеи и через левую часть головы. Эндрю Фрилэнд, – мой коллега, специализирующийся на кохлеарных имплантатах, – должен был установить в черепе базу для штепсельного разъема, пока мы будем вскрывать околосердечную сумку и аорту через большой разрез между ребрами в левой части грудной клетки.
С некоторым волнением я вскрыл бедренную артерию и вену в паху, чтобы подключить Питера к аппарату искусственного кровообращения, после чего сделал надрез в груди, рассекая скальпелем жировую ткань и истощенные мышцы. Металлический ретрактор раздвинул ребра, открыв перед нами околосердечную сумку и легкие. Прямо за легкими располагалась аорта. Через дополнительный разрез в плече мы ввели в шею черный изолированный шнур питания, который затем вывели наружу позади левого уха. Это было непросто, так как приходилось действовать в непосредственной близости от крупных артерий и вен, не говоря уже о жизненно важных нервах, – крайне кропотливая работа.
На конце электрического кабеля располагался миниатюрный штепсельный разъем с тремя контактами. Да-да, самый настоящий штепсельный разъем: он вставлялся в титановую базу с шестью отверстиями под шурупы, которыми та должна была крепиться к черепу Питера с внешней стороны. Эндрю сделал за ухом разрез в форме полумесяца и соскреб с кости фиброзное покрытие. Затем с помощью электродрели просверлил в черепе сквозные отверстия для шурупов. И наконец разъем надежно прикрутили к черепу, добавив костной пыли, чтобы ускорить заживление тканей вокруг титанового корпуса. Все это мы придумывали на ходу.
Осталось проделать в центре кожного лоскута отверстие: через него будет выступать разъем, к которому можно будет подключить кабель питания, ведущий к аккумуляторам и контроллеру. После этого мы зашили разрезы на шее и голове. К установке насоса все было готово.
Я вскрыл околосердечную сумку. Печальное зрелище. Огромный трепыхающийся левый желудочек состоял больше из рубцовой, чем из мышечной ткани. Он почти не двигался, и спустя час после начала операции артериальное давление существенно упало, в крови скопилась молочная кислота, так что пришлось запустить АИК, чтобы помочь кровообращению. Бад держал титановый насос, а я отодвинул легкие, обнажив аорту. Сперва нужно было пришить сосудистый имплантат к аорте, и только потом устанавливать в сердце насос. Искусственный сосуд требовался подходящей длины – не слишком длинный, чтобы не перекручивался, но и не слишком короткий, что было бы куда хуже. К тому же необходимо было сделать безупречные швы, иначе кровопотери не избежать.
Рис. 5. Установленный в левый желудочек прибор «Джарвик-2000» (операция, проведенная Питеру Хоутону)
Кульминация приближалась. Мы начали пришивать ограничительную манжету к закругленной верхушке сердца, которое выглядело как сгнившая дыня. Отныне сердце Питера никогда не будет в одиночку отвечать за его кровообращение. С этого момента его жизнь будет зависеть от рукотворного прибора (рис. 5).
Все, что нам оставалось, – проделать выемку внутри сердечной мышцы через центр манжеты и вставить насос (все равно что удалить из яблока сердцевину, а затем впихнуть туда пальчиковую батарейку). Для Питера это был спасательный круг. Мы собирались сотворить человека без пульса, и пока все складывалось хорошо. В обтянутой манжетой сердечной мышце я сделал надрез крест-накрест, после чего специальным инструментом мы проделали выемку, в которую поместили насос. Все шло по плану – по крайней мере до сих пор.
Дезире держала в руках контроллер и аккумуляторы, готовая подключить кабель, едва получит указание. Когда я убедился, что ни в насосе, ни сосудистом имплантате не осталось воздуха, мы запустили насос на скорости 10 000 оборотов в минуту. Датчик потока показал, что прибор перекачивает четыре с половиной литра в минуту. Мы уменьшили поток в АИК, чтобы сердце Питера вместе с насосом взяло кровообращение на себя, постепенно переключаясь с внешней вспомогательной системы на внутреннюю. Наконец я сказал Брайану «вырубать». На все про все у нас ушло два часа.
Все взгляды устремились на экран кардиомонитора. Абсолютно прямая линия, отображавшая уровень артериального давления, показывала, что оно достигает не более двух третей от нормы; давление в венах также было ниже нормального. Хотя это и говорило о том, что правый желудочек справляется хорошо, давление все равно было чересчур низким. Кровоток должен быть достаточно сильным, иначе мощный насос опустошит левый желудочек и образуется затор. Мы стремились добиться баланса, при котором насос выполнял бы львиную долю работы, но левый желудочек продолжал бы выбрасывать небольшую часть крови.
И еще один момент: нужно было адаптировать план послеоперационного ухода к совершенно новой для человека физиологии без пульса – физиологии прямой линии. Мы с коллегами напрактиковались на множестве овец, поэтому знали, что от нас потребуется.
Последней и самой неприятной проблемой было кровотечение, которое следовало остановить. Из каждого разреза и прокола на теле Питера сочилась кровь, потому что раздутая печень перестала вырабатывать факторы свертывания крови – распространенная проблема среди пациентов, нуждающихся в искусственном сердце. Итак, мы ввели Питеру донорские факторы крови и тромбоциты – липкие клетки, ускоряющие заживление разрезов, после чего ординаторы закрыли грудную клетку.
Кто бы мог подумать, что со временем мы будем адаптировать план послеоперационного ухода к совершенно новой для человека физиологии без пульса – физиологии прямой линии.
Выйдя из операционной, мы проверили потребляемую мощность насоса: она составила семь ватт. Подача насоса колебалась между тремя с половиной и семью с половиной литрами в минуту и зависела от скорости вращения ротора, а также от артериального давления Питера, которое сейчас тормозило прохождение крови через насос. Это шло вразрез с привычной логикой: когда у Питера повышалось давление, кровоток значительно снижался. При недостаточном кровоснабжении мозга и остального тела в крови накапливается молочная кислота, а почки перестают вырабатывать мочу. Но пока все шло как надо. Насос справлялся с возложенными на него обязанностями.
Когда грудную клетку закрыли, а хирургические простыни сняли, Питера переложили на каталку, чтобы отвезти в палату интенсивной терапии. Там за него взялась команда первоклассных медсестер, в точности знавших, чего ожидать. Питера подсоединили к кардиомонитору, и вокруг собралась публика, чтобы лицезреть пациента без пульса – первого, кому имплантировали революционную модель искусственного сердца, которое должно остаться внутри него навсегда. Мы оставили Питера на попечении медсестер, дав указание вызвать нас, если что-то пойдет не так.
После самой будоражащей операции из всех, которые я когда-либо проводил, уснуть мне толком не удалось: до того я был возбужден. Поэтому в половину пятого утра, едва солнце встало, я зашел к Питеру в палату. Приложив к его груди стетоскоп, вместо привычного сердцебиения я услышал характерное непрерывное жужжание насоса. Единственная работающая почка перестала вырабатывать мочу, но этого мы ожидали. Больше всего меня тревожило то, что переливание крови вредно для легких, а Питеру влили уже тридцать пакетов. Поскольку его кровь теперь текла в обратном направлении – вверх по нисходящей дуге аорты к мозгу, оставалось только гадать, когда он придет в себя. Что ж, время покажет.
Я пошутил, что, несмотря на христианское вероисповедание, он стал монстром Франкенштейна, который подпитывается током через стержень в голове (из-за чего та сильно болела). Так или иначе, Питер решительно настроился выздороветь.
Состояние Питера оставалось стабильным на протяжении следующих тридцати шести часов, и он начал приходить в себя. Когда он смог самостоятельно дышать, кашлять и понимать наши указания, мы приподняли в кровати его массивное тело и вытащили дыхательную трубку.
Первое, что он сказал, увидев меня:
– Ну и засранец же вы.
Межреберная торакотомия[27] – процедура очень болезненная, а ведь у Питера, кроме того, были швы на голове, шее и в промежности. Тем не менее произнес он эту фразу с юмором, с улыбкой на лице. Он был рад, что все еще жив. Мы немного поговорили о том, как прошла операция.
Буквально за неделю почка начала неплохо функционировать, и необходимость в диализе отпала. Питер усиленно работал над тем, чтобы подняться с постели и вновь обрести подвижность, в чем ему помогал физиотерапевт. Хотя насос быстро восстановил нормальный кровоток, требуются месяцы, чтобы исправить разрушительные последствия хронической сердечной недостаточности. Здесь та же история, что и с пересаженным сердцем. Вместе с тем Питер не мог нарадоваться исчезнувшей одышке и тому, что левая часть сердца больше не давила на легкие. Он начал избавляться от литров жидкости, которая за долгие месяцы болезни скопилась в тканях, состояние его ног улучшилось, а нос и лицо порозовели.
Поразительно, но Питер покинул больницу всего через одиннадцать дней после операции – семья забрала его домой в Бирмингем. В Штатах столь стремительную выписку ни за что не допустили бы. Перед отъездом Питеру пришлось пообщаться с прессой: у входа в больницу его поджидали многочисленные фотографы. Он получил огромное удовольствие от происходящего. Наша англо-американская операционная бригада провела первую в мире операцию подобного рода, но главной звездой был Питер – пациент без пульса. Сам себя он называл киборгом.
Питер усердно занимался, и постепенно его физические возможности увеличивались. Живот через несколько недель начал сдуваться, потому что уходила жидкость, скопившаяся вокруг внутренних органов, а еще чуть позже Питер окончательно избавился от отеков ног. Спустя пять месяцев после операции, в ноябре, нормализовался даже его сердечный ритм.
Он был весьма разговорчив. По его словам, события, произошедшие после июня, превратили его из беженца, вынужденного уйти с работы и отказаться от всех радостей жизни, в человека, получившего вид на жительство. Его личное обаяние засияло в полную силу. Постоянные страх и растерянность сменились нескрываемой радостью из-за отсроченной смерти. На протяжении многих лет он не чувствовал себя таким здоровым.
Вот его слова.
«Очень раздражает, когда люди говорят, будто я был храбрым. Во мне не было ни капли храбрости. Я всего лишь поменял гарантированную медленную смерть на риск быстрой и безболезненной, а также на шанс выздороветь. Когда я только покинул больницу, то даже не осмеливался строить планы на будущее. Я просто радовался каждому прожитому дню. Теперь же я начинаю думать о том, что сделать с оставшимся временем, и обзваниваю всех друзей, чтобы сообщить, что я еще жив».
В Бирмингеме Питер стал предметом всеобщего любопытства. Волосы на голове отрасли не сразу, и любой прохожий мог отчетливо разглядеть разъем за ухом и идущий от него черный кабель. Дети подходили и спрашивали, зачем ему в голове этот стержень. Неужели он робот? Питер с превеликим удовольствием им все объяснял. Он чудесно отпраздновал Рождество, до которого даже не рассчитывал дожить.
Это не храбрость. Я лишь променял медленную смерть на риск быстрой и безболезненной и на шанс выздороветь. Я не строил планов на будущее, а теперь обзваниваю друзей, чтобы сказать им, что я все еще жив.
Однажды, отправившись за покупками в период январских распродаж, Питер ощутил резкую боль в голове. Незадачливый воришка схватил его наплечную сумку с контроллером и аккумуляторами, думая, что в ней фотоаппарат. Разъем питающего кабеля был выдернут из черепа, и насос прекратил работу. Малолетний грабитель хотел скрыться с сумкой в руках, но громко затрезвонил предупредительный сигнал об отключении питания. Почуяв неладное, парень бросил сумку и сбежал. Другие покупатели принесли ее Питеру, и тот невнятно пробормотал, что нужно как можно скорее воткнуть кабель в разъем. Одна пожилая дама помогла ему, хотя так и не поняла, что именно она сделала. Снова подключившись к электричеству, насос заработал с прежней силой.
– Мне стало дурно, – вспоминал Питер. – Но, думаю, дело было скорее в шоке, чем в чем-либо другом. Голова потом еще несколько дней сильно болела в области этой железки.
В первый год после операции Питер восстанавливал физическую форму, а на второй нашел цель, благодаря которой его жизнь обрела новый смысл. Благодаря искусственному сердцу продолжительность жизни Питера могла увеличиться более чем на десять процентов, и ему было крайне важно придать своему существованию смысл, а не просто быть экспонатом, вызывающим всеобщее изумление. Он принялся усердно трудиться, чтобы собрать деньги и привлечь к нашей программе общественное внимание, отчаянно желая, чтобы и другие пациенты получили такую же возможность, какую подарили ему. Вскоре он стал неотъемлемой частью нашей команды и начал консультировать кандидатов на установку искусственного желудочка и их близких.
Питер был не самым послушным пациентом. У него часто шла носом кровь, и, чтобы справиться с этим, он снижал дозировку прописанных ему антикоагулянтов. Кроме того, за отсрочку смертного приговора ему приходилось платить: каждые восемь часов менять аккумуляторы, подзаряжать их и повсюду носить с собой оборудование. Иногда перед выходом из дома он забывал заменять севшие аккумуляторы полностью заряженными. Однажды он сидел в стоматологическом кресле, когда сработал сигнал, предупреждавший о низком заряда батареи, и стоматологу пришлось спешно везти его домой.
Он продолжил заниматься писательством и опубликовал книгу «Death, Dying and Not Dying». Он искренне радовался всякий раз, когда его благотворительный фонд помогал больным людям получить искусственное сердце; ему было приятно находиться в компании других «киборгов», большинство из которых вернулись к активной, деятельной жизни.
В глубине души он не переставал надеяться, что функция его сердца восстановится достаточно, чтобы можно было отказаться от насоса. В известной степени так и произошло, но мы все же не поддались соблазну и не рискнули убрать прибор. И правильно сделали: позже сердце Питера вновь отказало, и последние три года жизни он полагался исключительно на насос. По иронии судьбы, ему в итоге предложили сделать пересадку сердца, но он демонстративно отказался даже обсуждать это.
Шестой и седьмой годы новой жизни ознаменовались для него возрастными проблемами, столкнуться с которыми Питер не предполагал.
Суставы рук поразил ревматоидный артрит, из-за чего писать стало затруднительно, а простата увеличилась настолько, что потребовалась операция. Ее провели в Оксфорде: ни одна другая больница не взялась бы оперировать столь особенного пациента. Как сказал Питер:
– Интересно, когда-нибудь тяготы достойной и полезной для общества жизни смогут свести на нет все ее прелести?
Во время последней поездки в Штаты в августе 2007 года Питер дал откровенное интервью газете «Вашингтон пост». Он признал, что установка искусственного сердца спровоцировала определенный духовный кризис, заставив его усомниться в католической вере. Ставя под вопрос само существование загробной жизни, он написал: «Кто знает? Это ведь всего лишь священники. Они мало что могут сказать, если начать их подробно расспрашивать на эту тему». У него развилась клиническая депрессия, и в течение полутора лет ему назначали антидепрессанты, которые он не принимал: «Несколько раз мне казалось, что миру будет лучше без меня. Что лучше дать возможность всем жить своей жизнью. Мне даже хотелось свести счеты с жизнью, но размышления о том, как именно это сделать, были мне неприятны. Я струсил». Свои суицидальные мысли он обсудил с психиатром:
«Он не особенно обеспокоился – сказал, что это совершенно рациональная реакция на тяжелые жизненные обстоятельства. И он не удивился. Не отговаривая меня, он посоветовал мне задуматься над тем, что я делаю. Он спросил напрямую: действительно ли я этого хочу? Да, я правда этого хотел, но, видимо, недостаточно сильно, чтобы преодолеть страх и довести дело до конца».
Мой дорогой киборг оказался там, где еще никто не бывал. Через семь с половиной лет после операции мы зашли далеко на неизведанную территорию. Прежде никому не удавалось прожить с искусственным сердцем более четырех лет.
Питер сказал: «После операции оказываешься в положении, с которым никто еще не сталкивался: никому не было известно, что делает с человеком жизнь на батарейках. Становишься живым изобретением, пытающимся смириться со своей сущностью, пытающимся преодолеть сложную эмоциональную подоплеку случившегося. Становишься бессердечным».
Он признался, что начал легкомысленно относиться к деньгам: «Становится все равно, превысишь ты баланс кредитной карты или нет. Когда времени остается совсем мало, можно и пожить в свое удовольствие. Думаешь: да какого черта, если я чего-то хочу, то обязательно это получу!»
Значительную часть собранных денег Питер потратил на посещение международных конференций, где к нему относились с почтением, ведь он был первопроходцем в революционной технологии. Вместе с тем последний абзац статьи в «Вашингтон пост» стал для всех откровением:
«Постепенно все приходит в норму. Больше не воспринимаешь себя чем-то странным или выходящим за рамки нормального. Меня вырвали из цепких лап смерти, превратив в самого настоящего киборга, и, несмотря на сложную психологическую трансформацию, это было нечто незабываемое. Череда взлетов и падений. Всяко лучше, чем просто умереть – так я думаю. Три дня из пяти – уж точно».
Меня вырвали из лап смерти, превратив в киборга. Это всяко лучше, чем умереть.
К тому времени Питер работал в благотворительном центре Бирмингема, где помогал бездомным и неимущим. Параллельно он организовал духовный ретрит в горах Уэльса, участвовал в благотворительном походе протяженностью в сотню миль, занимался пешим туризмом в Швейцарских Альпах и на американском Западе. Наш «ходячий мертвец» прожил после операции почти восемь лет. Как результат, Соединенные Штаты Америки и многие европейские страны начали активно использовать миниатюрные роторные насосы в качестве альтернативы пересадке сердца. Многие пациенты благодаря операции смогли вернуться к работе. По прошествии шестнадцати лет мы набрались достаточно опыта в медицинском уходе за такими пациентами и теперь идем к тому, чтобы обеспечить людям с искусственным сердцем ту же продолжительность жизни, что и у пациентов, перенесших трансплантацию.
Питер умер через несколько недель после публикации интервью в «Вашингтон пост». Я тогда был в Японии, активно продвигая вспомогательные желудочковые системы в стране, не признающей пересадку органов. Смерть Питера не была связана с нашим насосом или с его собственным больным сердцем. Однажды у него обильно пошла кровь носом, из-за чего окончательно перестала функционировать единственная почка. Питеру запросто могли сделать диализ – мы ведь помогали ему обходиться без почек в течение недели после первой операции, – но в местной больнице отказались что-либо предпринимать. Без медицинской помощи уровень калия в крови достиг предельно высокого значения, началась фибрилляция сердца, и насос отключился. Будь я в Англии, мы бы обязательно забрали его в Оксфорд и спасли. Этой смерти можно было избежать.
В борьбе за сохранение жизни живого существа природа умеет приспосабливаться к обстоятельствам внешнего мира.
Мы попросили у Дианы, вдовы Питера, разрешения провести вскрытие, чтобы узнать, каковы долгосрочные последствия кровообращения без пульса. Сам насос был в идеальном состоянии: никаких кровяных сгустков, а подшипники ротора почти не износились. Мы вернули прибор Робу Джарвику в Нью-Йорк, где он вот уже который год продолжает работать на стендовой испытательной остановке. Левый желудочек Питера так и остался раздутым и совершенно бесполезным с функциональной точки зрения. Единственное обнаруженное нами следствие многолетней работы насоса – истончение мышечного слоя в стенке аорты. Поскольку пульсовое давление Питера равнялось практически нулю, аорте больше не нужны были толстые стенки, как у остальных людей, – отличный пример того, как природа приспосабливается к обстоятельствам.
Питер оставил после себя богатое наследие. Его случай подтвердил громаднейший потенциал механических кровяных насосов: эти устройства способны обеспечить надлежащее качество жизни многим тысячам пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, которым было отказано в пересадке сердца. Сколько ни ищи, никакой этической дилеммы тут фактически нет, ведь людей, для которых предназначено искусственное сердце, ожидает в противном случае короткая и мучительная жизнь.
Питер ясно дал понять, что новая жизнь – это нечто особенное. Да, за нее приходится платить, и смерти все равно не избежать. Вместе с тем он первым раскрыл истинный потенциал кровяных насосов, и я был несказанно рад сыграть свою роль в создании того, что большинство людей считали невозможным. Питер был по-настоящему выдающимся человеком.
11. История Анны
Тело и разум, как муж и жена, не всегда решают умирать в один день.
Чарльз КолтонМоя работа заключается в том, чтобы помогать другим в самый уязвимый момент их жизни – после того как они узнают, что у них серьезные проблемы с сердцем. Когда они приходят ко мне, каждому из них ясно, что он может умереть, а некоторые и вовсе ожидают этого.
Одна дама была настолько уверена в своей приближающейся смерти, что это действительно произошло вскоре после простой и абсолютно рядовой операции. Никогда не стоит недооценивать силу человеческого разума. Он способен на многое.
Одно можно сказать наверняка. Для пациентов и их близких любой контакт с врачами сопряжен с сильными эмоциями. В случае с Анной это было актуально вдвойне. Ее жизнь началась непросто. Мать ее умерла, когда малышке исполнилось всего одиннадцать месяцев от роду, но ей повезло, что в ее жизни были две другие сильные личности. Отец, Дэвид, воспитал Анну в тихой деревушке в Оксфордшире вблизи от церкви (причем не только территориально), а позже ее поддерживал и в горе, и в радости муж Дез.
Через семь месяцев после того, как Анна появилась на свет, ее мать перенесла обширный инсульт. Совершенно неожиданно, ведь женщине не было и сорока, но почему болезнь настигла ее в столь молодом возрасте, никто так и не выяснил. Это был последний раз, когда она виделась с дочкой. Когда Дэвиду сказали, что его жена умирает, он тут же ринулся домой стирать пеленки.
Вместе с тем детство Анны было, по ее вспоминанием, счастливым: каникулы в Йоркшире и на острове Гернси, прогулки воскресными вечерами, пикники на природе. Дэвид открывал для нее необъятный окружающий мир; девочке особенно нравились птицы и растения. Она прилежно училась в школе, но религиозные собрания и культурный досуг в деревне привлекали ее куда больше книг. Превыше всего она обожала маленьких детей и с удовольствием за ними присматривала. В церкви именно она держала младенцев во время крещения, а также звонила в колокола, что было их давней семейной традицией.
Как и мать, Анна бросила школу и устроилась в банк. Она приходила на работу ранним утром и нередко задерживалась до позднего вечера. В любое дело она вкладывала сердце и душу. Ее отец как-то сказал: «Внутренняя сила Анны и ее упорство, скорее всего, стали результатом моего влияния, и я горжусь этим».
С будущим мужем Анна познакомилась, когда тот выгуливал своих собак. Они с Дезом полюбили друг друга, поженились в июле 1994 года и купили дом. Ей тогда было двадцать пять, и все у нее складывалось хорошо: как дома в деревне, так и на работе в банке.
Месяца через два после свадьбы Анна внезапно заметила, что начала чрезмерно уставать, буквально выбиваться из сил. Она списала это на работу допоздна. Затем появились приступы удушья, которые она объяснила паническими атаками. Как гром среди ясного неба на пальце ноги возникло красное пятно. Образовался волдырь, туда попала инфекция, и, хотя антибиотики с ней справились, девушка недоумевала, откуда мог взяться волдырь, который, кстати, никуда не делся. Она ни о чем не догадывалась, но это классические симптомы очень редкого и смертельно опасного заболевания – того самого, жертвой которого стала ее мать. Однако никто не постарался во всем разобраться, и жизнь продолжилась своим чередом.
В девять утра 29 августа 1994 года Анна лежала в постели с ужасной головной болью. Это не было похмелье: она не пила спиртного. Дез внизу читал газету; позже он вспоминал, что по телевизору показывали сериал «Скиппи» про мальчика с кенгуру. Внезапно комната закружилась у Анны перед глазами, и она ощутила, как теряет связь с реальностью, погружаясь в какое-то странное, чуждое место, находившееся в ее сознании. Она еще успела крикнуть Дезу, чтобы тот вызвал врача, а потом все потемнело. Анна слышала, как Дез разговаривает по телефону, и взволнованный голос мужа встревожил ее. Она понимала, что ей нужна «Скорая». Мозг знал, что она хочет сказать, но голос и рот не слушались. Было такое чувство, словно мозг отделился от тела, которое стало безжизненным и ни на что не реагировало. Происходящее напугало ее до ужаса.
Анну спешно доставили в больницу имени Джона Рэдклиффа в Оксфорде. При поступлении девушка была без сознания и парализована. Фельдшеры отвезли ее прямиком в отделение реанимации. «Дыхательные пути, дыхание, кровообращение»[28] – каждый врач, медсестра и фельдшер назубок знает последовательность реанимационных мероприятий.
Врачи вставили в трахею трубку, чтобы не дать пациентке задохнуться, после чего принялись вентилировать легкие вручную. Пульс был стабильный и четкий, а давление оказалось повышенным: высокое давление – обычный спутник травмы мозга. Итак, с кровообращением явных проблем не было. Или все-таки были? Удосужился ли кто-нибудь послушать сердце Анны? Заметил ли кто-нибудь волдырь у нее на ноге? Принял ли кто-нибудь во внимание раннюю смерть ее матери? Справедливости ради стоит отметить, что никто попросту не успел еще изучить ее семейный анамнез. Первым делом нужно было спасти Анне жизнь, а уже потом разбираться, что послужило причиной столь ужасного состояния.
Казалось очевидным, что у Анны был внезапно и катастрофически поврежден мозг. У молодых людей это обычно является следствием кровоизлияния в мозг из-за ослабленного с рождения и затем разорвавшегося кровеносного сосуда.
Ставить диагноз – все равно что собирать пазл. Необходимо сначала найти нужные детали, а потом сложить их воедино. Только тогда можно увидеть общую картину.
Имелось, однако, и другое потенциальное объяснение – парадоксальная эмболия. Эмболами называют частица инородного материала, попадающие в кровоток. Например, при переломе кости из костного мозга могут выделяться капельки жира, а при тромбозе глубоких вен могут отделяться тромбы, которые затем достигают легких. Если в кровь через канюлю или капельницу попадает пузырек воздуха, он способен закупорить сосуды, ведущие к мозгу, или вызвать образование воздушной пробки в сердце. Парадоксальная эмболия – это патологический процесс, при котором сгусток крови отделяется от вен в области ног или таза, но в итоге не задерживается в легких, а проходит через отверстие в сердце и попадает в мозг, что может, в свою очередь, спровоцировать внезапный и порой смертельный инсульт. Анне нужно было сделать МРТ, с тем чтобы провести срочную операцию на мозге. Впрочем, один признак внушал надежду. Зрачки были нормального размера и реагировали на свет. Мозг все еще оставался жив.
В кровь Анны ввели специальный краситель, чтобы при сканировании мозга рассмотреть расположенные в нем артерии. Такой способ открывает взору величественную архитектуру кровеносных сосудов мозга, напоминающих крону многолетнего дуба, – только на сей раз дуба со спиленной веткой: один из сосудов заканчивался преждевременно, хотя симптомов кровотечения и не было. Эмбол закупорил важнейшую артерию, питающую мозговой ствол, лишив кровоснабжения жизненно важный нервный центр.
Значительная часть белого вещества была уже мертва или сильно повреждена, в том числе нервы, ведущие к рукам и ногам, отвечающие за речь и за безусловные рефлексы. По всем признакам, пациентка находилась в коме, да еще, вероятно, ослепла.
Но как тогда Анна могла слышать и думать, если внешне складывалось впечатление, что она в бессознательном состоянии? Происходившее с ней напоминало фильм ужасов, где героя похоронили заживо в гробу с окошком, – тот самый пугающий синдром «запертого человека», при котором оказываются парализованы все произвольно сокращающиеся мышцы, за исключением тех, что отвечают за движения глаз. Причем больной способен лишь моргать и двигать глазами вверх-вниз – и больше ничего. Вместе с тем думающая часть мозга – его кора, она же серое вещество, – остаются целой и невредимой, и пациент все время пребывает в сознании, отдавая себе отчет о происходящем вокруг. Он все еще может думать, вот только не в состоянии пошевелиться и произнести что-либо вслух. Настоящий кошмар наяву.
Итак, Анна не теряла сознания. Ее голосовые связки не были парализованы, но она лишилась способности координировать дыхание и речь одновременно. Таким образом, хотя окружающим и казалось, будто она в глубокой коме, в действительности мыслительный процесс и слух Анны ничуть не пострадали. Разумеется, новая жизнь в западне собственного тела перепугала ее до ужаса. Она все видела – пусть и не знала никого из окружающих людей, – а также слышала настойчивый писк кардиомонитора. Нервная система утратила контроль над организмом, и Анна мерзла, несмотря на то что ее накрыли теплым одеялом. Создавалось ощущение, будто ее тело связали и заморозили.
Она помнила, как мужчина с кожей оливкового цвета, в зеленых брюках и рубашке пытался вставить ей в вену с тыльной стороны запястья какую-то трубку. Было больно. Она не могла напрячь ни единой мышцы, не могла издать не единого звука, но про себя истошно кричала. Мужчина ничего не говорил ей, будто они находились в разных мирах. На мгновение Анна решила, что умерла и теперь над ней проводят эксперименты. Но где же Бог? Почему она не в раю?
И кстати, откуда вообще взялся этот эмбол? Если из вены в ноге, значит, в сердце Анны должно быть отверстие, пропустившее его из правой половины сердца в левую. У многих здоровых людей есть небольшое овальное окно между правым и левым предсердиями, которое не заросло окончательно после периода внутриутробного развития. Плоду оно необходимо, чтобы переносить кровь из правой части сердца в левую, так как легкие еще не функционируют. Нужно было сделать Анне эхокардиографию. Более того, ее следовало бы делать всем пациентам, перенесшим инсульт, в том числе для того, чтобы закрыть овальное окно (если оно обнаружится) и за счет этого предотвратить повторные инсульты.
Эхокардиограмма стала ключом к истории Анны, связав внезапный недуг с преждевременной кончиной ее матери. Левое предсердие было заполнено огромной опухолью. Она выглядела хрупкой, напоминая тончайшую морскую водоросль, но с каждым сокращением предсердия прижималась к митральному клапану и перекрывала левую часть сердца. Это объясняло одышку и усталость.
Инфекция в пальце ноги тоже началась с эмбола, когда от опухоли оторвался крохотный фрагмент и преодолел клапан. Следующий фрагмент отправился уже не вниз, а вверх – через сонную артерию в базилярную, а оттуда в ствол головного мозга. Самый опасный маршрут из всех, что может придумать наш встроенный навигатор.
Я много раз оперировал опухоли сердца, в том числе редкие. У Анны же была миксома – распространенное доброкачественное образование. Миксомы часто бывают хрупкими, как у Анны, из-за чего от них и отрываются фрагменты. Первым симптомом нередко становится инсульт, поэтому оперировать следует немедленно после обнаружения опухоли. К счастью, в большинстве случаев миксома не образуется повторно.
Позвали кардиолога. Осмотрев Анну, доктор Форфар принялся настаивать, чтобы я срочно удалил опухоль. История Анны меня тронула, особенно когда я увидел, как она, парализованная, лежит в кровати. Взгляд ее открытых глаз был абсолютно пуст – никаких движений, никакой реакции. Приложив к ее груди стетоскоп, я тут же услышал шумы в сердце из-за преграды в митральном клапане, а также характерные «хлопки» бьющейся о него миксомы. Неужели до меня никто не послушал сердце Анны? На том этапе мы ничего не могли сказать о том, каков прогноз с неврологической точки зрения. Мы стараемся не оперировать пациентов, недавно перенесших инсульт, поскольку антикоагулянты, вводимые для того, чтобы предотвратить образование тромбов в аппарате искусственного кровообращения, могут спровоцировать новое кровоизлияние в мозг. Однако, как я уже говорил, велик был риск того, что от опухоли отделится еще один фрагмент, на этот раз приведя к летальному исходу.
Решение должны были принять Дез с Дэвидом – муж и отец Анны. Хотят ли они, чтобы я провел операцию, несмотря на неблагоприятный прогноз? Из-за шока они долго не могли решить; к тому же Дэвид в свое время лишился жены, а теперь и его дочь настигла та же болезнь. Однако оба хотели, чтобы у Анны был хоть какой-то шанс на спасение. Они поинтересовались моим мнением. Я сказал, что, по-моему, терять нечего. Они дали добро, и Анну в тот же день доставили в операционную.
Сердце Анны было миниатюрным и бойким, оно энергично билось и снаружи выглядело совершенно нормально. Внутри, однако, в нем притаилась сухопутная мина, взведенная и готовая в любой миг рвануть. Крайне важно было не потревожить ее, чтобы хрупкие осколки не попали в кровоток, прежде чем мы наложим зажим на аорту.
Перво-наперво мы запустили аппарат искусственного кровообращения, чтобы помочь кровообращению и опорожнить сердце. Затем я пережал коронарные артерии, чтобы прекратить подачу крови в сердце, предварительно введя в него кардиоплегический раствор и тем самым остановив. Маленькое холодное сердце неподвижно лежало в грудной клетке, и я вскрыл правое предсердие. В кардиохирургии нет ничего сложного – или не должно быть.
Миксома крепилась с другой стороны стенки между левым и правым предсердиями, известной как перегородка предсердий. Самый безопасный способ разделаться с опухолью заключается в том, чтобы вырезать перегородку и определить, где находится основание опухоли. Плавающее в крови образование зачастую присоединяется к перегородке коротким отростком, а чтобы опухоль не выросла снова, нужно удалить ее полностью. Делать это лучше всего в два шага – сначала обрезать отросток и удалить хрупкую опухоль, не повредив ее, а затем срезать под корень ее основание. Именно так мы и поступили. Я гордо опустил опухоль в контейнер с формальдегидом, чтобы потом вручить на исследование патоморфологу, который проверит, не злокачественная ли она. Мне доводилось оперировать пациентов с доброкачественной миксомой, которая позднее опять отрастала, превратившись в злокачественную. Редко, но такое бывает.
Мы без проблем отключили сердце Анны от АИК и закрыли грудную клетку, оставив глубокие шрамы, но надежно защитив мозг от дальнейших повреждений. Сама по себе операция не представляла особой сложности. Но, поскольку все четыре конечности Анны были парализованы, мы не могли с уверенность сказать, хорошо ли она перенесла операцию. Она не реагировала на указания, и мы понятия не имели, в состоянии ли она дышать самостоятельно и кашлять. Лежачее положение без движения – верный путь к инфекции дыхательных путей и легочной эмболии из-за тромбоза вен в ногах.
Пришлось изрядно потрудиться, чтобы помочь Анне преодолеть все это. Нелегкая задача не только для нас, но и для физиотерапевтов, а также для семьи и друзей. Им объяснили, что надо разговаривать с Анной и ставить ей музыку, пусть она и не подает признаков жизни. Когда Дез надел ей на голову наушники и включил местное радио, она не отреагировала.
Поразительно, однако, то, что Анна прекрасно осознавала все происходящее вокруг нее. Когда действие наркоза прошло, она вновь смогла видеть и слышать, но по-прежнему не двигалась. Хуже того, она чувствовала боль, о которой не могла никому сказать. Любой внешний наблюдатель счел бы, что она в глубокой коме.
Однажды ночью, когда Анна, обильно потея, все так же лежала без движения, новая медсестра поменяла простыни на ее кровати. В порыве доброты она погладила девушку по голове, сказав: «Прости, но это все, что я могу для тебя сделать». Анна запаниковала, решив, будто эти жалостливые слова означают, что она умирает. В другой раз менее сердобольная сестра выпалила: «Выглядит как труп».
Иногда, когда человек обездвижен и не реагирует на внешние раздражители, он может испытывать боль, но не сможет сказать о ней. Нужно постоянно говорить с таким человеком, чтоб он знал, что за его жизнь борются.
Однажды две медсестры перестилали простыню на кровати Анны. Когда они переворачивали девушку с одного бока на другой, правая коленная чашечка сместилась (у Анны был привычный вывих), но никто, кроме нее, этого не заметил. Ее мучила невыносимая боль, но она была не в состоянии об этом сказать. В конце концов наблюдательный младший врач заметил странную асимметрию коленей и вправил вывих. Без обезболивающего.
Дез с Дэвидом приходили каждый вечер после работы, надеясь увидеть, что Анне стало лучше. Я проходил мимо ее кровати по нескольку раз в день, потому что палата интенсивной терапии расположена на пути между моим кабинетом и операционной. Сначала я думал, что у Анны необратимое повреждение мозга. Но я не нейрохирург, так что не мне было судить.
Вечером в понедельник, 5 сентября, дядя Анны пришел навестить ее. Как и другие посетители, он попытался с ней поговорить. Липкую ленту, которая закрывала ее веки, чтобы поверхность глазных яблок не пересохла, тогда уже сняли. Внезапно Анна открыла глаза, и ее дядя подпрыгнул от удивления. Он крикнул: «Она очнулась, она очнулась, Анна очнулась!» Обнаружилось также, что она может следить глазами за вертикальными движениями пальца. Анна перенесла инсульт неделей ранее, и с тех пор это был первый признак того, что она в сознании.
Ее муж и отец, которые провели в больнице большую часть дня, к тому времени ушли домой. Услышав о случившемся, они мигом вернулись, но застали Анну уже спящей.
Мы убедились, что мозг Анны работает, и было логично позволить ей дышать самостоятельно. Не позднее чем через сутки мы удалили из трахеи дыхательную трубку, избавив девушку от сильного дискомфорта, а заодно упростив физиотерапию и смену простыней.
Спустя еще несколько дней Анна оставалась в сознании большую часть дня, ее дыхание было нормальным, а пульс и давление – стабильными. В палате интенсивной терапии, как обычно, кроватей на всех не хватало, и вопреки пожеланиям семьи, а также моим рекомендациям ее перевели в отдельную палату. Здесь физиотерапевт уделял Анне уже не столько внимания, и вскоре у нее развилась пневмония, в связи с чем пришлось назначить ей комбинацию антибиотиков. Анна все еще была очень слаба и не могла кашлять, поэтому ситуация быстро переросла в критическую. Высокая температура с постоянными перепадами, обильное потоотделение, едва не доводившее организм до обезвоживания, а также неконтролируемые приступы озноба делали жизнь Анны невыносимой.
А болезнь все усиливалась. Однажды Дез случайно увидел надпись «Не реанимировать» на обложке папки с историей болезни Анны. Так написали из тех соображений, что качество жизни пациентки предположительно будет неприемлемым, но обсудить это с ее близкими никто не удосужился. И Дез с Дэвидом пришли к выводу, что медперсонал сдался.
Смысл надписи заключался вот в чем: Анну не подключат к аппарату искусственной вентиляции легких, если она не сможет самостоятельно дышать из-за инфекции дыхательных путей. Дэвид сказал по этому поводу: «Думаю, в медкарте это написали, когда Анну перевели из реанимации. Я не знаю, что говорит на этот счет врачебная этика, но мне кажется, что следовало обсудить это с нами». Еще как следовало, черт возьми! Даже ветеринары не позволяют домашним животным умереть, не обговорив все с владельцами, и было бы, мягко выражаясь, уместно поставить семью в известность. Жуть.
Теперь, когда Анну поместили в отдельную палату, ответственность за нее лежала целиком на мне, а не на реаниматологах. Я созвал на совещание своих ассистентов, палатных медсестер и физиотерапевтов, после чего пригласил для откровенной беседы Деза и Дэвида. Мы уже добились немалого прогресса: Анна была в сознании. И хотя о полном неврологическом восстановлении речи не шло, ее близкие хотели сделать все возможное, чтобы она выздоровела.
Итак, что конкретно означала фраза «Не реанимировать» в данном случае? Миксому вырезали, и внутри Анны билось нормальное молодое сердце, которое не собиралось останавливаться, поэтому не должно было возникнуть никакой необходимости бить ей кулаком в грудь или проводить дефибрилляцию. Все, в чем она нуждалась, – это физиотерапия и курс антибиотиков, а также заботливый уход, чтобы она снова почувствовала себя человеком. Ни в коей мере Анна не была предметом, доставлявшим неудобства и требовавшим дополнительных стараний. Моя напутственная речь сработала, все рьяно взялись за дело, и вскоре Анну вылечили от пневмонии.
Шло время, Анна оставалась в сознании все дольше и дольше и очень скоро уже могла сидеть на стуле. Ее дыхание стабилизировалось, и она научилась взаимодействовать с окружающими. Ей задавали вопросы, а она определенным образом моргала, говоря тем самым «да» или «нет». Доброжелательные медсестры разработали для нее целую систему знаков: различных морганий и подмигиваний, чтобы общаться с окружающими, но повесили памятку слишком далеко на шкафчике, и Анна ничего не могла разобрать. Конечно же, никто не догадался надеть ей очки. Постепенно она смогла немного двигать головой и научилась пользоваться специальной «голосовой доской», чтобы беседовать с теми, кто ее навещал. Это был медленный процесс, но она наконец-то обрела возможность продемонстрировать, что ее рассудок сохранился. Еще чуть позже она начала рассказывать нам свою историю – произошедшее с ней от первого лица.
«Помню, как проснулась посреди ночи (мне так показалось). Было очень темно. Вокруг постоянно что-то пищало – казалось, что одновременно работает много телевизоров. Теперь-то я понимаю, что это были кардиомониторы в реанимации. Я чувствовала, как моя шея лежит на краю какого-то таза. Кто-то поливал мои волосы приятной теплой водой, массируя кожу головы. Эти люди, кем бы они ни были, мыли мне голову! Ощущения были просто потрясающие.
Когда они закончили, таз убрали, и я попробовала приподнять голову. Мне хотелось увидеть, где я. Было такое чувство, будто в моей шее совершенно не осталось сил, а затылок был словно налит свинцом. Я не могла говорить и плакать вроде бы тоже. Это было жутко. Над головой виднелись квадратная направляющая для шторы и крашеный потолок. Не в силах пошевелиться и даже поднять голову, я лежала на спине и просто смотрела вверх. В поле моего зрения не попадало никаких признаков жизни, но до меня доносились многочисленные голоса. Один из них я узнала. Женщина. Моя начальница из банка. Я решила, что она пришла узнать, почему я не на работе. Кто-то сказал про похороны на следующей неделе, и я подумала, что речь идет про мои. Мой мозг работал на все сто. Но что было с моим телом?
Вокруг моей кровати часто собирались люди в белых халатах. Они всегда говорили обо мне, но ко мне никто не обращался. И я не понимала, о чем они говорят. Потом они уходили. Мне хотелось расспросить их обо всем. Где я? Почему я здесь? Как они смеют обсуждать меня так, будто меня нет рядом?
Во мне кипело возмущение, но я не могла его выразить. Если бы только люди удосужились со мной поговорить, это избавило бы меня от недоумения и пугающих мыслей. Но никто не объяснил мне, что со мной произошло».
Однажды к ней пришел ординатор по имени Имад из реабилитационного центра Ривермед. Он поступил мило, действительно заговорив с Анной, – спросил, не хочет ли она, чтобы зонд для искусственного питания убрали у нее из носа и вставили трубку в желудок.
«Я ненавидела эту трубку в носу, – вспоминала Анна позднее. – Я широко открыла глаза и улыбнулась в знак утвердительного ответа. Впервые на моей памяти кто-то здесь решил узнать мое мнение».
Имад приходил, чтобы понять, сможет ли Анна участвовать в программе реабилитации, после того как покинет больницу. Но до этого оставалось еще три долгих месяца, так как ей нужно было набраться сил и снова научиться глотать. Прогресс был медленным, но уверенным. Еще несколько раз у Анны развивалась инфекция дыхательных путей, в связи с чем ей назначали очередной курс антибиотиков. Но по крайней мере на ее медицинской карте больше не красовалась надпись «Не реанимировать». Анна была вполне жива и, разумеется, хотела, чтобы так продолжалось и дальше. К концу января она достаточно окрепла, чтобы поворачивать голову и моргать, и была готова к реабилитации. Хотя паралич конечностей не прошел, возможность самостоятельно дышать была для нее значительным достижением.
В общей сложности понадобилось три года, прежде чем Анна смогла вернуться домой к Дезу, чтобы начать заново строить свою жизнь. Случилось это в 1997 году на Пасху. Хотя дом специально переоборудовали, она по-прежнему нуждалась в постоянной помощи, но ее разум был в полном порядке. По будням Дез рано уходил на работу, после чего приходили две сиделки. Они помогали Анне встать с кровати, и одна из них проводила с девушкой все утро. В обед начиналась смена другой сиделки, которая оставалась где-то до семи вечера, а потом появлялись еще две, чтобы уложить Анну в кровать. Такой вот строгий режим дня. В инвалидной коляске с электроприводом, которая управлялась движениями головы, Анна выбиралась в супермаркет и в ближайший парк. Ей нравилось, когда люди вели себя с ней как с обычным человеком и разговаривали с ней.
С помощью хитроумного устройства, встроенного в инвалидную коляску, Анна могла самостоятельно открывать и закрывать входную дверь, задергивать занавески и управляться с телевизором. Фактически это был дистанционный контроллер с инфракрасным управлением. Стоило Анне головой надавить на рычаг слева от нее, как появлялся курсор, который перемещался по списку всех доступных команд. Когда он достигал необходимого пункта, достаточно было еще раз нажать головой на рычаг.
Был у Анны и кабинет с видом на сад. Специальный приемник отслеживал движения ее головы, ориентируясь на белую блестящую точку на оправе очков. Благодаря этому Анна могла управлять курсором мыши на экране компьютера, а особая программа позволяла ей писать электронные письма и общаться с друзьями. Как и общеизвестная система упрощенного ввода текста для мобильных телефонов «Т9», компьютер постоянно пытался угадать, что именно она хочет написать.
Несмотря на паралич, Анна утверждала, что после инсульта для нее мало что изменилось. Будучи женщиной верующей, она смирилась со своим положением и решила сделать так, чтобы оно как можно меньше ей мешало. На местной радио-станции запустили кампанию по сбору средств на покупку фургона, чтобы перевозить в нем инвалидное кресло девушки. В итоге приобрели синий Vauxhall Combo, который ее отец окрестил Аннамобилем по аналогии с Папамобилем[29]. О чем она больше всего переживала? Да о том, что в ее сердце снова вырастет злосчастная миксома, которую я второй раз не смогу удалить. Анну устраивало ее нынешнее состояние, и она боялась преждевременной смерти из-за инсульта.
Доктор Форфар каждые полгода исследовал сердце Анны на эхокардиографе. Изначальная опухоль была вырезана под корень и вряд ли могла снова отрасти. Однако я знал об особенностях генетически-обусловленных наследственных миксом и был убежден, что мать Анны умерла от той же болезни. Дело в том, что у пациентов с геном наследственной миксомы могут впоследствии развиваться новые опухоли в других частях сердца, и я мог лишь надеяться, что с Анной этого не случится.
В августе 1998-го я получил звонок от доктора Форфара, в чьем кабинете сидели Анна и Дез. Он только что сделал очередной снимок ее сердца, и новости были ужасными: миксома дала рецидив. Он сообщил, что Анна крайне напугана, и спросил, смогу ли я что-нибудь предпринять.
Я заверил его, что если Анну положат в наше отделение до вечера, то я смогу прооперировать ее уже на следующий день. Поскольку операция предполагалась повторная, нам требовалось много донорской крови. С повторными операциями всегда сложнее, потому что околосердечная сумка после первоначального хирургического вмешательства разрастается. Сердце может даже прилипнуть к грудине, о чем я узнал много лет назад в Королевском госпитале Бромптон. Тем не менее после той давней неудачи я провел сотни повторных операций на сердце, и сейчас это не должно было составить проблемы.
Когда я вошел в палату Анны, та сидела в инвалидной коляске, оцепенев от страха. Дез выглядел подавленным, а ее отец, Дэвид, еще не пришел. Мы бы и так встретились в операционной следующим утром, поэтому я сказал, что все будет хорошо и что сейчас мне нужно уйти, чтобы внести изменения в список операций на завтра. В действительности же меня начало затягивать в водоворот эмоций, и, чтобы не поддаться им, я предпочел сбежать.
Дез пришел в наркозную комнату вместе с Анной. Он остался, чтобы успокаивать ее до тех пор, пока не подействует наркоз. Когда я впервые увидел Анну, она была парализована, но ее руки и ноги оставались мускулистыми. Сейчас же на операционном столе лежала девушка, чьи конечности заметно отощали после трех лет без движения. Я послушал ее грудную клетку через стетоскоп, прежде чем протереть кожу антисептическим раствором. Мне показалось, что я обнаружил опухоль на слух. Как я и предполагал, миксома произрастала из другого места, ближе к ушку левого предсердия. Отростка на этот раз не было – лишь широкое основание, которое я вырезал, после чего зашил стенку предсердия.
Я внимательно осмотрел сердце со всех сторон, чтобы убедиться, что нигде не затаилась другая опухоль. Ничего подозрительного. Мы без проблем отсоединили АИК, закрыли грудную клетку и вернули Анну в палату интенсивной терапии. На этот раз мы знали, что она очнется, и заранее приготовили все, что ей нужно было для общения. Физиотерапевты тоже приготовились. После генеральной репетиции все было гораздо проще. Как и в первый раз, друзья и родные всячески поддерживали Анну, и я надеялся, что ей повезет и больше она со мной не встретится.
Судьба распорядилась иначе. Анне исполнилось тридцать два, после первой операции прошло семь лет. В апреле 2001 года во время обследования снимок показал крупную миксому в левом предсердии, и опять на новом месте – прямо над митральным клапаном. Опухоль была массивнее, чем первые две, и то и дело попадала в просвет митрального клапана. Очень опасная ситуация: крупные миксомы способны полностью заблокировать митральный клапан и вызвать внезапную смерть. Анну и ее семью в очередной раз постигло горе.
На следующий день Анна лежала на операционном столе оксфордской больницы. Третий раз вскрывать грудину всегда непросто. И снова через правое предсердие я проник в сердце, открыв то, что осталось от разделяющей предсердия перегородки. Опухоль лежала передо мной, произрастая рядом с митральным клапаном и частично отходя от перегородки предсердий. Я начал приподнимать ее от стенки левого предсердия с помощью обычной чайной ложки – полезный вспомогательный хирургический инструмент для ткани с желеобразной консистенцией. Я никогда не видел и не слышал, чтобы пациента с опухолью в сердце оперировали более трех раз; скоро в маленьком сердце Анны не останется места, чтобы подсоединить канюли аппарата искусственного кровообращения.
Анна справилась и на этот раз, пусть и с трудом. Ее воля к жизни, а также поддержка со стороны Деза и Дэвида не могли не впечатлять. Она перенесла неизбежную инфекцию дыхательных путей, но физиотерапевт помог преодолеть болезнь. Мы тщательно следили за тем, чтобы Анна не страдала от боли, и взаимодействовали с ней уже привычными способами. В те годы к каждой палате была приписана постоянная бригада медсестер – один из плюсов системы, ныне оставшейся в прошлом.
Я никогда не слышал, чтобы пациента с опухолью в сердце оперировали больше трех раз, – на сердце просто не хватит места присоединить канюли аппарата искусственного кровообращения. Но практика зачастую расходится с теорией.
Анна провела в больнице еще три недели, после чего отправилась домой. Мы узнали, что она страдает от депрессии, но это было объяснимо: в конце концов, она перенесла обширный инсульт и несколько операций на сердце, после чего поняла, что именно от этого умерла ее мать, и теперь постоянно переживала о том, что опухоль может дать очередной рецидив. Последнее особенно омрачало ее повседневную жизнь. Опухоль дважды возвращалась в новых местах, так неужели она снова заявит о себе? И будет ли технически возможна четвертая операция? Будет ли она безопасной? Все надеялись, что до этого не дойдет.
Дез перестал ходить с Анной на обследования. Ему было слишком тяжело смотреть на снимки сердца, появляющиеся на экране эхокардиографа, и ожидать худшего. Вместо этого он отправлялся в церковь помолиться. Анна сильно исхудала, и снимки получались на редкость четкими. Она лежала на кушетке в надежде увидеть пустые камеры своего сердца, предсердия которого с каждой операцией становились чуточку меньше.
В августе 2002 года, всего через шестнадцать месяцев после третьей операции, случилась очередная неприятность. Мне позвонил доктор Форфар, чтобы показать монстра: из всех опухолей эта была самой большой. Я не мог поверить, что миксома способна за считаные месяцы с нуля вырасти до такого размера. Я ничего не сказал, но у меня возникли подозрения, что, возможно, на этот раз мы имеем дело со злокачественным образованием. Однажды я оперировал девушку, чья болезнь развивалась по такому сценарию. Первая миксома у нее была доброкачественной, но затем выросла крайне злокачественная миксосаркома. Не хотелось, чтобы Анну постигла та же участь. Ее положили в больницу для проведения экстренной – четвертой по счету – операции.
Чтобы получить письменное согласие на проведение операции, мы обязаны подробно объяснить все связанные с ней риски. Во время четвертой операции на сердце риск смерти никак не может быть ниже двадцати процентов. Кроме того, существовала реальная угроза того, что фрагмент миксомы отделится от нее и решит посетить мозг. Если же операцию не провести, опухоль продолжит разрастаться и вскоре заполнит собой сердце. Чем больше она будет, тем выше вероятность развития эмболии. Мы попали меж двух огней.
Перед операцией церковь, в которую ходила Анна, провела в ее честь ночную службу. Как всегда, Дез и Дэвид доставили ее в операционную. Я остался в комнате отдыха. Все происходящее выматывало их эмоционально, прямо как молодых родителей, которые приводят своего малыша в наркозную комнату, а потом вынуждены оставить его с незнакомыми людьми. Дез сомневался, что Анне удастся справиться.
Эта миксома была самой большой из четырех – она практически заполнила все левое предсердие. Я вырезал ее под корень и начал пристально рассматривать испещренное шрамами предсердие. Мог ли я хоть как-то предотвратить дальнейшее появление новообразований? Я решил пойти на крайние меры: взял электрокоагулятор и принялся уничтожать клетки, выстилающие сердце изнутри, – тот самый слой, что был генетически запрограммирован оборвать Анне жизнь. Я выжег все, до чего смог достать, поднимая клубы дыма. Я применил тактику выжженной земли, потому что не хотел, чтобы родовое проклятие настигло Анну.
Пока я уничтожал клетки на внутренней стенке предсердия, удача неожиданно улыбнулась мне. Я приоткрыл митральный клапан, чтобы осмотреть левое предсердие, и вдруг заметил на одной из мышц клапана миксому в зародышевом состоянии. Она была слишком маленькой, чтобы ее удалось разглядеть даже на самом чувствительном эхокардиографе, но неизбежно разрослась бы, останься незамеченной. Я удалил паршивку и отправил в банку к старшей сестре. Патоморфолог позднее должен внимательно все изучить.
Сердце по-прежнему выглядело жизнеспособным, сердечный ритм был нормальным, а выжигание левого предсердия изнутри вроде бы не спровоцировало неприятных последствий. За остальной частью операции я наблюдал со стороны: у меня подобралась первоклассная операционная бригада, и не было нужды все доводить до конца самому.
Когда грудину стянули проволокой, я отправился повидаться с Дезом, чтобы положить конец его переживаниям. Кровопотери почти не было, потому что все прошло быстрее, чем предполагалось, и я рассчитывал застать его в церкви. Найдя его, я сказал, что все позади. В очередной раз Анна была в безопасности, при условии что сможет восстановиться после операции.
Вот только я беспокоился, что она может опустить руки, если начнет зацикливаться на вероятности рецидива. Анна нуждалась в ударной дозе оптимизма, в максимальном поднятии морального духа, чтобы продержаться следующие несколько недель, преодолеть боль, страх и чувство неопределенности. Я попросил Деза взять Бога с собой в больницу.
Анна медленно оправилась после операции, к счастью, избежав серьезной инфекции дыхательных путей. И снова все упорно старались ей помочь: медсестры, физиотерапевты, священники, а особенно друзья и родные, которые не забывали приносить с собой позитивное мышление в львиных дозах. К тому времени Анна стала знаменитостью в больнице и окрестностях, и все искренне желали ей выздоровления.
После успешной операции пациент нуждается в ударной дозе поддержки и оптимизма со стороны родных, прежде чем придет в норму и сможет спокойно продолжить жить дальше.
И снова ее выписали домой, где ей предстояло с ужасом ожидать очередных обследований и вселяющих страх эхокардиограмм. Миновали месяцы – никаких происшествий. Затем годы. Два, если точнее.
Сырым и серым ноябрьским вечером 2004 года, в преддверии Ночи Гая Фокса[30], Анна пришла на осмотр к кардиологу. Она приехала вместе с отцом, который помог ей разместиться на кушетке для проведения эхокардиографии. На ее костлявую грудь нанесли гель, чтобы улучшить контакт с датчиком. У обоих в ожидании результата подскочил уровень адреналина. Но буквально через несколько секунд все оборвалось у них внутри, когда они увидели бесформенную массу, плавающую в левом предсердии, как золотая рыбка в банке. Это чувство было им до боли знакомо. Вот вам и тактика выжженной земли.
Это было слишком для Анны, слишком для Дэвида – и для Деза тоже. Их легко понять: сколько еще способен вынести один человек, почему Господь позволил такому случиться и – самое главное – что делать дальше? Чтобы ответить на последний вопрос, нужно было все тщательно взвесить. Сколько еще у этой молодой женщины можно вырезать сердце по кусочкам? Вся ситуация вызывала слишком сильные эмоции, чтобы принять быстрое решение, и Анна с отцом в полном отчаянии отправились домой. Да и доктору Форфару требовалось все обдумать, а затем обсудить со мной, но на время рождественских праздников он решил оставить семью в покое. Разумеется, покой им только снился: Анна понимала, что ей огласили смертный приговор.
Вместе с Дэвидом она вновь пришла к врачу в начале января. Дез на этот раз был с ними. Теперь неопределенность исчезла, и его интересовало лишь одно: как помочь Анне? После повторной кардиограммы им окончательно стало не по себе. Все четыре миксомы, что я к тому времени удалил, выросли очень быстро, хотя и были доброкачественными. Эта же опухоль достигала двух сантиметров в диаметре и уже проникала сквозь митральный клапан, значительно повышая риск повторного инсульта.
Доктор Форфар позвонил мне, чтобы сообщить печальную новость. Что я думал на этот счет? Можно ли Анне пересадить донорское сердце? К сожалению, нет. При пересадке остается значительная часть левого и правого предсердий, к которым и пришивается донорский орган, так что это нам не помогло бы. Если пересадить легкие и сердце, то последнее можно было бы заменить полностью, но после предыдущих хирургических вмешательств оба легких пристали к стенке грудной клетки, и никто на такую операцию не решился бы. Я сказал, что готов прооперировать Анну снова, но нужно сразу договориться, что это в последний раз. Мы оба чувствовали, что не можем оставить Анну перед лицом неизбежной смерти.
Когда мы спросили мнение Анны и ее близких, те согласились, что пусть лучше она умрет на операционном столе, чем лишится всякой надежды. А в случае успешной операции не будет больше никаких эхокардиограмм. Да, все, что мы предложили, – это спрятать голову в песок и надеяться на лучшее, но не было смысла дальше всех мучить.
Анну положили к нам в День святого Валентина – ровно через одиннадцать лет после того, как они с Дезом обвенчались. Как и следовало ожидать, пятая операция была чрезвычайно сложной и рискованной. Действуя не спеша и максимально осторожно, мы опять вскрыли грудную клетку и разрезали сердце, чтобы вновь добраться до правого предсердия. Когда мне удалось сделать это без происшествий, я вышел немного отдохнуть. Это правильный подход при сложных операций, а для немолодых хирургов со слабеющим мочевым пузырем – единственно возможный. Вскоре я был готов продолжить.
Я вскрыл правое предсердие, чтобы подобраться к левому, собираясь воспользоваться для этого оставшимся после третьей операции шрамом. У самого начала нижней полой вены, идущей к животу, я неожиданно обнаружил миксому правого предсердия – ничуть не меньше опухоли в левом, ради которой мы все и затеяли. Я удалил ее, хотя, если честно, она чуть ли не сама отвалилась. После этого мы убрали миксому и в левом предсердии. Дело было сделано, и я остался доволен своей работой. Мы зашили сердце, удалили воздух и подогрели кровь. Нисколько не возмутившись нашим вмешательством – уже пятым по счету, – измученное сердце переняло эстафету у аппарата искусственного кровообращения. Снова две миксомы по цене одной. Мы закрыли грудную клетку – раз и навсегда. Для меня это было облегчением, для Анны и ее близких – смирением перед судьбой.
После операции сперва все шло как обычно. Анна провела два дня на искусственной вентиляции легких, а потом из трахеи извлекли трубку и начали проводить частые сеансы физиотерапии. Все несказанно обрадовались тому, что ей удалось выжить. Но однажды Анне принесли суп и не проследили за приемом пищи. После инсульта у нее всегда отмечались проблемы с глотанием – она вдохнула горячую жидкость и подавилась. Ее долго лечили от инфекции легких, подключив к аппарату искусственной вентиляции; пришлось проколоть несколько курсов антибиотиков, не обошлось и без трахеостомии. Но Анна со всем справилась, и ее состояние не ухудшилось по сравнению с тем, каким оно было до пятой операции. Они с Дезом вернулись домой, где им предстояло учиться жить с неопределенностью, бороться с депрессией и стремиться к как можно более счастливой жизни.
Время шло, в больницу Анна не поступала. Центр Ривермед продолжал помогать ей, но наибольшую поддержку ей оказывали церковь и соседи. Иногда я спрашивал у доктора Форфара, слышал ли он что-нибудь об Анне, но потом мы оба потеряли с ней связь и не получали о ней никаких новостей, до тех пор пока один из моих знакомых не сказал, что видел ее в церкви. Она выглядела счастливой. Дез тоже. Он не оставил ее ни в горе, ни в радости. Периодически они посылали мне открытки.
В 2015 году, когда миновало более десяти лет после пятой, последней операции, у моего дома припарковался Аннамобиль. Анна сидела в кузове – по-прежнему в инвалидном кресле, но сияющая и цветущая. Дез подошел к входной двери с тортом в руках. С помощью сиделок Анна испекла его для меня в честь двадцать первой годовщины их с Дезом свадьбы.
Врачам случается благодарить бога за удачную операцию.
А что случилось со зловещими миксомами? Генетическая буря улеглась – мы одержали победу. Полагаю, не без божьей помощи. Мне на ум пришли строки из стихотворения «Цветок», написанного поэтом семнадцатого века Джорджем Гербертом: «В осеннем сердце – как я мог мечту лелеять, что придет расцвет?»[31]
Надеюсь, оба будут жить еще долго и счастливо.
12. Мистер Кларк
Прежде чем рассказать пациенту правду, убедись, что ты ее действительно знаешь и что пациент хочет ее услышать.
Ричард Кларк Кабот18 марта 2008 года. Я не спеша возвращался в свой кабинет после первой за день операции (пациентом был ребенок с отверстием в сердце; все прошло хорошо, родители счастливы), как вдруг увидел в дальнем конце коридора плачущую женщину. Одета она была шикарно, двое маленьких детей вцепились в ее пальто. Меня это не касалось, но я, хоть и посвятил хирургии сорок лет, по-прежнему не мог спокойно пройти мимо чужого горя. И эта душераздирающая сцена задела меня за живое.
Я не могу пройти мимо чужого горя, хотя, думается, сорок лет в хирургии должны были сделать меня черствым.
Остальные целеустремленно шагали мимо женщины с детьми, спеша по своим делам, но вовсе не потому, что им недоставало сострадания или порядочности, – причина крылась, вероятно, в горящих сроках, плановых показателях или листах ожидания. Я и сам было собрался свернуть в сторону своего кабинета, чтобы заняться горой бумажной работы, но не смог. Я решил подойти к женщине, хоть и выглядел, и чувствовал себя ужасно в пропотевшем насквозь хирургическом костюме.
Бедняжка была настолько поглощена горем, что не заметила меня, а если и заметила, то, видимо, приняла за санитара, который ждет лифт. Я тихо поинтересовался, могу ли чем-нибудь ей помочь. С минуту она собиралась с мыслями, после чего объяснила, что ее муж сейчас в лаборатории катетеризации. Он был при смерти, и врачи сказали, что ему не помочь. Теперь ей нужно было с кем-то оставить детей, чтобы вернуться к мужу и не позволить ему умереть в одиночестве.
Мне требовалось больше информации, и я продолжил расспрашивать. Ее мужу, мистеру Кларку, было сорок восемь. Тем утром – без всякого предупреждения – он перенес сильнейший сердечный приступ. Сначала «Скорая» отвезла его в ближайшую больницу, где у него остановилось сердце. Его реанимировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Поставив диагноз «инфаркт миокарда», кардиолог установил мистеру Кларку внутриаортальный баллон-насос и отправил пациента на «Скорой» в Оксфорд – более чем в часе езды – на срочную ангиопластику.
Смысл ангиопластики заключается в том, чтобы расширить закупоренную коронарную артерию и остановить процесс отмирания (инфаркт) лишенных доступа к кислороду тканей сердечной мышцы (миокарда). В закупоренную коронарную артерию кардиолог через аорту вставляет катетер с баллоном на конце, после чего надувает его, раскрывая тончайший кровеносный сосуд, а затем устанавливает внутри его крошечный металлический стент для поддержания в коронарной артерии нормального кровотока. В большинстве случаев это дает возможность восстановить кровоснабжение поврежденной сердечной мышцы – этот процесс называется реперфузией. А теперь главное: реперфузия, проведенная в течение сорока минут после появления острой боли в груди, позволяет спасти шестьдесят-семьдесят процентов оказавшейся под угрозой мышечной ткани. Если же задержка превышает три часа, выживает не более десяти процентов пациентов.
Мистера Кларка перебрасывали из одного места в другое, и на лечение ушло слишком много времени. По протоколу в случае задержки рекомендуется использовать противотромбозные препараты, которые растворяют тромб, закупоривший суженную артерию, и тем самым помогают восстановить кровоток – не так эффективно, как ангиопластика, но лучше, чем ничего.
В Оксфорде работа по проведению неотложной ангиопластики налажена потрясающе. Врачи трудятся круглосуточно – днем и ночью. Итак, закупоренную коронарную артерию мистера Кларка расширили, но левый желудочек, серьезно пострадавший из-за длительной задержки, не двигался, а кровоток очень ослабел. Здоровое сердце перекачивает пять литров крови в минуту, тогда как сердце мистера Кларка успевало за это время пропустить через себя не более двух. Из-за пониженного артериального давления – 70 миллиметров ртутного столба, что в два раза меньше нормы, – в крови начала скапливаться молочная кислота. Пациент впал в состояние кардиогенного шока и умирал на глазах. Только чудо могло спасти его от неминуемой гибели.
Я не хотел, чтобы дети лишились отца, и сказал миссис Кларк, что постараюсь помочь. Возможно, есть и другие способы лечения. За былые заслуги мне из Америки прислали для тестирования новую вспомогательную желудочковую систему. Что ж, настала пора опробовать ее в деле!
Мы договорились, что миссис Кларк пока отведет детей в кафетерий, чтобы отвлечь их от происходящего, а я потом за ними вернусь. Мне же нужно было поскорее отправить мистера Кларка в операционную и внести изменения в сегодняшний график операций. Первым делом я собирался подключить его к аппарату искусственного кровообращения, чтобы нормализовать обменные процессы в организме, которые сейчас угрожали жизни пациента. А затем можно было заняться и умирающим сердцем.
Я направился в лабораторию катетеризации, по пути заглянув в свой кабинет. Сью, моя новая секретарша, занималась убийством муравьев на подоконнике, ожидая, когда я приду и разберусь с бумагами. К счастью, у меня имелся законный предлог, чтобы этого избежать. Я попросил ее позвонить в наркозную комнату пятой операционной и предупредить об изменении плана.
– Какого плана?
У Сью было полное право спросить об этом, так как она не знала о мистере Кларке, но времени на объяснения не было. Также я попросил ее предупредить перфузиолога, что я собираюсь использовать новый насос «Центримаг».
Я должен был увидеть коронарограмму пациента, чтобы понять, с чем мы имеем дело и есть ли у его сердца шансы выздороветь. Это заняло всего две минуты. Нисходящая ветвь левой коронарной артерии изначально была полностью закупорена, но установленный стент ее раскрыл, не давая закрыться вновь. Коронарный кровоток оказался далеко не таким бойким, каким должен быть, а эхокардиография показала, что значительная часть левого желудочка действительно была неподвижной и совсем не сокращалась, несмотря на раскрытую артерию.
Вопрос на шестьдесят четыре тысячи долларов заключался в том, была ли сердечная мышца безвозвратно мертва (другими словами, развился ли у мистера Кларка обширный инфаркт миокарда) или же стала жертвой того, что мы называем «оглушением» миокарда – вещь, конечно, неприятная, но не настолько серьезная, как инфаркт. «Оглушенная» мышца не умирает, однако на ее восстановление требуются дни, а то и недели. Ответ мы узнаем, если удастся поддерживать в пациенте жизнь.
Было бессмысленно объяснять все это мистеру Кларку, так как его жизнь стремительно летела под откос. Он лежал на каталке с трубкой от аппарата искусственной вентиляции легких, и, когда я попытался представиться, стало ясно, что его разум угасает и он погрузился в полубессознательное состояние. Почки уже перестали вырабатывать мочу, легкие наполнялись жидкостью. Он был ледяным на ощупь, мертвенно-бледным, но при этом весь в поту. В уголке рта поверх посиневших губ пузырилась пена, а глаза закатились. Так умирают пациенты с сердечным приступом, и именно так я потерял своего дедушку. Ждать санитаров не было времени, и я попросил медсестер отвезти мистера Кларка к лифту. Нужно было доставить его в операционную, пока сердце не остановилось. А с формой информированного согласия можно разобраться потом: умрет он или выживет, судиться со мной он точно не будет.
«Все в жизни должно происходить вовремя» – это касается и несчастных случаев.
Говорят, все в жизни должно происходить вовремя. В истории с мистером Кларком все сложилось как по волшебству – нарочно такое не придумаешь. Моя случайная встреча с убитой горем дамой в коридоре. Свободная операционная. Имевшийся в наличии насос «Центримаг». Это напомнило мне о том, как повезло в свое время Джули с AB-180. Да они оба счастливчики!
Насос получил название «Центримаг» не просто так. Механизм, перекачивающий кровь (так называемый ротор), вращается в магнитном поле, как центрифуга, с частотой до 5000 оборотов в минуту. Итак, «центри» – центрифуга, центробежная сила; «маг» – магнитная подвеска. Насос способен пропускать через себя до десяти литров крови в минуту – гораздо больше, чем требуется организму. С самого начала ограниченная подача насосов была существенным недостатком искусственных сердец, но прогресс не стоял на месте, и они быстрыми темпами совершенствовались.
Обменные процессы в организме мистера Кларка кардинально нарушились, и он настолько ослабел, что мы не стали тратить время на наркозную комнату и привезли его прямиком к операционному столу. Общий наркоз был чреват высоким риском немедленной остановки сердца, поэтому провода кардиомонитора и канюли для переливания крови присоединили под местной анестезией. Чтобы не дать пациенту умереть, нужно было поскорее подключить аппарат искусственного кровообращения, после чего кровь следовало отфильтровать, и только потом можно было переключаться на систему «Центримаг».
Когда я рассекал грудину, крови не было. Трупы не кровоточат. Сердце трепыхалось на последнем издыхании, но, как и всегда, АИК все кардинально изменил. Мы опорожнили измученное сердце, и я отлично смог рассмотреть лишенную крови и кислорода мышцу. Было очевидно, что ткань еще жива. Я даже разглядел и нащупал коронарный стент, сидящий в артерии, подобно крысе в брюхе змеи, – кровь свободно текла через него к отекшей мышце. Желудочек не функционировал, но сохранял работоспособность.
Мистер Кларк умирал от сердечного приступа. Ежедневно это происходит с сотнями пациентов по всей Великобритании – ничем не примечательная смерть. Но я твердо настроился доказать, что с помощью подходящего прибора его еще можно спасти. Ради его семьи.
Система «Центримаг» работает следующим образом: по пластиковым трубкам кровь отводится от левого предсердия наружу, к внешнему ротору насоса, после чего по другим трубкам возвращается в грудную клетку, попадая в аорту там, где она отходит от сердца. Скорость работы насоса регулируется с помощью панели управления размером со старую пишущую машинку. Такая нехитрая конфигурация позволяла обойти недееспособный левый желудочек мистера Кларка стороной, дав ему возможность отдохнуть и одновременно обеспечив щедрое кровоснабжение мозгу и остальному организму.
Мы сняли зажимы с трубок, и те наполнились кровью, которая вытолкнула воздух наружу. Как всегда, в системе не должно было остаться ни единого воздушного пузырька. Мы буквально помешаны на этом, ведь не зря так часто повторяют: «Воздух в голове – смерть на столе». Пора было запускать «Центримаг». Мы принялись уменьшать кровоток через АИК, параллельно увеличивая его в кровяном насосе. Наконец последний взял на себя все кровообращение и заработал как часы – равномерно и без видимых усилий. Чудеса.
Я взглянул на время. Прошло почти три часа с тех пор, как я отправил убитую горем семью в кафетерий. Вот дерьмо. Они так и сидели там, гадая, жив мистер Кларк или нет, и, вероятно, уже смирившись с его смертью. Мне было их жаль, но в тот момент я не мог ничего поделать. Что ж, хорошие новости все исправят.
На этот раз я сам закрыл грудную клетку, стараясь как можно аккуратнее обходиться с трубками, сохранявшими пациенту жизнь. Когда я закончил, ниже ребер торчали два провода кардиостимулятора и четыре пластиковые трубки, две из которых служили дренажем для вывода крови наружу.
Я отправился на поиски миссис Кларк. К тому времени приехали ее родственники, чтобы забрать детей из больницы, и мне хотелось самому отвести ее к кровати мужа. Когда мы с ней вернулись в палату интенсивной терапии, она, должно быть, почувствовала себя так, будто попала на космический корабль: стройные ряды всевозможных приборов, аппарат искусственной вентиляции легких для дыхания и система «Центримаг» для кровообращения. Пятачок, остававшийся свободным у кровати, занимали приборы для мониторинга и дренажные емкости. Посреди всего этого лежало измученное тело ее мужа, на которое можно было только смотреть: общаться он был не в состоянии.
От увиденного у нее подкосились ноги – в конце концов, зрелище было не для слабонервных. Мы поспешно усадили ее рядом с мужем, и она инстинктивно схватила его за руку. Он не отреагировал, но за последние часы хотя бы порозовел и стал теплым на ощупь, а не холодным и вялым; с его лица сошел серо-синий цвет, характерный для человека, который умирает от кардиогенного шока. Здешние медсестры были очень милы. Они привели миссис Кларк в чувство и объяснили, зачем нужны все эти приспособления. Они знали, как обходиться со сложным оборудованием, к тому же я дал им предельно простые инструкции: ничего не менять. Все складывалось как нельзя лучше.
Спустя неделю поврежденная мышца мистера Кларка выглядела гораздо лучше, и я, понадеявшись на лучшее, решил убрать «Центримаг». Мы вернули пациента в операционную и начали постепенно снижать подачу насоса, наблюдая на экране эхокардиографа за работой сердца. Левый желудочек бойко выбрасывал кровь, а сердечный ритм и артериальное давление были нормальными. Почти ничего не напоминало о катастрофе недельной давности. Великолепно, подумал я.
Мы отсоединили насос, промыли все внутри, поставили новые дренажные трубки и в последний раз закрыли грудную клетку. Состояние пациента оставалось стабильным. Через сутки он очнулся, и из его трахеи извлекли дыхательную трубку. Он пробыл без сознания больше недели, и теперь словно восстал из мертвых. Когда мне наконец удалось с ним поговорить, он сказал, что ничего не помнит – не было никаких «внетелесных переживаний» или «флешбэков». Он не имел ни малейшего понятия, кто я такой и в какой больнице он находится.
Мне хотелось быть поблизости, когда вернутся его дети – не рядом с ними, а где-нибудь в углу, в сторонке, чтобы посмотреть, как они встретятся с отцом. Пришлось подождать, но это определенно того стоило.
Поразительно, но уже через неделю мистер Кларк вернулся домой. Не менее удивил нас и тот факт, что при обследовании три месяца спустя его сердце оказалось совершенно нормальным и здоровым на вид. «Оглушенная», измученная сердечная мышца восстановилась. Однако, промедли мы чуть-чуть с операцией, и было бы поздно.
* * *
Для меня случай мистера Кларка стал переломным моментом. Столько пациентов продолжало умирать от сердечного приступа, даже когда с помощью срочной ангиопластики удавалось раскрыть закупоренные коронарные артерии! Нам удалось продемонстрировать, что хотя бы некоторых из них можно спасти благодаря простой и относительно недорогой технологии.
Наложи шину на сломанную кость – и она срастется. Дай поврежденному сердцу отдохнуть – и оно может восстановиться, а может, и нет. Тем не менее я был убежден, что пациенты заслуживают такого шанса. Более того, медсестры из палаты интенсивной терапии без труда справились с системой «Центримаг». Прибавить обороты, уменьшить обороты – проще некуда. Мы могли управлять системой кровообращения пациента одним поворотом рукоятки. Куда легче и понятней, чем водить машину.
Когда огромное количество пациентов умирает от сердечного приступа, даже когда была оказана экстренная помощь, спасение одного такого человека благодаря простой технологии – большая удача.
Теперь ложка дегтя. Через полгода после той операции сердечный приступ настиг младшего брата мистера Кларка, которому было лишь сорок шесть. Я тогда был на конференции. Второго мистера Кларка также сначала отвезли в местную больницу, а затем переправили в Оксфорд. Когда его доставили, он был в состоянии кардиогенного шока. Его близким сказали то же самое, что и семье старшего брата: пациенту уже не помочь. Родные пациента пришли к моему кабинету, надеясь отыскать там помощь, но я был в отъезде – ни хирурга, ни насоса. Жена потеряла мужа, а дети остались без отца.
Старший мистер Кларк взял заботу о них на себя. Узнав о случившемся, я крайне опечалился, но одновременно почувствовал облегчение, оттого что избежал встречи с этой семьей. С годами моя беспристрастность улетучилась, и ей на смену пришла эмпатия. Приходилось страдать ради своего дела.
13. Адреналиновый всплеск
Мы лишь арендаторы. Скоро Великий Домовладелец вручит нам извещение об истечении срока аренды.
Надпись на надгробной плите Джозефа ДжефферсонаВо время Битвы за Британию пилоты союзных истребителей жили на адреналине – гормоне, который надпочечники выделяют в ответ на стресс. Вот летчики расслабляются в шезлонгах, но уже через минуту запрыгивают в самолеты и взмывают в небо, предвкушая предстоящее сражение – и рискуя скоропостижно погибнуть.
Порой самые банальные, раздражающие мелочи способны склонить чашу весов в пользу жизни или смерти: красный сигнал светофора, патрульная машина впереди, отсутствие свободных мест на больничной парковке. Я не имею права нестись на всех парах, как «Скорая»: на моей машине нет синего проблескового маячка. Но я все равно еду быстро и в итоге попадаю в неприятности.
Студентов-медиков учат, что адреналин запускает реакцию «бей или беги». Я не пилот, и мне не нужно бежать к самолету, однако и в моей жизни случаются ситуации, когда приходится вскакивать с места – когда на счету каждая минута и даже секунда. Например, мне звонят, чтобы сообщить о пациенте с проникающим ранением груди, которого на «Скорой» или вертолете везут в наше отделение неотложной помощи. Входное отверстие раны расположено рядом с сердцем, артериальное давление низкое, и пациенту срочно необходим кардиохирург. На взлет!
Когда я был старшим ординатором и постоянно разъезжал по лондонским больницам, меня так часто останавливали, что полиция в конце концов предложила мне вот что: «Если необходимо быстро добраться до больницы, позвоните в службу спасения, объясните ситуацию оператору, и мы доставим вас в нужное место». Несколько раз они действительно так и делали, но в наши дни такое невозможно.
Сейчас патрульные сигналят, чтобы я остановился, и я выхожу из себя. Я говорю им связаться со службой «Скорой помощи», разобраться в ситуации, а затем сопроводить меня до больницы. От конфликта адреналин подскакивает еще сильнее, и, оказавшись на месте, я с нетерпением готов ринуться в бой – поскорее взяться за нож.
* * *
Мобильный звонит в одиннадцать вечера, номер неизвестен. «Неизвестен» – это неизменно больница. Оператор произносит:
– Соединю вас с отделением травматологии.
Я злюсь, что меня беспокоят так поздно, но внимательно слушаю. Врач говорит, что в пути «Скорая» из больницы Сток-Мандевилл. У пациента огнестрельное ранение, нанесенное высокоскоростной пулей в левую часть груди, он в шоковом состоянии. Врачи из Сток-Мандевилл подключили его к капельнице и сразу отправили в Оксфорд.
Я спросил врача (впоследствии выяснилось, он служил медиком в ВВС), откуда он знает, что пуля высокоскоростная. Оттуда, что стреляли из охотничьей винтовки. Есть ли выходное отверстие? Нет. Это важно, потому что позволяет предположить, каков характер внутренних повреждений. Кое-что об огнестрельных ранениях я знал. В свое время мне довелось поработать в травматологическом центре Вашингтонской больницы, а потом в травматологическом отделении больницы Барагвана в Соуэто, на окраине Йоханнесбурга; я даже написал главу «Огнестрельные ранения грудной полости» для британского учебника по экстренной медицинской помощи для военных. Мне нравилось оперировать проникающие ранения в грудь, так как они всегда непредсказуемы – каждый случай по-своему уникален и сложен.
– Хорошо, еду. Не могли бы вы позвонить моему ассистенту? Попросите его собрать остальных.
В те дни я ездил на мощном «Ягуаре», а на дорогах было пусто и темно, так что я позволил себе вдавить педаль газа до упора, хотя и внимательно смотрел вперед: вдруг впереди появится олень или лиса? Мой мозг анализировал скудную информацию. Как вообще человек умудрился угодить под охотничью пулю поздним вечером?
Когда высокоскоростные пули попадают в грудь, они движутся по предсказуемой траектории, но при этом быстро вращаются, проделывая в легких дыру и создавая вторичные снаряды: осколки металла, обломки ребер, фрагменты сухожилий. Как правило, исход смертельный. Если бы человека подстрелили с близкого расстояния, пуля вышла бы со спины, оставив огромное выходное отверстие.
Тот невезучий джентльмен жил на границе лесных охотничьих угодий. Выключив перед сном телевизор, он услышал звуки, похожие на выстрелы. Неужели браконьеры? Стояла холодная ночь, дело близилось к Хэллоуину, и в низине стелился зловещий туман, но бедняга все равно вышел на опушку леса, чтобы разобраться.
Внезапно сокрушительный удар в грудь сбил его с ног, и лишь потом до слуха докатилась звуковая волна от выстрела из охотничьей винтовки. Его пронзила невыносимая боль над левым соском, дыхание перехватило, и он начал терять сознание, однако чудом успел достать мобильный телефон и набрать номер службы спасения. Он сообщил оператору, что его, кажется, подстрелили, и дал свои координаты, после чего упал из-за эмоционального и физического шока. Наблюдая за тусклыми звездами в свете полной луны, он уже не рассчитывал выжить.
Стрелявший вляпался по-крупному. Он незаконно охотился на оленя на чужом участке и спутал отблеск лунного света на очках жертвы с горящими во тьме оленьими глазами. Он прицелился и выстрелил, как ему казалось, в грудь оленю. Что ж, это действительно была грудь, только не животного, и он всего на пару сантиметров промазал мимо сердца. В этом им обоим крайне повезло, ведь прямое попадание в сердце из охотничьей винтовки не пережил бы никто.
В шоковом состоянии раненый человек еще способен позвать себе на помощь. Благодаря этому удается спасти не одну жизнь.
Несколькими годами ранее в Мидлсекской больнице я спас парня, которого полицейские подстрелили на востоке Лондона. Разница в том, что тогда стреляли из пистолета и пуля прошла сквозь сердце. К счастью, запекшаяся в околосердечной сумке кровь закрыла все отверстия – так происходит, когда давление в сердце падает из-за кровопотери. С высокоскоростными пулями совсем другая история. Они разрывают сердце на части. Поэтому я знал наверняка, что у нашего пациента сердце невредимо, и был уверен, что смогу исправить все остальное.
Я прибыл в больницу раньше пациента. В отделении травматологии было спокойно, а значит, я мог обратиться к любому из множества свободных врачей и медсестер, готовых в любой момент ринуться в бой. Но мне требовался только один из них – анестезиолог, чтобы вставить трубку пациенту в трахею и обеспечить ему дыхание. В чем не было нужды, так это в обильном внутривенном вливании жидкости для компенсации кровопотери. Из-за этой жидкости артериальное давление повышается, кровотечение усиливается, а свертываемость крови ухудшается, что в данном случае подвергло бы пациента риску обширного кровоизлияния.
В те годы официальные рекомендации по поддержанию жизнедеятельности при травмах были никудышными, а иногда и опасными в данном отношении. Исследователи из Вашингтона даже доказали, что у пациентов с проникающим ранением грудной клетки уровень выживаемости выше, когда в больницу их привозят на частной машине, а не на «Скорой», потому что фельдшеры успевают поставить капельницы и влить в пострадавшего некоторое количество холодной жидкости.
У пациентов с проникающим ранением грудной клетки уровень выживаемости выше, если в больницу их привозят на частной машине, а не на «Скорой», потому что фельдшеры успевают поставить капельницы и влить в пострадавшего некоторое количество холодной жидкости.
О приближении «Скорой» мы узнали по характерному вою сирен. Давление у пациента упало ниже 60 миллиметров ртутного столба при пульсе 130. Он был ледяным и бледным, обильно потел и то и дело впадал в беспамятство – фельдшеры понимали, что время на исходе. Машина развернулась у входа, и ее задние двери распахнулись. Был спущен пандус, и пациента торопливо покатили в отделение реанимации. Я спросил, как его зовут, но он не ответил.
Он все еще был в пропотевшей, залитой кровью рубашке с рваной дырой от пули спереди. Под ней виднелось небольшое входное пулевое отверстие, опоясанное черной кровью, которая просвечивала сквозь мертвенно-бледную кожу, и теперь закрытое изнутри отекшей мышечной тканью и свернувшейся кровью. Кроме того, я почувствовал, что в подкожных тканях есть воздух, а это однозначно свидетельствовало о повреждении основных дыхательных путей. По виду входного отверстия раны я прикинул характер внутренних повреждений, и прогноз меня не порадовал. Рана находилась возле корня легкого и поверх кровеносных сосудов. Повезло, что сердце не задело при выстреле – оно было совсем рядом.
Вокруг столпилось чересчур много нянек, готовых оставить дитя без глазу. Я потребовал, чтобы пострадавшего погрузили в наркоз и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, после чего я смог бы вскрыть грудную клетку и добраться до источника кровотечения. Надо было вставить в вены две широкие канюли, а на рентген времени не осталось. Необходимо было спасать пациента, а не ставить ему диагноз. Как только анестезиолог вставил ему в трахею трубку, я попросил медсестер подать мне хирургический костюм с перчатками и подготовить инструменты для вскрытия грудной клетки.
Когда все осознали, что я собираюсь вскрыть его прямо там, на каталке, поднялась паника. Наркоз свел на нет последние намеки на артериальное давление, и сердцебиение в любую секунду могло прекратиться. Требовалось срочно найти источник кровотечения, остановить его, а затем влить в пациента донорскую кровь. Физраствор не переносит кислород – только эритроциты выполняют эту задачу, а их у пациента осталось совсем мало. По моим прикидкам, в его грудной полости плескалось не менее трех литров крови, а левое легкое полностью сдулось. Мой ассистент вымыл руки и присоединился ко мне. Я попросил медсестер повернуть пациента на правый бок, после чего разрезал ножницами мокрую окровавленную рубашку. Мы торопливо протерли кожу антисептическим раствором йода и вытерли ее начисто.
Любопытно, что пулю я увидел под кожей чуть ниже левой лопатки. Должно быть, она срикошетила вниз от лопаточной кости. Помню, как подумал, что нужно выловить пулю и сохранить ее для баллистической экспертизы, чтобы потом связать с винтовкой, из которой ее выпустили.
С помощью скальпеля я разрезал грудную клетку между ребер – от края грудины прямо до лопаточной кости, где виднелась пуля. Я продолжил резать вдоль лопаточной кости, рассекая слои бледной мышечной ткани. У живого человека такие разрезы обычно фонтанируют кровью – у нашего же пациента давление было практически на нуле, да и крови-то в организме почти не осталось. Когда я наконец вскрыл грудную клетку, оттуда выскользнули огромные, напоминающие печень, сгустки свернувшейся крови, которые тут же плюхнулись на пол, а вслед за ними потекла жидкая кровь. Я схватил большой реберный ретрактор и широко раскрыл грудную клетку, чтобы получше рассмотреть повреждения и отыскать источник кровотечения.
Одна из операционных медсестер принесла мощный отсос, и я увидел, что кровь поднимается откуда-то из глубины. Как я и ожидал, была разорвана легочная артерия, а из главного бронха выходил воздух, поэтому нужно было пережать легкое у его корня большим зажимом, чтобы остановить и кровь, и воздух. Медсестра принялась судорожно искать подходящий зажим. Поставив его, я сразу попросил анестезиолога начать переливание крови.
Сердце пациента билось все медленнее, готовое вот-вот окончательно заглохнуть. Оно – в тончайшей околосердечной сумке – лежало прямо у меня под носом, так что я взял его в кулак и несколько раз хорошенько сжал, чтобы немного помочь. На ощупь оно было пустым. Я попросил шприц с адреналином и ввел иглу в верхушку левого желудочка. Пара миллилитров его взбодрит. Необходимо было как можно скорее повысить артериальное давление и нейтрализовать скопившуюся в крови молочную кислоту бикарбонатом натрия. Адреналин помог поднять давление до приемлемого значения, а частота сердечных сокращений достигла 140 ударов в минуту. Пациент был в хорошей физической форме и теперь, когда мы контролировали его состояние, должен был поправиться.
Чтобы завершить работу должным образом, мне требовались яркие огни операционной, стерильные простыни и тщательный мониторинг жизненных показателей. Часы показывали два часа ночи, операционная была готова, а больничные коридоры давно опустели. Мы так и повезли пациента – со вскрытой грудной клеткой, предварительно зафиксировав его на каталке и прикрыв простынями, чтобы не занести инфекцию в рану, а затем аккуратно переложили на операционный стол.
Сняв хирургический костюм и перчатки, я поднял с пола пулю. Подобные штуки имеют привычку куда-то исчезать, становясь желанным, пусть и жутковатым, сувениром. Но эта пуля представляла большую ценность для судмедэкспертизы, и я намеревался вручить ее кому-нибудь из многочисленных полицейских, которые съехались в больницу.
Пуля, вынутая из грудной клетки, – зловещий сувенир, и лучше все-таки отдать ее на судмедэкспертизу.
Я опередил причудливую процессию, чтобы снова вымыться и переодеться перед операцией – медсестры уже ждали меня в операционной с включенным светом. Вот теперь я все видел как следует. Я осторожно снял зажим, и из легочной артерии полилась темно-синяя кровь. Края раны сочились ярко-красной кровью, а из разорванного бронха выходил воздух, но в остальном все было в порядке.
Чтобы лучше разглядеть повреждения, я приподнял спущенное легкое. Оно выглядело так, словно его пожевала собака. Да и чего еще стоило ожидать от убойного сверхзвукового снаряда? Надежда сохранить пациенту легкое улетучилась в мгновение ока. Его нужно было вырезать целиком. В конце концов, от нас требовалось спасти человеку жизнь, а не сохранить его тело прежним. Если бы он умер, его семью сразило бы горе, а леснику – коим, как выяснилось впоследствии, и оказался виновный – грозило бы обвинение в убийстве.
Толстой шелковой нитью я обмотал легочную артерию и перевязал ее. Больше никакой темно-синей крови. От легких к сердцу идут две крупные вены – их я тоже перевязал, а затем разрезал все три кровеносных сосуда ножницами. Кровь вперемешку с пеной выдувалась теперь из поврежденного бронха. Я прихватил его скобами, разрезал трубку и вытащил ставшее бесполезным легкое. Оно полетело мимо лотка и плюхнулось на пол. Пациент сможет обходиться и одним легким, к тому же правое легкое больше левого. Мы промыли образовавшееся пустое пространство теплым соляным раствором и мощным антибиотиком гентамицином: самую большую опасность для пациента сейчас представляла инфекция, так как пуля втянула за собой в грудную полость фрагменты куртки и рубашки.
Пока ординатор и штатный врач останавливали кровотечение у краев раны и зашивали ее, я принялся писать отчет об операции. В случае с уголовным делом чрезвычайно важно все грамотно задокументировать, даже если на часах три ночи. Возвращаясь домой по темной дороге, я увидел в траве на обочине лису, а потом и оленя, чьи глаза сверкали в свете фар. Я был расслаблен и доволен собой: еще одна победа, после которой уровень адреналина мигом пошел на спад.
Наш пациент выздоровел без осложнений. Извлеченная из раны пуля соответствовала винтовке лесника. Его арестовали, а затем выпустили под залог; еще бы несколько минут – и обвинений в убийстве, пусть и не предумышленном, было не миновать. Для сонного Оксфорда это было уникальное дело, как раз для инспектора Морсу.
* * *
Ничто не вызывает такого всплеска адреналина, как колотое ранение в сердце. Я по сей день помню первый подобный случай, с которым мне пришлось разбираться в далеком 1975 году. Я тогда работал в отделении травматологии больницы Королевского колледжа, что на юге Лондона, прямо на границе зоны боевых действий под названием Брикстон (лондонский аналог нью-йоркского Гарлема), где столкнулся со множеством колотых ранений. Набив руку на грудных клетках в Бромптоне, я чувствовал себя непобедимым и напоминал заведенный механизм, готовый в любое мгновение взяться за дело.
Сначала позволю себе короткое отступление, чтобы обрисовать общую картину. После непродолжительной стажировки в Гарлеме я знал, что, получив колотое ранение в сердце, большинство жертв умирают на месте или по дороге в больницу. Те же, кого удается доставить живыми, оказываются на краю пропасти. Ставки очень высоки, но большинство можно спасти, если сделать все необходимое – а именно, провести срочную операцию.
Как правило, нападающие атакуют лицом к лицу и бьют ножом в переднюю часть правого желудочка. Иногда ножевое ранение может затрагивать и оба желудочка. Колотые ранения в левый желудочек обычно наносят сбоку или со спины – отличительная черта бытовых преступлений. Тонкостенное правое предсердие надежно защищено грудиной, а левое находится глубоко в грудной клетке. Лишь в очень редких случаях предсердия оказываются затронуты при ножевых ранениях.
Характерная черта бытовых преступлений – наличие колотых ранений сбоку или на спине.
Правило номер один. Если нож – или, как иногда бывает, отвертка – все еще в ране, то доставать его нельзя, а если он покачивается с каждым ударом сердца, то почти наверняка затыкает дыру в сердечной мышце. Такое происходит в основном с теми, кто пытался покончить с собой: злоумышленники редко оставляют ножи с отпечатками пальцев на месте преступления.
Стоит извлечь нож из раны, как кровь под давлением начинает хлестать в околосердечную сумку – замкнутое пространство, в котором находится сердце. Если кровь может свободно поступать из околосердечной сумки в просторную грудную полость, чаще всего это приводит к обескровливанию – проще говоря, к смерти от потери крови. Когда же кровь скапливается в самой околосердечной сумке из-за небольшого размера входного отверстия раны, мы называем это тампонадой сердца. Кровь, окружающая сердце, сдавливает его, артериальное давление падает до тех пор, пока внешнее и внутреннее давление в сердце не выравняются, и тогда кровотечение прекращается. Кровообращение продолжается, но при меньшем давлении. Такие пациенты обычно выживают. Их привозят бледными, холодными и возбужденными, с учащенным сердцебиением и раздутыми венами на шее, но они без проблем могут продержаться некоторое время, если их давление остается низким.
Правило номер два. У пациентов, которых доставили в сознании, обычно наблюдается тампонада сердца, и многим необходимо срочно вскрыть грудную полость для проведения реанимации. Когда целостность сердца нарушена, стандартные реанимационные меры принимать нельзя. Так, если внутривенно ввести пациенту жидкость, это усилит кровотечение и во многих случаях приведет к смерти. Таким образом, крайне важно сначала найти источник кровотечения и остановить его. После того как тампонада сердца устранена, пациент может и вовсе обойтись без дополнительной жидкости. Однажды я оперировал пациента с тампонадой сердца, в которого влили столько жидкости, что несчастное сердце чуть не лопалось. Прежде чем зашить рану, пришлось его вскрыть и удалить отсосом немало разбавленной крови. Лишь после этого внешний вид сердца удовлетворил меня достаточно для того, чтобы наложить швы.
В больнице Королевского колледжа я все еще работал младшим врачом, а не кардиохирургом. В два часа ночи отделение было забито наркоманами, пьяницами, бездомными и легкоранеными. Не то чтобы нам не было до них дела – мы помогали каждому. Медсестры были поистине святыми, но постоянно нуждались в защите. Обстановка была крайне нестабильной.
Конкретно этого пациента товарищи-бандиты бросили у главного входа больницы. Его рубашка была вся в крови, а сам он – бледный как смерть – уже потерял сознание. Санитары принесли его в палату, а старшая медсестра вызвала реанимационную бригаду. У него прощупывался слабый пульс, а зрачки реагировали на свет.
Некоторых пациентов доставляют еще теплыми, но без других признаков жизни. Однако неотложную операцию следует проводить, только если зрачки реагируют на свет. Благодаря усердному массажу сердца и уколом адреналина можно запустить любое сердце, независимо от того, умер мозг или нет. Вот почему нужно первым делом проверять зрачки.
Когда медсестры сняли рубашку, прямо над сердцем я увидел ножевое ранение шириной где-то сантиметр. По краям раны струилась кровь, но сердце толком не билось, а яремные вены выступали на тощей шее, словно стволы деревьев, – следствие повышенного давления в околосердечной сумке. Налицо были все признаки тампонады сердца.
Анестезиолог уже вставил эндотрахеальную трубку и усиленно проводил вентиляцию легких, но следовало также вставить в яремную вену канюлю большого диаметра для переливания крови. Медсестра сменила анестезиолога и продолжила закачивать воздух в легкие, а сам он занялся канюлей. Промахнуться было сложно. Из вены под большим давлением выстрелила темно-синяя кровь.
В то время по ночам в отделении травматологии не дежурил старший врач, да и кардиохирургов в столь поздний час в больнице было не сыскать. Медсестра знала о моей работе в Бромптоне. Он взглянула на меня и сказала:
– Вскрывайте его. Я помогу.
Я подумал: «Вот дерьмо», но из уст вырвалось:
– Что ж, тогда давайте приступим, не то скоро будет поздно.
Анестезиолог, занимавший должность старшего ординатора, кивнул в знак одобрения, прекрасно понимая, что иначе паренька ждет неминуемая смерть. Наружный массаж сердца бесполезен, когда оно сжато и не может наполниться кровью. У нас не было даже времени вымыть руки, так как у пациента отсутствовали пульс и давление. Наша разношерстная команда перевернула его на правый бок, пока я надевал перчатки и халат. Потом переоделась и медсестра. Я стоял позади пациента, медсестра – спереди. В крови моей бушевал адреналин. Я вскрыл скальпелем грудную клетку и раздвинул ребра металлическим ретрактором, хранившимся неподалеку как раз для подобных случаев, какими бы редкими они ни были.
В грудной полости не было ни крови, ни воздуха, потому что тонкий нож-стилет вошел прямиком в околосердечную сумку, а затем в правый желудочек. Все, что я мог видеть, – напряженная синяя раздутая околосердечная сумка. Я знал, что делать, – оставалось только справиться с потом, чтобы тот не застилал мне глаза и не капал пациенту в грудную полость.
Я разрезал растянутую мембрану скальпелем, и из нее хлынули кровяные сгустки вперемешку со свежей кровью. Сердце продолжало биться, но было пустым; по мере того как околосердечная сумка опорожнялась, желудочки снова наполнялись. Артериальное давление начало повышаться, и из колотой раны вновь потекла кровь, но в этом проблемы больше не было.
Я заткнул указательным пальцем дыру в сердце и сказал:
– Делайте переливание, а я зашью желудочек.
– Какие нитки вам нужны? – спросила медсестра.
Я не имел ни малейшего понятия, и просто ответил:
– Дайте мне что-нибудь с изогнутой иглой.
Первая игла оказалась слишком большой, вторая – слишком маленькой, но третья была в самый раз – с плетеной шовной нитью синего цвета, которая чудесно завязывалась узлом. То что надо. Сестра, прежде никогда не притрагивавшаяся к сердцу, приставила к нему палец вместо моего, и ее мигом обрызгало кровью.
Оставалось самое сложное. Я поставил изогнутую иглу в иглодержатель и занял наиболее удобную для наложения швов позицию. Я понимал, что, едва сестра уберет палец, мгновенно хлынет кровь. Более того, юное сердце нашего пациента билось бойко, а такую подвижную цель нелегко зашить аккуратно. Глубокий вдох. Надо просто взять и сделать.
Я ввел иглу посередине разрыва и широкими стежками соединил между собой края раны. Сестра отрезала нить от иглы, и я, чтобы не порвать мышцу и не увеличить отверстие, очень аккуратно завязал узел. Получилось. Но надо было наложить швы еще и с обеих сторон раны – три в общей сложности. Для непривычного человека работа выдалась нервная: каждый раз, когда игла проходила сквозь мышцу, она провоцировала быстрый неконтролируемый сердечный ритм. Думаю, на все три шва у меня ушло минут десять – сейчас я справляюсь гораздо быстрее.
Сестра посмотрела на меня из-под маски. Я знал, что говорит ее взгляд. Я ее впечатлил. Да и себя тоже: настоящий герой, спасший ситуацию. Давление и пульс у пациента стабилизировались, и тут же – когда в нем уже не было нужды – объявился вызванный ординатор, специализирующийся на кардиоторакальной хирургии. Я с радостью передал пациента ему. Мы с медсестрой отправились в комнату отдыха – вспотевшие, но в приподнятом настроении. Оставшаяся часть операционной бригады закрыла грудную клетку, и пациента переложили на каталку.
Кровь была повсюду: на носилках, в волосах парня, она пропитала его одежду и сохла на полу – свидетельство нашей нелегкой борьбы. Нужно было доставить пациента в палату интенсивной терапии, чтобы привести в порядок. К этому времени в отделение травматологии поступило немало других пациентов, которые начинали проявлять нетерпение из-за долгого ожидания.
Пациент очнулся неожиданно и сразу впал в состояние неконтролируемого возбуждения. Он уселся в кровати и принялся дергать за трубки капельниц. Канюля отсоединилась от яремной вены. Парень глубоко вдохнул, и воздух засосало в кровь из-за пониженного давления в груди. Он рухнул, снова лишившись пульса, – правда, уже по другой причине. Никто вокруг не понял, почему это произошло. Ему начали делать наружный массаж сердца, но тщетно.
Моя первая операция на сердце, проведенная в одиночку, закончилась смертельным исходом. Герой считаные минуты назад – теперь я готов был сквозь землю провалиться. Стыд и срам.
Ночь обернулась кошмаром, меня одолела паранойя. Я переживал, что меня сочтут виновным в смерти пациента и обвинят в халатности. Однако волновался я напрасно. Медсестра и анестезиолог дали ясно понять: без моего вмешательства парень умер бы раньше. Дело передали в коронерский суд. Каков вердикт? Убийство. Причина смерти? Воздушная эмболия после ножевого ранения в сердце.
Вот так я провел свою дебютную экстренную торакотомию, а заодно свел первое знакомство со смертельным осложнением, возникающим, когда воздух попадает в мозг по кровеносным сосудам. Первое, но, увы, не последнее. На протяжении всей карьеры я прооперировал множество пациентов с проникающими ранениями в сердце. Большинство случаев были крайне простыми, несколько – сложными, потому что оказались задеты сердечные клапаны или коронарные артерии. Тем не менее никто из этих пациентов не умер.
* * *
Ножи и пули не единственные причины проникающих ранений в грудь. Автомобильные аварии подчас влекут за собой куда более ужасные травмы.
Тихим осенним днем 2005 года я ждал начала регбийного матча, в котором участвовал мой сын, как вдруг зазвонил телефон и меня вызвали на работу. Речь шла о травме, представлявшей непосредственную опасность для жизни. Школа Марка находилась в десяти минутах езды от больницы, поэтому я прибыл на место еще до того, как доставили несчастную жертву – молодую женщину.
Фельдшеры сообщили мне по телефону, что ее машина на высокой скорости съехала с автотрассы А40 и врезалась в деревянное ограждение. Заостренный кусок дерева длиной с копье проткнул лобовое стекло и вонзился женщине в шею. Спасатели извлекли ее из покореженной машины, но из раны выходил воздух, и пострадавшей было сложно дышать. Давление у нее было низкое, так что имелись все подозрения на внутреннее кровотечение.
Вместе с группой травматологов я ждал в отделении интенсивной терапии, а в голове звучал сигнал тревоги: судя по описанию, трахею разорвало пополам. Если это действительно так, то при попытке протолкнуть дыхательную трубку вслепую две части трахеи могли разойтись в стороны и дыхательные пути оказались бы перекрыты. Итак, необходимо было разыскать опытного торакального анестезиолога и быстро собрать операционную бригаду.
Я сам позвонил доктору Майку Синклеру и попросил его приехать как можно скорее, что он и сделал. Пока везли пациентку, я вежливо обратился к реаниматологам с просьбой попридержать коней и позволить сначала мне осмотреть ее. Прошло более часа после аварии, и, раз женщина до сих пор жива, ее организм должен был прийти к некоему равновесию. Пара минут на изучение травм уж точно не будет потрачена впустую.
Напряжение ощутимо возросло, когда женщину привезли. Она была в сознании, но оцепенела от страха, а губы на ее мертвенно-бледном лице посинели. Все взгляды мгновенно устремились на зиявшую с правой стороны шеи рану, которая обнажала грудино-ключично-сосцевидную мышцу. С каждым выдохом воздух приподнимал изнутри разорванную по краям кожу. Звук был такой, словно пациентка выпускала через рану кишечные газы, одновременно брызгая кровью. Сомнений не осталось: трахея перебита. Я также был уверен, что как минимум одна из сонных артерий уцелела, иначе женщина скончалась бы на месте от потери крови.
Женщина с трудом приподняла правую руку и протянула мне вспотевшую ладонь. Я с радостью пожал ее. Нам предстояло провести вместе всю вторую половину дня, так что было не лишним немного сблизиться. Я сказал, что с ней все будет в порядке. Не то чтобы я в это верил, но не мешало ее слегка обнадежить, отнестись к ней по-человечески.
У нее был шок – не просто следствие стресса, – и она явно потеряла литры крови из-за внутреннего кровотечения. Я предположил, что кол от изгороди прошел вдоль шеи вниз, в левую часть груди, задев один из крупных кровеносных сосудов. Обо всем этом мне рассказал старый добрый стетоскоп. Физический осмотр – дело быстрое и по-прежнему очень важное, даже в нашу эпоху причудливых исследований. Воздух наполнял правое легкое, но в левом звуки дыхательных движений отсутствовали. Простукивая пальцем левую часть грудной клетки, я услышал «тупой перкуторный звук», как мы его называем, – верный признак того, что вокруг легких скопилась жидкость. Итак, в грудной полости пациентки была кровь, а давление стремительно падало, в то время как пульс равнялся ста десяти ударам в минуту.
Тяжелая травма у основания шеи вкупе с кровоизлиянием в левую часть грудной клетки – серьезная проверка способностей для любого хирурга. Коварное сочетание. И тем не менее базовые принципы оставались неизменными. Сперва восстановить проходимость дыхательных путей. После этого начать искусственную вентиляцию легких. И наконец, возобновить нормальное кровообращение – что в данном случае означало остановку кровотечения и переливание крови. Эту последовательность реанимационных действий знает в больнице каждый.
Мне нужно было, чтобы Майк ввел пациентку в наркоз. Единственный надежный способ восстановить проходимость дыхательных путей заключался в использовании негнущегося бронхоскопа – длинной узкой латунной трубки с фонариком на конце. Вместе мы проделали сотни бронхоскопий, будь то для точной диагностики рака легких или для удаления орешка у подавившегося ребенка.
Между тем реанимационная бригада успела установить несколько капельниц с физраствором и вставить трубки в руки женщины, хотя этого не требовалось. Пациентка находилась в критическом, но стабильном состоянии – все та же старя история. Артериальное давление падает, и сгусток крови закупоривает отверстие – организм сам себя спасает. Физраствор же повышает давление, и снова начинает идти кровь. Я в таких ситуациях говорю, что реаниматологи «лечат жизненные показатели пациента, а не его самого». Но вот наконец появился Майк, и мы решили как можно быстрее отвезти женщину в операционную. Там я обрету полный контроль над происходящим, а вокруг будут мои люди; надо было убраться подальше от этого цирка.
Сестра Линда уже держала бронхоскоп наготове в наркозной комнате, но первым делом Майк должен был обезболить и обездвижить пациента. Когда он закончил, я вставил трубку бронхоскопа через голосовые связки в поврежденную трахею – все равно что глотать шпагу, только не пищеводом, а дыхательным горлом. Подав под высоким давлением воздух через бронхоскоп, я выдул из шеи кровь, и она разлетелась повсюду, зато вскоре я смог разглядеть повреждения. Две трети окружности трахеи были разорваны – лишь задняя мышечная стенка оставалась нетронутой.
Через бронхоскоп я подвел к месту повреждения длинный резиновый зонд. Энергично закачав побольше воздуха, чтобы повысить уровень кислорода в крови, я убрал бронхоскоп. После этого Майк смог, ничем не рискуя, спустить по резиновому зонду дыхательную трубку. Первые два шага позади – теперь мы можем спокойно вентилировать легкие.
Настал черед разобраться с кровообращением и остановить угрожавшее жизни кровотечение. Женщину вкатили в операционную и повернули на правый бок. Доун вымыла руки и выложила на холсте стерильные инструменты для проведения торакотомии. Мне не нужно было говорить ни слова. Все работали слаженно, как часы. Майк, подготовив два пакета донорской крови, следил за артериальным давлением пациентки на экране.
Пока я мылся у раковины, в голове моей проносилось множество мыслей. Прежде всего меня порадовало, что женщина без сознания и не видит происходящего с ней ужаса. Затем я встревожился. Что я увижу у нее в груди? Я боялся обнаружить разрыв крупной подключичной артерии, ведущей в руку, хотя на левом запястье пульс прощупывался. Оставалось надеяться, что это всего-навсего венозное кровотечение под низким давлением, которое остановить гораздо проще. Я прекрасно осознавал, что рядом проходят ведущие к рукам нервы, которые крайне желательно не задеть электрокоагулятором.
Из груди вылилось два литра крови – обрызгав мои штаны, она тут же оказалась на полу. Кровь была теплой и жидкой, но здесь от нее не было никакого толку. А ведь хорошее получилось бы удобрение для сада! Давление упало, и левое легкое надулось, словно воздушный шарик. Оно радовало непорочным розовым цветом – это вам не покрытые серыми пятнами легкие курильщиков. Мы удаляли кровь из грудной полости, пока не показалось рваное отверстие. К счастью, артериального кровотечения не было – лишь темно-красная кровь вытекала из крупной вены руки. Я принялся останавливать кровотечение. Если бы я просто перевязал вену, рука отекла бы, так что я восстановил целостность сосуда с помощью участка менее важной вены, чтобы сохранить кровоток.
Когда пациентка была в безопасности, мы промыли грудную полость антисептическим раствором. Все остальные главные артерии и нервы были хорошо различимы в груди. Деревянный кол лишь сдвинул их назад, повредив куда менее важные части организма. Женщине невероятно повезло – в это даже с трудом верилось. Итак, с кровообращением мы тоже разобрались.
Однако предстояло разделаться с другой серьезной травмой – разорванной трахеей. Это занятие было не столь пугающим, как кровавая баня, которую мы только что разгребли. Мы закрыли грудную клетку, оставив дренажную трубку для удаления воздуха и крови, и я ввел в подреберные нервы щедрую дозу местного анестетика длительного действия, чтобы потом пациентке не было так больно. Она и без того натерпелась.
Пришло время устроить перерыв на чай, тогда как мои помощники перевернули пациентку на спину, чтобы заняться раной на шее. Мне всегда нравилось оперировать эту часть тела. У нашей пациентки шея была тонкой, без капельки жира, так что работа не должна была вызвать проблемы. Ужасная рана, видневшаяся над местом соединения ключицы и грудины, достигала восьми сантиметров в ширину. Она зияла, словно в зловещем оскале, обнажив неприкрытые мышцы. Самый простой способ добраться до трахеи заключался в том, чтобы обрезать неровные края раны, а затем продолжить разрез, захватив щитовидную железу.
Поврежденная трахея оказалась прямо передо мной – сверху располагалась щитовидная железа, а внутри виднелась вставленная нами трубка. Поскольку мы восстановили жизнедеятельность организма, из раны вовсю текла ярко-красная кровь. Остановить кровотечение не составляло труда, но деревянный кол неизбежно занес с собой бактерии – пришлось обрезать зараженные края трахеи, после чего соединить ее нетронутые участки многочисленными отдельными стежками.
Разорванная трахея, может, и выглядела пугающе, но операция была простейшая. Я восстановил целостность трахеи, соединив разделенные участки прочными герметичными швами, а напоследок проверил ведущие к голосовым связкам нервы. Счастливый случай уберег и их тоже. Должно быть, Бог ехал вместе с женщиной в машине. Или же сидел у меня на плече. А может, был и там, и там. Майк дополнительно ввел убойную дозу антибиотиков, чтобы наверняка не допустить заражения, после чего мы сшили кожу и подкожный слой металлическими скобами. Хорошая работа!
Ждать результатов экстренной операции – ужасное занятие, особенно когда речь идет о твоей дочери и тебе говорят, что столб ограды чуть не снес ей голову. Жива она или мертва? Парализована или нет? Изуродована или все такая же красивая? В подобные моменты сложно думать о чем-либо другом.
Родственники пациентки тревожно ожидали в отделении интенсивной терапии. Сюда они попали из отделения травматологии, где им не сказали ничего оптимистичного.
Я сказал семье то же самое, что и пациентке, когда она находилась при смерти, а я сжимал ее руку, – что все будет в порядке. А затем умчался в закат. Точнее, в паб, чтобы провести время со своей семьей: узнать, как сыграл в регби мой сын и как прошел матч по гольфу у моей дочки. Драки. Порезы и синяки. А ведь это всего лишь женский гольф!
Что касается пациентки, то она быстро пошла на поправку. Когда мы с Майком заглянули в отделение интенсивной терапии воскресным утром, она уже была в сознании, так что мы взяли быка за рога и удалили трахеальную трубку. Как и следовало ожидать, после такого происшествия женщина чувствовала себя так, будто ее сбил грузовик. Болело в горле и в груди, но с дыханием не было проблем, и она могла разговаривать. Все было в порядке, и через неделю она вернулась домой.
К счастью, с возрастом моя адреналиновая зависимость (наряду с тестостероновой) начала угасать. Хотя неизведанное по-прежнему вызывает у меня радостное волнение. Увы, для многих незадачливых пациентов шансы выжить целиком и полностью зависят от того, окажется ли поблизости опытный хирург-травматолог. Далеко не всем выпадает такая удача.
14. Отчаяние
Победы не делают сильнее. Сила формируется в борьбе. Сила – это когда ты преодолеваешь трудности и решаешь не сдаваться.
Арнольд ШварценеггерОксфордский университет Брукса находится всего в миле от нашей больницы, и в нем полно энергичных, радостных студентов. Одна из студенток – девушка двадцати одного года, изучавшая японский язык, – пожаловалась на обмороки. Предварительные диагностические процедуры, в том числе ЭКГ и эхокардиография, показали, что с сердцем все в порядке. Но однажды вечером, когда девушка разговаривала с друзьями, она внезапно рухнула без сознания на пол.
Это случилось через несколько дней после того, как футболиста Премьер-лиги во время матча вернули к жизни у всех на глазах. СМИ вовсю трубили о случившемся. Спортсмену удалось выжить благодаря, во-первых, реанимации, проведенной прямо на поле кардиологом, который отыскался среди болельщиков, и, во-вторых, быстрой доставке в передовой кардиологический центр. Как результат, сердечно-легочная реанимация попала в центр общественного внимания.
Друзья девушки начали делать массаж сердца и вызвали «Скорую», которая примчалась менее чем через четыре минуты. Кардиомонитор показал фибрилляцию желудочков – хаотичную электрическую активность, при которой сердце бессмысленно трепыхается, не перекачивая кровь. В наши дни в каждой машине «Скорой помощи» имеется дефибриллятор, и, пока подружки продолжали непрямой массаж сердца, фельдшеры разместили электроды дефибриллятора спереди и сбоку на груди пациентки. Девяносто джоулей. Разряд!
Обычно это помогает, если у человека сердечный приступ. Однако после непродолжительной прямой линии кардиомонитор вновь показал фибрилляцию. Больница, в которой предостаточно опытных и квалифицированных врачей, находилась всего в двух минутах езды от студгородка, но девушку почему-то не повезли туда, а вместо этого вставили ей в трахею трубку и продолжили проводить реанимационные мероприятия на месте. Что ж, хотя бы кислород она начала получать. Незадолго до того «Скорая» обзавелась новой игрушкой – аппаратом для компрессии грудной клетки под названием «Лукас». Вручную сдавливать грудь – занятие утомительное, но машина не устает, ритмично надавливая на нижнюю половину грудины и заставляя кровь из сердца расходиться по телу.
Аппарат для компрессии грудной клетки заставляет кровь из сердца расходиться по телу, тем самым освобождая руки врача «Скорой помощи» для других важных процедур.
После нескольких неудачных попыток с дефибриллятором фельдшеры прикрепили новинку к груди пациентки. Сердце оказалось зажато между грудиной и позвоночником, и машина принялась регулярно бить по нему, словно отбивая мясо кухонным молотком. Время шло. Лишь через полчаса после остановки сердца девушку доставили в отделение неотложной помощи – бездыханную, но окруженную всевозможным медицинским оборудованием, а «Лукас» все так же лупил по ее груди. Зрачки, к счастью, реагировали на свет (удалось сохранить жизнь мозгу), но несчастное сердце, избитое и потрепанное, по-прежнему вяло трепыхалось.
Фабрису Муамбе, футболисту «Болтон Уондерерс», очень повезло, что на одной из трибун нашелся опытный кардиолог. В случае же с девушкой необходимо было выяснить причину обморока и заняться ею, но фельдшеры применили стандартные реанимационные мероприятия: сначала дефибрилляцию с сильным разрядом – 150 джоулей, потом несколько раз по 200 джоулей с теми же электродами, а затем на фоне продолжающейся фибрилляции установили машину для непрерывного массажа сердца и сделали инъекцию адреналина в вену. Если бы сердце хоть как-то сокращалось, от адреналина потенциально могла быть польза, но он еще больше раздражает мышцы, способствуя фибрилляции желудочков.
Наконец девушке ввели препарат под названием амиодарон, чтобы усмирить электрическую активность сердца. Это уже ближе к делу, но после тридцати ударов током не так-то просто остановить фибрилляцию желудочков. Когда прибыл дежурный кардиолог, доктор Башир, ситуация выглядела безнадежной. Он внимательно посмотрел на пациентку и изменил одну деталь – расположение электродов на груди. Оставив один спереди, над правым желудочком, он переместил второй за спину, прямо позади левого желудочка.
Один удар в 200 джоулей – и сердечный ритм восстановился. Из-за введенного адреналина давление мгновенно подскочило выше нормы – это увеличило кровоток к поврежденной сердечной мышце (что хорошо), но усилило ее электрическую нестабильность. Что в результате? Повторная фибрилляция с последующим разрядом, а также большая доза бета-блокаторов, чтобы нейтрализовать действие адреналина. После установки электродов в правильное положение электрический разряд сработал с первого раза. Доктор Башир, опытный электрофизиолог, назначил пациентке большие дозировки нескольких сильнодействующих препаратов для стабилизации сердечного ритма.
Где-то через два часа после остановки сердца его хаотичный ритм начал постепенно стабилизироваться и появилась возможность сделать эхокардиограмму. Было очень важно узнать, что покажут снимки. Существует мало проблем, способных вызвать внезапную смерть у молодых людей. Одна из вероятных причин – наследственное утолщение стенок сердца, но эхокардиография быстро ее исключила: размеры и толщина обоих желудочков были нормальные.
Правый желудочек заметно пострадал от последствий длительного массажа сердца и многочисленных электрических разрядов. Он расширился и плохо сокращался, хотя сердечные клапаны выглядели нормально. Фибрилляцию желудочков также может спровоцировать редчайшая патология коронарных артерий, но с этими кровеносными сосудами на вид все было в порядке.
Возможно, у пациентки желудочковая дизритмия – нарушение электрической стабильности при нормальном строении сердца? Эта патология способна вызвать обмороки и внезапную остановку сердце при отсутствии выраженного генетического синдрома. Она не связана с физическими упражнениями или стрессом, а зарождается в самой электрической системе сердца и может проявляться как в непродолжительных всплесках электрической нестабильности, так и в полномасштабной «электрической буре».
Чтобы решить проблему, необходимо вычислить источник раздражения и ликвидировать его. Как раз на этом и специализировался доктор Башир, а процедуру должны были провести в лаборатории катетеризации. Хаотичная электрическая активность сердца не стала бы помехой, при условии что удастся поддерживать нормальное кровообращение. Однако ночью это организовать нелегко, так как требуется опытная команда.
Девушку предполагалось перевести из отделения неотложной помощи в кардиореанимационный блок, тем более что тамошние врачи уже приступили к работе. Они хотели нормализовать биохимический состав крови, который нарушился после трехчасовых реанимационных мероприятий. Были опасения, что все может закончиться отказом сердца, и меня вызвали, чтобы узнать, нуждается ли пациентка в механической поддержке кровообращения.
Я добрался до отделения неотложной помощи в полдесятого вечера и увидел вокруг кровати целую толпу – в большинстве своем зевак, которые ничего не делали. «Лукас» по-прежнему был на месте – к счастью, отключенный, так как сердце пока билось без перебоев. Лично я эту машину недолюбливал. Массаж сердца действительно порой незаменим, но сердце – очень нежный орган, и мне не нравится, когда его сдавливает машина. К этому времени реаниматологи ввели пациентке седативные препараты и начали искусственную вентиляцию легких, а биохимический состав сердца улучшился, потому что нормальный сердечный ритм обеспечил эффективный кровоток. Ординатор-кардиолог нервно мялся у дефибриллятора.
Не прошло и трех минут, как его опять пустили в ход. На этот раз никакого массажа – лишь дефибриллятор. Разряд! Сердце вернулось к нормальному синусовому ритму. Я предложил немедленно забрать пациентку в кардиореанимационный блок, а также отдать фельдшерам «Скорой» механическую кувалду: надо было убрать ее от сломанных ребер девушки.
После семидесяти электрических разрядов мы сошлись на диагнозе «идиопатическая фибрилляция желудочков». Препараты, введенные для нормализации сердечного ритма, начали действовать, так что было логично повременить с лабораторией катетеризации, тем более что пока все складывалось в нашу пользу. Дефибриллятор требовалось применять уже не так часто, и нормальный сердечный ритм восстанавливался быстрее.
Мы остались в палате интенсивной терапии, возле кровати девушки. Ночью с севера Англии прибыли ее родители и парень, измученные тревогой и дурными предчувствиями. Для меня это было страшнее всего. Я наблюдал, как медсестры рассказывают им о том, что произошло, а затем стал свидетелем шока, который они испытали, увидев ее – подключенную к аппарату искусственной вентиляции легких, бледную, с синими губами, а также с большими катетерами на шее, руках и запястье, присоединенными к капельницам. В отделении интенсивной терапии пациенты всегда так выглядят, но посетителей, которые очутились здесь впервые, это зрелище пугает не на шутку, особенно когда на грани жизни и смерти оказался их ребенок.
Потом они принялись, не повышая голоса, искать виноватого. Почему это могло произойти? Ей было так хорошо в Бруксе. Неужели это наследственное? Мне следовало вмешаться и задать родителям вопросы, но я не нашел в себе сил, чтобы встретиться с ними лицом к лицу, и постарался слиться с фоном. Не умер ли недавно кто-то из членов семьи? Были ли у кого-нибудь из родственников проблемы с сердцем? Случалось ли с ней нечто подобное прежде? Все мимо.
От «если бы да кабы» в кардиохирургии проку мало: такими рассуждениями делу не поможешь. Мы просто без лишних вопросов беремся за работу и разбираемся с тем, что имеем по факту.
Я знал, что будет дальше – собственно, потому и остался, хотя надеялся, что пронесет. Когда действие адреналина закончилось, электрическое раздражение уменьшилось, однако артериальное давление начало падать и к раннему утру снизилось до критического уровня. Между тем давление в венах возрастало, так как правый желудочек – избитый и измученный – с трудом справлялся со своими задачами. Выделение мочи прекратилось, как всегда бывает в подобных обстоятельствах, и в крови повысилась концентрация молочной кислоты, выделяемой мышцами по мере того, как их кровоснабжение ухудшалось.
Пришлось в который раз прибегнуть к дефибрилляции. К сожалению, времени на то, чтобы попросить родителей покинуть палату, не было. Увиденное жутким образом напомнило им о том, что их дочь действительно при смерти. Ее руки и ноги были ледяными: начался кардиогенный шок, ставший следствием не дизритмии, а слишком агрессивного массажа сердца и многократных электрических разрядов, да и ударная доза бета-блокаторов, которые понадобились, чтобы нейтрализовать действие адреналина, тоже не пошли на пользу.
Я попросил провести еще одну эхокардиографию, на сей раз с помощью зонда, введенного в пищевод. При таком исследовании камера оказывается непосредственно позади сердца, и картинка получается более четкой. За ночь ситуация кардинально изменилось в худшую сторону: теперь и левый, и правый желудочки почти не сокращались. Ну как тут не поддаться сомнениям? Случилось бы это, если бы электроды дефибриллятора изначально расположили правильно? А если бы пациентку сразу доставили в больницу, не пытаясь реанимировать на месте, и врачи быстро ввели ей нужные лекарства, как сделал впоследствии мой коллега? Она нуждалась в опытных врачах и лекарствах, а не в бьющей по груди механической кувалде.
Я знал, что надо делать. Измученное сердце еще можно было спасти, но для этого требовалось поддерживать кровообращение, а единственный быстрый способ этого добиться заключался в том, чтобы установить внутри аорты баллон-насос. Правда, он мало помогает, если пациент в состоянии шока. Тем не менее мы его установили, и давление девушки слегка повысилось. Однако кровоток нужно было усилить, а баллон-насос не мог в этом помочь. Чтобы поддерживать давление выше 70 миллиметров ртутного столба, пришлось ввести сосудосуживающий препарат норадреналин, но он снова спровоцировал фибрилляцию желудочков.
Говоря, что пациентка нуждалась в поддержке кровообращения, я имел в виду, что нам следовало бы воспользоваться вспомогательной желудочковой системой – одним из тех насосов, которые имелись в больнице, пока не закончились собранные для этих целей деньги. В данном случае нужна была система для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации – сокращенно ЭКМО. Она включает центробежный кровяной насос с оксигенатором наподобие тех, что входят в состав аппарата искусственного кровообращения, только предназначена для более длительного использования: пациент может быть без дополнительного риска подключен к этой системе на протяжении нескольких дней и даже недель, пока ему не станет лучше. Нам требовался этот прибор, потому что у пациентки отказали оба желудочка, а легкие плохо функционировали из-за общего шока. Беда в том, что у нас его не было. Лишь в нескольких британских больницах выделялись деньги на его применение – главным образом у молодых пациентов с тяжелым поражением легких.
У меня у самого начала закипать кровь, когда я увидел отчаявшихся родителей у кровати девушки; когда заметил, что осеннее солнце поднимается над горизонтом, и подумал, что для нормальных, здоровых людей начинается обычный новый день – и что наша пациентка еще вчера относилась к их числу.
Ну-ка, что у нас предусмотрено в последних рекомендациях Национального института здоровья и клинического совершенствования Великобритании на случай острой сердечной недостаточности? Там сказано: «Следует обратиться за советом в больницу, оснащенную вспомогательным оборудованием для кровообращения». Так мы и сделали. Коллеги-хирурги, в прошлом мои стажеры, подтвердили, что пациентке нужен аппарат для ЭКМО. Но каковы шансы в целости и сохранности доставить к ним девушку, у которой регулярно начинается фибрилляция желудочков? Которую уже пришлось ударить током семьдесят раз? Чье сердце практически поджарилось? Можно было даже не рассчитывать на удачную транспортировку. С этим никто не спорил.
Припомнив наши инновационные достижения, коллеги удивились, что у нас в больнице нет системы ЭКМО, и посоветовали как можно скорее заказать у представителя компании доставку оборудования в Оксфорд. Связаться с поставщиком удалось лишь в полдевятого. К этому времени артериальное давление пациентки снова упало, а венозное повысилось. Как результат, ткани организма плохо омывались кровью, кровоток внутри жизненно важных органов нарушился, а уровень молочной кислоты все рос и рос.
Я уже подумывал, а не отвезти ли пациентку в операционную, чтобы подключить к обычному аппарату искусственной вентиляции легких? Однако по ряду причин это могло обернуться катастрофой. АИК еще больше ухудшит состояние легких и снизит свертываемость крови. Кровотечение – самое распространенное и смертельно опасное осложнение при проведении ЭКМО, а после длительного искусственного кровообращения риск существенно возрастает.
Но был еще один выход, который мог выиграть нам немного времени, – левосимендан, сильнодействующее лекарство от сердечной недостаточности, которое мы применяли в прошлом. Оно помогает кальцию связываться с молекулами мышечной ткани, усиливая мышечные сокращения, но не увеличивая потребление кислорода и не раздражая желудочки. Я попросил реаниматологов приступить к инфузии левосимендана, но в ответ услышал, что в больнице его больше не хранят из-за чересчур высокой стоимости, по мнению руководства. Все, чем мы располагали, – это лекарства для сужения кровеносных сосудов, которые раздражали сердце, и лекарства, которые могли встряхнуть сердце и ухудшить ситуацию.
Неприглядная правда состояла в том, что мы упорно пытались спасти девушку, не имея необходимых лекарств и оборудования. Это было напряженное, беспросветное утро: время шло, мы старались заверить несчастных родителей, что делаем все возможное, а сами ждали, когда привезут оборудование для ЭКМО, вводили пациентке бикарбонат кальция для нейтрализации кислоты и регулярно проверяли зрачки. Реагируют ли они на свет? Достаточно ли кислорода получает мозг? Увеличив дозировки сосудосуживающих лекарств, мы могли ненадолго повысить артериальное давление и улучшить кровоснабжение мозга – в ущерб конечностям и кишечнику. Однако руки и ноги девушки и без того были холодными и белыми, кровоток упал до критического значения, а мышцы, страдающие от нехватки кислорода, активно выбрасывали в кровь молочную кислоту.
К полудню я уже не мог сидеть сложа руки. Я пошел в операционную и сказал, что придется подключить пациентку к АИК – если повезет, то ненадолго, пока не привезут оборудование для ЭКМО. И тут прозвучал неизбежный вопрос. Кто заплатит за ЭКМО? Кто присмотрит за всем ночью? А что, если?..
Я устал и был на взводе, так что меня понесло. Кто тут посмел усомниться в наших действиях, когда на кону жизнь двадцатилетней девушки? Да, мы не чертов трансплантационный центр. И что с того? Сердце пациентки нуждается в отдыхе после взбучки, полученной за последние сутки. И почему же так называемый «центр совершенствования» не смог спасти девушку, которая упала без чувств в миле от больницы? Причина определенно не в бездействии медперсонала.
И вот, когда я был готов окончательно потерять самообладание, оборудование доставили. Пациентку уже везли в операционную, так что я пошел встретиться с представителем компании, который приложил огромные усилия, чтобы приехать и помочь нам. Он добрался до Оксфорда больше часа назад, но по дороге в больницу застрял в пробке, а потом долго наворачивал круги, пытаясь найти свободное место на парковке. Стоит ли говорить, что его негодование и тревога с каждой минутой нарастали? Чем больше потеряно времени, тем меньше шансов спасти пациента. Он прекрасно это понимал и очень злился.
Когда оборудование подготовили, понадобилось всего несколько минут, чтобы подключить аппарат к кровеносным сосудам по обе стороны паха. УЗИ показало, что бедренная артерия слишком узкая, поэтому я решил хирургическим путем обнажить ее и присоединить к ней сосудистый имплантат. Это гарантировало, что нога будет получать необходимое количество крови. В бедренную вену с противоположной стороны канюлю вставили напрямую по проволочной направляющей. Длинная канюля достигла правого предсердия, где мы аккуратно ее расположили, используя изображения, полученные с помощью чреспищеводной эхокардиографии.
Чем больше времени уходит на незначительные дела – например, чтобы врач наконец-то смог найти парковочное место и зайти в больницу, тем меньше шансов спасти пациента.
Когда мы включили насос, артериальное давление немедленно подскочило до ста семидесяти на семьдесят, тогда как давление в венах упало с 25 до 5 миллиметров ртутного столба. Мы предусмотрительно вставили в шею пациентки канюлю для проведения диализа, но, после того как кровоток усилился, почки начали активно вырабатывать мочу. Система ЭКМО улучшила состояние девушки в считанные минуты. Кожа порозовела, биохимический состав крови нормализовался – у нас на руках был уже совсем другой пациент. Я возликовал, а ее родители смогли вздохнуть спокойно.
Первые несколько часов зрачки пациентки реагировали на свет. Однако ближе к вечеру, когда состояние сердца значительно улучшилось, они внезапно расплылись и перестали на него реагировать. Настоящий кошмар наяву: телу лучше, а мозг отказал. Лишенный кислорода и крови, мозг девушки начал отекать. Давление внутри черепной коробки возросло, и ствол головного мозга опустился в позвоночный канал[32]. В переводе с медицинского жаргона – гребаная катастрофа!
Я как раз лежал на диване у себя в кабинете, надеясь, что мы наконец-то одержали победу. Прежде чем уйти домой, Сью, моя секретарша, нерешительно постучала в дверь. В палате интенсивной терапии попросили, чтобы я вернулся, – от таких слов сердце всегда уходит в пятки. Никто не звонит, чтобы сообщить хорошие новости, – обязательно жди беды. Я рассчитывал обнаружить кровотечение или что-нибудь из того, что я мог бы исправить. Чего я никак не ожидал, так это задернутых занавесок вокруг кровати.
Родители девушки, истощенные физически и эмоционально, сидели по разные стороны кровати, держа дочь за руки. Я должен был узнать, что произошло, прежде чем их тревожить. Медсестра, присматривавшая за пациенткой, с печальным выражением лица подошла ко мне. Зрачки «расползлись» достаточно быстро, и нужно было немедленно выяснить, что послужило тому виной: кровоизлияние в мозг из-за гепарина или отек мозга из-за кислородного голодания.
Нейрохирург смог бы помочь с первым, удалив тромб. Второй вариант стал бы, вероятно, финальным аккордом в нашей драме – а ведь мы только-только справились с фибрилляцией желудочков! С момента последнего электрического разряда прошло четыре часа, и теперь требовалось как можно скорее сделать томографию мозга. Я сам обо всем договорился, а затем попросил коллегу-нейрохирурга взглянуть на снимки.
Снимки появляются один за другим, демонстрируя многочисленные поперечные сечения извилистого белого и серого вещества. Сложная, но хорошо изученная анатомия, где каждая деталь отвечает за ту или иную составляющую человеческой жизни – более или менее важную. Череп – это жесткая коробка, поэтому отек мозга не проходит бесследно. Заполненные жидкостью пространства сдавливаются и исчезают, чувствительные выпуклые части мозга и нервы деформируются, рано или поздно мозговой ствол начинает выпирать из черепа – отсюда и потеря реакции на свет. А когда пропадают мозговые рефлексы, пациент умирает.
Через несколько минут весь мозг был просканирован, после чего компьютер обработал отдельные снимки и создал трехмерную модель мозга, которая подтвердила мои худшие опасения. Официальное заключение рентгенолога гласило: «Сильный отек мозга с грыжевым выпячиванием мозгового ствола в большое затылочное отверстие». Я попытался уговорить нейрохирургов снять верхушку черепа, чтобы снизить давление. Они были бы рады помочь, но сказали, что уже слишком поздно и что они сожалеют о случившемся. Что ж, они явно сожалели не так сильно, как я.
Пациентку покатили обратно в палату интенсивной терапии, что само по себе было трудоемким занятием из-за сопутствующих приборов: системы ЭКМО, аппарата искусственной вентиляции легких, баллон-насоса, мониторингового оборудования. Неудивительно, что наша унылая процессия двигалась очень медленно.
С чем мы остались в итоге? Состояние остальных органов улучшалось. Девушка была теплой и розовой, насыщенная кислородом кровь из аппарата щедро омывала ткани, почки вырабатывали мочу, кишечник усваивал пищу, а печень выводила токсины. Все органы нуждаются в крови и кислороде, и система ЭКМО – простая и недорогая – позволяла не испытывать недостатка ни в том, ни в другом. Однако для мозга было уже слишком поздно. Нам не удалось спасти именно те клетки организма, которые представляли наибольшее значение.
Я не нашел в себе сил, чтобы рассказать обо всем родителям девушки. Я повел себя трусливо и ретировался в свой кабинет, мрачный как туча. Реаниматологи сделали все возможное, чтобы снять отек мозга, но скорее для проформы, так как смерть уже наступила. Спустя двое суток после установки мы отключили систему ЭКМО в связи со смертью мозга. Я собственноручно убрал все трубки. Сердце пациентки работало превосходно: нормальные давление и пульс, никакой фибрилляции желудочков. Его-то мы спасли.
Я чувствовал горечь. Ни у кого во всем Соединенном Королевстве не было столь обширного опыта, как у нас. Никто так не выкладывался в лаборатории, не сделал столько открытий. Но ничего из этого не имело значения. Важно было лишь то, что мы не являлись трансплантационным центром, поэтому нам не полагалось финансирование. Важно было лишь ограничивать расходы. Смерть обходится дешево.
После того как смерть мозгового ствола была официально подтверждена, мы обратились к безутешным родителям по поводу донорства органов. Очевидно, при жизни пациентка выразила желание пожертвовать свои органы в случае преждевременной смерти, и родители не стали возражать. Прежде чем органы должны были изъять, я подошел к родителям девушки, чтобы поговорить, пока они еще не покинули больницу. Медсестра, помогавшая сражаться за ее жизнь, тоже стояла у кровати, потому что хотела остаться до самого конца и поддержать несчастных мать и отца. Подобное благородство – большая редкость. Для этого нужно быть человеком идейным и смелым.
Что я, собственно, мог сказать? Мне было очень грустно. Мой сын, ровесник девушки, тоже учился в университете Брукса. Как бы я себя чувствовал, окажись на их месте? Мне не было нужды задумываться об этом: я повидал стольких скорбящих родителей, что знал ответ на этот вопрос. В итоге я сказал следующее. Я очень сожалею об их утрате. С учетом непростых обстоятельств команда опытных врачей днем и ночью самоотверженно трудилась, чтобы все исправить. Мы с коллегами опечалены таким исходом и крайне благодарны за то, что их дочь пожертвовала органы нуждающимся. Этот поступок поможет изменить жизнь других людей.
Добавлю, что у девушки изъяли печень и обе почки, которые помогли трем пациентам. То, что эти органы нормально функционировали, свидетельствовало об эффективности системы ЭКМО.
* * *
Через несколько дней оборудование понадобилось нам снова – для молодой женщины, которая только что родила и у которой развилась легочная эмболия околоплодными водами. Все, что я мог посоветовать, – немедленно отправить ее в центр ЭКМО, прекрасно отдавая себе отчет, что задержка обернется смертельным исходом. К сожалению, я оказался прав.
После этого я мог бы использовать оборудование для сорокалетней пациентки, у которой из-за случайного попадания воздуха развилась воздушная эмболия и остановилось сердце прямо в палате интенсивной терапии. Она также умерла. И далее в том же духе.
Смерть девушки стала трагедией для ее друзей и преподавателей из университета Брукса. Я написал письмо ректору, выразив соболезнования в связи с тем, что, несмотря на героические усилия ее подруг, не растерявшихся, когда она упала в обморок, мы не смогли ничего поделать. Несколько месяцев спустя меня пригласили на церемонию вручения дипломов. Погибшей собирались вручить диплом посмертно, и меня попросили прийти вместе с ее родителями.
Мы с ее матерью, отцом и парнем сидели в первом ряду и смотрели, как юноши и девушки один за другим поднимаются на сцену, чтобы получить диплом. Затем почетный ректор Шами Чакрабарти рассказал об особом дипломе и поблагодарил хирурга за попытку спасти студентке жизнь. Кто-то должен был выйти на сцену, чтобы забрать сертификат. Вызвалась мать: отец оцепенел от горя, а молодому человеку было не по себе. У меня перехватило дыхание. Я не мог сказать ни слова, но помог несчастной женщине подняться по ступенькам. Все должно было быть иначе – не такого окончания учебы ждала семья. После церемонии вокруг нас собрались друзья и преподаватели девушки. Родители им обрадовались и вместе с ними отважно пошли на фуршет.
Я же ощущал злость и беспомощность. Раздавленный тяжким грузом ответственности, я покинул зал. За всю мою врачебную карьеру не было дня печальнее.
В память об Элис Хантер – да будут другие спасены.
15. Двойная угроза
Когда был молод, полон сил, Жену врача я полюбил И в день по яблоку съедал, Чтоб врач меня не доставал. Томас У. Ламонт. «Отроческие годы в доме священника»Джулии было сорок. Хорошенькая и темпераментная блондинка, она жила в Лондоне и почти все время посвящала карьере. По выходным она занималась конным троеборьем, и весьма успешно: не раз ей доводилось соревноваться бок о бок с именитыми спортсменами. Таким образом, первую беременность она решила отложить напоследок. Ну и не проблема: Джулия была в прекрасной форме – как физически, так и душевно. В студенческие годы (она изучала психологию в Дареме) Джулия играла за университетскую команду по хоккею, а позднее выступала в составе хоккейной сборной родного графства Лестершир. Кроме того, она достигла неплохих успехов в футболе и крикете.
Но вот в чем странность. Джулии никогда не давался челночный бег – что-то словно сдерживало ее. Кроме того, она регулярно засыпала на рабочих совещаниях, из-за чего даже обратилась в частную клинику, специализировавшуюся на проблемах со сном. Там заподозрили нарколепсию, но диагноз не подтвердился, так что Джулия лишь впустую потратила круглую сумму.
В апреле 2015 года тест на беременность показал положительный результат – и это всего после месяца попыток. Бинго! Джулия обезумела от счастья. Вскоре она начала чрезмерно уставать, а потом появились трудности с дыханием – одышка давала о себе знать, стоило Джулии просто сесть на лошадь. Но все заверяли ее, что во время беременности это совершенно обычное дело: всему виной гормоны и скапливающаяся в организме жидкость.
Не желая поддаваться усталости, она вернулась к пробежкам, твердо настроившись привести себя в форму. Первый раз она заставила себя одолеть две с половиной мили, но на следующей неделе запыхалась, не дотянув и до конца улицы: горло обжигало, а в груди возникла давящая боль. Из-за беременности грудь увеличилась в размере, а ее чувствительность повысилась, и Джулия решила, что в этом и может крыться одна из причин внезапных симптомов. Значит, нужно всего лишь немного притормозить – что ж, хотя бы ездить верхом она могла без проблем.
На тринадцатой неделе беременности, в понедельник, Джулия пришла на прием к акушерке. Та порекомендовала аспирин в качестве профилактики преэклампсии – состояния, которое характеризуется опасным повышением давления и может развиться на поздних сроках беременности. Джулия пожаловалась на неожиданно плохую физическую форму и на то, что ситуация стремительно ухудшается. Акушерка не стала списывать жалобы на невроз, а посоветовала Джулии проверить сердце и легкие, пообещав замолвить слово терапевту. И правильно сделала – это было крайне важное, ключевое решение.
Добродушный терапевт, как и полагается врачам, внимательно выслушал пациентку и принялся ее успокаивать.
– Во время беременности объем крови в организме увеличивается на треть, – объяснил он. – Из-за этого запросто может возникнуть одышка. Давайте я вас послушаю.
Но едва он приложил к груди стетоскоп, интонации его голоса и выражение лица сразу же стали серьезнее.
– Просто небольшие шумы, но нужно не откладывая показаться кардиологу.
Вскоре он дозвонился до клиники Виндзор в Мейденхеде. Кардиолог согласился принять Джулию в среду, то есть через день. Джулия встревожилась, однако вернулась к работе. Она была нужна «Юнайтед Бисквитс», да и как иначе отвлечься от страшного слова «шумы»?
В клинике Виндзор чудесная комната ожидания, проворный администратор и удобный диван, но Джулии было плевать. Перед приемом у кардиолога ей надо было пройти два важных исследования. Изящное черное платье сменила больничная сорочка, обнажившая ягодицы, потому что Джулия не смогла дотянуться до завязок у себя за спиной.
Сначала электрокардиограмма. Джулия взгромоздилась на кушетку, и медсестра попросила ее приподнять сорочку. На запястья, лодыжки и грудь были наложены электроды для регистрации электрической активности сердца, после чего прибор выплюнул длинную полоску розовой бумаги с черной волнистой линией. Врачам она способна рассказать о многом, хотя для остальных представляет собой полную бессмыслицу. Медсестра сказала, что все в порядке. Ну просто гора с плеч! Только вот не все было в порядке.
Опытный глаз быстро обнаружил бы на ЭКГ Джулии признаки гипертрофии левого желудочка – ее сердце было перегружено. После этого настал черед эхокардиографии – неинвазивного способа, позволяющего рассмотреть сердце с помощью ультразвука. На этот раз Джулия чуточку смутилась: процедуру проводил мужчина. Впрочем, он был милым и разговорчивым, даже когда размазывал гель по ее груди. Такая уж у него работа.
Понадобилось время, чтобы получить хорошее изображение. Оператор водил ультразвуковой насадкой вокруг набухшей левой груди, стараясь не причинять боли. Он начал с левого и правого желудочков сердца. Стенки левого желудочка оказались заметно толще, чем следует, остальные три камеры сердца: правый желудочек и оба предсердия – выглядели нормально. Но кульминационный момент был еще впереди. Оператор передвинул насадку к верхней части грудины и направил вниз.
Его поведение и выражение лица резко изменились. Он притих, продолжая вертеть насадку в руках, и Джулия догадалась, что дела плохи. Сердце ушло в пятки и возникло внезапное ощущение холода и пустоты – как будто внутренности выпали наружу.
– Что там? – не удержалась она от вопроса.
– Сильный аортальный стеноз. Мне очень жаль. Пойду скажу врачу.
После этого появилась женщина с другим аппаратом – для эхокардиографии плода и принялась намазывать гелем живот Джулии, которая впервые увидела своего ребенка. Были некоторые сомнения в том, жив он или нет. Впрочем, из последовавшего диалога Джулия поняла, что лучше бы он был мертв. Однако сердце плода билось с нормальной частотой – где-то 150 ударов в минуту.
Пришла пора показаться врачу – смышленому молодому кардиологу, который работал на Национальную службу здравоохранения. Он уже изучил результаты обследования и поставил диагноз, но помочь ничем не мог. К счастью, Джулия успела переодеться, благодаря чему чувствовала себя менее уязвимой, хотя и была на грани психологического срыва. За годы учебы в университете она немало узнала о человеческой психологии, но контролировать собственную психику это никак не помогало.
Она заговорила первой, не став размениваться на любезности:
– Дела плохи, ведь так?
– Да, мне жаль.
Опять это проклятое слово. Все врачи его произносят – но просто так, машинально.
– У вас очень тяжелая форма аортального стеноза. Точнее, врожденного аортального стеноза. Неужели никто не слышал в вашем сердце шумы, до того как вы решили забеременеть?
Джулия задумалась. Другие врачи действительно слушали ее сердце, но ни о каких шумах не упоминали.
Когда клапан сильно сужается, шумы и правда бывает нелегко расслышать. Сейчас он сузился очень сильно, и симптомы заявили о себе из-за увеличившегося объема крови: сердцу приходилось дополнительно трудиться, чтобы обеспечивать плаценту всем необходимым.
Чтобы объяснить физиологию того, что случилось, важно отметить, что с двенадцатой по тридцать шестую неделю беременности объем крови, перекачиваемой сердцем, увеличивается чуть ли не на пятьдесят процентов по сравнению с тем, что было до беременности. Для Джулии предельное значение было достигнуто уже на тринадцатой неделе, потому что клапан на выходе из левого желудочка был сильно сужен. Сокрушительную боль в груди во время занятий спортом вызывал слабый кровоток в коронарных артериях. И если артериальное давление в руке составляло 100 миллиметров ртутного столба, то в левом желудочке оно достигало угрожающе высокого значения – 250 миллиметров ртутного столба. Кроме того, устремлявшаяся к сердцу кровь задерживалась в легких, из-за чего те утрачивали эластичность. Любое дополнительное напряжение могло привести к отеку легких и даже внезапной смерти. А Джулия еще была уверена, что она в отличной спортивной форме!
Однако и это не все. Словно решив окончательно добить Джулию, врачи сказали, что если бы она не забеременела, то могла бы прожить от полугода до двух лет в лучшем случае. В данной же ситуации ей осталось несколько недель. Продолжать беременность было слишком опасно, и кардиолог порекомендовал к выходным сделать аборт. Тогда можно будет провести операцию по замене клапана аорты, в которой она срочно нуждалась.
Что делать, если женщине, которая наконец забеременела, врач советует сделать аборт, чтобы спасти ее жизнь?
Совсем не на это рассчитывала Джулия. Она не торопилась заводить детей, но за три радостных, волнующих месяца беременности успела привязаться к своему будущему малышу. И не только плацентой. Что, если ей больше не представится шанс стать матерью? Она чувствовала себя нормально, когда ничего не делала. Нельзя ли ей просто сохранять покой, до тех пор пока ребенок не родится? Это логично, и она была готова заплатить такую цену. Увы. Кардиолог ничуть не сомневался: если ничего не предпринять, то и Джулия, и ребенок умрут задолго до того, как его можно будет родить, даже если запланировать преждевременные роды до тридцатой недели беременности.
Выбора у Джулии не было. Ни один хирург не взялся бы оперировать аортальный клапан у беременной женщины. Врач предложил созвать на следующий день консилиум, чтобы с коллегами-кардиологами, хирургами, реаниматологами и акушерами-гинекологам проанализировать имеющуюся информацию, рассмотреть возможные варианты и рекомендовать оптимальное решение.
Но Джулия отнюдь не была увядающей фиалкой, лишенной права голоса.
– А что насчет моего мнения? – настаивала она. – Я хочу сохранить ребенка, а не искать оптимальный вариант того, как от него избавиться. Каковы мои шансы?
Ответить на этот вопрос было крайне непросто. Очевидного решения не существовало. Врач на минуту задумался, а затем сказал:
– Я свяжу вас с кардиологом из Оксфорда, который специализируется на проблемах с сердцем у беременных.
С беременностью связаны довольно простые этические принципы. Врач в первую очередь несет ответственность за мать; считается, что, ради спасения ее жизни ребенком можно пожертвовать, пока тот находится в утробе. При этом рисковать жизнью матери ради спасения нерожденного ребенка неприемлемо. Ребенок, как правило, выживает, если рождается после тридцатой недели – и даже после двадцать восьмой. Но почти не бывает случаев, чтобы умирающую мать подключали к приборам жизнеобеспечения с единственной целью – сохранить жизнь ребенку.
Кардиологи из районной больницы внимательно изучили снимки, полученные во время эхокардиографии. Согласно их оценке настолько узкий клапан не позволил бы Джулии дожить до тридцатой недели беременности, чтобы можно было провести кесарево сечение. Гормональные изменения и увеличение объема крови уже поставили ее жизнь под угрозу, и ей никак не удалось бы протянуть еще шестнадцать недель. Все сошлись в одном: Джулии следует прервать беременность в ближайшие дни, после чего провести замену аортального клапана. Аборт превратил бы сложную проблему в простую – в той степени, конечно, в которой кардиохирургию можно назвать простой.
В тот же день кардиолог позвонил Джулии на работу и вкратце изложил, к какому заключению пришли его коллеги. Она поморщилась от очередного «мне жаль». Но он также сказал, что записал ее на прием к доктору Оливеру Ормероду из Оксфорда на завтра. Он подчеркнул, что время на исходе и что ей пока не следует ездить верхом и подвергать себя другим физическим нагрузкам.
Поездка в Оксфорд обернулась сущим кошмаром: пробки на дорогах, затор у въезда в больницу, отсутствие мест на парковке – и никакой помощи. Джулия опаздывала на самую важную встречу в ее жизни, а заодно и в жизни ее ребенка. Ко всему прочему вернулась сильнейшая боль в груди, от которой женщину охватил страх. Еще в пятницу Джулия была счастливой будущей мамой – теперь же она чувствовала, что обречена.
Оливер в корне изменил ситуацию, потому что он был совсем другим. На нем не было костюма и галстука, и, в отличие от остальных врачей, он не относился ко всему чересчур серьезно. Он напомнил Джулии одного из любимых персонажей ее детства – моряка Папая. Наконец-то она почувствовала себя особенной, а не очередным безликим пациентом.
– Хотите сохранить своего ребенка? Давайте придумаем, как вам помочь.
Давящая боль в груди исчезла, и по телу разлилась волна облегчения. Рука непроизвольно опустилась на живот, словно Джулия хотела сказать: «Не переживай! Этот врач присмотрит за нами обоими!»
Но реально ли было сохранить жизнь и Джулии, и ребенку? Оливер подтвердил, что клапан не станет ждать, пока ребенка можно будет родить на двадцать восьмой неделе. Значит, с клапаном нужно разобраться раньше, постаравшись сохранить беременность. Сделать это можно было двумя способами. Первый заключался в том, чтобы расширить суженное отверстие клапана с помощью специального надувного зонда (так называемая баллонная дилатация). Это временное решение, позволявшее, однако, продержаться достаточно долго. Второй вариант более радикальный – операция на открытом сердце с подключением к аппарату искусственного кровообращения. Все предыдущие врачи возражали против него.
Баллонную дилатацию проводили в лаборатории катетеризации, а ход процедуры контролировали с помощью рентгена – ребенка можно было защитить от излучения свинцовым фартуком. Разместив баллон внутри аортального клапана, его надувают, чтобы раздвинуть края клапана. Если бы этого оказалось достаточно и Джулия протянула до тридцатой недели беременности, то заменить клапан можно было бы после родов: проводить операцию на сердце новоиспеченной матери куда безопасней, чем будущей.
Мой коллега профессор Баннинг был известным специалистом по подобным процедурам, и Оливеру потребовались более детальные снимки сердца Джулии, чтобы показать их ему. Если Баннинг даст добро, то все можно будет сделать уже на следующей неделе. Но каков риск? Клапан может разойтись, из-за чего возникнет сильная течь, спровоцировав острую сердечную недостаточность, так что операционная будет готова на случай, если вдруг понадобится срочное хирургическое вмешательство. Может произойти и так, что клапан раскроется недостаточно, чтобы исправить ситуацию. В любом случае мать и ребенок подвергнутся значительному риску. Заковыристая задача.
Оливер решил положить Джулию в отделение кардиологии после выходных. А тем временем он собирался поговорить с единственным известным ему хирургом, которому доводилось оперировать в подобных обстоятельствах.
В пятницу вечером Оливер позвонил мне домой, и мы обсудили похожие случаи, с которыми сталкивались в прошлом. У последней нашей пациентки на двадцать восьмой неделе беременности были обнаружены нетипичные шумы в сердце. Выяснилось, что у нее в левом предсердии массивная, но доброкачественная опухоль – миксома вроде той, что была у Анны. На протяжении четырех недель мы наблюдали за состоянием пациентки в больнице, после чего ей сделали кесарево сечение в кардиологической операционной. А спустя три дня я вырезал опухоль. И с матерью, и с ребенком все было в порядке.
Перед этим мы лечили молодую женщину с инфицированным искусственным клапаном, который начал разрушаться и сильно протекать. Ей сделали кесарево сечение на тридцать третьей неделе беременности, а я заодно заменил клапан. С матерью и ребенком все было в порядке, хотя и возникли проблемы из-за маточного кровотечения.
Затем я напомнил Оливеру, что в другой больнице проводил операцию по замене аортального клапана тридцатипятилетней женщине на двадцатой неделе беременности. Операция прошла успешно, и после ее завершения у плода по-прежнему регистрировалось сердцебиение. Тем не менее ночью у пациентки случился выкидыш, сопровождавшийся обильной кровопотерей, и нам с трудом удалось сохранить ей жизнь.
Операция на сердце во время беременности – одна из тех редких процедур, которые могут привести к смерти сразу двух пациентов: матери и ребенка. Я прочитал все опубликованные отчеты о подобных операциях. На тот момент по всему миру было зафиксировано 133 подобных случая. Ни одна из женщин не погибла, но семерых детей потеряли. Обнадеживающе? Нет.
Проблема в том, что хирурги предпочитают сообщать публично лишь об успешных операциях, так что могли иметь место сотни случаев, когда умирал плод, а может, даже и мать. Но лучше умолчать об этом, так ведь? Что ж, такова человеческая природа. И все же у нас была кое-какая статистика, которую можно показать Джулии и ее близким.
Оливер спросил, что я думаю насчет баллонной дилатации. Я сказал, что идея хорошая, но на практике могут возникнуть проблемы. Обычно при врожденной патологии аортального клапана у него нет четко выраженных участков, которые мог бы разъединить баллон, в отличие от клапанов, пораженных ревматизмом, для которых эта методика была неплохо отлажена. По сути, пришлось бы действовать вслепую – с риском повредить клапан и даже разорвать аорту, что неизбежно вызвало бы обильное кровотечение. Нужно было спросить у Баннинга, каковы, по его мнению, шансы на успех. Но если будет решено провести баллонную дилатацию, то в случае неудачи я сделаю все, от меня зависящее, чтобы спасти пациентку. На этом мы и сошлись.
После выходных Джулию положили в больницу для дальнейшего обследования. Слухи о ее неоднозначной ситуации стремительно расползлись, и на собрании специалистов по врожденным порокам сердца, состоявшемся в четверг ранним утром, было не протолкнуться. К нам присоединились коллеги из саутгемптонского отделения детской кардиологии, и Оливер подробно описал случай Джулии, продемонстрировал новые снимки ее сердца.
Отверстие аортального клапана Джулии представляло собой очень узкую щель, и вместо трех створок у него фактически имелась одна – такие клапаны мы называем одностворчатыми. Он напоминал каменистый вулкан, в глубину достигал почти сантиметр и был ригидным. Мышца под ним была ужасающе толстой. Удивительно, что Джулия дожила до сорока с такими-то данными. Будет ли толк от баллона? Вряд ли. Будет ли его установка безопасной? Маловероятно.
Потом подвели итог. Мы заменим аортальный клапан, использовав биологический протез, благодаря чему не понадобятся антикоагулянты, способные причинить вред ребенку. Именно этого и хотела Джулия. Таково было ее решение, а она не любила неопределенность. Она была не только темпераментной, но еще и смелой. Никто из присутствовавших на собрании не стал возражать.
Возьмусь ли я за операцию? Что ж, ее нужно провести быстро, причем время подключения к аппарату искусственного кровообращения должно быть минимальным. Для матери АИК совершенно безопасен, но он нередко провоцирует смерть плода: плацента и матка недолюбливают этот аппарат. Физраствор, применяемый для наполнения системы, разбавляет материнскую кровь, в ней падает концентрация гормона прогестерона, а матка, в свою очередь, становится менее стабильной и более чувствительной. Когда в процессе искусственного кровообращения матка начинает сокращаться, возникает прямая угроза смерти плода. Кроме того, если поступление крови от плаценты уменьшается и уровень кислорода в крови снижается, то сердцебиение плода замедляется, что может спровоцировать дистресс. В результате нагрузка на формирующееся сердце повышается, с чем плод не всегда в состоянии справиться.
Я объяснил тонкости применения АИК во время беременности. Давление и подача крови должны быть выше нормы, а еще нужно не дать крови остыть, чтобы кровеносные сосуды матери не сузились. Жизненно важно прооперировать ее как можно быстрее. Кардиоплегический раствор, который требовался для защиты утолщенной сердечной мышцы, содержал высокий уровень калия, который представлял угрозу для чувствительного детского сердца. Оно может остановиться, если переборщить с кардиоплегическим раствором.
Таким образом, нужно внимательно отслеживать сердечный ритм плода и сокращения матки. И если матка все же начнет сокращаться, мы введем прогестерон, чтобы снизить ее тонус. Мы также можем повысить производительность АИК, если пульс плода замедлится. Мне казалось, что, если каждый будет четко понимать, что от него требуется, у нас неплохие шансы сохранить ребенку жизнь.
Итак, разговоры о прерывании беременности сменились твердым намерением сохранить маленькую семью целой и невредимой. Вместе с тем обязательно нужно было подстраховаться. На случай смерти плода и ночного выкидыша гинекологи должны подготовиться, ведь им, вероятно, придется останавливать внутриматочное кровотечение у пациентки, только что перенесшей операцию на сердце. Отделения кардиологии и гинекологии располагались в разных зданиях, но на общей территории.
Следующий день, пятница, был не самым удачным выбором для операции: по выходным в больнице работают замещающие врачи и нанятые в агентстве медсестры. Мне же были необходимы лучшие специалисты в своем деле, и, поскольку состояние Джулии оставалось стабильным, я решил подождать до понедельника. Никакой суеты. Всего лишь очередная замена аортального клапана, просто с тщательно продуманным планом и надлежащей поддержкой.
Что делает хирурга быстрым? Не спешка или торопливые движения руками. На самом деле совсем наоборот – организованность и отсутствие лишних движений. Каждый шов должен быть на своем месте, и все должно получаться с первого раза. Так что быстрые хирурги действуют размеренно – все дело в хорошей связи между пальцами и мозгом.
Совещание подошло к концу, и мне предстояло лично встретиться с пациенткой. Оливер отвел меня в палату, где находилась одна Джулия: по утрам родственников не пускают. Как и обещали, она была темпераментной и пытливой, а при виде меня заволновалась. Слишком многие советовали ей пре-рвать беременность.
Она с ходу заявила мне:
– Я хочу сохранить ребенка.
Я ответил, что хочу того же. Теперь мы могли сотрудничать.
Так когда же я собирался ее оперировать? Я объяснил, что операция назначена на утро понедельника, после чего рассказал, какой клапан мы решили ей поставить, и подчеркнул, что для него не понадобятся антикоагулянты. Для дальнейшей беременности и родов это было крайне важно. Я добавил, что со временем клапан износится, и лет через пятнадцать, а то и меньше, его нужно будет заменить. Но Джулия не строила столь далеких планов. Сейчас ей хотелось поскорее со всем покончить и вернуться к нормальной жизни.
– А я могу уехать домой на выходные?
Ей нужно было все уладить перед операцией и предупредить начальника.
– Хорошо, только никакой верховой езды и никаких физических нагрузок – вообще никаких! Но вам придется еще немного задержаться, чтобы мы проверили вашу группу крови и с вами поговорил анестезиолог.
Оливер согласился, что отпустить Джулию домой на выходные – хорошая идея; нет никакого смысла настаивать на том, чтобы она осталась. Из анестезиологов в понедельник должна была работать Элейн, и я вызвал ее, чтобы объяснить ситуацию. Она появилась немедленно. Пока Элейн беседовала с Джулией, я отправился к перфузиологам, чтобы предупредить о предстоящей операции и дать им почитать кое-какую литературу. Я объяснил, чего от них хочу, и подчеркнул, что на кону две жизни.
Когда я увидел Джулию в семь утра в понедельник, она вела себя абсолютно спокойно. Она попросила меня не выкидывать деформированный клапан: тот был ее частью, и она хотела его сохранить. Вся семья пришла вместе с ней, чтобы морально поддержать: муж, сестра и пожилые родители. Я пообещал, что позже вернусь и поговорю с ними.
Под местной анестезией установили венозную и артериальную канюли для мониторинга. Мне очень не хотелось следить за сердцебиением плода. Мне уже доводилось это делать, и я постоянно волновался и отвлекался, когда пульс ребенка замедлялся, тем более что я ничего не мог изменить, ведь мы уже приняли все возможные меры предосторожности. Элейн внимательно следила за тем, чтобы давление и уровень кислорода не падали, пока она вводит Джулию в наркоз. Перед тем как доставить Джулию в операционную, мы проверили пульс плода. Он был в норме – 140 ударов в минуту, в два раза больше, чем у матери. В желудок через пищевод ввели эхо-датчик, чтобы получать максимально четкие изображения сердца. До последнего момента мы укрывали Джулию теплым одеялом, чтобы избежать пере-охлаждения. А потом разом его убрали. Небольшой животик напоминал операционной бригаде о том, что нельзя терять концентрацию.
Кожу пациентки протерли антисептическим раствором и накрыли тело голубыми хирургическими простынями – на виду осталась лишь узкая ложбинка между грудями. Мы закрепили на операционном столе электрокоагулятор, дефибриллятор и трубки АИК. Теперь мы были готовы начать.
Я разрезал скальпелем кожу – крови было больше, чем обычно, из-за усиленного кровообращения, – после чего электрокоагулятором прошелся по тонкому слою жировой ткани и добрался до кости. Настал черед пилы, которой я разрезал грудину посередине – вжик! От этого зрелища студентов-медиков выворачивает наизнанку, и они теряют сознание. Выступил костный мозг. И снова электрокоагулятор, чтобы разрезать остатки вилочковой железы, а затем и околосердечную сумку. Готовясь подключить АИК, Элейн ввела Джулии гепарин.
Мы установили канюли в аорту и правое предсердие, после чего запустили аппарат. Вентиляцию легких отключили, и кровь потекла по трубкам, но в виде исключения мы не охлаждали ее, а согревали теплообменным устройством, а также поддерживали высокую подачу насоса, чтобы лишний раз не расстраивать матку и плаценту. Пережав аорту, мы начали подавать в сердце кардиоплегический раствор, до тех пор пока оно не остановилось. Теперь сердце было вялым и холодным, зато в полной безопасности.
Я вскрыл аорту скальпелем и обнажил проблемный клапан. Его было не узнать. Как и показала эхокардиограмма, он напоминал вулкан с узким жерлом. Взяв другое лезвие с заостренным концом, я одним махом вырезал клапан и аккуратно поместил в бутыль с формалином – мой подарок Джулии. Затем двенадцатью отдельными стежками я пришил новый биологический клапан. Он был сконструирован из околосердечной сумки коровы и подвешен на пластиковый каркас. Я поставил его на место старого клапана – простая и распространенная операция, которая должна была помочь сразу двум пациентам. Пока что все складывалось хорошо.
Мы зашили аорту, убрали зажим, и в коронарные артерии потекла теплая кровь. Сердце ожило – сначала затрепетало из-за фибрилляции желудочков, после чего остановилось. Оно лежало неподвижно, пока я не ткнул его пальцем. В ответ оно сократилось и выбросило кровь. Я ткнул еще раз, и нормальный сердечный ритм восстановился. Новый сердечный клапан на эхокардиограмме прекрасно открывался и закрывался. Впервые за десятилетия путь из левого желудочка был широко открыт, и тысячи крошечных пузырьков воздуха устремились к игле. Спокойствие и размеренность – именно это нам и было нужно.
Мы остановили жизнь, а затем запустили ее снова, улучшив ее и взяв на себя тщательно взвешенный риск.
Я дал Элейн команду приступить к вентиляции легких, проверить газовый состав крови и подготовиться к отключению АИК. Ритмичными движениями она закачала воздух в трахею, сдувшиеся легкие наполнились воздухом и раскрылись – розовые и величавые. Они окружили сердце, как делали это всегда, изо дня в день.
На кардиомониторе появилась пульсовая волна – теперь регулярная и бойкая. Я же смотрел не на экран, а на само сердце, которое выталкивало из себя последние воздушные пузырьки. Они поднимались вверх, к правой коронарной артерии, которая оказалась закупорена скопившимся воздухом. Правый желудочек лишился кровоснабжения и временно расширился. Не беда. Мы увеличили подачу насоса и повысили давление, чтобы протолкнуть воздух. Правый желудочек снова сократился, и все встало на свои места.
Нужно было как можно скорее отсоединить АИК. Я сказал перфузиологу постепенно отключаться, чтобы сердце взяло кровообращение на себя. Аппарат работал всего сорок четыре минуты, и все это время мы поддерживали интенсивный кровоток и нормальную температуру, стараясь защитить матку с ее ценным грузом. Наконец я услышал: «АИК отключен». Мы убрали катетеры и нейтрализовали действие гепарина протамином.
Разрезы по-прежнему кровоточили, причем больше обычного. Мой мочевой пузырь и природная неугомонность дали о себе знать, и я решил, что лучше позволить Мохаммеду закончить все самому – прижечь кровоточащие ткани, установить дренажные трубки и электроды для кардиостимуляции, проследить, чтобы пациентке ничего не угрожало. Мы старались обойтись без переливания крови из-за его побочных эффектов, но недостаток эритроцитов нарушил бы снабжение организма кислородом; в итоге пришлось перелить ей две единицы донорской крови, а также свежезамороженную плазму с ее факторами свертываемости крови, после чего дополнительно ввести тромбоциты – липкие клетки, которые закупоривают мелкие повреждения сосудов. Спустя час, когда кровотечение остановили, Джулия была готова к переводу в палату интенсивной терапии.
Элейн с Мухаммедом сопроводили Джулию из операционного комплекса, не скрывая радости от того, что все прошло по плану. Каково же было их недоумение, когда в палате их встретила неопытная медсестра – и это после столь тщательной подготовки! Палату интенсивной терапии предупредили заранее, как и всех остальных (и незадачливая медсестра не была ни в чем виновата), но Элейн разозлилась. Как они собираются присматривать за ребенком? Какой период для него самый критичный? Что они будут делать, если у Джулии начнется обильное внутриматочное кровотечение? Озадаченные лица, медсестры с выпученными глазами, ошарашенные младшие врачи. Так позовите людей с опытом и беритесь за дело! Я был не в курсе происходящего, но Элейн была абсолютно права. Опыт играет первостепенную роль в ситуациях, связанных с повышенным риском, а в этом случае мы рисковали потерять сразу две жизни.
Давление Джулии было слегка пониженным. Ее кровеносные сосуды были расширены, потому что мы поддерживали в ее организме тепло, пока работал АИК, что не являлось обычной практикой. Однако мы не могли дать ей стандартные препараты для повышения давления, так как от них сузились бы сосуды матки и плаценты. Мы также не могли позволить среднему артериальному давлению упасть ниже 70 миллиметров ртутного столба. Решение можно было бы найти в рекомендациях по послеоперационному уходу, которые мы всем раздали. Но разве кто-нибудь удосужился их прочитать? Пускай уж молчат, иначе письменной жалобы им не миновать.
Медицина – единственная профессия, в которой моча служит поводом для радости.
Вернувшись, я попросил Мохаммеда остаться с Джулией. С помощью аппарата для УЗИ Оливер вывел на экран сердце плода, которое, как и раньше, билось с частотой 140 ударов в минуту. С плодом все было в порядке, матка не сокращалась, и я дал команду привести Джулию в чувство, отсоединить от аппарата искусственной вентиляции легких и прекратить подачу седативных препаратов – это должно было сразу же повысить давление. Я ушел оперировать следующего пациента, бросив на прощанье:
– Не забывайте, что вы присматриваете за двумя пациентами, а не только за тем, который у вас перед глазами.
Джулия быстро пришла в себя, и из трахеи убрали трубку. Как она позже призналась, пробуждение с трубкой в горле было самым неприятным моментом за все то время, что она находилась в больнице.
Назавтра я встретился с Оливером в семь утра, чтобы взглянуть на сердце плода – оно по-прежнему стучало с частотой 140 ударов в минуту. Более того, плод выделывал в утробе настоящие кульбиты. Сердце Джулии с новым клапаном тоже работало «на ура», о чем свидетельствовали теплые ступни и заполненный мочеприемник. Медицина – единственная профессия, в которой моча служит поводом для радости. И тем не менее на душе у меня было неспокойно, потому что давление Джулии оставалось пониженным. Мы толком не знали, насколько это важно на данном этапе, так как не до конца понимали специфику операций на сердце во время беременности, но нам совершенно не хотелось применять лекарства, которые могли нарушить кровоснабжение плаценты.
Очнувшись, Джулия первым делом спросила, все ли в порядке с ребенком. Мы заверили ее, что с ним все хорошо, но следующие сутки продолжали активно мониторить сердцебиение плода. К тому времени я перестал волноваться: все шло более-менее гладко. Позже тем же утром мы убрали из грудной полости дренажную трубку. Джулии не терпелось вернуться в отдельную палату, но я хотел, чтобы за ее давлением и уровнем кислорода понаблюдали еще как минимум сутки. Мы перевели ее в изолированное тихое помещение, куда обычно кладут пациентов с заражением крови.
На следующий день состояние плода оставалось без изменений: он активно двигался, и его сердце билось нормально, но Джулии было немного не по себе.
Второй день после операции всегда самый тяжелый: в первый день пациента спасает эйфория от того, что он выжил, однако назавтра остается лишь боль.
К сожалению, мы не могли дать ей сильные обезболивающие, так как они могли причинить вред ребенку.
Итак, мы провели операцию в понедельник, а уже к пятнице Джулия заскучала и принялась настаивать на выписке, чувствуя себя при этом довольно хорошо. У нас не было повода ее задерживать. Переживавший за нее Оливер звонил Джулии каждый день всю следующую неделю, а затем регулярно принимал ее в клинике. Плод продолжал нормально расти и развиваться. Пять месяцев спустя, в январе 2016 года, Джулия родила здорового мальчика весом четыре килограмма – это было то чудо, о котором она так мечтала, ребенок, которому изначально было предначертано оказаться в лотке из нержавеющей стали. Мы с Оливером все изменили. Добро пожаловать в этот мир, Самсон. Какой здоровяк!
16. Ваша жизнь в их руках
Никогда не ожесточаться сердцем,
Никогда не раздражаться
И никому не причинять боли.
Чарльз Диккенс. «Наш общий друг»[33]2004 год. Прошло почти пятьдесят лет с тех пор, как передача, показанная по телевизору, посеяла в коре моего головного мозга идею стать врачом, – «Ваша жизнь в их руках» про Хаммерсмитскую больницу. Передача, предопределившая мою судьбу.
В мой кабинет позвонил сотрудник канала «Би-би-си», трубку сняла Ди, моя секретарша. Она была очень воодушевлена, когда я заглянул к себе между операциями. Соглашусь ли я сняться для телепередачи – целый час эфира в прайм-тайм? Нужны были нейрохирург, хирург-трансплантолог и кардиохирург. Цикл передач так и назвали – «Ваша жизнь в их руках».
Именитый продюсер с ассистенткой приехали в Оксфорд, чтобы обсудить детали и объяснить, что порой присутствие камер может казаться навязчивым. Члены съемочной группы проведут вместе со мной шесть месяцев – как в больнице, так и у меня дома, будут встречаться с пациентами и общаться с членами моей семьи, чтобы зрители смогли почувствовать, каково это – быть кардиохирургом. Жизнь на острие событий. В моем случае – на самом острие.
Они хотели, чтобы я вживил «Джарвик-2000» прямо перед камерами, и попросили подыскать пациента с сердечной недостаточностью, за которым можно было бы следить до, в течение и после операции. Разумеется, расскажут они и о других операциях. Они предпочли бы снять сюжет про младенца; подойдут и другие драматичные, сопряженные с высоким риском случаи, позволяющие продемонстрировать передовую, впечатляющую кардиохирургию в режиме реального времени, и не важно, умрет пациент или останется жив. Они будут снимать все подряд, а потом решат, какие материалы использовать. Попробуй тут подкачать!
Они знали, что я регулярно оперировал в прямом эфире для других хирургов, причем не робел перед публикой и держался уверенно. Если я соглашусь, то с администрацией больницы обо всем договорятся. В те годы у нас был директор, который действительно общался с коллективом, – приятный малый, регулярно покидавший свою башню из слоновой кости, чтобы встретиться с рядовыми сотрудниками. Я не сомневался, что он даст добро. Мне оставалось только предупредить близких о том, что по вечерам я буду возвращаться с работы в сопровождении съемочной группы, которая будет встречать меня утром, да еще и возьмет у них интервью. Каково это – жить вместе с кардиохирургом? Хороший вопрос!
Вскоре присутствие съемочной группы за спиной стало для меня нормой. Операторы сняли множество операций. Недоношенные дети с отверстием в сердце; молодые люди с синдромом Марфана, нуждавшиеся в серьезном хирургическом вмешательстве; дама средних лет, которой в пятый раз заменили аортальный клапан… Последняя операция выдалась особенно сложной и затянулась на сутки. Объектив камеры бесстрастно зафиксировал, как все вышло из-под контроля, но пациентка тем не менее выжила. Стоит ли говорить, что этот материал пустили в эфир.
Оператор снял, как я бегаю с Марком и смотрю, как Джемма играет в гольф за Кембриджский университет. Между тем прошло несколько месяцев, а подходящего кандидата для «Джарвика-2000» всё не было. В конце концов я позвонил Филипу Пул-Уилсону в Королевский госпиталь Бромптон. Меньше чем через неделю он подобрал идеального пациента – обаятельного шотландца пятидесяти восьми лет, которому в Глазго уже отказали в пересадке сердца. Джим Брэйд во многом напоминал Питера Хоутона. Он был при смерти, но отчаянно хотел прожить достаточно для того, чтобы увидеть, как его дочка оканчивает университет и выходит замуж. Однако часы неумолимо тикали, и стало понятно, что долго он не протянет.
С тех пор как Джима обследовали в трансплантационном центре, прошло немало времени, а нам требовалась актуальная информация о его состоянии. Филип привез его из Шотландии и положил в Бромптон. Нужно было повторно провести двустороннюю катетеризацию сердца, сделать подробную эхокардиографию и множество анализов крови. Я прекрасно понимал, что все это делается на деньги благотворительных фондов. Государство не собиралось выделять ни копейки – оно списало Джима со счетов, равно как и Питера и многих других. Я был его последней надеждой.
Когда государство списывает человека со счетов, его единственная надежда – благотворительные организации и профессиональный врач.
В Глазго не ошиблись: Джим действительно неподходящий кандидат на пересадку сердца. Давление в легких было слишком высоким, хотя правый желудочек сердца успел привыкнуть к этому. Проблема была с левым желудочком. Джим страдал тем же заболеванием, что и Питер, – дилатационной кардиомиопатией. Кроме того, почки работали недостаточно хорошо, чтобы справиться с иммунодепрессантами, которые необходимы при пересадке органов. Вспомогательная желудочковая система могла взять на себя функции отказывающего левого желудочка. Более того – она могла даже помочь сердцу восстановиться. Вероятно. Эхокардиограмма показала, что состояние сердца критическое. Сейчас или никогда. Мы не могли рисковать и отпускать Джима домой в Шотландию.
Я повел оживившуюся съемочную группу вниз по Фулхэм-роуд, чтобы встретиться с Джимом и его женой Мэри. Из Бирмингема приехал Питер Хоутон – он был в отличной форме. Питер продолжал активно собирать деньги, чтобы мы могли спасти жизнь другим людям. Прошло почти четыре года после того, как ему вживили искусственное сердце, и он приближался к мировому рекорду продолжительности жизни с подобными устройствами. Он искренне обрадовался возможности проконсультировать Джима и Мэри и сделал это профессионально. Ему нравилось чувствовать себя частью команды.
Как и следовало ожидать, Джим и Мэри нервничали, однако прибор их впечатлил и они были готовы приступить к делу. К тому же Джим, как человек харизматичный, прекрасно подходил для телевидения. Передвигался он с трудом – еле-еле переставляя ноги, согнув голову и жадно глотая ртом воздух; нос и губы были синими. Разговаривал он тоже через силу, но все равно отпускал шутки на камеру.
Мне было приятно снова очутиться в Бромптоне. Большинство членов кардиореанимационной бригады, с которыми мы проводили первые операции в Оксфорде, уже там не работали, и я предложил Филипу прооперировать в Лондоне, идея ему очень понравилась. Прежде всего нужно было договориться со старшим хирургом, профессором Джоном Пеппером. Он с радостью согласился помочь, так что мы запланировали операцию на следующую неделю. Роб Джарвик пообещал в ближайшие дни привезти насос из Нью-Йорка, а Эндрю Фрилэнд, мой оксфордский коллега, должен был помочь с установкой разъема в черепе.
Теперь у нас был пациент, насос и команда профессионалов – ну просто мечта продюсера. Осталось лишь успешно установить имплантат перед камерой, и Джим должен был во что бы то ни стало выжить. Проблема заключалась в том, что, как подчеркнул анестезиолог из Бромптона, состояние пациента было слишком тяжелым для общего наркоза. Тем не менее больница оказала нам всяческую поддержку, и руководство не стало препятствовать нашей затее. Здесь раньше не устанавливали вспомогательные желудочковые системы и были рады помочь.
Полшестого утра, на улице темно и зябко. Приехавшая на такси съемочная группа подобрала меня, и мы отправились в Оксфорд, чтобы найти Эндрю. Он брел по Вудсток-роуд, держа сумку с инструментами для установки штекера в черепе. По автостраде М40 мы вернулись в Лондон, записывая интервью прямо в машине.
– Что вы чувствуете перед операцией в другой больнице?
– Жду с нетерпением. Я оперировал повсюду – от Тегерана до Торонто. Операционная есть операционная, и со мной будут лучшие из лучших. Как сказал бы Болдрик из «Черной гадюки»: «У нас есть коварный план!»[34].
– А что вы чувствуете по поводу того, что пациент может умереть? Нервничаете?
– Вовсе нет. Если мы ничего не сделаем, Джим умрет в считанные дни. Никто, кроме нас, ему не поможет.
– Считаете ли вы, что за эти насосы должно платить государство?
Я ответил встречным вопросом:
– Должна ли служба здравоохранения одной из стран первого мира использовать современные технологии для продления жизни? Или пусть молодые пациенты с сердечной недостаточностью умирают в муках, как происходит в странах третьего мира?
Мой ответ всем понравился, но в передачу его не включили. Слишком уж провокационно.
Кардиологи, уплетающие жареную пищу, – выигрышный кадр для любой программы о здоровье.
Мы добрались до Бромптона в семь утра, и я повел Эндрю вместе со съемочной бригадой в опустевшую столовую. С тех пор как я работал в этой больнице, мало что изменилось. Здесь по-прежнему готовили отменные завтраки, и я выбрал все самое полезное: сосиски, бекон, пудинг, жареные яйца и тосты. Эндрю последовал моему примеру. Мы приступили к завтраку, и камера начала снимать. Это и хотел запечатлеть продюсер. Кардиологов, уплетающих целую гору жареной пищи – чистый холестерин.
Я:
– Отлично. Дома мне такого не готовят.
Эндрю:
– А что бы на это сказала ваша жена?
Я:
– Да какая разница!
Именно этот эпизод всем и запомнился после выхода передачи в эфир. В выпуске, посвященном моему другу нейрохирургу Генри Маршу, показали, как он на велосипеде едет на работу по улицам Лондона – без шлема! Когда его попросили прокомментировать, он просто сказал: «Никогда его не надевал. Все равно он меня не спасет». Каналу требовались яркие и необычные личности – их он получил.
Джон Пеппер спустился нас поприветствовать. С учетом ситуации мы вели себя слишком расслабленно – пожалуй, не такими ожидаешь увидеть хирургов перед сложной операцией. Но для пациента это было хорошо.
Мы зашли в палату, чтобы увидеться с Джимом и Мэри. Джим испытывал радостное волнение, Мэри – ужас. Видит ли она мужа в последний раз? Может, это последний день их совместной жизни? Вернется ли она в Шотландию убитая горем или вне себя от счастья? Я сделал то, что всегда делаю в такие моменты, – сказал, что все будет хорошо. Не то чтобы я был в этом уверен. Я просто хотел, чтобы оба набрались уверенности перед операцией. Перед объективом телекамеры мы все были равны.
Когда хирурги нервничают, они плохо справляются с работой, что подтверждено многочисленными исследованиями. Стресс мешает мыслить рационально, и от него трясутся руки. В хирургии нет места стрессу.
В операционной царило возбуждение – все занимались делом. Медсестры раскладывали по подносам блестящие инструменты, перфузиологи готовили к работе аппарат искусственного кровообращения, технические специалисты заботливо охраняли искусственное сердце, чтобы запустить его в решающий момент. Но на этот раз никаких сапог лорда Брока. Теперь я сам был состоявшейся личностью.
Когда с бедного Джима сняли простыни, стало очевидно, что он истощен. Его голова, выбритая слева, была готова к установке разъема и подсоединению кабеля питания. Вот-вот он станет человеком на батарейках. Проколов иглой кожу и вставив направляющую проволоку, Джон сделал небольшой разрез и ввел трубки АИК в главные артерию и вену левой ноги Джима. Здесь использовали более современное оборудование, чем у меня в операционной. Мне было чему поучиться.
После того как кожу груди обработали антисептиком и Джима накрыли простынями, закрепив их липкой лентой, Эндрю занялся черепом, а я принялся вскрывать грудную клетку – камера поочередно снимала наши с ним действия. Из груди вытек почти литр бледно-желтой жидкости – обычное дело при сердечной недостаточности. Через околосердечную сумку я увидел расширенный левый желудочек.
Я начал вводить кабель питания через верхнюю часть груди в шею, стараясь не задеть ведущие к левой руке кровеносные сосуды и нервы. Пробравшись через шею, я вывел миниатюрный штепсель с другой стороны – прямо в руки Эндрю. Он продел его в титановую базу, которую затем привинтил к черепу за ухом. Это называлось жесткой фиксацией, и все для того, чтобы к разъему можно было безопасно подсоединять внешний кабель питания. По телевизору все выглядело завораживающе; но мы еще не добрались до самой сложной части операции.
Я вскрыл околосердечную сумку, и полилась прозрачная жидкость. Бледный и растянутый левый желудочек лишь дернулся в ответ – это сложно было назвать сокращением. Я дал знак оператору навести фокус на сердце, так как собирался пришить ограничительную манжету. Каждый раз, когда игла пронзала мышцу, сердце угрожающе вздрагивало – вот-вот могла начаться фибрилляция. Это раздражало: я собирался имплантировать насос, не прибегая к АИК, что снизило бы риск кровотечения после операции. Но состояние Джима было слишком нестабильным. Не успел я зафиксировать манжету, как фибрилляция сердца началась. Артериальное давление упало до нуля, но ничего страшного. Мы просто запустили АИК и опорожнили сердце.
Началась самая волнующая часть представления: предстояло сделать в верхушке сердца выемку, чтобы установить туда «Джарвик-2000». Сперва я сделал скальпелем крестообразный надрез – во время этой манипуляции всегда струей бьет кровь. Затем я специальным ножом вырезал круглый кусок мышцы, из-за чего кровь потекла в околосердечную сумку. Кровотечение остановили, когда титановый насос разместили внутри сердца. Мне ассистировал профессор хирургии, и все прошло гладко. Эндрю подсоединил внешний кабель питания к разъему в черепе Джима, и мы запустили насос – сначала на минимальных оборотах, чтобы удалить весь воздух из сосудистого имплантата.
Как обычно, воздух начал пеной выходить из иглы, образуя на белой трубке красные пузырьки. Чрезвычайно приятное зрелище. Я скомандовал перфузиологу снизить мощность АИК, чтобы мы могли наполнить сердце кровью, прежде чем повысить скорость вращения ротора. Последние пузырьки воздуха вышли из верхней части желудочка. Элементарная физика. Но немалую роль играла и химия – нужно было оптимизировать уровень калия и нейтрализовать действие молочной кислоты бикарбонатом натрия, – а также биология: чтобы обеспечить стабильный сердечный ритм, приходилось раз за разом проводить дефибрилляцию трепыхающейся мышцы. Не зря все-таки я готовился к школьным экзаменам по этим трем предметам.
Между тем многочисленных зрителей больше всего интересовала инженерная составляющая: электрический разъем в голове и турбина в сердце, которая вращалась с частотой 12 000 оборотов в минуту, не повреждая эритроциты и обеспечивая кровообращение без пульса. Я комментировал все свои действия на камеру, параллельно раздавая указания анестезиологу и перфузиологу: «Начинайте вентиляцию легких. Уменьшите подачу. Включайте “Джарвик”». Четкие инструкции от человека, который в жизни не заглянул под капот машины и практически не умел пользоваться компьютером. Никому не верилось, что все складывается настолько хорошо.
Радовались ли мы за пациента или же нас в первую очередь интересовало телевидение? Если честно, нас волновало и то и другое. Я наивно полагал, что, когда чудесное выздоровление Джима станет достоянием широкой общественности, государство будет вынуждено выделять деньги на лечение людей с помощью этих приборов. Благотворительные фонды себя исчерпали – нам негде было брать финансирование. Пул-Уилсон тоже отдавал себе в этом отчет.
Мы хотели провести полномасштабное клиническое исследование, случайным образом распределив людей, умирающих от сердечной недостаточности, по двум группам: в первой пациенты получат вспомогательную желудочковую систему, а членов второй продолжат лечить стандартными способами. Мы заранее знали, каков будет результат: продление жизни и полное избавление от симптомов в первой группе и скоропостижная мучительная смерть во второй. Мы не считали, что это справедливо по отношению к тем, кто не получит насоса, но без клинических испытаний никто не одобрит использование прибора в рамках Национальной службы здравоохранения. Только у Британского фонда по борьбе с болезнями сердца было достаточно денег, чтобы поддержать наше начинание, но он нам отказал. В Штатах исследование в то время тоже нельзя было провести. Чиновники хотели собрать данные о долгосрочных последствиях отсутствия пульса у пациентов. Вся надежда была на нас.
Джима удалось без проблем отключить от АИК – самый сложный этап операции для местных анестезиологов. Они впервые видели пациента без пульса. Оптимальным для него было постоянное среднее давление на уровне 80 миллиметров ртутного столба, которое для всех остальных пациентов-сердечников считалось бы крайне низким. Обычно применяли сосудосуживающие препараты, чтобы повысить давление до 100 миллиметров ртутного столба, но в случае с Джимом требовался контринтуитивный подход.
Мы ввели ему сосудорасширяющие препараты, чтобы, наоборот, снизить давление. Чем меньше будут сопротивляться сосуды, тем больше крови сможет перекачивать «Джарвик-2000». Внутренние органы при этом нуждались в определенном перфузионном давлении, но 70–90 миллиметров ртутного столба вполне достаточно. Почки, печень и мозг обычно и функционируют при таких значениях: в капиллярах нет пульса, даже когда артерии пульсируют. Это мы выяснили методом проб и ошибок. В лаборатории все получилось, так что в палате тоже должно было сработать, хотя врачи из Бромптона, как и съемочная группа, не переставали диву даваться.
Эндрю зашил разрезы на голове и шее, после чего умчался в Оксфорд. В тот день ему предстояло принять много амбулаторных пациентов – в основном с сопливыми носами и забитыми серой ушами, никаких искусственных сердец. Джон достал трубки из паха, а я вставил в грудную полость дренаж и принялся зашивать рану на груди, аккуратно прижигая электрокоагулятором кровоточащие участки. Из швов на голове сочилась кровь, так что я сделал несколько дополнительных стежков, после чего вытер кровь с головы и титанового разъема. Все должно было выглядеть безупречно. Для хорошего кадра нужны белоснежные бинты и чистые дренажные трубки – без единого пятнышка крови.
Поддавшись ностальгии, я вспомнил свою первую операцию на сердце, которую проводил в этой самой операционной. На мне были сапоги лорда Брока, и, когда я провел пилой по грудине бедной дамы, задев ее сердце, в операционную заявился Маттиас Панет в полосатом костюме и воскликнул: «Уэстаби! Что ты наделал на этот раз?» Сейчас главным был я.
Камера продолжала снимать, как Джима покатили в палату интенсивной терапии. Я бросил последний взгляд на операционную. Под столом виднелись лужи крови, переливавшейся под яркими лампами, а также немного мочи там, где мочеприемник дал течь. Перфузиологи складывали теперь уже ненужные трубки в желтый пластиковый контейнер и запихивали окровавленные зеленые простыни в чистенькие полиэтиленовые мешки, а медсестры в синей униформе выбрасывали белые использованные тампоны. Все цвета радуги – мечта художника.
Поистине исторический день. Простой паренек из Сканторпа имплантировал искусственное сердце в Королевском госпитале Бромптон для телевизионной передачи, которая пятьюдесятью годами ранее и натолкнула его на этот путь.
Когда Джима благополучно подсоединили к аппарату искусственной вентиляции легких, мы пошли обрадовать Мэри и их дочь. Камеры последовали за нами: от них было не убежать. Члены съемочной группы хотели увидеть человеческие эмоции и были решительно настроены их запечатлеть. Семью пациента отвели к нему в палату. Обстановка в отделении интенсивной терапии всегда пугает тех, кто заходит сюда впервые, но на этот раз зрелище было особенно впечатляющим. Из выбритой головы Джима свисал черный шнур – отныне его жизнь зависела от батареек.
Мы принялись все объяснять жене и дочери Джима, но они и без того многое узнали от Питера Хоутона, который, к слову, вскоре должен был приехать в больницу. Вот только под волосами Питера уже не был виден электрический разъем. Когда же тот оказался у них перед глазами, обе испугались. Я протянул дочери Джима стетоскоп и приложил мембрану к груди отца. Ее лицо озарило удивление. Она услышала непрерывное жужжание ротора насоса, который поддерживал жизнь Джима. Я кивнул на экран монитора, отображавший показатель сердечного выброса. Прибор перекачивал четыре литра крови в минуту, потребляя семь ватт электроэнергии через контроллер и аккумуляторы. Легким движением руки я мог увеличить или уменьшить кровоток в организме Джима. Проще простого – одна-единственная ручка. Продюсеры пришли в восторг. Это оказалось куда интереснее, чем нейрохирургия. Чтобы сверлить крохотные отверстия в черепе и удалять опухоли кусочек за кусочком, нужен совсем другой характер.
Состояние Джима оставалось поразительно стабильным. Никаких кровотечений, тогда как Питер и остальные потеряли литры крови. Мы с Джоном и Филипом принялись с сожалением обсуждать других потенциальных пациентов. Где взять деньги? Я мог бы привлечь достаточно средств, чтобы установить еще несколько насосов, но полномасштабные клинические испытания уж точно не потянул бы. Однако нашу дискуссию прервали: не все можно обсуждать перед камерой.
Когда я вернулся в палату интенсивной терапии, Питер Хоутон разговаривал с семьей Джима, улыбаясь, как Чеширский Кот. Ему было важно обзавестись «друзьями-киборгами» – такими же людьми на батарейках, в жизни которых начался новый этап, монстрами доктора Франкенштейна с торчащей из головы железкой. Я с радостью смотрел на них, мечтая, что однажды это перестанет быть диковинкой. На этой ноте я решил, что пора домой, в Вудсток. Чем дольше я оставался в Бромптоне, тем сильнее сожалел, что в свое время не продолжил здесь работать. Эта больница отличалось такой целеустремленной атмосферой, что все казалось по плечу; знаменитый старинный госпиталь, где охотно пробуют новые подходы, а не ищут отговорки, чтобы ничего не делать.
Пациенту, которому вживили в сердце насос, важно обзавестись такими же «друзьями-киборгами», чтобы поддерживать друг друга.
На следующий день у меня были назначены операции в Оксфорде, после чего я вернулся в Лондон. Джима отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и достали из трахеи трубку. Вернувшись практически с того света, он болтал с Мэри. Теперь он выглядел совсем по-другому – жизнерадостным и полным энергии, с розовыми, а не синими носом и ушами. Насос перекачивал пять литров в минуту, не оставляя ни малейшего следа пульса на осциллограмме артериального давления. В мочеприемнике скопился целый литр мочи – это жидкое золото говорило о том, что почки работают как надо.
Съемочная группа тем временем была в пабе. Я спросил у реаниматолога, назначил ли он пациенту варфарин. Он все сделал, и мне нечего было добавить. Безнадежный пациент с тяжелой сердечной недостаточностью быстро поправлялся, не нуждаясь в иммунодепрессантах и прочей отраве, которые обязательно прописывают после пересадки сердца, чтобы избежать его отторжения организмом. Боле того, правый желудочек Джима отлично справлялся с усиленным кровотоком. В Вудсток я вернулся совершенно довольный тем, как все обернулось.
Я виделся с Джимом еще несколько раз, прежде чем он уехал в Шотландию. Филип значительно снизил дозировку лекарств, которые Джим принимал от сердечной недостаточности, в первую очередь – мочегонных, усложняющих жизнь любому пациенту. Жена и дочь без труда привыкли к насосу – они регулярно меняли аккумуляторы, а на ночь подключали его к розетке. У Джима перестали отекать лодыжки, пропала одышка, и впервые за многие месяцы он смог спокойно лежать на спине.
Несколько недель спустя дочь Джима окончила университет, и он присутствовал на церемонии вручения дипломов с бокалом шампанского в руке. Потом на видеокамеру запечатлели, как на закате он гуляет по пляжу в Шотландии вместе с женой Мэри – счастливый человек, дышащий полной грудью и размышляющий о своей жизни. Эта трогательная сцена стала финальной в передаче. Цикл «Ваша жизнь в их руках» завоевал престижную награду в номинации «Лучший телевизионный документальный фильм», и я гордился тем, что сыграл во всем этом свою роль. Это стало кульминация моей врачебной карьеры.
Лишь изредка Джим возвращался в Бромптон для обследования. Сотрудники шотландской больницы и местный семейный врач ознакомились с особенностями прибора и охотно присматривали за Джимом. Но затем из Шотландии пришли печальные новости. Незадолго до Рождества Джим отправился в гости к другу, позабыв взять с собой запасной заряженный аккумулятор. Он радовался жизни и совершенно не думал о насосе. На контроллере сработал сигнал тревоги, который означал, что аккумулятор вот-вот разрядится и у Джима есть двадцать минут, чтобы его заменить.
Джим не успел добраться домой. Его сердце восстановилось недостаточно для того, чтобы поддерживать кровообращение в организме. Когда батарейка окончательно села, Джим умер: его легкие быстро наполнились жидкостью. После того как он получил в подарок три дополнительных года полноценной жизни, было особенно грустно об этом узнать. На мой взгляд, эта катастрофа наглядно показала, насколько эффективным может быть искусственное сердце. Какая трагическая потеря для всех нас!
* * *
Время не стоит на месте. Не успел я оглянуться, как наступил 2016 год. Я посвятил кардиохирургии целую жизнь. Сколько еще я планировал проработать? Проблема в том, что я по-прежнему был в этом хорош – импульсивный хирург, готовый браться за любой сложный случай и за тридцать пять лет набравшийся огромного опыта, который немыслим для молодых хирургов. Должен ли я был остаться ради пациентов? Или же уйти ради своей семьи, найти работу попроще?
Выход на пенсию шел вразрез с моим характером, но у меня начались проблемы с правой рукой. Фасция ладони – той, в которую медсестры передавали инструменты во время операции, – начала укорачиваться, и у меня развилась «птичья лапа», известная также как контрактура Дюпюитрена. Теперь я даже не мог толком здороваться с людьми, потому что моя рука постоянно оставалась в положении, в котором я держу ножницы, иглодержатель, электропилу для грудины. Это была самая настоящая профессиональная адаптация, которая в итоге и вынудила меня принять окончательное решение. Кроме того, долгие часы, проведенные за операционным столом, сыграли злую шутку с моей спиной – характерная для пожилых хирургов проблема. Я даже привык говорить своим помощникам: «Пожалуйста, продолжайте: моя спина ни к черту, да и спереди все тоже так себе».
Вместе с тем никакие проблемы со здоровьем не угнетали меня так, как проклятая больничная бюрократия, отсутствие возможности оперировать, отсутствие свободных кроватей, нехватка медсестер, забастовки младшего врачебного персонала. Да еще эти дурацкие обязательные занятия, на которых я вместе с другими врачами должен был сидеть и слушать, как фельдшеры учат нас проводить реанимацию, либо сдавать тест на тему правильного назначения инсулина и противораковых препаратов (в общем, изучать все то, что мне никогда не пригодится), либо писать план своего профессионального развития – в мои-то шестьдесят восемь! Я попусту просиживал там штаны, тогда как должен был, по локоть погрузив руки в чужую грудную клетку, приносить людям пользу.
Недавно в операционной сработала сигнализация – и это в самый разгар операции по замене сердечного клапана: пациент все еще был подключен к аппарату искусственного кровообращения, а его сердце – с уже пришитым искусственным клапаном – пока оставалось холодным и недвижным. Администратор просунула голову в дверь и сказала:
– Сработала пожарная сигнализация. Не думаю, что и правда начался пожар, но нужно всех эвакуировать из здания.
Я ответил:
– Ладно, тогда я пошел.
Она так уморительно изменилась в лице! Я продолжил:
– Ладно, тогда спасайтесь сами. Да побыстрее. Только, пожалуйста, оставьте нам ведро. Мы помочимся в него, чтобы потушить огонь!
Любому терпению есть предел. И куда катится профессия врача?
Послесловие
Не плачь о том, что это закончилось.
Улыбайся тому, что это было.
Теодор Зойс Гайзель (Доктор Сьюз)После того как я получил диплом врача в 1972 году, старая больница Чаринг-Кросс закрылась и переехала в другое место. Когда последний пациент покинул знаменитое здание на улице Стрэнд, многие из нас, бывших студентов, решили прогуляться по опустевшим коридорам, предаваясь воспоминаниям о проведенных здесь годах практики. Я вернулся к старому расшатанному лифту, поднялся наверх и в последний раз открыл зеленую дверь, ведущую в эфирный купол. Освещение еще работало, но пыльного устаревшего оборудования как не бывало. Я нерешительно побрел вдоль скамеек, чтобы заглянуть в операционную, как сделал тогда. Как и следовало ожидать, оставшаяся незамеченной капля крови Бет по-прежнему была здесь, поверх операционной лампы – черное, застарелое пятно, до которого никто не смог дотянуться. Стереть последний ее след с лица земли так и не удалось.
Бет продолжала являться мне по ночам, особенно в тяжелые времена, недостатка в которых не было. Она держала ребенка на руках, а позади него виднелся металлический ретрактор, который раздвигал слабую грудь, обнажая пустое и неподвижное сердце. Бет шла мне навстречу, бледная как смерть, и сверлила меня взглядом, как и в тот день. Бет хотела, чтобы я стал кардиохирургом, и я ее не разочаровал. У меня неплохо получалось. Тем не менее, несмотря на все старания, некоторых пациентов я так и не спас. Сколько именно, сложно сказать. Как и пилот бомбардировщика, я не зацикливался на смертях. Больше трехсот, меньше четырехсот – кажется, где-то так. Однако преследовал меня только призрак Бет.
Июнь 2016-го. Невероятно, ведь прошло немало лет с тех пор, как я – нервный молодой студент – робко переступил порог секционного зала и принялся резать морщинистое и засаленное человеческое тело. И вот я, стоя на возвышении в актовом зале Королевского колледжа хирургов, выступаю с приветственной речью перед кардиохирургами-стажерами. Организаторы представили меня как пример для подражания – кардиохирург-первопроходец, которому удалось избежать судов и лишения лицензии. Я посвятил речь выдающейся истории создания аппарата искусственного кровообращения и технологии вспомогательного кровообращения. Я воспел великих людей, благодаря которым я вырос как врач, и их героические деяния, не говоря уже о собственных достижениях.
Когда начал выступать следующий оратор, я попытался ускользнуть незамеченным. Но ко мне подошла группка энергичных молодых людей, желавших со мной сфотографироваться. Я был польщен. Мы позировали в фойе колледжа, перед мраморной статуей Джона Хантера – легендарного хирурга и анатома. Мне всегда становилось не по себе в этом месте. Именно здесь я узнавал о проваленном экзамене – а такое случалось не раз, – когда мою фамилию не зачитывали вслух. Когда многие уходили, понурив голову.
И даже окончательная победа не далась мне безболезненно. В тот раз я сдавал устный экзамен с переломанной челюстью, из-за чего почти не мог разговаривать. Мрачным зимним днем я, весь в грязи, сидел в отделении травматологии кембриджской клиники Адденбрук после неудачного захвата в регби. Не успев переодеться, все еще в спортивной форме, я дожидался, когда меня примет хирург-ортодонт. Но вдруг «Скорая» привезла парня, разбившегося на мотоцикле: он был в критическом состоянии из-за внутреннего кровотечения в левой части грудной полости. Не было времени вызывать кардиохирурга из больницы Папворт, так что интерн и медсестра, с которыми мы были знакомы, попросили меня вмешаться, пока не стало слишком поздно. Я вскрывал грудную клетку прямо в спортивных шортах и с грязными коленями, то и дело сплевывая в раковину собственную кровь.
Об этой странной истории пошли слухи, а на экзамене присутствовал хирург из Кембриджа. Возможно, это даже сыграло мне на руку. В итоге я добился желаемого, однако неприятные воспоминания никуда не делись. Я ненавидел напускное высокомерие экзаменаторов, разгуливавших в ярко-красных мантиях (я называл их нарядами Флэша Гордона) между колоннами. А сейчас Королевский колледж хирургов превратился в учреждение, где приветствуется политика «назвать и пристыдить». Здесь охотно разглашают показатели смертности у каждого хирурга поименно, пресмыкаясь перед чиновниками от здравоохранения, вместо того чтобы защищать своих членов.
Как же все изменялось со времен моей молодости! Несмотря на трудности, мы – те, кому удавалось пробиться в кардиохирургию, – чувствовали себя на вершине мира: мы гордились собой и хорохорились, как петухи. Перед нами открывались все двери, и люди нас уважали. Сегодняшние же стажеры казались мне зашуганными, настороженными и неуверенными в себе. В колледже царила угрюмая атмосфера.
Со мной захотел поговорить стажер родом с Ближнего Востока. Его больница попала под расследование из-за плохих показателей, его наставников – которых он уважал – подвергли критике в газетах, и он усомнился: а стоит ли ему вообще заниматься хирургией? Или же лучше сдаться и уехать домой к семье? Я рассказал ему, как оперировал в Иране больного, уже посиневшего ребенка – сына одного из политиков. Дело было вскоре после революции, и обстановка в стране была крайне неспокойной. Я не знал, что со мной будет, если ребенок не выживет, но не мог пройти мимо: никто другой не помог бы этому малышу.
Мой первый совет заключался в следующем: «Мы работаем ради пациентов, а не ради себя. Возможно, нам и приходится из-за этого страдать, но сожалеть – почти никогда».
Мы покинули историческое здание колледжа и двинулись по улице Стрэнд. Я спросил его, почему он решил заниматься кардиохирургией, и он рассказал, что его сестра умерла от врожденного порока сердца. Он хотел стать детским кардиохирургом, но теперь это казалось ему нереальным.
Мы миновали гостиницу «Савой», и я поделился с ним воспоминаниями – рассказал, как умер от сердечной недостаточности мой дедушка и как я хотел найти решение этой проблемы. Если простой паренек из Сканторпа смог, то и он обязательно сможет. Затем я поведал ему об Уинстоне Черчилле, с которым частенько беседовал на кладбище в Блейдоне. О том, что он никогда не сдавался – даже в самые мрачные дни Второй мировой войны, и о том, как я сам не опустил руки после первой своей операции, обернувшейся катастрофой. Итак, мой второй совет: «Следуй за мечтой – сделай это ради сестры».
Мы свернули со Стрэнд и прошли мимо ресторана «Рулс» в Ковент-Гардене. В бедные студенческие годы я не раз водил сюда девушек, чтобы их впечатлить, а потом голодал до конца месяца. Я сказал, что риска бояться не нужно. Порой он щедро вознаграждается. Через пару сотен метров мы набрели на вход в старую больницу Чаринг-Кросс – мою славную медицинскую школу, которую превратили в полицейский участок. Я рассказал об эфирном куполе и об операции, воспоминания о которой преследовали меня многие годы. О катастрофе, которая могла изменить мою судьбу. Но этого не произошло. Она только добавила мне решимости стоять на своем вопреки всему. Напоследок я произнес еще кое-что: «Прошлое есть прошлое. Оставь его позади. Важнее всего то, что будет завтра».
Парень меня поблагодарил. Наш разговор что-то изменил в нем. Возможно, он почувствовал то же самое, что я испытал в Америке, когда доктор Кирклин посоветовал мне не искать легких путей и начать оперировать детей или когда доктор Кули впервые показал мне искусственное сердце. Прежде чем возвращаться на конференцию, он протянул мне руку. Судя по его озадаченному лицу, моя скрюченная кисть удивила его. Вплоть до недавнего времени она не мешала мне оперировать. Мне давно советовали сделать операцию, но я все отмахивался, так как боялся, что это положит конец моей карьере хирурга. Теперь же болезнь зашла слишком далеко. Я то и дело ронял инструменты на пол, а когда жал людям руки, они думали, что я член какого-то тайного сообщества.
И в тот момент я смирился с тем, что мои дни в операционной подошли к концу. Мне больше никогда не провести сложную операцию. Вместо этого я решил сосредоточиться на новом исследовании стволовых клеток и на разработке новых вспомогательных желудочковых систем – эта работа потенциально может изменить к лучшему миллионы жизней.
Спустя несколько недель я тихонько улизнул из больницы, чтобы мне прооперировали руку. Обычно пластические хирурги проводят подобные операции под местной анестезией, но они не хотели, чтобы я вмешивался в происходящее, так что меня оперировали под общим наркозом. Если честно, я этому даже обрадовался, потому что не очень люблю находиться по другую сторону баррикад. К тому же для меня это была не просто операция. Она знаменовала собой закат целой эпохи.
Благодарности
Моим наставником в США был великий доктор Джон Кирклин, который положил начало операциям на открытом сердце с использованием аппарата искусственного кровообращения. На закате своей выдающейся карьеры он написал:
«После многих лет работы кардиохирургом, после множества трудностей и испытаний, после множества смертей, которые не удалось предотвратить, мы склонны постепенно уставать – в каком-то смысле нас одолевает бесконечная печаль, из-за того что в жизни многое нельзя изменить».
Я написал эту книгу, потому что сейчас – после долгой карьеры, в течение которой я успел застать расцвет и падение Национальной службы здравоохранения, – ощущаю как раз то, о чем говорил доктор Кирклин. И именно поэтому мои благодарности будут столь же эмоциональны, как и остальная книга.
Кардиохирургия – непростой жизненный путь, обрекающий на одиночество. В 1970–1980-х мы и правда работали непрерывно. В Штатах мы в пять утра начинали обходить палаты, в шесть звонили начальнику, весь день оперировали, вечером уходили в лабораторию, а по ночам дежурили в отделении интенсивной терапии. То же происходило и в лондонских больницах Бромптон и Хаммерсмит.
На заре кардиохирургии нам, молодым хирургам, приходилось сражаться за право быть лучшими и мы были готовы на все. Мне удалось добиться успеха, потому что с самого начала я учился у великих людей: Роя Кална, Джона Кирклина, Дентона Кули, Дональда Росса, Бада Фрейзера и многих других. Я понимал, что требуется для того, чтобы расти профессионально: постоянные усилия и нестандартное мышление, а также непреклонное мужество и небоязнь испачкаться в крови.
Это не оставляло начинающим кардиохирургам надежд на нормальную семейную жизнь. Да мы и сами не были нормальными. Большинство благоразумных молодых людей парализовало бы от страха при мысли о том, чтобы вскрыть кому-то грудную клетку, а затем остановить и починить сердце. Я же этим занимался изо дня в день. Нас подпитывал тестостерон, нами управлял адреналин. Мало кому из нас удалось в молодости сохранить брак, о чем многие потом глубоко сожалели.
Я всегда жалел о том, что причинил столько страданий своей первой жене Джейн, но я бесконечно благодарен ей за нашу талантливую дочь Джемму, которая, получив образование в Кембридже, работает адвокатом в сфере трудового права. Я часами напролет пытался спасти чужих детей, но со своими никогда не проводил достаточно времени. Этой книгой я в том числе пытаюсь объяснить, почему был так сильно занят. Кроме того, она дарит мне возможность подчеркнуть, что не было в моей жизни ничего важнее, чем они – а также моя остальная драгоценная семья. Мой единственный брат Дэвид ходил в ту же школу в Сканторпе, что и я, а потом поступил в Кембридж. Он изучал медицину в Крайст-Колледже, после чего присоединился ко мне в Чаринг-Кросс и в итоге стал выдающимся гастроэнтерологом.
Как и следовало ожидать, родственную душу я встретил над раскрытой грудной клеткой в отделении травматологии – посреди кровавых луж и отчаяния. Сара была самой доброй медсестрой из всех, кого я когда-либо встречал. Дочь пилота «Спитфайра», сражавшегося в Битве за Британию, она никогда не поддавалась волнению, и все ей было по плечу. Парень умер у нас на руках, и я чувствовал, что не в силах сообщить об этом родителям, но Сара сделала это за меня. Она делала то же и для других, снова и снова. Унаследовав африканский дух свободы, она не проводила различий между бродягами и именитыми политиками – для нее все люди были равны и заслуживали уважительного обращения. Я стал причиной разрыва ее предыдущих отношений, и она очень переживала, но это не помешало ей последние тридцать пят лет дарить мне беззаветную любовь и поддержку, особенно в тяжелые времена. Марк появился на свет через десять лет после Джеммы. Спортсмен и авантюрист по натуре, он отправился в Южную Африку, чтобы стать рейнджером.
Было трудно с нуля построить программу в Оксфорде. Если в 1986 году в нашем кардиологическом центре проводилось менее ста операций в год, то в 2000-м этот показатель перевалил за 1600, и все благодаря усердной работе горстки преданных своему делу людей. Мы стремились к инновациям, у нас работали самые опытные хирурги и кардиологи, всегда готовые прийти на помощь анестезиологи и перфузиологи, а также чудесные медсестры – их слишком много, чтобы всех назвать поименно, но я благодарен каждому из них.
Мы никогда не запустили бы программы детской кардиохирургии и искусственного сердца без поддержки нашего дальновидного главврача Найджела Криспа, который затем управлял всей Национальной службой здравоохранения, а сейчас заслуженно заседает в палате лордов. Операции по пересадке искусственного сердца проводились главным образом за счет благотворительных фондов, и в этом плане некоторые люди и организации проявили поразительную щедрость. Среди них: «Heart Research UK», сэр Кирби Лейнг, Джим Маршал из «Marshall Amplifiers» (ему меня представил мой пациент, певец Фрэнки Воган), Кристос Лазари, а также сэр Кристофер Левинтон и Дэвид Лилликроп из «TI Group». Мне также хотелось бы отдать дань уважения профессору Филипу Пул-Уилсону – бывшему президенту Европейского общества кардиологов, который чрезвычайно помог нам с программой искусственного сердца «Джарвик-2000». К нашему всеобщему сожалению, Филип внезапно скончался по дороге в Королевский госпиталь Бромптон, где он работал.
В конечном счете, когда я остался последним детским кардиохирургом, наше детское кардиохирургическое отделение закрыли. Затем пришлось перенести из Оксфорда и исследования в области искусственного сердца.
Я благодарен своему другу профессору Марку Клементу – главе Института естественных наук и бизнес-школы при Университете Суонси – за то, что он предоставил нам и лабораторию, и команду инженеров. Мы познакомились по счастливому стечению обстоятельств, благодаря моему знаменитому пациенту с искусственным сердцем Питеру Хоутону, который вместе с Ники Кинг приложил колоссальные усилия, чтобы собрать деньги на наши исследования. Под корпоративным знаменем «Calon CardioTechnology» мы создали британскую вспомогательную желудочковую систему, способную конкурировать с американскими насосами, каждый из которых стоит не меньше новенькой «Феррари»! В этом нам оказал огромную помощь Стюарт Маккончи, бывший генеральный директор «HeartWare Company» и «Jarvik Heart».
Валлийские знакомые свели меня с лауреатом Нобелевской премии профессором Мартином Эвансом из Университета Кардиффа, которому впервые удалось изолировать эмбриональные стволовые клетки. Вместе с коллегой Аяном Реджинальдом и компанией «Celixir» он работал над применением стволовых клеток в кардиохирургии. С помощью наших насосов и стволовых клеток мы намерены создать альтернативу пересадке сердца.
Несмотря на ученые степени в области биохимии и биоинженерии искусственного сердца, я технофоб, не умеющий пользоваться компьютером и не способный починить даже мельчайшую поломку в своей машине. В результате я вынужден полагаться на хороших секретарей. Последние десять лет мне помогала держаться на плаву Сью Фрэнсис. К половине седьмого утра мы оба, как правило, уже были в кабинете. Его окно выходит на шумные трубы установки для кондиционирования воздуха, напоминая апокалиптические сцены из «Дисмаленда»[35] Бэнкси. Летом деревянные рамы прогрызают летающие муравьи, а зимой через эти дыры просачиваются холодные капли дождя. Я провел здесь долгие бессонные ночи, свернувшись на маленьком диване, когда из страха, что с пациентом что-то случится, не мог позволить себе пойти домой. Помимо пациентов, в этом кабинете побывали и всемирно известные личности: Кристиан Барнард, Дентон Кули, Роберт Джарвик и даже Дэвид Кэмерон, наш бывший премьер-министр. Все они удивлялись тому, в каких скромных условиях приходится работать кардиохирургу. А тем временем мы со Сью многого добились. Она напечатала сотни моих научных публикаций, не говоря уже об этой книге.
В этом плане мне также хотелось бы поблагодарить Джона Харрисона, который опубликовал некоторые из моих учебников по хирургии. Это Джон предложил мне написать что-нибудь для широкой публики и познакомил с моим нынешним агентом Джулианом Александером, без которого эта книга никогда не вышла бы в свет. Мне было очень приятно работать с такими опытными в своем деле людьми, как Джек Фогг, Эмили Арбис, Марк Болланд и другие сотрудники издательства «Харпер Коллинз». Кроме того, я хотел бы поблагодарить моего друга и коллегу, а по совместительству художника Ди Маклин за чудесные иллюстрации к книге.
Так что же случилось с кардиохирургией в Соединенном Королевстве? После многочисленных больничных скандалов Национальная служба здравоохранения решила опубликовать показатели смертности среди пациентов каждого хирурга в отдельности. И теперь никто не хочет работать кардиохирургом. Да и кто захочет – со всеми этими изматывающими операциями, беспокойными родителями, дежурствами по ночам и выходным? Система погрязла в бессмысленной бюрократии, а единственная наша «награда» – публичное унижение в случае полосы неудач. На данный момент шестьдесят процентов всех детских кардиохирургов в Великобритании – выпускники иностранных университетов.
Главные герои этой книги – мои пациенты, но боюсь, что сегодня мало кого из них согласились бы оперировать в Великобритании. В конце концов, профессии, неразрывно связанной со смертью, не суждено процветать (если не считать гробовщиков и военных). Как метко подметил доктор Кирклин, смерть – неизбежная составляющая кардиохирургии. Если хирург старается спасти как можно больше пациентов, некоторые из них умирают. Но мы больше не должны мириться с ужасным оснащением больниц, неквалифицированным персоналом и устаревшим оборудованием, иначе пациенты так и будут умирать без конца. Комик Хью Дэннис никогда не отличался умением сопереживать. В сатирической программе на телеканале Би-би-си под названием «Mock the Week» он предложил альтернативную оду глубокомысленному заявлению доктора Кирлинка:
Красная роза, синий тюльпан.
Прости, но ты умер, что сделать-то нам?
Каков ответ? Перестать публично стыдить и обвинять нас, а вместо этого дать все необходимое, чтобы мы могли выполнять свою работу!
* * *
Примечания
1
Малый круг кровообращения, где кровь насыщается кисло-родом.
(обратно)2
Большой круг кровообращения, где кровь отдает кислород для нормального функционирования тканей.
(обратно)3
Фаза систолы.
(обратно)4
Для того чтобы стать кардиологом, необходимо после медицинского института пройти специализацию по кардиологии, что в совокупности составляет от 8 до 10 лет в разных странах.
(обратно)5
Так называют амфитеатр вокруг стеклянного купола над операционной, где студенты и врачи могут наблюдать за ходом операции. – Примеч. перев.
(обратно)6
Цитируется в переводе великого князя К. К. Романова.
(обратно)7
Фибрилляция – нарушение сердечной деятельности, при котором отдельные группы мышечных волокон сокращаются нескоординированно, что приводит к неэффективной работе сердца.
(обратно)8
Адреналин разводят физиологическим раствором, который представляет собой раствор поваренной соли, соответствующий по концентрации плазме крови.
(обратно)9
Стрэнд – центральная улица Лондона, соединяющая районы Вестминстер и Сити.
(обратно)10
В абзаце перечисляются фешенебельные лондонские рестораны и пятизвездочные лондонские гостиницы.
(обратно)11
Уайтчепел – один из беднейших районов Лондона.
(обратно)12
Ревматическая хорея – особый вид непроизвольных движений, связанный с поражением подкорковых ядер полушарий головного мозга при ревматизме.
(обратно)13
Дигоксин – препарат из группы сердечных гликозидов, применяемый при сердечной недостаточности.
(обратно)14
Более распространенное название – аппарат искусственного кровообращения (АИК).
(обратно)15
Комиссуротомия – операция по рассечению спаек лепестков митрального клапана сердца.
(обратно)16
Комбустиолог – специалист по ожогам.
(обратно)17
Официальный символ компании – составленный из шин «мишленовский человечек» по имени Бибендум (Bibendum), нарисованный французским художником О’Галопом в 1898 году. На рекламном эскизе, от которого отказался пивовар из Мюнхена, грузный силуэт заполнял большую часть композиции. Он окружен пьянчужками, сотрясающими пустыми кружками с криками: «Nunc est bibendum!» («Если пить, так сейчас!», ода эпикурейца Горация). Внешне Бибендум как бы составлен из стопки шин разных диаметров.
(обратно)18
Мелкая порода кур.
(обратно)19
Так в Великобритании называют ежегодный крикетный матч между командами Оксфордского и Кембриджского университетов.
(обратно)20
Первая группа крови встречается чаще всех, но донором для лиц с первой группой может быть только донор с такой же группой, в отличие от реципиентов других групп, донором для которых могут быть лица с той же группой крови или с первой.
(обратно)21
Эмпатия – способность к сопереживанию.
(обратно)22
Национальная служба здравоохранения (НСЗ) – система, которая объединяет все государственные медицинские учреждения Великобритании, финансируется преимущественно за счет налогов и оказывает широкий спектр медицинских услуг, в подавляющем большинстве бесплатных для жителей страны.
(обратно)23
Цитируется в переводе М. Бородицкой.
(обратно)24
Популярное в Великобритании устойчивое выражение, заимствованное из комедийного сериала «Фолти Тауэрс» и означающее «я лучше промолчу». Используется в ситуациях, когда любые другие высказывания могут вызвать спор или ссору.
(обратно)25
Имеются в виду юмористические рисунки, прославившие английского художника Уильяма Хита Робинсона: на них он изображал хитроумные вымышленные механизмы.
(обратно)26
Штази (неофициальное сокращение от Министерства государственной безопасности ГДР) – тайная полиция, контрразведывательный и разведывательный государственный орган Германской Демократической Республики.
(обратно)27
Торакотомия – хирургическая операция, направленная на вскрытие грудной клетки через грудную стенку.
(обратно)28
Так называемая система АВС (от англ. airway, breathing, circulation).
(обратно)29
Папамобиль – неофициальное название автомобиля, разработанного для публичных поездок папы римского.
(обратно)30
Ночь Гая Фокса – традиционный для Великобритании ежегодный праздник, который отмечают в ночь на 5 ноября. Известна также как Ночь костров или Ночь фейерверков.
(обратно)31
Цитируется в переводе Д. В. Щедровицкого.
(обратно)32
Чрезмерное повышение внутричерепного давления приводит к смещению отдельных частей мозга, что может вызывать ущемление (вклинение) смещенных фрагментов между жесткими структурами. Например, ствол мозга может смещаться вниз и вклиниваться в большое затылочное отверстие – отверстие в затылочной кости, через которое полость черепа сообщается с позвоночным каналом.
(обратно)33
Цитируется в переводе Н. Волжиной и Н. Дарузес.
(обратно)34
«Черная гадюка» – один из известнейших в Великобритании комедийных сериалов канала «Би-би-си» с Роуэном Аткинсоном в главной роли.
(обратно)35
«Дисмаленд» – британский парк угрюмых аттракционов, полная противоположность «Диснейленда». Его создатель Бэнкси – художник, работающий в направлении стрит-арт, политический активист и режиссер.
(обратно)
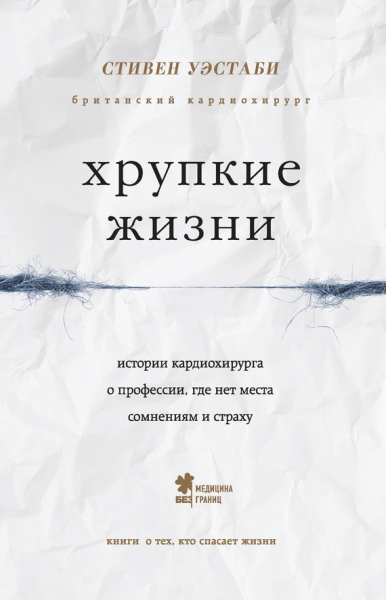


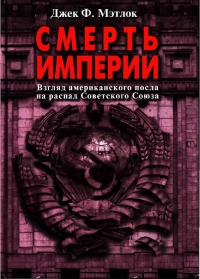
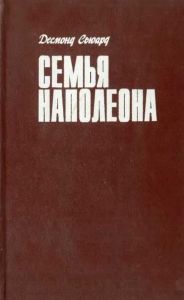

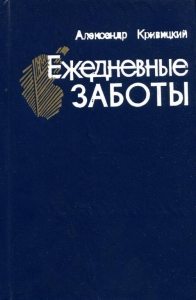


Комментарии к книге «Хрупкие жизни. Истории кардиохирурга о профессии, где нет места сомнениям и страху», Стивен Уэстаби
Всего 0 комментариев