Фрида Каплан Поколение пустыни Москва — Вильно — Тель-Авив — Иерусалим
«В новый край идешь ты, где не будет манны…»
Биография Фриды Вениаминовны Яффе (в девичестве Каплан; апрель 1892–1982) совпала с бурными событиями европейской и еврейской истории. Будучи незаурядным и чрезвычайно деятельным человеком, Фрида не просто вслушивалась в шум времени, она жила в ритме эпохи, и в коллизиях ее судьбы ощутимо эхо общих — национальных и универсальных — свершений и катаклизмов. Всю жизнь эта женщина вела дневник, а после того как в 1948 году овдовела, решила переработать свои записки в связное литературное жизнеописание, которому дала название «Поколение пустыни», что на языке еврейской традиции эквивалентно «поколению Исхода».
Фрида Яффе многократно возвращалась к рукописи, о чем свидетельствуют разновременные исправления в тексте, но так и не довела ее до печати. Ее мемуары обрываются на дневниковых записях января 1948 года. Они изобилуют интереснейшими подробностями эпохи и культурной биографии поколения определенного социального слоя — московской русско-еврейской интеллигенции, пришедшей к сионизму и посвятившей себя труду на земле Палестины с мечтой о своем независимом государстве. Ни в архиве ее сына, ни в рукописи нет портрета автора, а потому приходится искать впечатления у других. Вот какой увидел Фриду в 1919 году соратник ее мужа по сионистской работе в Вильне:
…молодая очаровательная женщина, среднего роста, но очень стройная, с гордой осанкой и благородными манерами, казалась нам принцессой из сказочной страны. Вот она стоит, опершись о перила веранды в молчаливой мечтательности. Нежное лицо — нет на свете равного ей в изысканности профиля! А там, внизу, виднеется река <Вилея>, и заходящее солнце расстелило на ее тихих водах золотисто-парчовую скатерть[1].
А несколько раньше с Фридой познакомился в Москве Михаил Осипович Гершензон и сообщил о своем первом впечатлении матери в таких словах:
Недавно, мамаша, — на прошлой неделе — Яффе был у нас с женою, приводил знакомиться. Он оба очень хорошие, и оба с хорошими манерами, из богатых домов. Он пользуется здесь в евр<ейском> обществе большим уважением. Мы с ним все спорим о сионизме, я — против[2].
Фрида Вениаминовна Яффе родилась в Москве. Там, в доме деда, богатого купца первой гильдии, имевшего право на жительство вне черты оседлости, прошло ее детство. Родители девочки развелись, и каждый из них затем повторно вступил в брак. Мать осталась в Москве и много лет спустя приехала к дочери в Палестину. Отец жил в Вильне, где прошли школьные годы Фриды. Она получила добротное образование, с юности свободно владела французским и немецким и в семнадцать лет, не имея гимназического аттестата, стала вольнослушательницей историко-философского факультета в университете в Лозанне, где проучилась год. Затем в Петербурге сдала экстерном экзамены на аттестат в министерской гимназии имени Великой Княгини Евгении Максимилиановны и уехала в Вильну, а оттуда — в Германию. Девятнадцати лет Фрида была принята на Высшие женские курсы Полторацкой в Москве. Она запоем читала книги на русском языке и принадлежала к московскому кругу культурно-ассимилированной еврейской интеллигенции.
В Москве, на собраниях студентов, Фрида познакомилась с Лейбом Яффе и под его влиянием начала учить иврит, читать сионистскую литературу и готовиться к жизни в Палестине. Выбор жизненного пути был ею сделан, и в 1913 году она вместе с мужем участвовала в 11-м Сионистском конгрессе в Вене. Перед войной Фрида с мужем жили в Вильне, затем в Москве, а в 1920 году начался палестинский период ее жизни. Обо всем этом она подробно рассказала сама.
Как явствует из романа «Поколение пустыни», Фрида любила мужа и гордилась им. Он во многом создал ее среду общения, ведь благодаря мужу она познакомилась с разными интересными людьми, творившими тогда еврейскую историю на земле национальной родины. Представить окружение семьи автора мемуаров читателю поможет краткая биография Лейба Яффе, в свое время более чем известного.
Лейб (Лев Борисович) Яффе (1876, Гродно — 1948, Иерусалим) происходил из состоятельной ортодоксальной семьи. В детстве получил домашнее религиозное, а затем и общее образование. Дедом по отцу ему приходился известный раввин Мордехай Яффе, автор книги «ѓа-Львуш». Дед со стороны матери, р. Фишл ѓа-Коѓен Лапин, был религиозным палестинофилом (ховев Цион). Он переселился в Страну Израиля одновременно с р. Иегудой Алкалаем, р. Иехиэлем Пинесом и Довом Фрумкиным и посвятил свою жизнь созданию новых еврейских кварталов и благотворительных организаций.
Лейб рос в обстановке любви к Стране Израиля, ведь из семьи Яффе вышло не одно поколение сионистов. Эту любовь прививали ему также религиозные книги, средневековая поэзия на иврите — сиониды Иегуды Галеви и русско-еврейская палестинофильская поэзия С. Г. Фруга. Уже в 1893 году 17-летний Яффе участвовал во Второй конференции в Друскениках, делегатам которой писал приглашения под диктовку р. Шмуэля Могилевера. Казенным раввином в Гродно некоторое время служил Шмарьяѓу Левин, прирожденный оратор, харизматический лидер и всесторонне образованный человек, сторонник национального еврейского возрождения. Его речи расширяли представления Л. Яффе о национальной работе, и вскоре после конференции он создал в Гродно молодежный кружок палестинофилов и сам вел разъяснительную работу. Кроме того, он организовал сбор денег для ивритской школы для девочек в Яффе, субсидируемой Одесским комитетом Ховевей-Цион. Вот каким он запомнился в те годы Йосефу Клаузнеру, будущему историку литературы на иврите, проведшему в Гродно весну и лето 1896 года и встретившему там свою будущую жену:
Там я познакомился с Лейбом Яффе, который с тех пор и до последнего дня своей жизни оставался моим добрым другом, несмотря на частые жаркие споры по вопросам сионистского мировоззрения. Меня вдохновлял его юношеский романтизм, притягивавший к нему многочисленных юношей и прелестных девушек, которые волновали меня и постепенно сделались моими задушевными подругами, побуждая размышлять и обостряя чувства…
Тогда как раз появилось «Еврейское государство» Герцля, и мы оба были им очарованы. <…> Яффе писал по-русски неплохие стихи национального содержания и предложил мне составить на русском языке сборник «Заря», чтобы посвятить его пропаганде палестинофильства и ивритской литературы среди тех евреев, которые не читают на иврите. А в ту пору сионистские сочинения выходили почти исключительно на иврите. Этот сборник весьма достойных статей и стихов так и не увидел света из-за запрета русской цензуры, в глазах которой национальные идеи евреев не могли считаться легальными[3].
А вот еще одно впечатление о юном Лейбе Яффе в пору его становления — из автобиографических заметок близкого друга Клаузнера и знакомца Яффе (см. об этом в мемуарах Фриды), поэта Шаула Черниховского, который, как и эти двое и одновременно с ними, учился в университете Гейдельберга:
В 1899 я летом сравнительно чаще бывал в доме Верник (Ф<ейга> — невеста Клаузнера). В конце лета я уехал в Герм<анию>. Поехали: я, Кл<аузнер> и Рудя Дроб<инский> на Варшаву. <…>
На станции, уезжая <из Варшавы. — З. К.>, встретились с Л. Яффе и его сестрой. Было немного неловко. Кл<аузнер> жил в Гродно в период увлечения там, и, по-видимому, всех хотел наградить любовью. <…>
Я поехал не в Heid<elberg>, а в Лейпциг. Таким образом я сразу лишался необходимости встречаться с ними. Яффе мне показался балованным провинц<иальным> львенком, похватавшим всякие верхушки, но может быть увлекающийся, любит играть роль самца, сентиментальный очень; русский язык он знал в пред<елах> евр<ейской> интеллигенции (аптекаря, зубн<ого> врача и повив<альных> бабок), его произношение коробило уши, в особенности «р». Слабые водянистые стихи в его манере произносить их вызывали улыбку. Ухо его не понимало таких неизящных соединений как: «я как узник в темнице», «будем стараться не рвать, дорогая». — Монотонный припев… Почему он должен писать непременно по-русски?[4]
Несмотря на этот более чем скептический отзыв, умудренные знанием последующей деятельности Лейба Яффе, мы понимаем, что он был многогранно одарен. В 1891–1892 годах он учился в Воложинской иешиве, где несколькими классами старше учились вместе его брат Залман и поэт Хаим Нахман Бялик. В 1897–1901 годы изучал философию в университетах Гейдельберга, Фрейбурга, Лейпцига.
Яффе был делегатом 1-го (1897) и 2-го (1898) Сионистских конгрессов в Базеле как корреспондент петербургской газеты «Биржевые ведомости» и 3-го (Базель, 1899) — от московских газет «Новости» и «Еврейская мысль». Он выступал в печати и рассказывал в лекциях о конгрессах евреям Гродно, Вильны, Киева. Он был делегатом 4-го (Лондон, 1901) и 5-го (Базель, 1901) Сионистских конгрессов, на последнем вместе с Вейцманом и другими активистами создал Демократическую фракцию Всемирной сионистской организации и в 1902–1903 служил ее идеологом. Яффе выступил против «плана Уганды», который обсуждался на 6-м Сионистском конгрессе (Базель, 1903).
Личное знакомство Лейба Яффе с Теодором Герцлем состоялось на курорте в Баденаухайме, а в 1904 году, после похорон Герцля в Вене, Яффе отправился в агитационную поездку по городам Центральной России и Поволжья. Он объехал Нижний Новгород, Самару, Саратов, Казань, Царицын, Курск, Воронеж, Тулу и прочие города, где жили евреи. Его лекции о сионизме убеждали в правильности палестинского плана «национального возрождения» и в том, что территориализм — борьба за национально-политическое самоопределение евреев на другой территории — неприемлем. В 1905 году Лейб Яффе впервые посетил Палестину, участвовал в слете Ционей Цион в Вильне и Фрейбурге с целью подготовить умы к 7-му Сионистскому конгрессу (Базель, 1905), где был делегатом, как, впрочем, и на всех последующих.
В 1906 году на съезде российских сионистов в Хельсинки Лейб Яффе был избран членом Центрального комитета Сионистской организации от Вильны, где жил с 1906 по 1909 год и где в 1907–1908 годы редактировал газету «Дос идише фолк», а в 1909-м — ивритский журнал сионистской направленности «Ѓа-Олам». На 8-м Сионистском конгрессе (Гаага, 1907) был избран членом Исполнительного комитета (занимал этот пост до 1911 г.). В 1908 году по инициативе Иехиэля Членова Яффе вместе с поэтом Семеном Фругом совершил поездку по городам России, выступая с пропагандой сионизма среди евреев. В 1910–1911 годы он руководил сионистским комитетом Гродненского округа, в годы Первой мировой войны (1914–1916) был одним из организаторов помощи еврейским беженцам, выселенным из прифронтовой полосы по приказу армейского командования, и привлек к делу представителей русской интеллигенции (в том числе Максима Горького и Леонида Андреева). В 1917 году, после смерти Иехиэля Членова, Лейб Яффе был избран в Москве секретарем Сионистской организации, а в 1918-м стал делегатом Всероссийского съезда еврейских общин.
В 1919 году, после закрытия в Москве Еврейского общинного центра (Ва’ада) в результате деятельности Евсекции, направленной против сионизма и культуры на иврите, Лейб Яффе с семьей решил перебраться в Палестину и осенью прибыл в Вильну, где был избран председателем Сионистской организации независимой Литвы; редактировал газеты «Лецте неейс», «Идише цейтунг», «Ѓа-Шавуа». Яффе был арестован поляками, временно оккупировавшими Литву, и освобожден после вмешательства дипломатических кругов Великобритании и США.
2 января 1920 года Лейб Яффе с семьей прибыл в Палестину, а в 1921-м обосновался в Иерусалиме. Он сразу же стал редактором, а в 1921–1922 годы — главным редактором газеты «Ѓа-Арец», с 1919 года издававшейся в Иерусалиме. На 12-м Сионистском конгрессе (Карлсбад, 1921) был делегатом от еврейства Советской России. Он выпустил сборник материалов «Сефер ѓа-конгресс» («Книга Конгресса», 1922), посвященный 25-летию Первого Сионистского конгресса.
В 1923-м Яффе был назначен первым эмиссаром фонда Керен ѓа-Йесод (Основной фонд) в Южной Африке, затем в Польше и странах Прибалтики, а с 1926 года и до конца жизни занимал (в ротации с Артуром Хантке) пост директора этого фонда в Иерусалиме. В те годы он посетил большинство еврейских общин мира, в том числе побывал в Южной Африке (1934, вместе с Нахумом Соколовым), Великобритании, США и странах Южной Америки (1941–1945). Яффе, обладавший недюжинными ораторскими способностями и личным обаянием, всюду пропагандировал идеи сионизма, разъясняя евреям и неевреям, что создание еврейского «национального очага» есть дело каждого прогрессивного человека, и с успехом призывал регулярно отчислять средства на сионистское строительство на Земле Израиля. Наделенный активным общественным темпераментом, Лейб Яффе встречался со многими иностранными политическими деятелями и интеллектуалами своего времени. В 1947 году в Базеле он выступал на праздничном вечере в честь 50-летия Первого сионистского конгресса.
11 марта 1948 года Лейб Яффе погиб на своем рабочем месте — при взрыве бомбы, подложенной арабскими террористами в здание Центрального сионистского отдела в Иерусалиме. Он был похоронен в Санѓедрии, а в 1967 году, после объединения Иерусалима, перезахоронен на Масличной горе.
Помимо сионистской деятельности, Лейб Яффе с ранних лет занимался литературой, преимущественно на русском языке. В 1902–1903 годы в журнале «Еврейская жизнь» он публиковал первые поэтические переводы ивритских стихов Бялика (строкой одного из них я назвала этот очерк) и Шаула Черниховского на русский язык. В годы Первой мировой войны, в обстановке запрета на иврит и идиш, Яффе издавал в Москве газету с тем же названием, где освещал новости и задачи развития национальной культуры. В 1917 году Яффе основал в Москве издательство «Сафрут», в 1918-м выпустил совместно с Вл. Ф. Ходасевичем знаменитую «Еврейскую антологию» переводов ивритской поэзии, выполненных русскими поэтами, такими как Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, В. Брюсов, Ю. Балтрушайтис[5], а также поэтический сборник «У рек Вавилонских» и литературно-общественные альманахи «Сафрут», №№ 1–3. Его собственные русские стихи вышли в сборниках «Грядущее» (Гродно, 1902) и «Огни на высотах» (Рига, 1938). Последний сборник содержит стихи о Палестине, которые могут служить поэтической иллюстрацией к мемуарам его жены Фриды, автора рукописи «Поколение пустыни».
12 марта 1948 года, стоя у свежей могилы Лейба Яффе, его соратник по сионистской деятельности, будущий 3-й президент Израиля Залман Шазар (Рубашов) сказал:
Написанные им по-русски и на идише стихи о Сионе были теми искрами, из которых возгорелось пламя сионизма в дореволюционной России. В разгар революции ряды сионистов пополнялись теми, кто слушал его выступления во время агитационных поездок по городам и местечкам «черты оседлости». А сионисты пореволюционной России избрали его одним из своих лидеров. Когда же настала эпоха свершений и центр сионизма переместился в Страну Израиля, где создавались сельские хозяйства и росли жилые кварталы, нам понадобилась всесторонняя помощь евреев диаспоры. И тут он взял на себя задачу создания и пополнения Основного фонда и отдал этому служению все свои годы. Он был самым любимым, почитаемым и успешным в деле мобилизации средств для возрождения Палестины. Он исколесил мир, пересекая страны и континенты, пробуждая дремлющих, окрыляя жаждущих действия, и долгое время задавал тон многоголосой сионистской пропаганде среди нашего рассеянного по свету народа. Да, он перестал писать стихи, но горевшее в нем поэтическое вдохновение, как маленький кувшинчик чистого масла в эпоху Маккавеев, поддерживало пламя в семисвечнике его речей и в течение десятилетий влекло к нему и его идеалам многих-многих слушателей. Он был выдающимся пропагандистом, и всякий, кому довелось после него побывать в местах его выступлений в странах рассеяния, слышал отголоски его слов…[6]
Как видим, увлеченный работой муж большую часть времени проводил в разъездах, и Фрида оставалась с детьми одна. Яффе зарабатывал немало, но и жил широко. Фрида с дочерьми Мирьям (1911–1993, жила в кибуце «Гиват Бреннер», по мужу Ѓаисраэли) и Тамар (7.5.1914–2004, по мужу Орнштейн/Орен) и сыном Биньямином (1921, Иерусалим —1985, Иерусалим) постоянно нуждалась в деньгах. В Иерусалиме Фрида окончила курсы диетологии и открыла у себя в доме пансион с диетическим питанием. Яффе жили в районе Тальпиот, на улице, носящей ныне имя профессора Йосефа Клаузнера, а в доме напротив жил писатель Шмуэль Йосеф Агнон, и сын Яффе Беня ходил к своим знаменитым соседям читать книжки. Когда муж погиб, Фрида уехала в Хайфу, чтобы, как она говорила, ее дом «не стал домом жалоб и плача». Последние годы она провела в доме престарелых в Иерусалиме, а умирать приехала к дочери Мирьям в кибуц «Гиват Бреннер». Похоронена Фрида на Масличной горе, рядом с мужем.
* * *
Фрида всю жизнь вела дневник. Овдовев, она решила превратить его в роман «Поколение пустыни». Герои романа — Марк Натанзон (читай, Лейб Яффе) и его жена Эва (читай, Фрида), их дочь Рут (собирательный образ двух дочерей, Мирьям и Тамар) и сын Меир (читай, Биньямин). Только Марк в романе не сионистский деятель, как его прототип, а врач. Зато люди, окружающие «вымышленных героев», и обстоятельства их жизни абсолютно реальны. Более того, когда повествование подходит к концу 1938 года, то есть за год до начала Второй мировой войны, беллетристика уступает место подлинным дневниковым записям. Но концовка романа далека от действительности. Фрида оборвала жизнь своих героев в дорожной аварии, и ее повествование осталось как бы незавершенным.
Незадолго до смерти Фрида передала дневник дочерям и заставила их поклясться, что после ее похорон они прочтут дневник и сожгут. Дочери сдержали клятву. Но часть дневника сохранилась в тексте романа, в картонной папке с объемистой, на машинке отпечатанной рукописью. Папку берег сын Фриды, а мне она была подарена его второй женой (тогда уже вдовой) Хавой. Хава, не зная русского языка, но храня теплые воспоминания о свекрови, взяла с меня обещание опубликовать рукопись. И теперь, по прошествии двадцати лет, я выполняю обещанное.
Прожив более полувека в Палестине и неплохо владея несколькими языками, Фрида Яффе, тем не менее, писала по-русски (рукописные вставки свидетельствуют, что по старой орфографии), и ее мемуарный роман «Поколение пустыни» сохраняет особенности авторского языка и стиля. Нетрудно заметить, что Фрида, читавшая на русском, немецком, французском, английском, идише и иврите, нередко мыслила иноязычными конструкциями, что ее речь изобилует галлицизмами, германизмами и англицизмами, а иногда в ней слышится еврейский акцент. Кроме того, надо учесть, что делавшиеся в спешке дневниковые записи даны без всякой литературной обработки, и тем ценнее они как историческое свидетельство.
Машинописная рукопись неоднократно перечитывалась автором: в ней есть обрезанные листы, вклейки и правки карандашом, синей и красной шариковыми ручками, видимо, тем, что оказалось под рукой. Некоторые фразы или слова вычеркнуты автором, но их можно прочесть, и они даны в квадратных скобках. Добавленные Фридой слова и фрагменты приведены в угловых скобках. Некоторые иноязычные слова она писала кириллицей, другие — на языке оригинала, я старалась их прокомментировать и восстановить оригинал. Имена собственные и иноязычные слова в рукописи нередко отличаются от их современного звучания, например: «Тиверия» вместо Тверия или «мильон» вместо миллион, но я сохранила их в неприкосновенности, указав, если необходимо, принятое ныне написание в примечании.
Я публикую мемуарный роман Фриды в надежде, что этот драгоценный памятник благородного образа мыслей и трогательного сионистского идеализма найдет своих читателей.
Дополнением к роману я включила избранные стихи Лейба Яффе — не ради их художественной ценности, но как свидетельство эпохи и сионистского горения. В книге три Приложения. В первом читатель найдет богатый эпистолярный материал из переписки Лейба Яффе с русскими поэтами, которых он привлек к переводам с иврита, и воспоминания Лейба Яффе о том, как он организовал в 1916 году в Москве чествование Бялика по случаю 25-летия его литературной деятельности. Во втором — сделанную Фридой Яффе запись беседы историка русской культуры М. О. Гершензона с ивритским поэтом Х. Н. Бяликом, в третьем — письма Лейба и Фриды Яффе Гершензону.
Мне приятно поблагодарить историка Илью Лурье за поддержку, вдумчивую редактуру моих примечаний и мудрые вдохновляющие советы.
Работу над этой книгой я посвящаю вознесению души моей мамы, Лены Бичман (1925–1988). Как и Фрида Яффе, моя мама родилась в Москве, свободно читала по-русски и по-английски и пыталась понять и осмыслить суть исторических и семейных катаклизмов, участницей и свидетельницей которых была. В отличие от Фриды, мама прожила в Москве всю жизнь, на Арбате и вблизи Бульварного кольца, но время было другое, и страх перед режимом не позволил ей доверить пережитое бумаге. Светлая ей память.
Зоя Копельман, ИерусалимФрида Каплан Поколение пустыни
Мое детство связано с домом дедушки, который мне казался незыблемой крепостью, вечным приветом, от начала и до конца жизни.
Дедушка был купец первой гильдии и как таковой имел право жительства[7]. Во время изгнания евреев из Москвы при царе Александре Третьем[8] его не трогали, он остался в своем доме, при своих делах и предприятиях.
На современном языке его назвали бы «self made man»[9]. Он приехал в Москву 14-летним мальчиком с богатыми пушниками, торговцами мехом, и благодаря своей смышлености, необычайной энергии и честности он выбился в люди. Будучи двадцатилетним юношей, он уже завел собственное дело, купил себе дом и занял большое положение как в еврейском, так и в московском торговом мире.
Сам дедушка никогда не рассказывал о своей юности, но от матери я знаю, что на дорогах в кибитках и на постоялых дворах, куда хозяева его брали с собой в поездки за товарами, он бывало хранил у себя хозяйскую мошну — у мальчика, мол, воры не будут искать денег — и, таким образом, с раннего детства привык к большим суммам денег.
В работе он имел неустанную инициативу, которая ему не давала ни одной минуты покоя (кроме субботы и больших праздников), он не знал уюта и тишины, и его энергия держала в напряжении всю семью.
Женился он тоже быстро и решительно. Сватовство шло заочно через дальних родственников и сватов, почти до самой свадьбы жених и невеста не видели друг друга.
Отец моей бабушки был сын раввина и сам «ламдан», ученый, делами и заработками заведовала моя прабабушка, как это было принято тогда в маленьких еврейских городках черты оседлости. Муж мог беспрепятственно заниматься Торой и служить Богу.
Все дочери были красавицы, и слава о них шла за пределами городка. Бабушка была самая младшая из трех сестер, и, как и сестры, — бесприданница. Когда ее сосватали в Москву и снарядили в дорогу, она выехала в кибитке «балаголе»[10], с круглым брезентовым кузовом. С ней ехали другие женщины, жены московских служащих: мужья от времени до времени выписывали их на побывку. Были также купчихи, которые ездили за товарами в столицу и другие города. Дорога продолжалась несколько недель. Останавливались на ночевку на станциях, на постоялых дворах, иногда у знакомых или родственников, если таковые имелись в том или ином местечке.
Для девушки, которая никогда не выезжала за околицу своего городка, дорога была очень интересна и полна впечатлений. Она запомнила ее на всю свою жизнь и часто рассказывала о разных случаях, встречах и приключениях на пути.
Москва ее подавила и поразила, хотя это и была старая Москва, которую называли «большой деревней». Величина города, шум, чужой язык, нравы, а особенно — сам жених смутили ее. Это был чужой еврей, некрасивый, с рыжеватой бородкой, неразговорчивый, суетливый и очень решительный. Он торопился со свадьбой.
Бабушка заехала к своим богатым родным, которые высмотрели для нее жениха, и у них, на Покровке, в большом неуютном доме она прожила все недели до свадьбы. Она спала в одной из многочисленных проходных комнат на клеенчатом диване. Каждый день приближал ее к решению: вернуться в местечко всем на смех не солоно хлебавши или остаться в Москве и дать свое согласие на свадьбу. Она поплакала в подушку, дала себя уговорить и вышла замуж.
Дедушка был человеком широкой натуры. Он одел бесприданницу в шелка и бархат, купил ей нитку жемчуга и бриллиантовые серьги, ей сшили меховые салопы и клешевые ротонды, сделали приданое, о котором она и не мечтала.
Невесту взяли в Большой театр на оперу, название которой она не знала, она почувствовала себя как в раю и не верила, что все, что видят ее глаза, существует на самом деле. И, как ни странно, брак оказался очень счастливым. Бабушка была образцовой хозяйкой, дедушка ее оценил и полюбил. С четверга на пятницу всю ночь пекли халы, кихелах[11] для кидуша, варили фаршированную рыбу, жарили гусей, заготовляли на субботу куриный бульон, тушеную грудинку с морковью (цимесом) и всякие закуски.
Из синагоги обыкновенно приходили на кидуш зазванные гости, пили вишневку, разные самодельные настойки, водку, вина и закусывали рубленой печенкой, маринованной селедкой, солеными огурчиками и капустой. Кугол и чолнт[12] и шкварки гусиные почему-то бабушка не признавала.
С течением времени некоторые традиционные кушанья отпали, и их начали заменять блюдами из русского стола: маринованные грибы, пироги, кулебяки с капустой, рисом и яйцами и проч. Впрочем, эти блюда больше подавались на завтрак в воскресенье. Завтракали в 12 и обедали в 6, как у прочих москвичей.
Рано в пятницу, в большом чистом переднике, высокая, красивая, с тремя нитками жемчуга на шее, с бирюзовыми серьгами в ушах, бабушка зажигала свечи в больших канделябрах и произносила благословение. Парика она не носила[13], и в особых случаях надевала шелковый платочек, причем уши с сережками оставались открытыми.
Дом был полон детей, нянюшек, горничных, разных родственниц и приживалок, бедных невест из провинции, которых одевали, обували и выдавали замуж по той же системе, как это случилось с самой бабушкой.
В кухне была специальная кухарка, которая следила за кошерностью, и к ней помощница, стряпуха Феоктиста; ее со временем «произвели в белую кухарку», потому что еврейке Софье запретили проживание в Москве.
На дворе и в коридорах всегда толкались дворники, мальчики на посылках, кучер Василий и еще много всякой челяди.
К столу, кроме своих, приходили еще еврейские служащие. Большинство из них были «неприписанные», т. е. не имели законного права жительства в столице и жили благодаря дедушкиной щедрой протекции и бабушкиной благотворительности.
Бабушка выезжала из своего дома очень редко. Перед праздниками за покупками в Пассаж или в Зарядье, иногда с визитом к своим или родственникам мужа, поздравить с обрезанием, с «бар мицве»[14] или со свадьбой. Еще ездили в баню или в оперу.
Внизу всегда ждала бричка или санки зимой, с бабушкой повсюду ехал кто-нибудь из дочерей или племянница, и еще брали с собой горничную, чтобы держала и берегла господские салопы и ботики.
Когда бабушка бывала в хорошем настроении, она велела позвать кого-нибудь из сыновей или приказчиков и посылала в театральную кассу заказать ложу на «Аскольдову могилу», «Пиковую даму», «Евгения Онегина» — это были ее любимые оперы. Также «Жизнь за царя»[15].
Зато «сам» не переносил музыки. Когда сестры упражнялись на рояли, одна младшая непременно стояла на страже и, если раздавались шаги дедушки, кричала: «Пер» — и музыка прекращалась. Если дедушка входил неожиданно, бывало непременно скажет: «Не стучите, совершенно».
Слово «совершенно» было всегда выражением недовольства. Дедушка употреблял его чаще, чем того требовал смысл его речи: «где, совершенно?», «почему, совершенно?», и тогда все начинали бегать, суетиться и искать то, что искал «папаша», или прибирать то, что стояло несимметрично или лежало не на месте. Аккуратность его была педантична, стулья стояли в аракчеевском порядке, как и вся прочая мебель.
Квартира была большая, барская, занимала целый бельэтаж. На парадном ходу была широкая дубовая лестница с широкими перилами. На черном ходу каменные ступени были гладко отшлифованы многолетним шмыганьем дворни. Большая парадная зала была оклеена белыми обоями с золотом, мебель была гладкая, красного дерева, в стиле русского ампир (Александра Первого), а в синей гостиной — в стиле «жакоб», черная с золотом. В торжественных случаях зажигались бронзовые люстры с хрустальными подвесками, а в большом шкафу стояли разные религиозные книги: молитвенники, Тора, специально написанная[16], Мгилот для Пурима[17], Талмуд и проч.
Тора писалась больше года специально выписанным из провинции софером, который месяцы и годы жил в доме дедушки. Давал уроки древнееврейского языка мальчикам, готовил их к «бар мицве» (13-летие) и обучал девиц быстрому чтению еврейских молитв.
Молитвы эти читали без перевода, так что девушки набили руку в быстром чтении, не понимая ни единого слова из текста.
Кроме большого шкафа была еще витрина с хрустальными полочками и зеркальной стеной. Там были аккуратно расставлены серебряные бокалы, вызолоченная коробка для «этрога» (плод наподобие лимона, получавшийся специально из Палестины к празднику Кущей) и ваза для «лулава» (пальмовый лист, еще не распустившийся, украшенный миртами). Эти вещи употреблялись только для праздников и для кидуша в субботу. Тут же стояли бокалы — призы, полученные фабрикой на разных местных и заграничных выставках. На каждом бокале были выгравированы место и дата, а также фирма дедушкиной фабрики, и поэтому он особенно дорожил и гордился этими призами.
Столовая была не меньше залы, она отличалась только цветом обоев и своей обстановкой: большой буфет со стеклом и сервизами, керосиновая лампа над длинным столом, самоварный столик с медным огромным самоваром придавали этой комнате более будничный вид.
Эти обе комнаты в два просвета, с глубокими подоконниками, с высокими трюмо между окнами (зеркала были до самого потока и с подзеркальниками) были торжественны, но мало уютны. Единственный уголок, где можно было приютиться, было то бабушкино кресло со скамеечкой в ногах, в котором она вязала бесконечные чулки для всей семьи, и где стоял маленький шкафчик, в котором она хранила свои знаменитые пряники, коврижки, печенье.
Тут бабушка баловала меня своими «лекехлах»[18] и еще новенькими серебряными рубличками и полтинниками, а то и четвертаками, которые, впрочем, легко закатывались под половицы и пропадали навсегда, едва только я приносила их домой.
Как все в этом доме, и картины были традиционными, они не носили индивидуальных черт. В голубой гостиной, купленные, вероятно, по случаю, висели швейцарские пейзажи в золоченых рамах, в бабушкиной спальне был неизбежный гобелен: Моисей в корзинке на берегу Нила и его сестра Мирьям с гуслями в кустах. И еще большая картина: Юдифь с головой Олоферна в руках. Юдифь была очень красива, с детски невинным лицом, пухлыми губками, и трудно было поверить, что она была способна кому-нибудь снять голову. Только ковер над кроватью бабушки, вышитый ее собственными руками, был пестрый и красивый, цветы на нем были неестественно большой величины и красок.
Но Святая Святых этого дома был кабинет дедушки.
На большом письменном столе был разложен ассортимент разных ручек, карандашей, пресс-папье, чернильница, деловые бумаги, связки ключей, а впоследствии — телефон: все это неприкосновенные фетиши.
Над письменным столом висел портрет царя-освободителя Александра Второго, которого евреи уважали за относительные свободы и поблажки, которыми они пользовались при нем и при московском губернаторе князе Долгорукове и которые были уничтожены при их последователях.
Над черным клеенчатым диваном висели портреты Моисея Монтефиоре, рабби Акивы Эйгера[19] и других древних и новых еврейских героев и святых. Кабинет имел широкое окно, выходящее на небольшой, очень чистый двор, с дорожками, посыпанными желтым песком.
Из окна была видна фабрика. Мы, дети, слабо разбирались в том, какие товары там продуцировались: о делах в доме никогда не разговаривали, особенно с женщинами. Но были большие склады, была «приемка товаров», погрузка и выгрузка каких-то тюков, ящиков, и, сидя на окне, можно было видеть всю эту работу. В глубокой подворотне дремал обычно зимой в своем бараньем тулупе, а летом — в розовой ситцевой рубашке дворник Степан, с медной бляхой на груди, в крепко насаженной на голову папахе или в лаковом картузе. Это был степенный мужик с русой окладистой бородой, с волосами, расчесанными на пробор и смазанными деревянным маслом. Говорили, что на барских хлебах он больно уж разжился и обзавелся собственным домиком за заставой, но Степан был себе на уме, умел ладить с жильцами, угождал хозяину, был трезв, так что его все уважали. Зато его помощник Демид любил выпить, был ленив, любил позубоскалить с горничными, когда они шмыгали в погреб за сливами или в лавочку за тем и другим.
При жизни бабушки традиции дома были неизменны. Продукты приносились из Зарядья, еврейского рынка. Там были специальные лиферанты — кошерные мясники, рыбники, зеленщики и проч. Молочные продукты доставляли от Чичкина (самой большой фирмы молочных продуктов в Москве[20]). Горячие калачи и плюшки покупали у Филиппова[21] (пирожки жаренные считались некошерными и были введены значительно позже). Варенье — от Абрикосова, шоколад — от Алберт (Крафт), пирожные — от Сиу, сухое печенье — от Эйнема, глазированные каштаны — от Яни из Пассажа, а тянучки, помадки, халва, мармелад, сухое киевское варенье, а также финики, винные ягоды, икра, семга, балыки, лососина, маслины черные, яффские апельсины, виноград в коробках, пересыпанный отрубями, и лучшие сорта фруктов посылались в дом в особой упаковке от Елисеева, Белова, Генералова на Тверской улице[22].
Эти гастрономические товары перед праздниками заказывались неделей ранее, потому что спрос был очень велик, в очередях в те времена никто не стоял, и хорошими покупателями дорожили, так что всякий товар покупался в строго раз и навсегда установленном магазине. Так, рыба и соленья и маринованные грибы, например, а также сухие продукты (мука, крупа) покупались оптом в Охотном ряду.
Для этого сама бабушка ездила с кухаркой, и пролетку наполняли кульками и плетенками с продуктами, которые служили запасом на много месяцев.
Капуста, и огурцы, и моченые яблоки с клюквой ставились дома. Для этого присылались бабушке с фабрики бабы и девки. Они в кухне и в девичьей рубили, шинковали, солили, вели деревенские песни и городские частушки. Утром Демид, еще трезвый, топил печку голландку, сначала в большой столовой, и, растопив ее ярко, переходил в коридоры и другие комнаты. Дрова весело шипели, бросали искры и ярко вспыхивали каждый раз, когда Демид подкладывал новую охапку дров. А когда он вынимал последние головешки и закрывал ярко начищенные медные отдушины, в доме было то равномерное неподражаемое тепло, которого не давало впоследствии никакое центральное отопление, ни электрические или угольные печи.
Это было время голландских печей и домашнего уюта. Завтрак был священнодействием: чай с французскими булками, горячие плюшки и ватрушки — это было все, что ели за завтраком. Мы не знали яиц и овсянки, как в Америке, не знали салатов, как на юге. Но без плюшек не садились за стол. Дедушка сам заставлял намазывать маслом хлеб и сам поливал молоко, которое еще горячим вынималось из закрытой печи, где оно «утушивалось» до густоты, покрывалось коричневой пленкой и принимало розово-желтый цвет.
В «черной передней» был кран и слив и медная кружка с двумя ручками «для омовения рук» перед едой.
* * *
Но больше, чем установленные традиции, дедушка любил нововведения: в другой передней за деревянной ширмой появилась впервые фарфоровая миска с текучей водой. А одна из девичьих была превращена в ванную комнату. Дедушка был одним из первых в Москве, в доме у которого была текучая вода, когда еще по всей Москве водовозы развозили воду в бочках из Москвы-реки или «мытищенскую», которая славилась. Электричество он тоже провел раньше других, и хотя он завел ванну на удивление всем знакомым, семья продолжала ездить в Центральные и Сандуновские бани, а ванна долгое время была достопримечательностью дома без особого употребления.
Но все эти новшества появились значительно позже: когда же я была ребенком, все мылись в тазах, керосиновые лампы отбрасывали жуткие тени вдоль длинных коридоров и бесчисленных проходных комнат, а в больших комнатах по углам собирались тени, где, может быть, прятались «нечистые». По-еврейски их называли «ди нит гуте»[23], они уносили одежду из шкафов, если хозяева, вместо того, чтобы подарить бедным, жадничали и копили лишние платья; они забирались даже в большие кованые сундуки, где хранились еще прабабушкины шелковые шали и платья, скатерти из парчи и броката, вышитые «порехес»[24], кружева и белье. Впрочем, о чертях и домовых мы знали только от прислуги и то — по секрету: господа, мол, не велели пугать детей.
В обязанности Демида входило также оправлять лампы и наливать керосин, и горе было ему, если лампа коптила, если были «языки».
В бани собирались всей семьей: в двух, трех санках, если зимой. Брали с собой нянюшку, горничную и еще кого-нибудь из приживалок, чтобы помогать одевать барыню и барышень. Ехали с большими узлами, как в экспедицию, с банными простынями и мочалками, желтым яичным мылом от Брокара[25], со своими же блестяще вычищенными тазами — чужими брезговали.
В Центральных банях были души и бассейны, также полки для парения, но всем этим не пользовались — это было для мещан и русских купчих. Когда приходили в баню, первым долгом спрашивали: «А где моя Паленька или Дашенька?» — «Я тут, барыня, не извольте беспокоиться», — отвечала молодая женщина с гладко зачесанными волосами, в розовом ситцевом платье с белым передником. Она же делала «педикюр» и помогала одеваться.
Банщица Афросинья или Аксинья тоже была «своя». Если случайно она была занята или ее не было, то рассказывали потом дома: «Сегодня что-то совсем неприятно было купаться, моей Аксюши не было, у нее рука легкая!» После бани мороз щипал разгоряченные щеки, укутанные в пушистый ангорский платок, и снег скрипел под высокими ботиками от подъезда до санок.
Как портрет Гаона[26] уживался с портретом царя в кабинете моего дедушки, так и русские праздники справлялись и уживались с праздниками еврейскими.
На Пасху собирались к Сейдеру за столом дедушки не меньше 25 человек. Все дети и внуки, служащие и родственники, и еще проезжие и заезжие гости, которые почему-либо не могли или не успели вернуться на праздники к себе домой, в провинцию. Дедушка всегда приводил из синагоги бывших кантонистов, которые тосковали по еврейству и празднику, солдат и разных неприписанных, которые были под его покровительством и даже на его иждивении. Вся еврейская прислуга, конечно, сидела за Сейдером за столом.
В Пурим из ближайшей к нам синагоги приходил шамес (служка) — читать Мгилас Эстер, а днем приходили переодетые ряженые — пурим шпилерс — бродячие артисты, музыканты, которые изображали не только Амана, Мордехая и Ахашвероша, но и Эстер-малку и Вашти, жен персидского царя. На еврейском жаргоне они давали традиционное представление, получали выпивку и закуску и еще щедрый «шалахмонес»[27].
В этот день дедушка одаривал не только всех домашних, но посылал на тарелке, покрытой красивой салфеткой, угощение родным с прибавлением закрытого конверта с деньгами.
В праздники появлялись нищие из московского гетто Зарядье, и не в пример нищим в черте оседлости, они были материально в привилегированном положении. В то время, когда в Вильне или Гродне, например, полкопейки тоже была монета, в Москве бедным давали не меньше пятачка, и часто подачки доходили до рубля и больше.
Зарядье — это еврейское гетто — с течением времени было раскассировано: там делались облавы более строгие, чем в русской части города, и в 24 часа неприписанных евреев выселяли из Москвы. Два города — Шклов и Бердичев — посылали сюда особенно много своих представителей, поэтому эти два города были символами «жидовства» для всех антисемитов. Все еврейские анекдоты начинались словами: «У нас в Шклове…»
Но нашим любимым праздником была Ханука. На Хануку дедушка благословлял маленькие восковые свечки, которые он приклеивал к кафлям печки. Почему в этом доме, в котором было столько богатства, ящики с серебром, не было какой-нибудь традиционной меноры, как я это видела бесконечное количество раз в черте оседлости, где в каждом доме был восьмисвечник или менора с двумя львами, с голубями, с шамесом в виде кувшинчика для елея, и все это украшено такими же высеребренными виноградными гроздьями, — я не знаю. Может быть, потому, что в еврейских городах менору обычно ставили на окна и таким образом освещали весь город, как бы устраивали иллюминацию, и весь городок приобретал праздничный вид. В Москве же евреи жили в своего рода подполье, как мараны, и не смели показывать соседям, что у них праздник.
Так что маленькие восковые свечечки были нашей голусной[28] иллюминацией. Мы играли в дрейдл (волчок), в карты в дурака, ели оладьи, а после смерти бабушки это были блины русские, как на масленице. Появилась и икра.
Дедушка был южанин, хасид, и Симхас Тора был тот праздник, когда он бывал в особенно хорошем настроении. К нему собирались служащие, родственники, они танцевали вокруг стола, пели змирот[29], варили пунш, жженку, но женщины во всем этом не принимали участия.
Если вместе с мужьями приходили жены, их принимали в синей гостиной, угощали сладкими наливками и бабушкиными литовскими сладостями: орехи с изюмом, эйнгемахц — варенье из репы в меду, тейглах — тесто на чистых яйцах с орехами, тоже вареное в меду, маковые монелах, а также марципаны и померанцы — самые большие деликатесы, потому что они делались из миндаля и апельсинной корки, которые считались заморскими фруктами. На все эти изделия бабушка была большая мастерица.
* * *
Русские праздники чувствовались в доме не меньше еврейских. Воскресный обед в 12 часов, грибной суп, кулебяка, кисель с молоком, блины русские на масленицу с икрой, сметаной и растопленным русским маслом, которое привозили в бочонках из Сибири. Пасха и куличи на Пасхе, крашеные яйца были почти так же необходимы, как маца на нашей Пасхе и хоменташи[30] на Пурим. Эти угощения приготавливались для русских посетителей, для рабочих, прислуги, нянек и тех христиан, которые приходили с поздравлениями. В зале ставилась большая раскрашенная елка, которая нам, детям, доставляла не меньшее удовольствие, чем тем, для кого она предназначалась. Под елкой на столе были разложены подарки для слуг. Мы были только зрителями.
На Рождество и на Новый год у ворот останавливалась карета «батюшки» — попа из ближайшей церкви — с диаконами и служками. Поздравляли «с праздничком», получали порядочную мзду и уезжали. Когда я потом у старших добивалась смысла этих посещений, мне объяснили в такой форме: «как же, ведь если бы этот дом был не в еврейских руках, хозяева были бы прихожанами этой церкви, и церковь имела бы доход. Таким образом мы, евреи, благодарим за право владеть домом в Москве».
За тяжелой церковной каретой появлялись легковые дрожки, или лихач на дутых резиновых шинах, или сани с приставом, околоточным и другими представителями власти. Тут уж ясно, что их нужно угостить фаршированной рыбой, до которой все они были большие охотники, водочкой, икоркой, а на прощание всовывалась в руку бумажка: кому трешница, кому пятерка, а кому и «красненькая» (десять рублей).
Поэтому в околотке дедушка пользовался не только уважением, но и большими привилегиями. Пристав смотрел сквозь пальцы на неприписанных, давал разрешение на венчание (а за особую взятку и с музыкой), а в экстренных случаях посылал квартального: «Вы передайте барину, того… что может быть ночью нагрянут…» И за это квартальный получал отдельно на водку.
Вот на таком-то основании жила и я, маленькая девочка, первая внучка, 12 лет в Москве.
Может быть, из страха, что как раз во время родов или в послеродовой период, который в те времена продолжался не шесть дней, как теперь, а шесть недель неподвижного лежания в постели на строжайшей диете и при уходе, как если бы роды были самой тяжелой операцией, из страха, что придется бежать от полиции, моя мать родила меня в доме дедушки. Несмотря на то что с самого рождения я была вечным жидом, ребенком, родившимся вне черты оседлости без права проживания в столице, при бесконечных преследованиях полиции, перемене места, квартир, городов, жизнь для меня была нечто иное, как путешествие с приключениями. Авантюры — одна интереснее другой.
Я очень любила гостить у дедушки, где все меня баловали, задаривали серебряными рубликами, сладостями, подарками. Я не знала, что мое пребывание незаконно, и считала себя такой же коренной москвичкой, как и мои подруги-христианки.
Всегда занятой и рассеянный старик, строгий «Сам», когда был в хорошем настроении, завидев меня, останавливался на полдороге и спрашивал: «А, что она говорит?» И застенчивые тетушки должны были ему повторять все мои «хохмы» (детские мудрости), и дедушка довольный бежал дальше.
Моими подругами были самые младшие тетушки: златокудрая Катюша и блондиночка Нюта. Когда я оставалась у них ночевать, мне стелили в их детской на качалке, к которой придвигали большое кресло. На широких подоконниках в столовой или в одной из проходных комнат мы провели наше детство. Здесь мы менялись разными сокровищами: бутылочки граненые, парфюмерия из брокаровских «пробных» коробок, которыми торговал один из наших родственников. Картинки переводные[31] и для наклеивания, ангелы и проч. На таком широком окне можно было видеть, кто идет в воскресенье в церковь, как расфрантились генеральские дочки, как грузят товар. Мы знали точно, в каком участке пожар, потому что из окна была видна каланча; на каланче днем выставлялись черные шары (каждый участок имел свое количество шаров), а ночью — фонари.
Мы знали, кто уже выехал в имение весной или за границу, а осенью — кто вернулся с дачи с нагруженным до верха возом; кухарка сидела на бархатном диване с самоваром в одной руке, с клеткой с канарейкой — в другой и еще с букетом нарванных из клумб цветов.
В Троицын день все девицы нашего двора, и особенно фабричные девушки, были расфранчены в белые платья с розовыми и голубыми бантами и несли в мешочках гостинцы, а в Пасху еще несли блюдо с куличом и пасхой «святить» в церковь. Этих девушек мы всех знали в лицо, потому что они часто помогали бабушке в генеральной чистке перед праздниками или перед «смихос» (семейными празднествами). Поэтому не удивительно, что мы были в курсе дел, с кем переглядывается Палаша или Груша и за кого выйдет замуж Красной Горкой[32] Дуняша.
Тетушка Катя была очень застенчива, она краснела от каждого взгляда, сло́ва, готова была расплакаться, даже если ее хвалили. У нее были длинные золотистые косы, полненькие красные ручки, которые она прятала под передник. Нюточка была посмелее. Ей обычно давали поручение купить что-нибудь или попросить денег у «папани» на извозчика или на книжку или спросить что-нибудь у учителя и классной дамы. Поэтому она называла Катю «квашней» и сердилась на нее. Из нас троих младших я была «сорвиголова». По-еврейски это называлось «а схейре», «а мазик», и я сама вызывалась на всякого рода поручения.
Старшая из четырех сестер моей матери была Эсфирь. Она была очень музыкальна, у нее был хороший сопрано, и тайком от родителей она брала уроки пения у русского профессора. Она компонировала и рисовала, мечтала об артистической карьере. Но разве могла еврейская барышня из купеческой семьи думать о сцене? Для этого нужно было креститься или сбежать с кем-нибудь, чего в семье нашей не могло случиться: все девушки были «тихие и смирные», как они сами себя с иронией называли.
Фира рисовала декадентские натюрморты, любила блеклые цвета: палевый, фиолетовый, сиреневый, гри де перл и сомон, электрик[33] и оливковый цвет. В таких же тонах прошла и вся ее жизнь.
Вторая сестра Машенька была, в отличие от Фиры, хохотушкой и лентяйкой. Ее исключили из гимназии, где она училась плохо, смешила подруг разными гримасами и шутовством во время уроков и вообще вела себя слишком смело для еврейки. Еврейские девочки должны были быть примерными как в успехах, так и в поведении, а живости от Машеньки никто не ожидал. Из школы Маша вынесла чистый русский говор, равнодушие ко всему еврейскому (если не антипатию) и осталась в переписке с одной обрусевшей немкой, причем письмо она переписывала три раза: два начерно и один раз набело. Комната ее была как бонбоньерка, с розовыми занавесочками, с массой безделушек и даже игрушками, с которыми она жалела расстаться до самой свадьбы.
У моей матери было еще два брата. Они были красивые рослые парни. Как богатые сынки, оба «выскочили» не то из шестого, не то из седьмого класса гимназии. Один работал в деле у отца. Про него старик говаривал: «Велвел (звали его Володя) — честный работник, что ему велишь — исполнит, но сам лично ни на что не способен!» О втором — Сендере — Саше — в семье мало говорили. Он писал какие-то книжки об искусстве, знался с артистами разных театров и получал контрамарки на концерты, требовал от отца деньги на какие-то предприятия литературного характера и даже грозился креститься и жениться на христианке, если не исполнят его желания.
Но не женился и не крестился.
Он часто вздыхал, кашлял, и в этом упорядоченном доме вел жизнь богемы. Вообще, насколько жизнь девушек была ясна и проста, настолько половина, на которой жили «мальчики», была запрещенным и таинственным для меня царством. На их половине, на клеенчатых диванах часто спали эти самые «неприписанные», разные холостяки и сваты. Володя любил выпиливать из дерева домики и кораблики, с галерейками, террасками, с петушками на крыше и лестницами. Кроме того, он был спортсмен, ежедневно упражнялся на гирях и делал гимнастику, он готовился в солдаты. И был очень разочарован, когда его, здорового и высокого, не приняли на военную службу. Я не уверена, что всемогущая дедушкина «широкая натура» не сыграла тут роль без того, чтобы дядюшка Володя прознал об этом.
Это был мир дедушкиного дома, куда я позднее вернулась, где я жила и где был мой настоящий дом.
* * *
Наша семья чаще всего жила за заставой[34], и после дня, проведенного у дедушки, меня усталую и полусонную одевали в шубку, капор с муфтой и варежками и везли домой на извозчике или в санках. Сначала я следила за непривычными огнями на улицах, за ночным движением на площадях и бульварах, но потом засыпала и уже утром просыпалась в своей детской.
Летом мы жили на даче. Большой парк вмещал с десяток больших деревянных построек, главная аллея вела до круга, а потом круто спускалась к Москве-реке. По дороге были колодцы, пруды, рощи. На больших воротах парка всегда были наклеены афиши, которые извещали, какой спектакль или сборный концерт или детский праздник готовится в ближайшее воскресенье. «Дирекция не скупилась на затраты» и сулила бега в мешках, военный оркестр, лотерею, фейерверк, конфетти, серпантин, танцы и состязания всякого рода.
Наш парк был большой: огромные луга, которые косились только в конце лета и где трава была в рост восьмилетнего ребенка. Там росли ландыши, иван-да-марья (желто-лиловые цветочки), голубые незабудки и другие полевые цветы, которые растут на сырой подмосковной почве. Лески белых берез и лип, рощицы густого орешника, дубки с желудями и акации росли без ухода, дичком, и только вокруг дач были разбиты клумбы с массой пестрых цветов: желтые бархатцы, оранжевые настурции, петуньи, лиловые георгины, белые астры и анютины глазки всех оттенков, розовые маргаритки.
По дороге к Москве-реке мы проходили мимо старинного Солдатенковского парка, барского имения, где дома в духе Растрелли, где дубы были в обхват, уединенные беседки с видом на реку и клумбы из роз, левкоев, резеды и гвоздик, чего в нашем скромном саду не было.
Наша дача была деревянная, двухэтажная; в комнатах верхние стекла были разноцветные. Может быть, девицы себе выбирали цвета по вкусу или наоборот, характер формировался под влиянием цвета, но мне всегда казалось, что комната мечтательной Фиры не могла иметь иных стеклышек, как желтые и зеленые, у Машеньки все было сине-красное, а у нас в детской окна были фиолетовые и оранжевые с красными вставочками. И эти цветовые детали остались в воспоминании на всю жизнь, как принадлежность характера каждой девушки в отдельности. Это как тон минорный или мажорный в музыке, которую предпочитает тот или иной человек и который сопровождает его до гроба.
Спальни все были «на вышке», а внизу были столовая, веранды, комната стариков. Мебель была дачная, которая оставалась из года в год и не отвозилась в город.
Все нянюшки, горничные и кухарка Феоктиста ютились где попало: в людской, в небольшой темной кухне, в кладовках. Когда мне пришлось посетить дворец Петра Великого в Петербурге, тот, который называется «домик Петра Великого», и я увидела темные комнаты без окон, в которых спала семья царя, я не удивилась, что прислуга у нас на даче не имела своей порядочной комнаты.
Кухарка была толстая приветливая женщина, которая не слишком высоко ценила свое поварское искусство: «За вкус не ручаюсь, а горячо будет!» И действительно, она ловко орудовала заслонкой, кочергой и лопатой в русской печке и давала все «с пыла».
Продукты из города в кульках и плетенках привозил все тот же Демид, и плоские щепки этих корзинок шли на растопку самоваров. Фрукты и зелень приносил особый «придворный поставщик», и называли его «Помилуйте». Он на каждом третьем слове говорил «помилуйте»: «Помилуйте, барыня, малина себе дороже стоит, а огурчики не то что великоваты, а самые мерные, нежинские» (т. е. из города Нежина). Яблоки антоновские и крымские с красными щечками привозили в яблочный Спас на возах, и покупали их на гарнецы[35], так что весь дом пахнул свежими душистыми яблоками. Варенье варили в саду на жаровнях, треножниках с медным тазом. Снимали пенку серебряной ложкой, пробовали варенье несколько раз, охладив его в блюдечке над холодной водой, и только когда сироп был настоящей густоты и цвета и вкуса, его снимали с огня и потом разливали в стеклянные банки, завязывали белой тряпочкой и ставили в прохладную кладовку. Варилось варенье пудами, на всю зиму, а иногда оставалось с года на год.
Каждая хозяйка была мастерица на одну ягоду. «Уж очень в этом году кизил удался, ягода в ягоду», — бывало хвастается соседка по даче. Абрикосы должны были быть прозрачными, как глазированные фрукты, клубника и малина и крыжовник заливались на сутки спиртом, чтобы натянулись алкоголем, а сливы варились, как теперешние джемы или повидла, так же и брусника и смородина — кисловато, к мясу.
Свежие и сушеные грибы приносили бабы в лукошках — их красные платочки мелькали в зелени сада — и звонким голосом выкрикивали: «Боровики, грузди, лисички, подберезовики, рыжики, масленки, по грибы, по грибы…» Охотнее всего мы сами ходили в лесок собирать землянику и белые грибы. На желтушки и сыроежки и смотреть не хотели.
Самое заветное место на дедушкиной даче была башенка. Там на много верст видны были окрестности, поля, леса, огороды, сады вокруг дач, а вдали извивалась Москва-река.
Целый день проводили мы на крокетной площадке, на качелях и гигантских шагах. Крокетом увлекались так, что забывали про обед и чай, и не раз прибегала горничная «кликать» к столу, потому что старшие уж больно не терпели беспорядка и запоздания.
На качели нас, детей, подносили старшие, потому что ногами не достанешь до земли; а на гигантских шагах захватывало дух так, что делалось страшно. И просили и кричали: еще, дяденька, выше, еще!
Воскресенье был самый веселый день, его ждали с нетерпением и считали, сколько осталось до воскресенья. К обеду на кулебяку и грибы съезжалось из города много гостей, к чаю приходили соседи и молодежь из других дачных местностей, а дедушка привозил разные филипповские калачики, шоколад в пестрых бумажках и тянучки. Демид ради праздничка был навеселе, распаковывал кульки, оделял детей подарками и шоколадками и картинками, так что можно было целую неделю меняться до следующего воскресенья: две шоколадки за маленький мячик, три — за перочинный ножик. Все эти сокровища относились на вышку, на башенку, чтобы не мешать взрослым — с глаз долой, — и там шла своя жизнь: игра в папу и маму, в лавку, в куклы и проч.
На лодке катались только большие, но на станцию провожать гостей брали и маленьких.
На станции была своя жизнь. Тут знали всех чиновников, начиная со станционного начальника, его жены, дочек, всех телеграфистов и тот особый тип «станционных барышень» в передничках, шарфиках, которые у нас получили почему-то название «курмалядок» или «дачных звездочек». Одна из них, верно, не зная хорошо французского языка, вместо «пуль маляд»[36] сказала «кур маляд», так и пошло — курмалядки. Над ними посмеивалась дачная аристократия, но они имели успех у молодых станционных чиновников, офицеров и даже студентов, что уж было совсем обидно: барышни считались «пустенькими», а студенты «серьезными».
Еврейским барышням не разрешали дружить с русскими, потому что русским не велели водиться с жидовками, а может быть потому, что еврейки были «тихие и смирные», а русские себе позволяли в Татьянин день или в день Веры, Надежды, Любови и Софии — 17–18 сентября — справлять шумные именины с цветными фонариками, с попойками и даже танцами «семи покрывал»[37], о чем шептались все соседи, начиная с горничных, и чем возмущались дамы.
Еврейские барышни танцевали только три-четыре раза в году, на еврейских благотворительных вечерах, на свадьбах, а на даче больше жались к стенке или, если танцевали, то с кузенами и женихами.
Однажды одной тетушке начал какой-то «аноним» посылать букеты роз. Пробовали отсылать обратно, но розы приходили, и никто не знал, каким образом садовник находил их в саду. Впрочем, садовник, верно, получал на чай, а героиня не смела сознаться, от кого были розы. Так и уехали с дачи, не зная имени тайного воздыхателя.
Вечерами старшие уходили гулять или сидели на балконе за чаем, громко смеялись, и жизнь была несправедлива только к маленьким. На перилах, на двойном кресле — диванчике, который звался тет-а-тет, на ступеньках, в качалках и креслах, вокруг стола с самоваром, когда бабочки и мотыльки вьются вокруг большой висячей керосиновой лампы и, обжигая крылышки, падают на скатерть, велись шумные беседы и страстные споры о вещах, которые были непонятны и тем более интересны.
Вдруг тебя замечают где-то в углу на самой последней ступеньке лестницы и безапелляционно заявляют: «Общий реверанс — и марш в постель!» Ничего не поделаешь, им там весело, проклятым, а ты иди спать!
Потом вдруг двигают стульями, собираются гулять или на станцию провожать гостей. Тени берез двигаются от ветерка, отбрасывают странные силуэты на занавески. Прибегает еще одна тетушка: «Ты не видала моего белого шарфа?» — Я притворяюсь спящей, хочется плакать. Черти!
Шаги и смех удаляются и затихают, издали слышна музыка военного оркестра из дачного парка, свистит локомотив последнего поезда, внизу слуги убирают со стола, тоже смеются. Я засыпаю.
Осенью возвращаемся в город. За три месяца улицы и самые комнаты в квартире кажутся изменившимися, точно стали меньше. Или я выросла, и за лето пространства изменили свою пропорцию.
* * *
О том, что бабушка больна, никто не знал в нашем доме. Иногда летом она уезжала в Карлсбад или Друскеники или на воды на Кавказ, взяв кого-нибудь из дочерей с собой (дедушке было не до того, всегда он был занят, как зимой, так и летом). Но каждый раз, когда бабушка, бывало, поест фаршированной рыбы или печенку с жареным луком и перцем, она получала какой-то приступ, и все знали, что это от рыбы или печенки.
Ранняя смерть пятидесятилетней бабушки поразила всю семью как громом. «Старик» дедушка (ему еще не было 55 лет) и все сестры, особенно младшие дети, — осиротели, растерялись. Красивая, без единого седого волоса, работящая, хозяйственная, без деспотизма и властности, но уверенная в себе и своей аккуратности и правильности заведенного порядка, глава дома ушла.
Девочки притихли, сидели на окне в проходной комнате и втихомолку плакали. Мы никогда не видали столько евреев в длинных сюртуках, как в эти дни после смерти бабушки. Вся большая родня, сестры дедушки с мужьями и детьми, слуги и фабричные, приказчики и просто люди «для миньяна» (десять мужчин, молящихся за упокой) толпились в доме, молились в парадной зале. В синей гостиной сидели мама и тетушки в черных платьях. Обычно веселая Машенька билась теперь в истерике, и ей давали валерианку. Эсфирь застыла, как мраморная, а моя мама принимала какие-то микстуры, которые прописал ей наш домашний врач Алексей Иванович.
Похорон бабушки я не видала, нас с бонной отослали домой.
Семь дней[38] мы с Марьей Карловной были одни, вырезывали картинки, шили что-то, и Марья Карловна была тоже какая-то необычная. По-видимому, она знала то, чего я еще не знала, что со смертью бабушки развалится наша семья.
Потом рассказывали, как бабушка, зная о приближающейся смерти, позвала всю семью к себе, со всеми прощалась, особенно обратила свои взоры на тетю Фиру — «что мне с тобой делать, доченька», — тетя была первой дочерью, которую надо было выдать замуж, а моей матери сказала: «Ты сделай то, что считаешь правильным».
В те времена жили просто не боялись правды и так же умирали.
Мама была долго больна, она запустила хозяйство; дом и мое воспитание были всецело в руках бонны.
Утром мы с Марьей Карловной и еще соседской девочкой Соней и ее бонной ходили на бульвар Чистые пруды и за покупками. Вокруг бульвара был низенький заборчик из березовых веток, поставленных крест-накрест; на замерзших прудах дети катались на коньках и была горка для санок. При входе на бульвар был киоск со сластями и орехами и особенно вкусными мятными пряниками белого, как сахар, цвета. Вкус и запах этих пряников тоже остался на всю жизнь, как и все впечатления раннего детства. В киоске продавали еще семечки и китайские орешки[39] (если осторожно разнимешь орешек — виден китайский божок в остром колпачке), но нам не покупали ни семечек, ни орешков: барышням не полагалось щелкать ни того, ни другого.
Мои родители были то, что называлось «передовой интеллигенцией». Мой отец был значительно старше матери. Воспитанный на Литве, он выглядел настоящим шляхтичем. Свою молодость он провел в польских панских имениях, был красив, с закрученными нафабренными усами, имел хорошие манеры, кроме своего еврейского, прекрасно говорил на трех языках — по-русски так же безукоризненно, как и по-польски, и еще знал немецкий. Одевался всегда с иголочки, носил норковые шинели с бобровым воротником, и, может быть, благодаря этому своему барскому виду, он понравился в доме московских купцов. В мою мать, которую ему просватали, он влюбился, она осталась его единственной большой любовью на всю жизнь.
Свадьба, по обычаям того времени, была очень пышная, с ужином на несколько сотен человек, с каретами не только для своей семьи, но и для всей большой родни, с двумя оркестрами, столом с выставленными подарками и проч. Невеста имела платье из белого муара, вышитое «жетом» (мелким серебряным бисером), и длинную вуаль, которую вместе со шлейфом должны были бы нести пажи, если бы в еврейских семьях таковые имелись. Этот наряд еще много лет сохранялся в большом кованом сундуке в нашем доме, но потом куда-то бесследно исчез.
После свадьбы молодые поехали в Париж, на выставку[40], и в Бельгию, и в Вену, где провели несколько месяцев.
Когда они вернулись в Москву и надо было устраиваться собственным хозяйством, выяснился один очень неприятный факт: сваты ошиблись или нарочно утаили то обстоятельство, что жених не имел потомственного почетного гражданства и, следовательно, правожительства в Москве. Моя мать наотрез отказалась поехать в черту оседлости, в Вильну, где у отца была большая семья, собственный дом и возможность устроиться. И тут начались те мытарства, которые продолжались тринадцать лет и кончились разводом.
Жили мы всегда за заставой. Не успеют, бывало, расставить мебель и повесить занавески в новой квартире, не пройдет и нескольких спокойных месяцев, как приходилось переезжать: из Петровского Парка за Трехгорную Заставу, оттуда за Драгомиловскую или на Пресню. Или менялся пристав, или околоточный попадался взяточник, и его сменяли, но в 24 часа нужно было разгрузить квартиру и скрыться. На квартире оставалась русская прислуга, и с помощью одной из тетушек или служащих с дедушкиной фабрики перевозили вещи и перебирались на новое место, где участковый пристав был сговорчивее или еще не попался за поблажки евреям.
Каждое лето уезжали за границу или на Рижское побережье, на Кавказ, в Харьковскую губернию или в Одессу, на Лиман. Единственное место, куда мы с мамой никогда не ездили, была родина отца — Вильна, и поэтому я не знала своих дедушку и бабушку с отцовской стороны.
* * *
Когда мне было два с половиной года и нужно было экстренно оставить очередную квартиру, а отец должен был хлопотать о потомственном гражданстве, мама решила со мной и няней поехать в Швейцарию на целый год. Мы жили в Лозанне в фешенебельном отеле в Уши[41] — Hotel de Chateau, мама посещала университет, слушала лекции на faculte de lettre[42], а я играла с детьми русских дворян, которые тоже проводили зиму в Швейцарии.
Моя няня Настя научилась нескольким французским фразам, и когда потом мы через год возвращались через границу домой, она жаловалась маме: «Барыня, да на нас здесь все волком смотрят». Она долго потом вспоминала французского лакея, который утром приносил на подносе кофе с булочками круассон или бриош, и нашу детскую столовую, где все русские няни в накрахмаленных белых чепчиках и передниках, и английские nurse[43] и немецкие бонны ели отдельно от господ, но вместе с детьми. Все они были нарядные и важные, и нашей няне тоже купили кружевные батистовые чепчики, которые она потом с гордостью всем показывала, но никогда не надевала в Москве.
Из детства в Лозанне я запомнила только озеро, каменные стены с отверстиями, из которых выбегали ящерицы и куда они пропадали так же быстро и легко. Одна французская дама (так мне потом рассказывала мама), маркиза, всегда угощала меня круглым шоколадом из бонбоньерки, а на елке у князей Долгоруких всем детям дали подарки. Мои хранились еще долго среди моих игрушек. Эти реликвии из-за границы, как и нянины чепчики, были неприкосновенны.
Тем временем папа как-то устроил наше правожительство, и мы должны были снова вернуться в Москву.
Мы поселились недалеко от Ваганьковского кладбища, за Пресненской заставой, в доме купцов Тихоновых. Квартира была очень просторная, с большими деревянными сенями, тесовыми стенами во всех комнатах, только столовая и зальце были оклеены обоями. Моя детская была большая, продолговатая, в углу висел киот с образами Николая Чудотворца, любимого святого моей няни. Лампадка теплилась день и ночь, а ризы чистились перед всеми первопрестольными праздниками.
После Швейцарии для мамы и няни все было скучно и тускло в подмосковной провинции. Мама редко выходила, еще меньше выезжала по вечерам. Она читала французские книги, которые привезла с собой из-за границы, играла на рояли и пела грустные сантиментальные романсы: «Что так задумчиво, что так печально, друг мой, головку склонила свою?», и «Прости, на вечную разлуку», и «И ночь, и луна, и темный развесистый сад»[44], и «И сердце так трепетно бьется, и чаще вздымается грудь»[45] — и много цыганских романсов, которые потом так вошли в моду, благодаря певице Вяльцевой[46].
Все эти песни я знала почти наизусть, хотя не понимала ни слова в них, но их меланхолия и грусть залегли в душе ребенка, который рос без товарищей, без братьев и сестер. После смерти матери я перелистывала все ее ноты, все эти романсы и поняла, как эта молодая, красивая и по тем понятиям блестящая женщина должна была страдать в своем захолустье без личной жизни, без деятельности, которая в последующем поколении вылечила много женских неудовлетворенных душ.
Ее единственным увлечением был театр: раньше Малый с Ермоловой и Федотовой, Южиным и Ленским[47], а потом — Московский Художественный. Концерты в Филармонии и лекции — было все, что давало какое-то содержание ее ненаполненной жизни. Но выезжать по вечерам из-за Заставы, особенно при полном равнодушии отца к искусству и лекциям, было нелегко и связано, как я понимаю, с недоразумениями и неладами в их семейной жизни. Мама всегда брала с собой кого-нибудь из сестер и потом привозила Фиру или Машу к нам, пили чай, возбужденно говорили о театре. Мой отец оставался вне этих интересов.
* * *
Часто мы с мамой сидели у окна и смотрели, как несли покойников на Ваганьковское кладбище. Если покойника везли на катафалке с балдахином, а впереди несли или везли на черной лаковой повозочке венки и букеты цветов, если шел поп во всем облачении с паникадилом, а певчие пели, и за покойником ехали кареты с дамами в черных вуалях и господа в цилиндрах, значит, похороны были богатые. Если гроб везли на простых дрогах или несли на плоских шпагатах, значит, люди были бедные, их хоронили по последнему разряду. Отсюда, главным образом, и родилось мое представление о богатстве и бедности.
То же самое было со свадьбами. Когда няня меня брала в приходскую церковь смотреть венчание, и невеста была в фате, а жених во фраке, и карета была выстегана изнутри белым атласом, а гости были нарядные, и шлейф невесты несли мальчики в бархатных костюмчиках, и группа шаферов и шафериц сопровождала свадебное шествие, все шептались: «генеральская дочь» или «купец такой-то выдает дочку замуж за столбового дворянина» — то были богатые. А если гости были не в шляпках, а в платочках и картузах, мы знали, что это лавочник Петров или Иванов женит сына на дочке сапожника Ильина. В первом случае мы с няней приходили домой возбужденные и рассказывали, что мальчик был в красной шелковой рубашке, а невесте одели венец раньше, чем жениху, и кто вступил на коврик первый, и какие флердоранжи и какая музыка была, а в последнем случае рассказывать было не о чем. «Жених-то пьяница, — говорила няня, — позарился на невестин домишко, да все равно пропьет наверное. Что уж тут!»
Сама няня Настя, как я потом узнала, имела чуть ли не семь человек детей — все без венца, так как жених был солдатом. Из этих семи детей, которые воспитывались в деревне и в сиротских домах, осталось в живых только трое, и после того как она ушла от нас, она повенчалась со своим солдатом, они усыновили или, вернее, узаконили всех детей, открыли прачечную и зажили семейной жизнью. Настя часто к нам приходила, особенно по праздникам, приносила мне гостинцы, яблочко или леденцы, а когда и куклу. Она была моей кормилицей и уверяла, что любит меня больше собственных детей.
— Няня, мы богатые или бедные? — спрашивала я ее.
— Ничего, состоятельные, — отвечала она успокоительно.
А когда я подросла, я ее спросила:
— А что такое развод?
Она вздохнула: «Это, деточка, ты узнаешь скоро».
* * *
С появлением Марьи Карловны в доме стали говорить только по-немецки. Вместо сказок о Кощее Бессмертном, о Бабе-Яге — Костяной ноге, о жар-птице и Иванушке Дурачке пошли сказки Гриммов: Гензель и Гретель, Красная Шапочка, Розочка и Беляночка, а также сказки Перро и Андерсена. Я научилась немецкому языку, клеила картинки в альбом, рисовала по матовому стеклу и на грифельной доске, играла в лото, и мне разрешили играть с соседскими детьми в куклы.
В шесть лет я начала заниматься музыкой. Хождение в церковь прекратилось, иконы исчезли вместе с православной няней, а бонна внесла рождественскую елку и елочные игрушки. Золотые шары, серебряные гирлянды, хлопушки, восковые ангелочки висели в специальном «рождественском» шкапчике. Мама не столько из религиозных соображений, сколько из свободомыслия не поощряла елки, но отец баловал меня и покупал все, что я просила.
Летом мы обычно уезжали на дачу или в русские курорты. Я смутно помню Одессу, большую улицу с киосками, в которых продавались напитки в пестрых стеклянных кувшинах, фрукты, персики, ананасы. Набережная, большое море, сады, парки и Лиман, где мы провели все лето, — были самым красивым сном. Но конец был тяжелый для меня и мамы: она заболела воспалением легких, а у меня, по-видимому, был коклюш, который оставил следы в бронхах на всю жизнь. Отец приехал за нами и забрал нас домой. Одно лето мы жили в Дуббельне на Рижском побережье. Там были тоже красивые выхоленные парки и сады, море и лес. На этот раз мама уж взяла с собой и Марью Карловну, с которой мы ходили купаться, строили крепости из песка и в лесу собирали землянику и грибы. Моя бонна была очень популярна среди нянек, может быть потому, что ее немецкий язык был похож на прибалтийский и остпрейсен — она была из Мемеля[48].
Из тех времен я запомнила два события: детский спектакль, где герой-разбойник был завернут в белую простыню, а декорации в середине обвалились, и еще — мы нашли заблудившуюся девочку, которую моя бонна привела к нам, напоила, накормила, а потом разыскала ее мать и вернула ей ребенка.
Одно лето мы провели с мамой в Харьковской губернии на даче. Домики были выкрашены в синевато-белый цвет, прислуги говорили на малопонятном малороссийском языке (они были чистоплотные хохлушки), белили каждую неделю кухню и сени, водили нас в деревню покупать леденцы и красный кумач куклам на платье. У одной такой няни ребенок заболел, и для изоляции его устроили в кустах на дворе. Если бы не правожительственные мытарства моих родителей, я бы не имела всех этих путешествий и воспоминаний. В каждом новом месте, на каждой даче и квартире, были другие дети, другие няньки, бонны, леса, сады, парки, речки, горы и моря.
Наши родственники разделялись на московских, харьковских, одесских, виленских и рижских. И друзья мамы тоже. Все нас по-своему баловали, нянчились со мной, задаривали и закармливали, ухаживали за мамой. И блюда, которыми нас угощали, были непривычные: малороссийские борщи, галушки, вареники, соленые арбузы, абрикосовые пироги — на Украине, французская кухня — в Швейцарии и на Рижском побережье, цимес и кугель — в еврейских домах и семьях, которые еще соблюдали кулинарные традиции. Поэтому в своей последующей жизни я не была привязана к определенному национальному столу, я рано научилась различать запахи, вкусы и даже вид поданных блюд. Это мне пригодилось в моей дальнейшей профессии.
* * *
Когда мне было семь лет, в нашем доме случился пожар. В ту ночь я случайно спала у дедушки в своей качалке, припертой креслом. Мы все три девочки проснулись от непривычного шума в доме. Растрепанные, встревоженные со сна, мы уселись на наше широкое окно в проходной комнате и начали следить за фонариками на пожарной каланче. Мама с братьями и дедушкой несколько раз на извозчике привозили какие-то вещи. Нам велели идти спать, чтобы не простудиться на подоконнике, но мы, укутанные в одеяла, не двигались с места. Только когда фонари потухли, и их сменили круглыми черными шарами, на рассвете, мы вернулись в постели.
Обратно к себе на квартиру моя семья уж больше не вернулась. Мы с мамой остались у дедушки, отец куда-то уехал.
Нам с мамой дали большую спальню покойной бабушки, а дедушка перебрался в другую комнату. Мама начала вести хозяйство в этом большом доме. Если она уезжала, что случалось довольно часто, ее заменяли старшие сестры, мои тетушки. Эсфирь была спокойна и терпелива, даже немного апатична, ее любили все и не боялись. Маша была строга, практична, требовала, чтобы признавали ее авторитет «хозяйки вместо», и мы, дети, не раз даже плакали и жаловались на нее дедушке, что не было в обычаях дома: дедушку никогда не втягивали в каждодневные домашние заботы. Но надо признать, что во время Машенькиного хозяйничанья было больше порядка, лучше стол, чище во всех закоулках, подтягивались как прислуга, так и дети.
Моя мама поступила на бухгалтерские курсы, чтобы научиться профессии. Она знала иностранные языки и могла бы стать хорошей корреспонденткой в любой фирме, но служить ей так и не пришлось: во-первых, это не было принято в кругу еврейской буржуазии, а главное — это могло бы ей «повредить», если бы она вздумала снова выйти замуж. Часто она паковала в корзины какие-то вещи, и когда я ее спрашивала, почему она пакуется, она отвечала, что она отсылает папе в Петербург вещи, он там получит работу, и мы к нему поедем. Перед своим отъездом из Москвы отец был очень печален, ласкал меня, приносил сласти. Однажды в присутствии мамы он меня спросил: «С кем бы ты хотела жить, с мамой или со мной?» — «С обоими!» — «Ну, а если нельзя с обоими?» — «Тогда с мамой», — ответила я. Отец ничего не сказал, ушел к себе.
После пожара он жил где-то в отеле. Раз он взял меня в цирк братьев Дуровых. Там были клоуны, наездники и наездницы, которые скакали через горящее кольцо, были ученые львы, которые делали «пирамиды», и ученые собаки и лошади. Они считали не хуже меня, делали сложение и вычитание. А обезьянки в штанишках были забавнее всего. Но почему-то мне не было весело с папой в цирке. Я чувствовала, хотя и не понимала, трагедию своей распадающейся семьи. Ни словом, ни повышенным голосом мне никто об этом не сообщил. Я часто сидела на своем подоконнике в проходной и скучала по маме и папе в их отсутствие.
Особенно недоставало мне моей бонны Марьи Карловны, моей детской с игрушками, с елочным шкафчиком, Чистых прудов и подруги, санок, мятных пряников, белого заборчика и сказок Гримм, вырезных и переводных картинок. Весь мой детский мир сразу рухнул.
Меня начали готовить в гимназию. Новая гувернантка, русская, была строга, била линейкой по рукам, если, бывало, зазеваешься и ответишь невпопад. Она заставляла писать буквы и цифры; мама занималась со мной французским языком, главным образом напирала на произношение, как в Париже и Лозанне, чтобы не было «нижегородского» тона. Новая учительница музыки требовала гамм и упражнений. Это было скучно, но придавало мне важности; я играла, раскачиваясь, как взрослые, и злоупотребляла педалью.
К Кате и Нюточке приходил учитель музыки Василий Васильевич. Катя стеснялась каждой сделанной ошибки и краснела до слез, но Нюта хорошо успевала и была его любимицей.
Однажды Василий Васильевич, разгуливая по зале и отсчитывая такт — раз, два, три, — рассеянно подошел к зеркалу, трюмо, и начал перелистывать книгу, которая лежала на подзеркальнике. Обе девочки, которые играли сонатину в четыре руки, остановились и застыли как вкопанные.
— В чем дело? Начните сначала.
Обе с ужасом рассказывали потом: «Понимаешь, сидер, еврейский молитвенник, он сразу увидел, что мы еврейки». Я не понимала, что в этом ужасного и почему тетушки переполошились, но вскоре я сама убедилась, что быть еврейкой не так просто, как это казалось.
Осенью меня отвели в ту же гимназию, в которой учились мои тетушки. Не знаю, как обошлось дело с моим правожительством. Может быть, плата за учение в частной гимназии была так высока, что на формальности смотрели сквозь пальцы. Или сказалось то преимущество, что все мои тетушки учились в той же самой гимназии и образовалась как бы семейная традиция, которая исключала возможность новенькой восьмилетней девочке быть более «опасной инородкой», чем ее предшественницы, и они не видели в этом «еврейского засилия». Факт, что я несколько лет беспрепятственно ходила в эту школу.
Мое французское произношение оказалось более чем удовлетворительным. Мой немецкий язык был отличным, и когда вышла учительница и сообщила маме, что я хорошо выдержала все экзамены и принята, я от волнения расплакалась. В рекреации[49] все девочки вы́сыпали в коридоры и зал, и поднялся такой гул и шум, как во время прибоя волн на взморье. Нам показали классы, сад — небольшой квадрат, обсаженный деревьями, и мы вернулись с мамой домой.
Если не было снега или дождя, мы ходили пешком в гимназию, горничная несла все наши сумки и завтраки. Мы шли по Дмитровке, мимо театра Корша, мимо частной мужской гимназии, мимо духовной академии — мы умели отличать гимназистов от семинаристов, — мимо шорников с запахом новых лаковых экипажей в Каретном ряду Садовой улицы и мимо игрушечных лавок.
Начальница была важная дама в шуршащих платьях. Ее боялись и не любили и за глаза называли непочтительными именами, но зато классная дама была наша любимица. Мы ее посещали даже на дому, где она нас угощала чаем с сухариками и расспрашивала о наших домашних делах. Гулять мы ходили парами в сопровождении классной дамы, должны были вести себя чинно и смирно.
В гимназии я подружилась с двумя девочками: Верочкой и Розой. К Верочке меня раз пустили в гости. Ее комната была какой-то особенной белизны. На постелях одеяла и накидки накрахмалены, как наши летние гофрированные платья. Над детскими постелями висели иконки с ангелочками, были вышиты фразы из Евангелия, а на полу лежали белые коврики, по которым было жалко шагать.
Мне все это очень понравилось, но так как Веру ко мне не пустили, потому что я была еврейка, это был мой первый и последний визит.
Еще труднее было дружить с Розой: она была дочерью крещеного еврея, а моя мама была против выкрестов. Раз я была приглашена к ним на Пасхе. В большой зале был расставлен длинный стол со всеми яствами: жареные поросята, окорока, соленые рыбы — белуга, осетрина, пироги с визигой[50], пасхи и куличи. Девочки меня хотели непременно угостить чем-нибудь из этих запрещенных блюд, но я упорно отказывалась, и меня наконец оставили в покое.
Мама мне запретила ходить к Розе, но в школе мы были неразлучны. С Розочкой мы танцевали в паре, и когда потом она поступила в государственную балетную школу и была ученицей Гельцер, знаменитой русской прима-балерины, я ей смертельно завидовала: мне, как еврейке, были заказаны пути к Императорскому балету.
Третья подруга была армянка. Она была жгучая брюнетка, имела носик с горбинкой, дома говорила не по-русски, что сказывалось на ее акценте, — словом, была инородкой и больше похожа на еврейку, чем мы, настоящие еврейки, и это нас сближало.
В переменках и под партой на уроках мы играли в куколки, которые вместе с их гардеробом и мебелью помещались в наших сумках. Если мы попадались, нас ставили носом в угол, но это не мешало нашему увлечению куклами в приготовительном классе.
На Рождество нас брали в театр Корша: «Багдадские пирожники», «Волшебная флейта», «Сандрильона»[51], но мы бредили оперой, тенором Севастьяновым, и распевали его арию: «Бог всесильный, Бог любви, я за сестру свою молю!»[52]
Среди девочек было много музыкальных детей артистов разных театров, так что арии всех опер и хоровые номера мы часто знали наизусть. Кроме того, в следующих классах от братьев и даже отцов девочки заимствовали песенки и шансонетки, которые мужчины приносили из кафе-шантанов и опереток. Мы насвистывали эти сомнительные песенки.
Мой идеал — текущий счет, и деньги в банке одобряю! А всем поклонникам моим всегда одно лишь повторяю: Нет, это не пройдет, нет, это не пройдет, меня никто не проведет — да, да, да, да…Я не понимала, что такое «банк» и «текущий счет», но эта и другие похожие песенки были в нашем репертуаре.
Наш хор был прекрасно поставлен, а танцы считались иногда важнее других предметов. Науками мы занимались меньше.
В первом классе мы начали учить географию, учительница была сестрой одного из русских знаменитых писателей, очень элегантная и образованная дама. Приносили в класс олеографии тропической растительности, флоры и фауны Африки с неграми и африканскими зверями. Это было интересно и занимательно, но в середине такого урока нас могли вызвать в залу делать гимнастику, танцевать «па» и стоять на пуантах или репетировать наш «кор-де-балет» для какого-нибудь спектакля. Так мы участвовали в «Снегурочке» Римского-Корсакова и других операх и балетах. Я танцевала роль птички-снегиря в хоре птиц. Княжна Гагарина была Весной, она была красавица, ученица седьмого класса, и мы все ее «обожали». В малороссийском балете участвовала моя тетя Нюта, ей сшили костюм дома: белая шерстяная юбка с пестрыми ленточками на подолу, белая кисейная рубашка, красные сафьяновые сапожки и венок искусственных маков и васильков и ромашек на голове. Мой же костюм птицы, как более сложный, изготовлялся в особой костюмерной мастерской по рисункам балетной школы. Учитель танцев был балетмейстер Большого театра — и мы прилежно упражнялись каждый день в белых балетных туфлях под аккомпанемент рояли. Дома с Нютой мы продолжали наши репетиции. Тетя Эсфирь нам аккомпанировала, и я танцевала не только свою птичью роль, но и за кавалера с Нютой. «У нас с гор потоки, заиграй в овражке, выверни оглобли, наложи высоко, Весна красна, наша Масленица…»[53] и т. д. Клич «Пер» прекращал наши репетиции.
Наша частная гимназия, как я убедилась впоследствии, имела прекрасный педагогический состав: балетмейстер наш принадлежал к одному из знаменитых артистических семейств, где театральная традиция переходила из поколения в поколение. Поэтому он часто назывался Чудинов-третий (т. е. танцор в третьем поколении). Наш учитель пения тоже был известен в музыкальном мире и считался одним из друзей Шаляпина. Когда мы немного подросли, он нам внушал, чтобы мы берегли молодые голоса, чтобы их не «перекричать», чтобы не петь на воздухе и слишком громким голосом, и учил нас делать гимнастику дыхания. Наш хор отличался хорошим и серьезным репертуаром и исполнением. В старших классах учителя были не чиновники и не опустившиеся бюрократы, люди двадцатого числа[54], как это нередко бывало в казенных гимназиях и «бурсах», а молодые ученые с блестящим будущим. Впоследствии некоторые из них были моими профессорами на Высших женских курсах, и я гордилась тем, что знала их еще со школьной скамьи.
Итак, мы с Нютой готовились к балетному выступлению в «Снегурочке». И каково же было наше горе, когда накануне спектакля, когда наши костюмы висели выглаженные и блестящие в шкафу, и мы не переставая стояли на пуантах и делали свои па, так что в доме над нами смеялись и нас дразнили, а домашняя портниха Аннушка, как соучастница в торжестве, стояла на страже, чтобы «пер» не застал нас во время репетиции, мы обе вдруг получили высокую температуру, опухшее горло, и доктор нашел, что мы заболели «свинкой». Об участии в балете не могло быть и речи, мы горько плакали, нас не могли утешить ни подарки, ни платья для куклы, которые Аннушка нам шила, ни сладости, которые мы не могли глотать. Наша премьера не состоялась.
* * *
Первый раз слово «жидовка» я услышала от девочки, которая перед этим была моей лучшей подругой. Мы с ней поссорились из-за картинки, и хотя я не знала, что в этом обидного, я очень обиделась.
Классная дама, которой я рассказала о нашей ссоре, велела ей извиниться, объяснила, что иудейское вероисповедание не хуже всякого другого, но боль осталась. Я дома спрашивала: что такое еврейка? — Ну, это когда надо есть кошер, когда нельзя ездить по субботам, когда молятся «Шма Исраэль» и «Моде Ани». — А что в этом плохого? — Этого мне никто не мог объяснить. Я знала, что на Пасхе христианки поют «Христос Воскресе», что они крестятся, когда проходят мимо церкви, а по утрам читают во время утренней молитвы «Отче наш», а мы можем стоять в конце зала и не принимать участия во всем этом. Я знала, что есть разница: что если в пятницу вечером есть вечер в гимназии и я даже должна читать басни Крылова, то мама мне не позволит поехать на извозчике, а пешком вечером холодно и далеко. Я принимала эти «жертвы», но не понимала, почему мне за это следует обидное слово «жидовка». Восьмилетняя девочка этого не могла понять.
* * *
После смерти бабушки наш дом сильно отклонился от еврейских традиций. Все провинциальные кузины куда-то исчезли. Дедушка перестал есть мясо, сделался вегетарианцем, утверждал, что на старости лет это здоровее, но, верно, мало доверял кошерности своей кухни. Неприписанных гостей стало гораздо меньше, мама и тетушки не любили, когда чужие люди спали на диванах, а хасидские вечера во время Симхат Тора и вовсе прекратились. Дедушка часто бывал не в духе, ему было не до веселья, он не женился во второй раз и по вечерам уходил в клуб.
К маме и барышням приходили русские студенты и курсистки, они шумели, говорили о Дрейфусе, Золя и Эстергази[55] и каких-то мне непонятных вещах. Появились две молоденькие кузины из провинции. Их отец, единственный брат дедушки, был на него совсем не похож, ни наружностью, ни характером. Он был большой «ламдан», ученый, а его жена Мере торговала кружевами, перепродавала чужие бриллианты и таким образом зарабатывала для семьи. Впрочем, дедушка их поддерживал, как и всех других своих родственников.
Обе кузины, очень красивые и очень молодые, сделались ярыми революционерками. Они ходили на сходки, разносили нелегальную литературу и в конце концов были сосланы в Сибирь, где одна из них погибла, а другая вышла замуж, была освобождена и выслана за границу. Моя мама и тетушки были далеки от революционных движений, так что кузины их считали буржуазными барышнями, а мама, которая считала себя образованнее и способнее, уверяла, что кузины только «на побегушках» у революции и попали в Сибирь и в эмиграцию «по недоразумению».
Для меня со временем эта тетя Поля сделалась героиней и идеалом, а ее погибшая сестра — святой жертвой революции.
* * *
От времени до времени появлялся в Москве мой папа. Он посылал рассыльного с письмом и просил привести меня в «китайскую кофейню» на Страстном бульваре. Она звалась китайской потому, что была вся украшена китайскими веерами, а вечером еще цветными фонариками. Днем кофейня была пустая, и мы с папой были почти единственными посетителями.
Папа заказывал себе чай, а мне — шоколад с пирожными и привозил мне подарки. Это были книги «золотой библиотеки»[56], несколько отрезов на платье или на пальто. Моя мама без восторга принимала эти визиты, перед уходом велела мне не болтать лишнего, не переедаться пирожными, морщилась на качество и цвет отрезов, а про книги говорила, что они куплены в антикварном магазине и потому «негигиеничны».
Но для меня каждый приезд папы был переживанием. Правда, мои гимназические дела его мало интересовали, а о семье мамы он тактично не спрашивал, так что нам почти не о чем было говорить. Но однажды он мне рассказал, что теперь я могу приезжать к нему в гости, что тетя мне кланялась и послала в подарок рукодельную коробку и что летом я могу жить у него в имении.
Дома мама мне рассказала, что «тетя» — это мачеха, что отец женился, но чтобы я не боялась — это только в сказках мачехи злые, и мама даже очень одобрила рукодельную коробку.
В тот вечер я плакала в своей постели, уткнувшись в подушку, но утешала себя тем, что увижу новый город Вильну и буду жить в настоящем барском имении.
* * *
Весной мне исполнилось девять лет.
Тем временем в нашем доме произошло много перемен. Дядя Володя женился, тетя Фира вышла замуж. В доме, что называется, дым стоял коромыслом. Сватовство шло годами. Сначала появлялись сваты. Потом «мхутоним» — родители или родственники жениха, и, наконец, сами женихи.
Женихи были безукоризненно одетые молодые люди, в меховых шубах, даже в цилиндрах.
Наших барышень вызывали в залу, чтобы познакомиться. Девушки стеснялись, смущались, не знали, что говорить. Если жених был бывалый, он умел повести дело так, чтобы лед растаял, иначе мы, девочки, которые подслушивали за дверями, не понимали, почему эта еще не познакомившаяся пара молчит и не разговаривает.
Приданое по тем временам давали значительное: деньгами и вещами, кроме того, барышни были красивы, так что у них всегда были претенденты. Если дело подвигалось, брали ложу в Большой театр, молодой человек приносил большую бонбоньерку (было важно, из какой кондитерской и какой «на чай» он оставлял горничной — иначе считался скупердяем). Если дело доходило до помолвки, каждый день из цветочного магазина присылали корзины с цветами и букеты, тет-а-теты учащались и даже разрешалось поехать в театр без сопровождения старших. Хотя сам дедушка этих вольностей не поощрял, и не раз бывали столкновения у него с мамой из-за того, что она «распускает» сестер.
Но иногда выходило так, что после нескольких месяцев жениховства вдруг узнавали, что у жениха было «прошлое», или замечали какие-нибудь недостатки в его характере или воспитании, которые ему удавалось скрывать, или просто родители жениха вдруг решали, что приданое недостаточно. И тогда «партия расходилась», и тетушки выходили к столу с заплаканными глазами или вовсе не выходили несколько дней.
Мы, младшие, шептались и многозначительно переглядывались. Бабушка недаром с тяжелым сердцем оставляла своих дочерей «на выданье» и сыновей холостыми.
После того как мама благополучно выдала сестру и женила брата, она сочла, что ее роль сестры «вместо матери» пока кончена, и ей самой начали сватать женихов. Ей было 34 года, по тому времени — бальзаковский возраст. Несмотря на то что она была в расцвете молодости и красоты, одевалась у лучших московских портних, кончила курсы с отличием, бывала на балах и не пропускала ни одного концерта или театральной премьеры, ее образ жизни в доме дедушки ничем не отличался от замкнутой жизни моих тетушек, ее сестер.
Она и думать не могла о том, чтобы идти замуж по любви. У нее были знакомые, которые только ждали ее развода, чтобы сделать ей предложение. Были такие, которые готовы были развестись со своими женами ради мамы, но все они получили отказ. Это не было в традиции дома.
Ее начали сватать, и она вышла замуж, как и в первый раз, по сватовству.
Мама была очень занята своей новой жизнью, для меня у нее оставалось очень мало времени и терпения.
Утром, перед моим уходом в гимназию, она меня причесывала, проверяла, чистила ли я зубы и хорошо ли помыла шею и уши. И это было все. Я видела ее все меньше и меньше. Когда приходили ее гости — подруга, с которой она, по-видимому, советовалась в своих матримониальных делах, или какие-то незнакомые господа, — мне разрешалось сделать реверанс, взять конфетку и уйти к себе в детскую «учить уроки», как в раннем детстве — «играть в игрушки». Чаще мамы вообще не было дома, она уезжала в Пассаж за покупками, к портнихам, а вечером, разодетая и надушенная, приходила сказать мне «спокойной ночи» и уезжала в театр или на концерт.
Я любила смотреть, какое платье было на маме, как она была причесана. Я любила ее духи — ландыш-мюге, ее мыло от «Рожер и Галле»[57], и на утро я находила у постели небольшой шоколад, который специально продавался в театральном фойе.
В соседней со мной комнате жил дядя Саша. Он все больше покашливал, и все поговаривали, что ему бы надо в Меран или Нерви[58], но почему-то как он не женился, так и в Италию не поехал.
Фира уехала с мужем в Варшаву.
По вечерам было жутко в большой спальне. Олоферн и Юдифь, правда, не были видны в темноте, но зато на белой кафельной печи вырисовывались какие-то фигуры, из комнаты Саши слышились кашель и стоны, а столовая и другие комнаты, в которых были люди, и велись разговоры, и было светло, находились далеко: чтобы попасть туда, нужно было пройти целую анфиладу проходных комнат и зал. Все сказки няни и бонны про духов, ведьм и чертей приходили на память.
Днем дядя Саша был смешной. Бывало, говорил сестрам: хорошо вам быть идеалистками, пока есть горячие блинчики на столе. А когда отнимут — что тогда запоете?
И откуда он знал, что отнимут «горячие блинчики»?
Но ночью он сам превращался в Кощея Бессмертного. Хотелось плакать.
Наконец наступил день маминой свадьбы.
О злых мачехах я слышала, об отчимах я ничего не знала. Однажды мама мне сказала: «У тебя будет дядя, не делай глупого лица. Я выхожу замуж, мы переедем на другую квартиру, а ты пока останешься у дедушки».
Обычно свадьба в нашем доме была дорогое и парадное удовольствие, но на этот раз все обошлось тихо и скромно: второй раз не венчаются, как в первый. Мама была в сиреневом платье и такой же шляпе с вуалью. Мне Аннушка сшила новое плиссированное розовое платье, и когда я заупрямилась и не хотела его надевать и выходить к гостям, она меня уговаривала: «Ну-ну, будь хорошей девочкой. Сыновья дяди тоже приехали, смотри, какие хорошие мальчики — не плачут, не капризничают. И получат пирог и сласти». Нюта мне заплетала косу с розовым бантом, а Катя застегивала мои желтые новые башмачки. Когда я была так расфранчена, я примирилась с судьбой и пошла играть со своими новыми братьями.
* * *
Когда кончились занятия в школе, я первый раз поехала в гости к папе. И тут началась моя новая жизнь — без детства, без иллюзий.
Еще во время так называемого сватания мамы мне приснился сон: мама садится в коляску и уезжает, и я даже не могу с ней проститься, меня тащат куда-то в сторону, я кричу, плачу… и просыпаюсь вся в слезах.
В родительской семье я не привыкла к «телячьим нежностям» или «африканским страстям», как мама это называла. И вдруг я увидела, что моя сдержанная, всегда холодная и строгая мама способна ходить под руку с чужим нам всем человеком; иногда я заставала их в нежной близости, часто мне не велели вертеться под ногами, слушать разговоры взрослых или, если это было на улице, велели идти впереди. Из балованной единственной дочки я превратилась в маленькое лишнее, всем мешающее существо, в какого-то щенка — я чувствовала, что меня перестали любить.
Тетушка Машенька, теперь единственная хозяйка в доме, считала своим долгом меня воспитывать. Катя и Нюта были уже большие, ученицы третьего и четвертого класса, смотрели на меня как на маленькую, у них были от меня секреты. Нюта часто мне читала «нотации», я ее уважала и побаивалась.
Однажды я провинилась: в лавочке, где я обыкновенно покупала, я купила шоколадку, для которой недоставало тринадцати копеек. Лавочник, зная меня и тетушек, уговорил меня взять в кредит.
На следующий день и всю неделю у меня не было чем заплатить этот долг. Я стала обходить его лавку стороной и пробиралась переулкам, чтобы он меня не увидел. Нюта первая заметила, что я похудела и побледнела и что со мной творится что-то необычное. Я не выдержала, расплакалась и рассказала ей всю правду. Она, конечно, заплатила эти 13 копеек, но нотация была строгой и жестокой.
* * *
На Рождественские каникулы меня послали в Вильну вместе с моим сводным братом: у него там тоже были родственники со стороны его покойной матери. Мы приехали на рассвете. Папа встретил меня на вокзале. Из московской богатой столичной атмосферы я попала в еврейскую «черту», в голус, в провинцию. Я была просто потрясена: вместо нарядных носильщиков с медными бляхами нас обступила толпа оборванцев, которые говорили на плохо понятном мне еврейском языке, вырывали из рук у папы, а потом друг у друга мой небольшой чемодан — я была уверена, что они вообще хотят украсть мой багаж. Но папа к этому отнесся очень спокойно, всунул последнему из них в руку какую-то монету, и мы сели на извозчика.
— Что они хотели от нас, папочка?
— Они просто хотели заработать десять копеек.
Это не было щегольское ландо, или лихач, или карета, и даже не дедушкины санки, это был обтрепанный извозчик с рваной сбруей и в клеенчатом фартуке. Мне хотелось плакать.
Мы ехали по узким кривым улицам. Бедные люди ранним утром открывали свои лавчонки или шли на работу, на рынок. В некоторых лавочках при скудном свете уже работали и торговали на лотках. Женщины грели руки над какими-то глиняными горшками с угольями, и такие же горшки с пылающим углем стояли у них между ногами, почти под юбкой. Наш дом стоял на горе с прекрасным видом на Вилею, на леса и горы, на которых возвышались костелы времен Наполеона — готический Бернардинский и церкви с золотыми луковицами куполов. Но в полутьме я всего этого не рассмотрела.
Я очнулась только в квартире папы. Мачеха уже спала. Она заботливо оставила на столе в столовой чашку молока и кусок «штруделя» со сливами и изюмом для меня.
Квартира папы была заново отремонтирована и очень богато обставлена, гораздо моднее и «стильнее», чем наша московская старая квартира. Здесь не было строгого дедушкиного ампира и не было «интеллигентских» уголков с пианино и книгами, нотами, с живыми цветами в вазах, с разными парижскими «секретерами» и рукодельными столиками, где все было поставлено как бы небрежно. Здесь царил богатый мещанский дух. Мебель была в стиле барокко, каждая комната в другом цвете, потолки были лепные и печи выкрашены под цвет. В гостиной было много безделушек, разные севрские и саксонские фигурки, китайский фарфор, бронза, хрустальные подвески, искусственные цветы и даже восковые ангелочки. Все это было куплено тетей за границей или, может быть, сразу — из какого-нибудь разоренного графского имения. Столовая была отделана резным дубом, на стенах висели барельефы — дичь, рыбы, фрукты, старинные высокие часы с кукушкой. В тот момент меня, ребенка, все эти мелочи отвлекли от уродства улицы и нищеты жизни, которую я только что увидела в первый раз, но потом я возненавидела всю эту мещанскую безвкусицу. Впрочем, до того еще пройдет немало лет.
Тетя вышла к завтраку одетая в строго застегнутое до воротника платье. Причесана она была как от парикмахера. Она была седая дама, очень высокая, красивая, что называлось, представительная. Она меня милостиво поцеловала, и, по-видимому, мы с первой же встречи понравились друг другу, потому что между нами не было никакой натянутости и неловкости.
Все рождественские каникулы она меня баловала, водила к своим родным, накупила мне подарки, мой папа был в восторге. Когда я уезжала, она даже прослезилась: «Бездомное, мол, дитя». Когда я потом рассказывала моей маме, как хорошо меня приняли в доме отца, и какая у них «шикарная» квартира, и как хорошо они живут, она была очень довольна. Впоследствии она мне говорила, что была рада, что он женился раньше, чем она вышла замуж, потому что у нее были угрызения совести, так как она его оставила, и почти без уважительной причины. Тогда это называлось «не сошлись характерами».
За десять лет, в которые я приезжала и живала у моего отца, я, конечно, лучше узнала мачеху. Это была сильная еврейская женщина, «эйшес хайл»[59], которая умела свои материальные и общественные интересы ставить на первый план, она умела подавлять свои чувства и страсти, если таковые у нее имелись.
Я потом узнала о ее жизни до замужества с моим отцом. Она очень любила своего первого мужа, имела с ним несколько детей, была богата и жила очень широко: разъезжала много, проводила лето с детьми за границей, давала детям хорошее воспитание и образование. Когда она заметила, что ее муж ей изменяет с гувернанткой, ее самолюбие было задето. Она потребовала развода, взяла себе детей и сильно переменила весь строй своей жизни: стала религиозной, благотворительной, молилась три раза в день, все праздники и субботы проводила в синагоге, давала пожертвования. Второй раз замуж она вышла только потому, что считала для себя непристойным жить как «разводка», без лица и имени («он поним унд он номен»[60]) — и вышла за моего отца тоже по сватовству, потому что он был хорошей партией, состоятельный, с образовательным цензом и занимал положение в городе.
Это был расчет с обеих сторон, и не только денежный: ему нужен был дом, хозяйка, возможность взять к себе ребенка, чего он не мог бы сделать, оставаясь бобылем.
Возраст их был приблизительно тот же, им было лет по пятьдесят, вся их жизнь была в прошлом; сильная, неповторимая любовь за плечами. Им нужно было только соблюдать аппарансы[61], что они оба и делали. Для меня, ребенка, это были идеальные условия. Я не ревновала отца к мачехе, как я ревновала мать к отчиму. Наоборот, я часто держала сторону мачехи, если бывали какие-нибудь несогласия.
В общем, как отец, так и его жена проводили большую часть дня вне дома. Она была председательница, казначейша и член разных благотворительных обществ. С утра начинали приходить к ней мальчики-ремесленники, которых она снабжала костюмами из жесткого материала черного цвета, называвшегося «чертовой кожей». Потом она ходила с решершами[62] по всем бедным кварталам, уговаривала родителей отдавать мальчиков в учение, заботилась о них, иногда довольно резко обходилась с этими питомцами, если они убегали от мастера, или, бывало, проворуются, или были замечены в лени, грубости и других прегрешениях.
Во всей ее работе не было погони за «коведом»[63] — не было тщеславия, но она была лишена того чисто человеческого сентиментализма, который неизбежно связан с филантропией. Мы обычно любим тех, кого облагодетельствовали, нам дороги наши питомцы. Я этого у нее не замечала. Она редко принимала у себя дам, с которыми работала. Когда собирался такой комитет к чаю, она посылала меня в кондитерскую за пирожными и вообще поручала мне накрыть стол и устроить все по моему усмотрению, хотя я еще была ребенком. Она считала, что я, как москвичка, знаю все это не хуже, а может быть, лучше, чем она. И я выполняла все так, как я это видела в нашем доме, у мамы. Когда тетю приглашали на благотворительные вечера и балы — сидеть за буфетом, она надевала свое самое парадное черное бархатное платье с длинным шлейфом, была очень красива, и если меня брали на такой вечер, я гордилась ею. Она была репрезентативна. Но я не замечала в ней никакого женского кокетства и увлечения этой работой: она была занята, деловита и любезна в меру. У нее была очаровательная улыбка, но вряд ли ей об этом кто-нибудь говорил во время ее молодости, иначе она привыкла бы чаще улыбаться.
Кроме благотворительности, она еще занималась делами, то, что называется «иммобилиен»[64], — покупала и перепродавала плацы, дома, и во вторую часть дня в ее кабинете сидели какие-то посредники, маклеры и покупатели. Мой отец не вмешивался в ее дела и не делился с ней своими материальными заботами.
Как хозяйка она была очень аккуратна, педантична, требовательна к прислуге, очень строга в смысле кошерности, и считала своим долгом в четверг после обеда пойти с кухаркой на рынок за продуктами для субботы. Мебель в гостиной должна была сохраняться «как новая», нам не разрешалось сидеть или — Боже упаси — забираться с ногами на диван; ставни закрывались при появлении первого луча, будь это на рассвете или при закате солнца: «чтоб не полиняли краски на обоях и на мебели, занавесках». В доме всегда царил полумрак.
Она сердилась, если кто-нибудь нечаянно разбивал одну из финтифлюшек из стекла и фарфора, которые наполняли дом. Но вся эта черствость не имела отношения ко мне. До конца ее жизни мы оставались друзьями, я была ей благодарна за то, что во время болезней она ухаживала за мной, звала врачей, следила, чтобы я брала лекарство. Она покупала мне зимой теплое белье, чтобы я не простудилась, и заставляла меня по утрам до школы делать гимнастику: она купила мне резиновые специальные приспособления для этого.
Как я потом выяснила, эта забота о моем здоровье и воспитании была связана с тем, что она собиралась со временем выдать меня замуж за своего младшего сына и таким образом сохранить «общий капитал» — свой и моего отца — в семье. Но она бы не решилась на этот шаг, если бы меня не любила. Доказательство ее дружбы и хороших чувств ко мне я видела иногда в том, что, когда наступала суббота или праздник, и она, приняв ванну и переодевшись во все чистое, брала молитвенник или книгу, она усаживала меня возле себя и рассказывала мне вещи, которых я никогда не слышала от нее в будни или в разговорах с другими людьми: о религии, о Боге, о еврейском народе и его страданиях, об истории, полной мучений и испытаний.
Иногда она в необычное время возвращалась из города, сбрасывала с себя пальто и шляпу, принимала валерианку и говорила: «Я снова встретила сегодня его (ее первого мужа). Он ведь знает, что по еврейскому закону не позволено разведенным людям быть в одном и том же городе!»
Но и в религии она была так же формальна и платила «Богу Богово».
Мой отец, который в Москве не занимался никакой общественной деятельностью и еще менее интересовался религией, здесь, в своем городе, должен был держать фасон — что называлось «штад халтен». Он был габе — член правления в самой лучшей синагоге, Хоральной, он был выборщик в Государственную думу, был опекуном разных сиротских домов и членом больничных комитетов. Поэтому получалось так, что он пропадал все вечера на разных заседаниях. Он упрекал тетю, что она опаздывает к обеду, а она его в том, что он опаздывает к ужину. Это, может быть, была единственная «личная нота» в нашем доме — двое вдруг замечали, что они, как два парохода, идущие в разных направлениях, встречаются тут и там, но чаще идут каждый своим путем.
* * *
В нашем доме, наряду с перенагруженной вещами богатой квартирой моих родителей, жили бесчисленные квартиранты — мелкие ремесленники, портные, сапожники, перчаточницы, фабричные работницы. Отец немало страдал от их неплатежеспособности, от неаккуратности в выполнении работ, если были починки и перестройки в доме, и называл их с раздражением «нудники» и «баал малохес» (неквалифицированные ремесленники). Все они были обременены многочисленными семействами; «гои»[65] били под пьяную руку своих жен и детей, бывали крики и скандалы. Евреи жили очень грязно, в квартирах была вонь, насекомые, не помогали ни ремонты, ни починки: печи всегда дымили, лестницы были скользки от грязи и кошек. Дети фактически воспитывались «в рине»[66], сточных каналах, родители оставляли их по целым дням на попечении старых соседок или старших подростков, которые не обращали на малышей никакого внимания.
У нас был большой сад и двор, много места для этих детей, чтобы играть и резвиться, но почему-то я не помню, чтобы какой-нибудь ребенок играл под деревом или на траве — камни и мостовая, груды сложенных материалов были те места, где проходило их детство.
У нас был особый «парадный ход», балконы, огороженный садик со столом и скамейками под грушевым деревом. Там я учила со своими подругами уроки, а дети стояли вдали и смотрели на нас, барышень. Это были виленские «слумс»[67], дешевые квартиры, которые сделали меня, еще ребенка, врагом всего нашего мещанского благополучия — социалисткой, тогда как я даже не в состоянии была понять и разобраться во всех сложных вопросах капитала, труда, неравенства и проч.
Запах клея, коленкора, грязи, немытых тел, варева из капусты и несвежего мяса и рыбы на пятницу, запах дегтя, которым дезинфицировали отхожие места на дворе, — все это не гармонировало с педантичной аккуратностью моих родителей, и прекрасный вид с балкона на Вилею, на Замковую гору и Крестовые горы, на готические церкви и дворцы и костелы, вид на всю Вильну, которая весной утопала в зелени, — как это было ненужно тем детям, которые копошились на лестницах и булыжниках нашего двора. Все это, конечно, я поняла и осознала значительно позже.
Когда мне впоследствии возражали — и еще по-английски: «What is wrong with the slums?» (А что плохого в слумс?), я знала, что́ плохо: я знала, что слишком часто выносили маленькие гробики из нашего дома, а матери и отцы даже не были слишком удручены и заплаканы — одним ртом меньше, и то слава Богу. И я видела, как во время забастовки вдруг все мужчины и женщины стояли на дворе и в коридорах, переругивались, женщины большею частью были за прекращение забастовки, мужчины не стеснялись в убедительных методах доказательств, и если кончалось побоями, то принимали участие все жильцы того или другого флигеля. И я видела, как молоденькие девочки, которые еще вчера ходили босиком и в оборванных платьях, со старой шалью на плечах, вдруг выходили вечером в новых башмаках, ярком платье и в шляпе, с накрашенными щеками и губами, и никто ничего не говорил, только кто-нибудь вздыхал или махал рукой.
* * *
После рождественских каникул я вернулась домой. В новой маминой квартире мне была приготовлена комната с партой для учения уроков, с книжным шкафом, где хранились моя детская библиотека и игрушки.
Мама устроилась в новой квартире с большим вкусом. Ее муж хорошо зарабатывал на каких-то постройках, у нас был свой, вернее «наемный», выезд, три человека прислуги: кухарка, горничная и лакей. Раз в неделю бывали журфиксы, масса гостей, пели романсы, мама аккомпанировала, какая-нибудь дама пела арии из опер. Говорили о политике, о литературе (Вербицкая и Щепкина-Куперник[68] были в моде), но главная тема и все споры велись вокруг театра: каждая новая пьеса в Художественном вызывала дискуссию, шли в пари по каждому поводу. Я многое знала о театре раньше, чем меня взяли первый раз в драму или комедию.
Я продолжала ходить в свою гимназию. Вернее, меня и мальчиков, моих сводных братьев, отвозили на лихаче. Иногда мы занимались барским спортом — обгоняли наших богатых товарищей, которые тоже ехали на своих лошадях.
— А ну-ка, Федор, голубчик, перегони вон того хлыща, получишь гривенник.
— Федор, гони во всю, прибавлю еще пятиалтынный.
— Да что вы, барчук, нешто можно загонять скотину, она тоже, сердешная, тварь Господня.
Но двугривенный его смягчал, и мы мчались как угорелые.
В гимназии на уроках стало весело. Учительница географии была другая. Она была известная путешественница, о многих странах она рассказывала как очевидица. Мы бы могли быть увлечены Арктикой и полюсами, если бы у Евлампии Александровны не было одного недостатка, который нас отвлекал от предмета: на каждом третьем слове она говорила «так». Спорт заключался в том, чтобы сосчитать, сколько раз в течение часа она скажет слово «так». Вначале еще кое-как сдерживались, но когда количество «таков» доходило до ста и больше, хохот раздавался на всех скамейках, особенно поблизости от «считальщиц», и несколько учениц вылетали из класса. Иногда меняли метод развлечения. На каждый «так» надо было сказать «тик» или поставить крестик или нолик и потом сравнить, у кого больше «тиктаков» и кто победил. Были конечно и контролерши, чтобы не сфальшивить. Чтобы не крутиться в коридоре, где можно было наскочить на самое начальницу, грешницы забирались в уборную, где было большое окно, и, сидя на подоконнике, начинали делиться всеми скабрезными историями, какие знали. Тайны деторождения, романы сестер и братьев, все, что дома подслушали и подсмотрели от взрослых и прислуги, — все шло в общую кассу сексуального просвещения. Никакого вмешательства со стороны родителей и учителей в вопросах секса тогда еще не было, все разговоры на эти темы считались запрещенными и потому вызывали усиленное любопытство и интерес. На детей, пойманных в грехах, смотрели как на «испорченных», и поэтому все, что мы знали, мы сохраняли в тайне и редко выдавали друг друга.
Рано начали влюбляться в учителей, в гимназистов тех школ, мимо которых проходили утром и после занятий, у каждой была своя симпатия среди старших учениц — «душка», которую обожали. Иногда бредили оперными певцами. Когда научились писать без ошибок, писали письма, на которые никогда не получали ответа и которые, может быть, даже не доходили.
Я лично не любила распространяться на эти темы, может быть потому, что ненормальная жизнь моих родителей сделала меня особенно замкнутой, но вопрос деторождения был очень актуален: моя мать была беременна, и в нашем доме ждали ребенка. Об этом, конечно, никто не заикался. Однажды, когда я вернулась из гимназии, вместо прислуги мне открыла дверь пожилая женщина в белом большом переднике, которая назвалась Берта Абрамовна.
— Ну, поздравляю с сестрицей.
Я опешила. Как и в день свадьбы мамы, я не знала, радоваться ли мне или огорчаться, но когда меня ввели в новую детскую, которая была не чем иным, как моей собственной детской, из которой вынесли мою кровать и парту и игрушечный шкаф и поставили все это пока куда-то в проходной, и когда мне показали маленькое красненькое существо, спеленутое в каких-то свивальниках и в конвертике, я была очень тронута и горда: у меня, как и у всех моих подруг, была своя собственная сестренка.
К маме меня не пустили, она отдыхала, а потом, когда я вошла, она лежала вся в кружевных пеньюарах, с какими-то оборками на наволочках, и пила из чашки горячий бульон, который ей принесли на подносе, и мы обе не знали, что сказать.
— Ты будешь пока спать в кабинете на диване, а потом мы посмотрим, — сказала мама. И это было все. Ни о каких «реакциях», ревности, которая может перейти в комплекс, и прочих фрейдовских мудростях тогда еще ничего не знали. Впрочем, в моем случае это вовсе не было необходимо. Я была на десять лет старше моей сестренки, я ее жалела, когда она плакала, я ее брала на руки и качала, если кормилица была занята стиркой, и вообще, когда кормилицы почему-то часто сменялись. Оля стала моей куклой, настоящих кукол я уже не признавала, мне никто не мешал проявлять мое рано проснувшееся материнское чувство на Оле. Мама начала поправляться, надела корсет, начала выходить, и если Оля была не с няней, то она была со мной.
Спала я в гостиной на диване, а если были гости, меня «пока» укладывали на нянькиной кровати, и потом сонную переносили снова к себе на диван.
Весной меня отправили к папе на дачу, и все каникулы с тех пор я проводила в Виленщине, в имении, пока вообще не осталась жить у отца в Вильне. Тогда я начала на каникулы ездить к маме в Москву или Петербург. Я была ребенком не только без правожительства в столице, но и без родительского дома, путешественницей по всей земле Российской. Весной мои две младшие тетушки были приглашены в Варшаву на дачу к тете Фире. Мне велели написать папе, чтобы он приехал на узловую станцию Минск, куда Катя и Нюта меня привезут и откуда поедут дальше, а я должна буду пересесть в поезд на Вильну, идущий с другого вокзала, и для этого, конечно, нужно было, чтобы меня кто-нибудь встретил. Моя мать не переписывалась с отцом, даже в вопросах моей судьбы и воспитания, а мое письмо, верно, было недостаточно грамотно и ясно: факт, что в Минске меня никто не встретил.
Когда мы подъезжали к станции Минск, я заметила, что мои обе тетушки перешептываются и смущенно поглядывают в окно. Они вдруг поняли, что пересадка могла быть плохо организована.
Поезд стоит всего 20 минут. Мы взяли мой чемодан, вышли на перрон и начали бродить в поисках папы, но никого знакомого не встретили. Все евреи были чужие, вовсе не говорили по-русски, и никто нам не мог дать никакого совета. Мы знали имя одного родственника, которого я лично не знала, но который жил в Минске, и мама случайно дала нам его адрес.
Нюта, как более находчивая, наняла носильщика, дала ему в руку адрес этого незнакомого дяди, всунула какую-то монету и сказала: «Отвезите эту девочку по этому адресу». — «Слушаюсь, барышня». — Мы даже не успели попрощаться: раздался третий звонок, и две заплаканные и испуганные девочки уехали.
Я села в пролетку рядом с носильщиком, и мы поехали по плохо освещенным улицами Минска. По дороге мне вспомнились все истории про пропавших девочек, про цыган, которые продают детей в цирк, где им выворачивают руки и ноги, про то, как снимают с детей шубки и забирают вещи, а их бросают в яму. Мне стало немножко жутко. Тем временем мы подъехали к незнакомому магазину, который, конечно, был уже закрыт, но рядом была открыта маленькая лавочка. Носильщик спросил:
— А где хозяева этой лавки?
— Да они тут не живут, это на другой улице.
Мы повернули извозчика.
— Слышь ты, а заплатят мне за два конца?
— Может и заплатят, езжай. — Я поторопилась заверить, что заплатят.
Наконец мы подъехали к дому, где жили родственники. Меня начали выгружать. Я позвонила и спросила: «Здесь живут М.?» — «Здесь. А ты кто?» — «Я — Эва». — «Ах, ты Эва, ну, слава Богу, а то мы не знали, что и подумать. Получили телеграмму: Эва приезжает 8.30, встречайте. Мы носились по всему городу с этой телеграммой, и никто не знал, кто такая Эва и с какого вокзала ее нужно ожидать. Ну, раздевайся».
Они заплатили носильщику и извозчику, и я осталась. На столе кипел самовар. И меня накормили ужином.
На следующий день разослали телеграммы во все концы: в Варшаву, в Москву, в Вильну. Успокоили всех, и я прогостила у этих теплых родственников целую неделю и без особой охоты от них уехала.
Полстолетия назад в России, о которой культурные европейцы говорили, что там волки бегают по улицам, что русские — азиаты, скифы, дикари, что поскреби русского и найдешь татарина, и проч., и проч., маленькая девочка десяти лет, с очень хорошим чемоданом, в теплом пальто проехала с двумя мужиками через весь чужой город, была доставлена благополучно к месту назначения, и с ней ничего не случилось. Не знаю, думали ли родители, когда я потом рассказывала им о своих приключениях, что я была в смертельной опасности. Они скорее поражались моему самообладанию и храбрости и находчивости. Недаром они меня называли на идише «а бранд, а схейре», что по-русски называется молодчина, а в Палестине — «хаверманит!» (молодец). Мои новые родственники были очаровательны: они брали меня гулять в сады, в гости к своим знакомым. Меня познакомили с детьми моего возраста, меня одарили подарками, книжками и оттягивали мой отъезд со дня на день. Для меня эта неделя прошла как во сне.
Мой троюродный брат, который был на два года старше меня, и его товарищ по классу так влюбились в меня, как я потом узнала, что хотели драться на перочинных ножиках за право жениться на мне, когда мы все вырастем. Но, к счастью, их вовремя разняли, так что жертв не было. А я испытала в первый раз любовь — «первую любовь», — но не к кузену, а к его товарищу.
Наконец, пришла телеграмма от папы: «Выезжай в Солы, буду встречать». Не возникло даже сомнения в том, как я сама поеду без всякого сопровождения. Я, такая путешественница. Меня посадили в вагон второго класса, меня провожала вся семья, а моя корзиночка с продуктами была наполнена шоколадом, разными сладостями и яствами на дорогу. В Солах папа меня встретил.
От станции до имения было 18 верст. Мы только вечером прибыли в имение Лейзерувку.
* * *
По дороге мы проехали местечко Ошмяны. Из каждого окна на нас смотрели любопытные провинциалы. Каждая «почта» и колымага с брезентовым кузовом — «балагола» — вызывала любопытство скучающих местечковых жителей. В имении все вышли нас встречать на шоссе. Меня обступили родственники моей тети со всех сторон, и я должна была подробно рассказать, как все было: как я ехала, как попала в Минск — оказывается, какая-то тетушка все же была на вокзале, но проглядела меня или не узнала и потом выслала тревожную телеграмму: «Эва не приехала или пропала», что вызвало панику в имении. Как я провела неделю в Минске, я рассказала; о своем восхитительном романе, конечно, умолчала. И как я доехала сама до Сол. В десять лет — одна, ничего подобного они не слыхали, и все покачивали головой: «И ты не боялась? Не плакала?» — «Плакала?! Чего там было плакать?»
Имение наше лежало в одной версте от города. Еврейские имения, как правило, не могли находиться за чертой оседлости, то есть за пределами города. Виленская губерния считалась литовской Швейцарией по красоте гор, холмов, рек, полей, лугов, лесов и садов. Дом был не барский, как я мечтала, а скорее фольварк[69], с пристроечками, флигельками, очень вместительный. Домочадцы и еще много гостей находили приют в деревянных стенах этого поместья.
Парк был старый, заросший; давно рука садовника к нему не прикасалась. Вместо клумб были большие кустарники: сирень, жасмин, рябина и акации. Большие сосновые аллеи, березы, тополя отделяли огороды от фруктовых деревьев, ягоды от цветника и луга от полей. Живые изгороди были в рост человека. Фруктовый сад сдавался в аренду, мы пользовались только фруктами-опадками, а трудно ли было нам, молодежи, сделать «опадков» сколько угодно? Яблоки, груши, сливы и вишни, малина, клубника, красная и черная смородина, крыжовник, кизил, одна ягода поспевала за другой, и мы всегда ходили с красными пальцами, щеками и губами. Впрочем, фрукты и ягоды шли также на варенье и к столу, и нам поручалось принимать их по весу и снимать с кустов.
Белая и синяя сирень и пахучий жасмин и красная рябина росли близко от дома и касались ветками окон, почти лезли в дом. Все дорожки заросли высокой травой, кроме главной аллеи, которая вела к пруду и оттуда к речке Ошмянке. Огород был большой и богатый всякими овощами, служил только дому, не шел на продажу, был вблизи кухни и в руках кухарки Фроси. Там же был курятник и искусственный пруд — болото, в котором плескались утки и гуси. Молодые индюшки, цыплята и утята привлекали всю банду детей, которые наполняли имение. Взрослые ходили на речку удить рыбу, дети нанизывали на удочки червяков.
Хозяин этого имения, отец моей мачехи, давно умер, и имение было в большом запустении. Поля сдавались под аренду, имение еле кормило старую мать, муме, и ее двух младших дочек, Фруму и Этель. Муме Дворче была второй или третьей женой старика Лейзера и пережила его на много лет.
Самый парадный подъезд с деревянными облупившимися белыми колоннами был давным-давно заколочен. Передняя была превращена в прохладную кладовку. Там стояли чаны, крынки с кипяченым молоком, простоквашей, сметаной, снятыми сливками, свежесбитым дома маслом; сыры в треугольных мешочках висели для просушки над белыми тазами, куда сливалась пахтанка. Свежее масло и мягкие сметанковые сыры были куда вкуснее наших московских «чичкинских».
По стенам висели сушеные травы для специй и приготовления лекарств, секрет которых знала только сама муме Дворче. Тут же висели бусы сушеных белых грибов, набранных нами в лесу, стояли бочки с капустой, мочеными яблоками с клюквой, кислые огурцы, висели колбасы домашнего приготовления, а перед праздниками там же держали все свежеиспеченные и вареные в меду «пирошкес», тейглах, плецлах[70], эйнгемахцы[71] и другие сладости, уже знакомые мне по рецептам покойной московской бабушки. Молодежь, как саранча, умела напасть на все эти яства «парадного подъезда»: слизывали пенки с молока и сливок, выуживали кислые огурцы и моченые яблоки, лакомились медовыми пряниками, за что им не раз доставалось от всех взрослых сообща и от каждого в отдельности.
Для сенокоса осенью нанимали косарей. Уже на рассвете, в пять часов утра, по росе, с остро наточенными косами косари работали, пели грустные, хватающие за душу, или, наоборот, залихватски веселые песни. Неделями сено лежало горками или сеновалом, и в парке пахло свежескошенным сеном. Мы валялись после обеда, закапывались в сено и просыпались на закате солнца. Дальше за парком начиналась роща с довольно вязким болотом, которое спускалось к реке. Река протекала между высоким холмом и заливным лугом. На самом берегу был желтый песок, и ближе к воде росли плакучие старые ивы. Купались часто, целый день плескались в реке. Раздевались догола: мужчины отдельно, женщины отдельно, а дети присоединялись и к тем, и к другим. Приятнее всего было на рассвете, когда еще прохладно, а вечером, разопревшие от жары и спанья в сене или от хождения в городок, снова целой компанией отправлялись купаться. По тине и по песку, по кочкам и бугоркам босиком было приятно спуститься к речке и нырнуть в воду, переплыть на другой берег и оттуда снова вперегонки плыть обратно. В воде сидели часами.
К завтраку возвращались с мокрыми, туго заплетенными косами, в свежевыстиранных накрахмаленных ситцевых и батистовых платьях, за столом уничтожали клубнику со сметаной, творог с молоком и сахаром, и такого аппетита я не запомнила ни у себя, ни у своих близких за всю мою жизнь.
После завтрака были уроки — французского, арифметики и по всем предметам, по которым в предыдущем классе были неудовлетворительные успехи и отметки. Впрочем, французский и музыка входили в программу «хорошего воспитания и образования».
Дом этой тети Дворчи был местом съезда всей их большой семьи. Приезжали из Вильно, из Петербурга, даже из Ташкента. Все племянницы назывались Беллами по какой-то общей бабушке Бейле: была Белла-бестужевка (по названию Высших женских курсов в Петербурге) в отличие от Беллы-лесгафтички[72], затем была Белла-американка, по профессии портниха: она провела всего несколько лет в Америке, работала там в больших портняжных мастерских, но решила, что это не карьера для девушки, и вернулась на родину. Прозвание «американка» за ней осталось. Она была влюблена в одного своего кузена и все ждала, чтобы он ей сделал предложение, но дожила до седых волос, перешивала платья себе и всей родне, а замуж не вышла. Она всегда вспоминала о тех 20 долларах в неделю, которые зарабатывала в «тендетной» мастерской[73], но говорила, что даже если бы ей дали все сорок в неделю, она бы не вернулась туда. Затем была Белла, вернее Изабелла, жена модерниста-художника из Петербурга. Он рисовал тушью и «сепией», изображал баррикады, революционные типы и сцены из восстаний во время Французской революции, а впоследствии — революции 1905 года. Нам всем очень импонировало его искусство, особенно сюжеты картин. Но для жены он зарабатывал недостаточно для соответствующего антуража. Я больше всего любила Беллу-лесгафтичку, она же была моей учительницей французского языка, так как раньше училась в Сорбонне в Париже. У нее были пышные волнистые пепельные волосы, светло-серые глаза, и вся она была пропитана романтизмом. Ее жизнь тоже была полна каких-то романов, о которых все знали, но никто не говорил. Ее любил один большой еврейский поэт, и знаменитый композитор, и популярный общественный деятель, и один очень образованный купец, но в конце концов Белла вышла замуж за своего друга детства, молодого инженера, имела детей, жила бедно и очень тяжело и пропала с горизонта, как и все наши еврейские родственники. Ее кузена Изабелла, жена художника, была классически красива, очень самоуверенна, и мы ее за глаза называли «Элен» из толстовского романа «Война и мир».
Кроме этих четырех Белл было еще много девушек и замужних молодых женщин, которые жили во флигельках, веселились, купались, танцевали под аккомпанемент рояли и флиртовали в саду, с кем удавалось. Дочь моей мачехи, Фани, была консерваторка. Она с утра до вечера упражнялась, играла, так что все лето проходило у нас под звуки Шопена, Шумана, Шуберта, Бетховена, Моцарта и Баха. Когда в конце лета Фани готовилась к экзаменам, она могла над одним пассажем проработать несколько часов, и мне никогда это не надоедало. Я читала и мечтала под звуки ее экзерсисов. Несмотря на вечные настройки и перенастройки единственного настройщика в местечке, господина Фидельмана, мы наслаждались роялью и почти виртуозной игрой Фани. Без этого немыслимо себе представить нашего имения.
Здесь никто почти не пел соло, как мои тетушки в Москве, но зато мы все при каждом удобном случае пели хором. Народные песни — русские, еврейские, малороссийские. Пели на пригорочке вечером, на большом камне, на котором можно было поместить в кучу человек пятнадцать, пели по дорогам, по лугам и полям, на лодке и на берегу реки, в плохую погоду у печки и на балконе, за чайным столом и в маленьком зальце под аккомпанемент рояли.
«Вот мчится тройка удалая», «Стенька Разин», «Волга», «Вниз по матушке, по Волге», «Днепр широкий», арии из «Наталки-Полтавки», Интернационал, Марсельезу, арии и хоровые партии из всех опер и опереток и снова «Припечек», «Элимелех», даже «змирот». Не ленились штудировать и раз, и два песню — в один, два, три голоса, делали спевки и снисходительно посмеивались над теми, у кого не было слуха или голос был недостаточно гибкий для обработки. Никто не обижался, если ему советовали «заткнуться». А под конец говорили: «Талантлив еврейский народ — в один вечер столько хорошей музыки перепортил». Настроение было неизменно веселое и добродушное. Иногда приезжали из столицы поклонники девиц — эти самые поэты и композиторы и писатели, но тогда еще все они были молоды и не достигли вершин своей славы, и их принимали, как и прочих гостей, студентов и гимназистов, просто и радушно. Они декламировали стихи, читали отрывки из рассказов, играли свои произведения на рояли или на скрипке и уезжали — большею частью с разбитыми сердцами или, вернее, — разбив несколько сердец сразу.
Дом был небогатый, но в нем был деревенский уют. Мебель стояла в белых чехлах, и чехлы снимались только в самых торжественных случаях. Трюмо были маленькие и скромные, картины — более еврейские, чем во всех наших городских домах: портрет Моисея, нарисованный мелким шрифтом Пятикнижия (прочесть можно было только через лупу), старинная карта Иерусалима, на которой был и Храм, и дворец Соломона, и проч. Под стеклянными колпачками на столиках стояли восковые цветы и фрукты, стеклянные рыбки, вправленные в какие-то шары молочного цвета; были скворечники, сделанные из сосновых шишек и еловых иголок, и маленькие чучела птичек. Даже неизменные оленьи рога на стенах и какие-то реликвии охоты. Кто охотился в старые времена, мы не знали. В одной из проходных комнат, соединенных лесенками (дом не раз достраивался и перестраивался и расширялся в прежние годы), была домашняя библиотека: один шкаф со «сфорим», еврейскими религиозными книгами, второй шкаф, по которому можно было рассказать историю этого дома. Сама муме Дворча кроме «Цену у-Рену»[74] ничего не читала; ее девицы дочки меняли книги в городской библиотеке или одалживали у студентов-гостей.
А в этом шкафу скопились остатки библиотеки какого-то дядюшки, который был «маскил»[75]: были здесь разрозненные тома еврейских[76] и древнееврейских книг, Смоленскин, Михал Лебенсон, разрозненные журналы — №№ «Гамелиц», «Гашахар», «Восход»[77], также «Нива» с приложением почти всех русских классиков, зеленые книги библиотеки «Знание», Степняк[78], Чернышевский, «Овод» Войнич и «Эмма» Швейцера[79]. Был тут и домашний учебник скорой помощи, поваренная книга Молоховец[80], несколько зачитанных французских романов и даже «сонник», как в романе «Евгений Онегин» Пушкина.
Девятого Ава[81] садились в этой библиотеке на ступеньках, в чулках или в домашних туфлях все, кто постился и придерживался законов, и читали Псалтырь и Эйха (Плач Иеремии), а мы потихоньку опустошали прихожую, потому что обеда в этот день не полагалось. За это потом немало доставалось, если съедали многое из того, что было заготовлено на ужин.
В сад выходили через покосившееся крылечко, шли по единственно сохранившейся дорожке к пруду. В нем когда-то водились форели, а теперь квакали лягушки. Садовник жил в шалаше, рядом валялось порванное одеяло, сшитое из лоскутов, и глиняная кружка для воды. Мы дружили с садовником, и он смотрел сквозь пальцы на то, как мы опустошали сад.
Почти каждый день ходили в местечко за покупками и за почтой. Это было главное развлечение. Сначала шли по полям, через ручеек по камушкам, мимо кладбища, по улице, которая называлась «застенком», и чтобы христианские мальчишки не задирались, мы, девочки, брали с собой нашего большого дворового пса Рыжика. Нашу почту приносили в маленькую лавочку, где мы покупали по записке тети Дворчи все, что она заказывала для хозяйства. Покупали себе «ириски» и, нагруженные мешками и пакетами, читая на ходу свои и чужие открытки, с ириской во рту, возвращались обратно в имение.
На лугу паслось наше стадо (тоже в аренде), и рядом немой пастух Стасек, зиму и лето одетый в отрепья, с толстым неразвитым лицом и детской улыбкой на полуоткрытых облупившихся губах. Его светлые глаза и круглый рот не теряли своего удивленного выражения. Маленький Ицикл, сынишка арендатора имения, с рубашкой, выглядывающей хвостиком из его запахивавшихся штанишек, с двумя кисточками «цицес»[82] (единственный друг Стасека), вертелся возле стада или отгонял свинью, которая своим трефным пятачком лезла в кошерный горшок с помоями, выставленный арендаторшей. «Аюкс, куда, проклятая», — кричала Хая Соре и тут же приветливо улыбалась нам. Я давала свои первые уроки грамоты и арифметики ее дочке Добке. Это были мои первые бесплатные уроки.
Коровы мычали протяжно, их нужно было доить в обед, пастух начал загонять их в коровник. А мы спешили домой мимо низких ветел и верб, мимо хлева, птичника, мимо кухни, откуда раздавался властный крик стряпухи Фроси и запах свежеиспеченного хлеба и путеркихлах[83], и фаршированной рыбы, если это было в пятницу.
В этом имении Лейзерувка я провела несколько своих отроческих лет, здесь я пережила волнующие часы на рассвете, сначала за чтением детских книг, потом с томиком Гончарова или со свежим номером «Знание», часто с нелегальной книжкой, спрятанной под подушкой. Уже в 12 лет я была настроена очень революционно. Я знала, когда и где сходка, или «массовка», или «маевка», если это было первого мая. Я знала, кто арестован и где зарыт револьвер, куда снести нелегальную литературу — я тоже была «на побегушках» у революции.
Из городка к нам часто приезжали парни и девушки на велосипедах и приходили пешком, спорили часами о партиях и революции, о социализме и сионизме. Среди них были «искровцы», плехановцы, бундовцы, сионисты, территориалисты, сеймовцы[84], а также беспартийные — тихие и буйные. Последние всех критиковали и ни к кому не примыкали. Бундовцы называли сионистов дураками и утопистами, искровцы считали сионистов и даже бундовцев узкими националистами, шовинистами, а сионисты пророчили всем прочим потоп, погром, антисемитизм в ответ на их преданность чужбине, чужим партиям и глумились над всеми, кто хочет осчастливить русский народ и лезет не в свои дела.
Уже тогда в партийных интеллигентских кругах среди поляков и русских был душок антисемитизма, хотя тут и там отдельные товарищи работали с евреями в самообороне и спасали их во время погромов. В партии ППС[85] было много евреев-попутчиков.
Дебаты нередко переходили «на личности», но в конце концов все улаживалось, потому что в имении кроме политических дискуссий был еще вкусный чай с вареньем, печеная картошка или картофельные пампушки, а главное — масса молоденьких и хорошеньких девушек, с которыми было приятно кататься на лодке, петь и танцевать при луне и гулять по саду. Религиозные споры тоже могли бы тянуться часами, если бы не уважение к старшим, к тете Дворче, к моей мачехе и др. Появление кого-нибудь из набожных заставляло замолкать всех этих богоборцев, богоискателей и безбожников. Атеизм — и нигилизм и отрицание всего святого — была главная линия. Остальных всех называли мракобесами.
Во время полевых работ мы проводили целые дни в поле, помогали, или вернее мешали, вязать снопы, приезжали на высоких возах со снопами или сеном, молотили зерно ручной молотилкой, терли мякину для корма лошадям, перемалывали солому в сечку — тоже ручной машиной. Ездили на мельницу и приезжали белые, обсыпанные мукой, после чего бежали к речке смывать муку с волос, бровей, ресниц и тела.
В субботу мы ходили в городок в гости. Если у кого-нибудь был в руках зонтик от солнца, его забрасывали камнями[86]. Мы выдерживали целую баталию с мальчишками и «блюстителями субботы» (שומרי שבת).
Я впервые в Ошмянах увидела местечко — с базарами, грязными улицами, немощеными и гораздо более узкими, чем в Вильне. Одна улица была главной, по ней гуляла парами и компаниями молодежь — мимо двухэтажных домов, мимо закрытых в субботу лавок, аптеки, почты, полицейского участка, офицерского клуба и тюрьмы — такая прогулка повторялась несколько раз подряд. В городке было несколько врачей, нотариус, мировой судья, дантист, но большей частью для лечения и судебных дел и даже, чтобы сшить себе новое платье и костюм, ездили в Вильну.
В лавках продавали все, начиная с гвоздей и мануфактуры и кончая леденцами и посудой. На тротуарах свиньи рылись в выставленных помоях, а публика ходила посредине улицы, шлепая по грязи в дождь и подымая облака пыли летом, во время засухи. Тем не менее каждая прогулка в город была развлечением и событием, потому что в имении было еще теснее: вся жизнь протекала в тесном семейном кругу.
Когда появлялась почтовая карета, весь городок высовывал головы сквозь окна и двери, женщины наскоро вытирали руки о передник и по дороге давали шлепки ребятам, которые мешали выбежать посмотреть — кто едет, куда, перед каким домом остановился или проехал дальше, в имения. Раз один из еврейских помещиков привез жену-христианку из-за границы: случайно она была стрижена, потому что перенесла тиф, и приехала на дачу поправляться. Местечковые жители кричали ему вслед: «Йоселе, привез гою, хоть бы выбрал себе красивую». Когда чья-нибудь молодая жена приходила в первый раз покупать что-нибудь в лавку и пробовала торговаться, лавочница говорила: «Ну и скупердяйку же он себе взял!», а если торговалась с извозчиком, он говорил: «Ваш муж платит 20 копеек, почему же вы хотите платить 15?»
Фабричные парни и девушки не ходили гулять по главной улице, они уходили летом за пределы местечка, а зимой собирались у кого-нибудь из товарищей. Они читали нелегальную литературу, привезенную из-за границы, напечатанную на тонкой папиросной бумаге, или еврейские книги, брошюры, листки. Чаще они уходили за речку, где обсуждали свои профессиональные дела, забастовки, вербовали новых членов.
Летом наезжало много студентов и курсисток из столицы, у них у всех было дела по горло, некоторые давали уроки в буржуазных домах детям, которые имели переэкзаменовку, и таким образом зарабатывали себе на плату за учение и на жизнь в университетском городе. Кроме того, они давали уроки в кружках и бесплатным ученикам, экстернам, а главным образом — вели пропаганду и организовывали ячейки каждый своей партии. Не раз их накрывала полиция и сажала в тюрьму. В таких случаях мы им носили пакеты в тюрьму, подкупали стражников, передавали почту и газеты и книги.
В русские клубы приглашали на вист только евреев академиков[87], врачей, аптекарей, дантиста — с женами. Наша красавица Изабелла со своим художником-мужем тоже не раз бывали приглашены, и она потом рассказывала, что дамы очень безвкусно одеты, но офицеры «очень милы»: неудивительно — офицеры любили красивых «евреечек». Белла танцевала и имела успех назло офицерам.
В базарные дни площадь была непроходимо грязна от возов и скота, и крики поросят, мычание коров и ссоры торговок были душераздирающи. Грош — полкопейки — была такая же ходячая монета, как в Москве пятачок. Если начиналась драка, не обходилось без стражников и еврейских мясников — «кацовим», которые прекращали маленькие погромы с переворачиванием возов и растаскиванием товаров. Стражники кричали: «Осади назад», мясники с окровавленными руками и секачами (кровь была бычья, конечно) и авторитетная фигура урядника или околоточного приводили все снова в порядок. Мужики сразу успокаивались, уступали с цены, шли в трактир выпить косушку водки, а мясники возвращались к своим «ядкам». — «Ну, то-то, а то угнал бы я вас, куда Макар телят не гонял», — говорил урядник и покручивал свой длинный русый ус.
Так шла жизнь в маленьком местечке, из года в год. Лето приносило немного разнообразия благодаря дачникам и студентам, а зимой все затихало и покрывалось снежной пеленой — сады, кладбище, маленькие домишки на «застенке». Все наши гости разъезжались с началом занятий в школах, Фани возвращалась в консерваторию, Беллы — на свои Бестужевские или Лесгафтские курсы, а я — в свою гимназию.
* * *
Когда я первый раз вернулась домой в Москву из Лейзерувки, меня трудно было узнать, так я выросла и поправилась, загорела и развилась.
Но еще меньше можно было узнать наш дом. Сестра Олечка выросла, начала ползать, лепетать, пробовала ходить. Она стала очень занятной. Меня, конечно, вначале не узнала.
Мама почему-то была еще печальнее, чем во время жизни с моим отцом. Она так же мало интересовалась сестрицей, как и мной когда-то, сидела часто на диване с открытой книгой, не читая ее, играла и переигрывала «Warum» Шумана, или «Кармен», или арии из «Сельской чести»[88]. Муж ее первый же год после женитьбы не работал, проводил время вне дома, говорил, что должен «поджидать клиентов» в дорогих ресторанах. Подряды его кончились, кучера и лакея рассчитали, и в наш дом вошла нужда, какой мы никогда не знали.
Меня часто посылали к дедушке просить золотой, пятерку или десять рублей, а иногда я даже приносила в судочке обед из дедушкиной кухни. Однажды мне дедушка дал два золотых, я положила их в варежку, зажала в руке и побежала домой. По дороге поскользнулась на снегу, деньги выпали из варежки и покатились. Я их искала и была почти в отчаянии: золотые исчезли в снегу. Но вдруг заблестело что-то шагах в двух от меня — я нашла первый золотой и потом второй. Я со слезами вернула маме деньги и рассказала о чуде, которое случилось. С тех пор она боялась поручать мне ходить за деньгами и старалась одалживать у няньки или ее сестры или посылала закладывать брошки и кольца в ломбард. Впрочем, этого я тогда еще не знала.
Мой отчим был очень капризен в еде, ему покупали дорогие балыки и икру и сыры, несмотря на то, что денег в доме не было. Все, что моя мать скопила за жизнь с отцом, ушло на обстановку, устройство квартиры и широкую жизнь не по средствам. Кормилица, расфранченная в сарафан с кокошником и бусами, была заменена простой няней, она же была и кухаркой.
Вскоре мы переехали к дедушке, но на этот раз нам дали маленькую квартирку в нижнем этаже. Я снова спала у дедушки на диване, там же я играла, учила свои уроки и упражнялась на рояли. Часто я спускалась к маме, чтобы нянчить Олю, потому что у няньки было слишком много работы, стирка и варка, и моя помощь была очень полезной.
Дедушка, который раньше очень гордился отчимом, его деловитостью, выездом, лакеем и прочим, теперь переменил к нему свое отношение. Мама его защищала и хотела, чтобы отчима взяли в дело к дедушке, как когда-то моего отца, но дедушка наотрез отказался. Кончилось тем, что отчим нашел в Петербурге работу в каком-то деле, мама продала всю обстановку и с нянькой и ребенком переехала в Петербург. Там мама нашла маленькую квартирку, купила самое необходимое и дешевое, продала и заложила свои меха и бриллианты и радикально изменила образ жизни. Я оставалась у дедушки до конца учебного года, а потом переехала в Вильну, к отцу.
* * *
Когда я была летом на даче в Вильне, однажды пришло письмо, которое предназначалось больше для отца, чем для меня, и в этом письме мама писала: «В Петербурге, как я выяснила, у тебя нет правожительства, и тебя не примут в гимназию, поэтому ты должна остаться в Вильне». После их развода это был второй тяжелый удар в моей жизни. Я терпела Вильну с ее мелочной, неэстетичной, унизительной жизнью, где — как я видела — евреи пресмыкались перед неевреями, перед полицией, перед дворником и городовым, вели тяжелую борьбу за грошовое существование. Раньше я приезжала на время — на лето на дачу или на Рождество, когда меня развлекали, одаривали, водили по театрам и катали на санках. Теперь же мне предстояло жить, остаться в этом городе, который я не любила, без матери (сон-то был в руку!), без моей московской школы и подруг и дедушкиного дома, вообще меня отрывали от всего, к чему я привыкла и что любила. Я была глубоко несчастна и плакала все ночи напролет. Я должна была скрывать от отца и мачехи это мое горе, чтобы их не огорчать и не раздражать. Я начала «вести политику», из ребенка превратилась в маленькую женщину, которая сама себя воспитывала и перевоспитывала, считалась с окружающими и научилась скрывать свои мысли и отношение к людям.
Больше всего я тосковала по маме и сестренке, я боялась, что меня окончательно забудут и разлюбят и, кто знает, может быть, вообще я никогда больше не увижу их. Мне было всего двенадцать лет.
Я сама начала хлопотать о поступлении в новую Виленскую гимназию. Ни отец, ни мачеха об этом не позаботились, а я боялась потерять год учения, и приближалась осень. Я бегала из одного учебного заведения в другое, повсюду подавала прошения и с нетерпением ждала ответа. Мачеха не выразила большого восторга оттого, что ей, уже пожилой женщине, навязывают чужого ребенка (чего не было в брачном контракте), но мой отец был счастлив и был рад, что благодаря отсутствию правожительства ему вернули его единственного ребенка.
Мачеха была достаточно умна и тактична, чтобы не вооружить меня против себя. Но все же она мне сказала: «Я слышала, что твоя мать — молодая и образованная женщина, я не знаю, смогу ли я тебя так воспитывать, как она. Кроме того, я всегда занята, тебе придется заботиться о себе, о чистоте своего тела и о своих занятиях». Я ничего не ответила. Но я знала, что мне не привыкать стать, что с девятилетнего возраста и даже раньше я уже была самостоятельна и должна была следить за своими косами, платьями, уроками и поездками из города в город. Теперь я была почти взрослой.
Мне начали отказывать в принятии в гимназии: сначала пришел отказ из Мариинской (имени императрицы Марии Федоровны), потом из министерской государственной школы. Мне ничего не оставалось, как подать прошение в частное коммерческое училище, которое по составу учениц было на 90 % еврейское.
Эту школу вели вдова дворянина и ее три дочки. Как и московская, частная эта гимназия стояла не ниже, но выше по качеству молодых учителей, по широте программы (языки, реальные предметы и к тому же коммерческое прикладное знание), чем казенные русские школы. Меня, как ученицу московской гимназии, приняли без вступительных экзаменов, перевели сразу в четвертый класс. Кроме того, я умела делать реверансы, имела хорошие манеры. Начальница мне велела принести деньги — большую сумму за год вперед. Для этого я послала папу, я с деньгами не смогла бы справиться.
Мое вступление в новую школу и переезд на жительство в Вильну совпали с началом Русско-Японской войны[89]. Дочь моей мачехи и моя учительница музыки, Фани, переехала с ребенком к нам, ее муж был призван как врач и переведен на Дальний Восток. Как и в Москве, я беспрекословно уступила ей свою комнату и спала в гостиной на кушетке. Диванчик был коротенький, я к тому времени подросла, и на этом прокрустовом ложе я спала несколько лет.
Форма у меня была другая — не коричневая, а темно-зеленая, с белыми воротничками и манжетами, которые я должна была часто стирать и гладить. Новые подруги, учителя, книги, музыка — уроки с Фани, и концерты, и театр — все это дало мне новый интерес в жизни. Мы ходили на концерты в Городской зал всегда с партитурой, я научилась не только слушать, но и читать музыку. Я пристрастилась к музыке.
Учителя у нас были молодые. Мы влюблялись в каждого из них по очереди. То старались отличиться в математике, то в русской словесности, а то в истории. Я училась хорошо, хотя уроки приготовляла на переменках или на предыдущем уроке, держа книгу под партой.
По воскресеньям мы с подругами ходили на утренники в драматический театр; весной и осенью совершали прогулки по Вилие в лодке, гуляли по «телятнику» (городской сквер с бюстом Пушкина, где «как телята» гуляла молодежь) или поднимались на Замковую гору, откуда был прекрасный вид на все окрестности Вильны. Зимой катались на коньках в Бернардинском саду на застывших прудах. Там же вырезывали монограммы на скамейках, назначали свидания гимназистам. Но чаще я не приходила, оставалась дома читать книжку, за что получила прозвище «гордой», «буржуазной барышни», «недотроги» и проч.
Утром я шла в гимназию по тихим гористым улицам с видом на весь город и, несмотря на красоты снежных улиц, готических зданий, церквей и монастырей, несмотря на еще большую красоту весеннего или осеннего виленского пейзажа, когда весь город утопал в распускающихся цветах акаций и липы или был усыпан желто-золотыми листьями, я безумно тосковала по своей Москве, по Дмитровке, Кузнецкому мосту, Тверскому бульвару, а больше всего — по тетушкам, Нюте и Кате, по своей маме и сестренке. Я начала два раза в год ездить к ним — летом в Москву на дачу, зимой — в Питер, к маме. Эта «непринадлежность к Вильне» создала мне какой-то ореол в глазах товарищей.
Я всегда могла рассказать что-то о столице, чего они не знали. В начале войны в Москве были патриотические демонстрации (манифестации). «Шапками закидаем!» — кричали на площадях и бульварах.
Лезут сдуру к Порт-Артуру, знай, брат, желтую-то шкуру спустят русачки! Уррра-а!Но под конец войны, когда генерал Куропаткин[90] окончательно оплошал, все ходили с опущенными головами, в Москве начались демонстрации протеста, забастовки, которые кончились всеобщей Всероссийской стачкой и, наконец, революцией 1905–1906 годов.
Во время гапоновского шествия я случайно попала на Невский проспект. Это было вечером; я ехала на извозчике на Варшавский вокзал. Слышались залпы выстрелов, которыми царская власть ответила на безоружную петицию рабочих. 9-го января еще не знали, с кем Гапон — с рабочими или с охранкой[91]. Мама проводила меня на вокзал, и в это тревожное время, когда каждый час мог принести новую железнодорожную забастовку, я, ребенок, была одна в поезде.
Царя Николая Второго, к которому шли с петицией путиловские рабочие, я не раз видела с самого раннего детства. Во время коронации дедушка нанял окно в булочной Филиппова, и мы все хорошо видели: карета с царем и его женой Александрой Федоровной и первой наследницей — Ольгой, тогда еще в пеленках, и как они кланялись народу, и как народ стоял шпалерами вдоль Тверской и кричал «Уррра!».
Также катастрофа на Ходынке, которая случилась в тот же день[92] и которую мы с мамой наблюдали из окна нашей квартиры по дороге к Ваганьковскому кладбищу: мимо нас провозили раненых и убитых, толпа шла с кружками и «гостинцами» в руках — помятая, измученная впечатлениями этого ужасного дня. Воспоминание о Ходынке положило начало тому охлаждению к русскому трону, которое в дальнейшем перешло в революционное настроение, охватившее все наше поколение.
После погрома в Кишиневе в 1903 году и после многих других погромов, когда мы узнали, что погромщики были помилованы царем-батюшкой, а люди из самообороны арестованы — сосланы в Сибирь и бежали за границу, ненависть к нашим преследователям все росла.
После того как Государь даровал конституцию и Первую Государственную Думу, мы пережили короткое опьянение весной русской революции, а потом еще более тяжелое разочарование и протест. У нас, в Вильне, 15-го октября учащаяся молодежь и рабочие устроили митинг на Георгиевском проспекте, но вдруг нагрянула полиция и казаки, начали стрелять в толпу, и было пять жертв. Мы с товарищами ходили в похоронной процессии, пели похоронный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой за честь и свободу народа. Вы отдали все, что могли за него…»[93] и т. д. Были ораторы всех партий, были в каждой партии свои герои — все под псевдонимами, были смелые лозунги, речи, которые зажигали…
Мне было тогда всего тринадцать лет, и мой отец жил в вечном страхе, чтобы меня не арестовали, не ранили, не убили.
Была всеобщая забастовка поездов, электричества, почты, телеграфа. На улицах было темно, магазины закрыты. И так как многие из наших учителей и товарищей сидели в тюрьме, мы и тут, как в Ошмянах, носили пакеты с провизией и литературой — подкупали смотрителей, рисковали своей свободой.
Когда Вильне угрожал еврейский погром по примеру других городов, отец отослал мачеху с ее детьми и меня в Кошедары — на немецкую границу. Мы жили в маленьком отеле — «ахсанья»[94] — сильно скучали, а ночью с жутью прислушивались к каждому шуму на улице. Шаги и крик пьяного, шаги на лестнице — все отзывалось мурашками по телу.
Еще долго, если не всю жизнь, я видела во сне врывающиеся в дом банды, слышала, как они приближаются, как ломают двери. Впоследствии мне пришлось эти сны переживать и наяву.
В Москве были баррикады на улицах, были убитые, но революция вскоре была подавлена. Из Кошедар мы вернулись домой, так как погрома в Вильне не было, и отец, который держал для нас наготове заграничные паспорта, велел нам вернуться домой. Вскоре все успокоилось.
* * *
Я начала заниматься еврейским языком. В Вильне понятия «ам гаарец», «аналфабет»[95] были не в почете: еврейские мальчики готовились к бар-мицве, своему тринадцатилетию, даже если они воспитывались в очень ассимилированных семьях. Девочки учили иврит. Закон Божий в школе нас не удовлетворял: учитель Закона Божьего был единственным учителем-евреем в нашей школе. Мы все были атеистками. Библию и еврейскую историю он для нас не умел преподнести в интересной форме, так, чтобы вызвать в нас любовь к прошлому нашего народа. Поэтому не было удивительно, что мы во время урока под тем или другим предлогом исчезали из класса, прятались в саду, где читали или гуляли, сидели в беседке или болтали. В классе оставалось меньше половины учениц. Бедный еврей боялся жаловаться начальству, так как он бы прежде всего лишился своей должности учителя Закона Божьего.
Зато французским языком мы увлекались. Молодая швейцарка М-ll Blanche первое время очень страдала от нашего шумного класса, мы ничего не понимали, что она лепечет на своем быстром языке. Но понемногу мы привыкли и полюбили ее, в особенности, когда она начала устраивать французские вечеринки с декламацией, спектаклями, рефератами и танцами под конец.
В одном таком вечере у меня была ответственная роль — я пела куплеты, была одета субреткой: «Pauvre Suson, retourne à ton moutons»[96]. Сюзон узнала, что ее богатая тетка из Медона умерла, и она получает извещение от нотариуса, чтобы явиться — получить наследство. Сюзон начинает мечтать о несметном богатстве, как ее будут называть м-м Крез, она будет щедрой благотворительницей, как ей предстоит необычайное будущее. Но в Медоне, куда она является, она узнает, что ей, «милой девочке Сюзон», тетка оставила только сковородку — «poêl à frire». И бедняжка снова возвращается к своим баранам — «Pauvre Suson, retourne à ton moutons!».
В последнюю минуту, когда я уже была одета и даже немного загримирована под Сюзон, я спохватилась, что ноты остались дома. Я полетела с подругой на извозчике домой, и когда вернулась — оттого ли, что меня продуло, или я была нервна, но я начала сильно кашлять. Учительница меня решила освободить от пения, и мы заменили этот номер мелодекламацией под музыку, что, может быть, было не хуже.
Я вспомнила свой несчастный дебют в Москве, в «Снегурочке», когда я пролежала в постели со свинкой, и как все вечера, в которых я должна была участвовать, совпадали с пятницей или другими случаями, когда нельзя было ехать на извозчике, и решила, что мне не суждено быть артисткой: сама судьба всегда была против моей сценической славы.
Впрочем, здесь, не в пример Москве, гораздо больше занимались науками и меньше искусством. Это было время кружковщины, все мы были записаны в какие-нибудь легальные или нелегальные кружки. Еврейская история, политическая экономия по Богданову и Железнову, Маркс по Каутскому, Бебель[97], кружок, в котором интерпретировали Евангелие с точки зрения социализма, и многое другое.
Часто мы ходили на сходки, где была полемика между бундовцами и сионистами, между Поалей Цион[98], сеймовцами, территориалистами и русскими партиями социалистов-революционеров, социал-демократов и проч., и проч. На одном таком собрании в маленьком домике на окраине города нагрянула полиция, арестовала всех парней и «переписала» всех девиц. Случайно пристав, который оказался на месте, был приставом нашего участка, хорошо знал моего папу. Когда я назвала свою фамилию, он покачал головой и сказал: «Не хорошо, барышня, знаю вашего батюшку, почетный гражданин, а вы слишком молоды, чтобы заниматься такими делами!» Многие из товарищей тем временем успели выскочить в окно или черным ходом в сад и в поле и скрылись из глаз.
Один такой товарищ дал мне пакетик и попросил подержать до востребования. Я закопала револьвер под грушевым деревом, потому что боялась обыска, если не со стороны полиции, то со стороны отца, не спала всю ночь и была рада, когда на следующий день прислали за пакетиком. В 14 лет моя революционная деятельность почти на этом и закончилась.
В самый разгар революции давали в нашем городском театре «Ткачи» Гауптмана[99]. Перед этим полиция сожгла в Томске целый театр с молодежью. Спектакль у нас кончился поздно — были еще речи, выкрики, пение революционных песен и гимнов, качали героев революции, выпущенных из тюрем или еще туда не посаженных, вообще, настроение было сильно повышенным. Полиция у нас держалась сдержанно, но казаки на лошадях стояли наготове. Когда я вышла из театра, к моему ужасу я увидела расстроенного папу, он стоял все время на морозе, поджидая меня. Я хотела было возмутиться, что меня так компрометируют перед товарищами, ведь я не маленькая, но в конце концов я поняла, какая у него ответственность перед мамой. Я пожалела его испуганное и несчастное лицо и без всяких возражений дала увести себя домой.
Один из моих товарищей был «серьезный», даже большевик. Он посылал мне открытки с портретами Маркса, Лассаля, Розы Люксембург и Веры Фигнер. Он воспитывал меня для революции. Тогда открытки жанровые — «Вечеринка» Маковского или «Покинутая» Гарриса и «Какой простор» Репина — все эти тенденциозные картины были очень в моде. На вечеринках читали «Девятый вал», «Сакья Муни» Мережковского, «Белое покрывало» Муне Сюли[100] и другие.
Все наши девушки разделялись на «серьезных» и «пустеньких». На гимназических вечерах было не принято танцевать, хотя мы безумно завидовали «пустеньким», которые танцевали. Тем не менее молодость брала свое: пустенькие или серьезные, но мы все умели танцевать вальс, па-де-спань, па-де-патинер, па-де-катр, венгерку, краковяк, лезгинку, шакон, миньон, польку, мазурку, кадриль и русский казачок. Я, как москвичка, танцевала лучше других. Но и в Вильне был учитель танцев, который преподавал нам и нашим кавалерам эти сложные танцы. Иначе мы бы наступали на ноги друг другу. Меня как бывшую «балерину» часто просили танцевать соло, и я имела особенный успех. Зато моя подруга по классу Раля очень хорошо декламировала. Ее заставляли читать Апухтина, Надсона, которым увлекались все из-за его меланхолического романтизма, и Фруга. Стихи последнего — как национального поэта — были дань сионизму. Раля эффектно заканчивала: «И Бог, великий Бог, лежал в пыли!»[101] или «Так могла солгать лишь мать, полна боязни, чтобы сын не дрогнул перед казнью!»[102], или она печально начинала: «Нет, муза, не зови, не увлекай мечтами»[103]. Молодежь не скупилась на аплодисменты.
На одном таком вечере, когда мне было 15 лет, я познакомилась с русским гимназистом — он меня пригласил танцевать вальс. Я по обычаю «серьезных» пробовала отказаться: «Я не танцую», но так как он был из лучших танцоров, я не устояла и протанцевала с ним весь вечер. Потом он пошел меня провожать.
По дороге он мне рассказал, что его старший брат, студент, недавно покончил самоубийством и что он тоже не видит никакого смысла в этой жизни: русская революция провалилась, реакция восторжествовала, и нас всех, кто не хочет смириться и терпеть старый строй, ждет тюрьма и ссылка. Он вообще сомневается, имеет ли смысл бороться, и у него нет достаточно цинизма и эгоизма, чтобы уйти в «личную жизнь», стремиться к карьере инженера, который будет наживать капиталы на постройках железных дорог или домов для богачей.
Почти все мои подруги, которые были «посерьезнее», в это время политической депрессии ныли, стонали, жаловались на скуку жизни, на будни, на пустоту, на буржуазную среду, которая их «заедает». Все стремились, как чеховские сестры, «в Москву, в Москву, в Москву», причем у каждого была другая Москва, недосягаемый идеал, заграничный университет, великая любовь и самостоятельная «красивая жизнь», как в «Гедде Габлер» Ибсена. Я, конечно, тоже не была лишена этой мировой скорби.
Я читала «Кво вадис» Сенкевича[104], дневник Марии Башкирцевой[105], сама хотела быть жертвой львов на арене Рима (если не за христианство, то за какой-нибудь другой идеал) или быть умирающей от чахотки художницей в Италии, как Мария Башкирцева. Было интересно жить в артистической богеме и умереть «среди роз», как героиня Зудермана[106].
Кто умел, писал стихи и переписывал в альбом друзьям «на вечную память». При расставании давали всяческие обеты и уверения в том, что будем «нести светоч», что не сойдем с «дороги тернистой» и все в том же духе. Лето 1907 года я провела у дедушки, под Москвой. Мне дали комнату — балкон с большим окном, которое почему-то называлось венецианским. Я начала давать уроки за плату (первый шаг к самостоятельности) и на заработанные деньги купила себе отрез на платье, которое тут же наша домашняя портниха Аннушка мне сшила.
В толстых журналах тогда печатались романы и рассказы Боборыкина, Найденова, Потапенко, Арцыбашева и Амфитеатрова[107] — это была скорее публицистическая беллетристика, чем художественная, но она давала нам темы для споров и размышлений. Идеализм и реализм, родственность душ, непонятые натуры, торгашество и буржуазность, «чистота и грязь» (в вопросах пола), филантропия, которую начали презирать, политика, до которой мы не доросли, — все это создавало в душах детей такой сумбур и неразбериху, что мы не находили себе места. И не было той чуткой души, которая бы могла объяснить и помочь разобраться во всех этих проблемах. Мы знали, что у родителей нельзя искать «чуткости» (словечко, которое не сходило с уст, — жены не находили чуткости у мужей, а мужья у жен, — так нам, по крайней мере, казалось, и мы жалели наших старших сестер и тетушек, потому что их мужья не были «чуткими»).
Люди старше нас выдержали этот революционный кризис, были сосланы в Сибирь, оттуда бежали за границу, уходили в подполье и продолжали свою тяжелую и опасную работу, которая в 1917 году привела к новой и окончательной русской революции.
В русской среде еще появилось течение «огарков», сторонников «санинства» (по имени героя романа Арцибашева) и циничной и свободной любви: но мы, еврейские девочки, этого не принимали и не признавали, мы только понаслышке знали, что такое существует. Религия была как-то дискредитирована, все были атеисты, никто не сознался бы, что ходить в синагогу и слушать пение хора и хорошего кантора доставляет удовольствие и успокаивает душу.
В Вильне в хоральной синагоге мне приходилось слушать курс лекций по еврейской истории, который читал д-р Шмария Левин[108], наш казенный раввин, член Первой Государственной думы, а впоследствии — известный сионист. Эти лекции наводили на мысль о еврейских национальных идеалах, о собственном государстве в прошлом и будущем.
Я много задумывалась о Боге, Разуме и Абсолюте, о Морали с большой буквы, но ни за что не созналась бы в этом никому. В минуту горя искала опоры вовне, в каком-то Боге, которому молилась. Мораль считала абсолютной правдивостью и честностью — мораль эта была юношески жестокая, аскетизм в одежде, отрицание радостей, как веселье, танцы, легкая любовь. Так я себе испортила несколько лучших лет своей молодости. Правда, мы кокетничали другими качествами: простотой, серьезностью, меланхолией, и как всякое кокетство — это имело успех. Мы нравились своей «непонятностью и одиночеством». В 15 лет я себя чувствовала не только взрослой, но и старой. Гимназию я презирала, перестала влюбляться в учителей и гимназистов, ненавидела нашу начальницу, всех буржуев и мещан и аристократов, а как теперь вспоминаю — гимназия была прекрасная. Когда я потом сравнивала ее и школы, где учились мои дети, я жалела моих ребят.
В то лето в Москве я пристрастилась к картинным галереям и выставкам. Картина Ге «Что есть истина?», где окровавленного Христа ведут на Голгофу[109], произвела на меня сильное впечатление. — Что есть истина?
После музыки картины были вторым моим сильным увлечением. Я выезжала одна или в сопровождении одной из тетушек в Москву, мы гуляли по Воробьевым горам, на берегу Москвы-реки, посещали дворцы, дворец Михаила Федоровича Романова, Третьяковскую галерею, Галерею Щукина и др. Картины Репина — «Иван Грозный», Бастьена Лепажа (в деревне)[110], друга Марии Башкирцевой, и многое другое, чего я до того не видела, хотя долго жила в Москве, и что я показывала моим тетушкам в первый раз, — давало новое содержание нашей жизни.
* * *
Под конец лета, когда нужно было вернуться домой в Вильну, я приняла решение, которое было настоящим сальто-мортале в то время: я решила выступить из гимназии с ее рутиной, уроками и мелкобуржуазным укладом жизни, как это называлось, и начать «экстерничать» — сдавать экзамены при мужской гимназии за восемь классов, чтобы поступить без задержек и промедления в университет.
Мои родители были очень против этого решения, мама видела, что я схожу с «прямой дороги» и никогда не кончу среднего учебного заведения. Отец считал, что это будет стоить в три раза дороже, чем самая дорогая гимназия. Но я настояла на своем и седьмой класс провела дома.
В то время было очень строгое и антисемитическое отношение в гимназиях и к экстернам. Это было время министров Шварца и Кассо[111]. Процентная норма была не только введена в гимназии, но и в экзамены вне гимназии: в каждом еврее видели бунтаря, подозрительного революционера, готового на террор, и способных евреев не хотели допускать ни в какие свободные профессии. Только взрослые, не прошедшие почему-либо регулярной школы юноши или кандидаты заграничных университетов решались экстерничать. Особенно способные еврейские мальчики из провинции, которые убежали из набожных домов, чтобы на медные гроши закончить свое образование в большом городе, — все эти элементы решались пойти к экзаменам на аттестат зрелости. Девушек почти не было, и я была одна из очень немногих. Экзамены действительно были «испытанием», но я прилежно взялась за математику, физику, тригонометрию, космографию, словесность и латынь по программе мужской гимназии.
Я взяла себе двух учителей, одного по реальным, другого по гуманитарным предметам. Кроме того, я продолжала свои занятия музыкой и языками. Кроме расходов, которые я наложила на отца, его еще огорчал мой плохой вид, худоба, бледность, покашливание, он всячески старался помочь мне поправиться, давал деньги на фрукты и сладости, чем я злоупотребляла. Отсутствие школы дало мне много свободного времени, и я начала запоем читать.
Я перестала гулять утром и после обеда и только иногда вечером выходила с подругами в театр или на концерт. Я стала надевать более длинное платье, и в 15 лет мне можно было бы дать все 18. Я завела знакомства среди студентов и курсисток или тех же экстернов. Некоторым было по 35 лет, но у нас были общие интересы; от своих подруг я все больше отходила: гимназистки, девчонки — вот чем были они в моих глазах.
Я читала Роверта Овена, Ницше, «Историю земли» Неймара, Бокля, Смайльса, Спенсера,[112] не говоря уж о русских классиках и критиках, таких как Добролюбов, Чернышевский, Белинский и Писарев. Я выписывала русские журналы и с нетерпением дожидалась каждого нового номера. Мама окончательно потеряла контроль над моим чтением. Раньше, бывало, я с ней делилась прочитанным, теперь это вышло за пределы наших общих интересов. С учителями я читала Гете и Шиллера, Лессинга, а в моей комнате была большая библиотека сыновей мачехи, и там были все французские классики, Золя и Мопассан в том числе.
* * *
В 16 лет из всех партийных товарищей я ближе всех подошла к сионистам. Создать Еврейское Государство, быть народом, как все, не терпеть больше унижения голуса, черты оседлости, процентной нормы, иметь свой язык, культуру, перестать быть жидами, быть гордой еврейской нацией — все это было слишком красиво, если бы было возможно. Две тысячи лет отделяли нас от этого сна наяву, и мои сомнения были так же сильны, как стремление к этому идеалу.
Стали ли мы сильнее в рассеянии? Не остались ли бы мы маленьким азиатским народцем, если бы остались на своей земле? Или наоборот, нормальная жизнь превратила бы нас за эти две тысячи лет в сильную нацию, империю? Кто знает? Здесь мы только изгои, инородцы, подобные цыганам.
Но, так или иначе, я гордилась своими еврейскими страданиями, я презирала выкрестов, которые крестились из «убеждения, — как мы говорили, — что лучше быть профессором в Петербурге, чем меламедом в Орше».
И не утопия ли все это государство, созданное искусственно на земле, захваченной врагами, которые нам не разрешали даже покупать землю и строить дом на ней, где прошли крестовые походы, турецкое завоевание и все законы были направлены против нас?
И каково будет отношение нашего народа к религии? Обязательна ли еврейская церковь или будет толерантность и право верить или не верить? И можно ли, не пройдя хедер или иешиве, быть хорошей еврейкой, не зная Талмуда, еврейского языка и литературы?
Не стоит ли лучше бросить аттестат зрелости и заняться еврейскими предметами, своего рода «Гаскала наизнанку», от чужого к своему?
Интернациональные взгляды моих товарищей-социалистов сильно сидели во мне, и я боялась принять сионизм на веру. Я еще мечтала сдать экзамены, поехать учиться за границу, и я была очень ассимилирована — все еврейское было мне чуждо. Один сионист меня с презрением причислил к «поколению пустыни», и я иногда чувствовала, как в пустыне: без живого источника, который утолил бы жажду знания, искание правды и верного пути. Я ждала манны небесной и оазиса — а пока готовилась на аттестат зрелости.
* * *
В сентябре я была в последний раз в имении возле Ошмян. Это был наш «Вишневый сад». Обе младшие сестры моей мачехи — Фрума и Этель — обручились и должны были продать имение, которое было их единственным приданым. Я возмущалась тем, что никто из их многочисленной семьи не нашел в себе сантиментов и даже расчета, чтобы купить усадьбу с садом как дачу для себя и других. Даже в складчину они могли бы это сделать, и это было бы дешевле и выгоднее, чем ездить на дачи и на курорты, и старуха муме Дворче могла бы остаться в своем доме до конца жизни. Но богатые находили, что имение «нерентабельно», а у бедных не было денег, они могли только возмущаться и сожалеть. Обе молодые пары должны были переехать в город, и женихам нужны были немедленно деньги на устройство.
Только когда потом в Художественном театре я видела чеховский «Вишневый сад», я кое-как оправдала наших «торгашеских» родственников, с той разницей, что мы, уезжая, не заперли в пустом доме с равнодушным безразличием верного слугу Фирса. Русские помещики срослись со своими родовыми имениями больше, чем наши арендаторы и фермеры в черте оседлости, но я и все Беллы, и сами невесты были совершенно убиты расставанием с имением. Только свадьба со всей ее шумихой кое-как нас утешила.
Мы приехали на тройке всей компанией. Мне поручили декорировать стол и одевать невесту. Я себя чувствовала очень важным членом этого празднества. Гости были местные и приезжие, молодые шаферицы и старые девы наподобие Конкуркиных из «Проселочных дорог» Григоровича[113].
Были набожные евреи с пейсами и были столичные франты. За столом я сидела с мужем Изабеллы, он превратился тем временем в очень известного художника, выставлял свои картины в Париже, и наша Элен Безухова выглядела очень импозантно, только немного раздобрела, располнела. Как это ни странно, он занимал меня разговорами о Библии.
— Вы читали Библию?
Я созналась, что только в сокращенном издании.
— Ну, так я вам пришлю Синодальное издание. Я теперь иллюстрирую Песнь Песней и другие части Библии и нахожу в ней много художественной красоты.
И действительно, я потом от него получила в подарок русский перевод Библии, которая осталась моей самой любимой книгой на всю жизнь.
Я теперь, ретроспективно, вспоминаю, как не похожи разговоры людей первого десятилетия 20-го века на те формы, в которых мы живем теперь, почти 50 лет спустя.
Эта свадьба была первой настоящей еврейской свадьбой, на которой я была. Это не было похоже на наши шикарные московские свадьбы: клезмеры — бас, флейта, скрипка — играли все свадебные еврейские мотивы, песенки, танцы. Муме Дворче танцевала шереле и брогез — танец с платочком — с каким-то дядюшкой, и все ей аплодировали и подпевали. Танцевали дрейдл (нечто между кадрилью и хорой), маюфес танц, бейгел, кадриль — все эти танцы втягивали всех, кто хотел и кто уклонялся. Танцевали до венца (хупе) и после венца.
Невесты постились весь день и после хупе разговлялись с женихом у себя в отдельной комнате жирным бульоном — а голденер иойхел. Был бадхан (затейник), который очень трогательно напомнил, что у женихов нет родителей, а у невест — отца (женихи были кузены). Конец речи он произнес в более веселом тоне, критиковал теперешние порядки, советовал молодым держаться старины, набожности, кошерности, иметь много детей и проч. Не обошлось и без обычных недоразумений: кто-то из «хосенс цад» (со стороны жениха) дулся, не туда посадили, не отдали почета — коведа. Но в общем было весело.
Я потом слышала от мамы, что ни одна еврейская свадьба не прошла без таких обид: или какая-нибудь тетка отказалась ехать на свадьбу, потому что была недовольна шидухом (подбором брачующихся), или ее недостаточно вежливо пригласили, или муж какой-то барыни не подарил ей нитку жемчуга, как обещал, или она была в прохладных отношениях с мехутенесте — родительницей невесты или жениха. Но в конце концов все налаживалось и обходилось.
Свадьба в имении продолжалась три дня и три ночи. Два венчания и бал — прощальный. Мы с Беллой-лесгафтичкой остались еще на несколько дней, чтобы отдохнуть от всей этой суеты и как следует попрощаться с имением. Мы также помогали тете Дворче паковаться, молодые уехали, и мы были ей большой подмогой.
Мы с Беллой обежали весь сад и леса и поля, сидели на берегу под плакучими ивами, и наше настроение тоже было плакучее: «Mes cheres amis, quand je mourrai — plantez une saule au cimetière» — мы по-французски декламировали из Альфреда де Мюссе[114].
Мы сделали несколько последних визитов, нас угощали чаем из самовара, над которым висело вышитое крестиком полотенце, восковой амурчик под висячей керосиновой лампой и сухарики и варенье на столе. С нашим отъездом жизнь в маленьком городке делалась тусклее, будничнее — наше имение вносило много свежести, музыки, культуры и даже «знаменитых» посетителей. Все это кончилось.
Я, несмотря на весь свой нигилизм, не могла удержаться от слез, когда прощалась с теми местами, где мы пели, бывало, на камне, танцевали при луне, пили чай под большим деревом или где меня хотел поцеловать один из революционеров с велосипедом и раздувающейся на ветру рубашкой. Сарай, в котором мы ставили «Женитьбу» Гоголя, и я играла роль дочки Городничего, стоял заколоченным. На земле шуршали желтые осенние листья. И везде звучала музыка Фани: Шопен, Шуман, Бетховен, Шуберт… Осенний сад, сырые дорожки, листья клена, липы, каштанов, берез… Речка, пруд с лягушками, скамеечки с вырезанными вензелями — и те же вензеля на коре старых деревьев — все это ушло и не вернется никогда. Никогда! Мы живем в мире безвозвратности.
Когда-то на старости лет можно было посетить места, где вы выросли, родились или провели годы своей молодости, теперь есть страны и города, куда заказаны все пути. А у нас, евреев, к этому прибавилось другое: все, что связано с прекрасной балтийской Швейцарией — Вильна, Ошмяны и вся Польша, — окрашено в красный цвет крови, пурпурной еврейской крови, пролитой в лесах живописного Понара[115].
Но вот и мы с Беллой-лесгафтичкой сели наконец в колымагу, и колокольчики зазвенели от Ошмян до Сол. Нам не хотелось говорить. Это был период ее жизни, когда она была в большой нерешительности: выйти ли замуж, продолжать ли учение? За кого выйти замуж? Она любила, и ее любили, но я была слишком молода, она — сдержанна и неоткровенна. Мы молчали, и каждый думал свою думу.
* * *
Когда я вернулась домой, я узнала, что моя хорошая подруга по классу, полька, с которой я сидела на одной скамейке, и мы однажды были посланы вместе к губернаторше Пален[116] с букетом, в парадной форме и белых передниках, обе молодые, красивые и гордые — я от евреев, она от поляков (русских учениц у нас было мало), — умерла скоропостижно от чахотки. Нам, еврейкам, даже нельзя было пойти на кладбище ее хоронить.
На меня эта смерть произвела потрясающее впечатление. Я еще слышала в ушах ее смех, ее щечки были розовые, и сама она была как цветок. Смерть троих наших товарищей, которых мы хоронили похоронным маршем с венками, с надгробными речами — со всей революционной пышностью, — была как-то оправдана в моих глазах. Но какая справедливость и какой смысл в такой безвременной и дикой кончине?..
Я снова вернулась к книжкам, учебникам и чтению.
Я читала Толстого. Мережковский его развенчал, говорил о расхождении теории с практикой толстовской жизни[117]. Трудно было совместить веру в Толстого, в его «Не могу молчать», в его непротивление злу и опрощение с нашими понятиями о борьбе, о революции и протесте против царизма.
Я писала для моих учителей сочинения на 40-50-ти страницах на темы, которые не имели ничего общего со школьной программой. «Даром ничего не дается, судьба жертв искупительных просит». Или о религии, о прекрасном: «Rien n’est vrai que l’est beau et vice versa», то есть «истинно только прекрасное» или «прекрасно только истинное». Я изучала философскую пропедевтику, как это называлось у нас, — психологию и логику, социологию.
Мой молодой учитель, который считал себя очень ученым, запутывал мой мозг еще более неразрешимыми проблемами: материализм и спиритуализм, платоническая и «страстная» любовь, горьковский «Буревестник» и «Смерть Богов» Мережковского. В моей душе была буря и неразбериха.
В нашей экстернической среде настроение было очень похоже на мое. Все почему-то ныли и были в чем-то разочарованы, и к этому у моих товарищей по экзаменам еще прибавлялись материальные заботы, которых у меня, к счастью, не было. Они большею частью готовились самоучкой, помогали друг другу, бывшие студенты давали уроки тем, кто не имел средств для частных учителей. Занимались группами, брали учителей из гимназий, которые подготавливали их по программе, а мы снабжали их книгами.
Эта юношеская меланхолия еще переплеталась с еврейскими страданиями. Я переписывалась с товарищами, которые жили в Петербурге, и там было нытье такое же, как у нас, в Вильне. Может быть, это была мода, как когда-то был в моде байронический сплин и лермонтовская меланхолия, или то, что еще Петрарка называл ацедией[118]. Стихи, которые читали на вечерах, кроме вышеупомянутых, все были «с надрывом»: «Шильонский узник», «На городском мосту», «Змея подколодная» и др. В «Змее подколодной» конец был такой:
Эх-ма, товарищи, горе сердечное, Горе великое и бесконечное, Пенным вином не зальешь[119]!Какое отношение я, девочка, еще не достигшая 16 лет, имела к пенному вину, которого я никогда не пробовала, и к горю сердечному, которого я не испытала, — я не знаю, но такие стихи мне нравились.
Я себя считала «пропавшим талантом» в области танцев, а моя подруга Раля себя считала такой же «прогоревшей артисткой»: однажды мы с ней решились пойти в гостиницу, где всегда останавливалась артистка Комиссаржевская[120], которая тогда у нас гастролировала. Раля приготовила несколько номеров с декламацией: «Дедушкины сказки» Фруга, «Дочь Иофая» и «Дочь Шамеса»[121], и еще несколько стихотворений с «трагической нотой», но каково же было ее разочарование, когда великая артистка ее даже не приняла, и мы ушли ни с чем.
Эти неудачи нас очень сближали, и мы терзали друг друга нашей мировой скорбью, разбитой жизнью. Я писала стихи в очень минорных тонах, она же с горя завела роман с гимназистом, которого считала погибшим и которого решила спасти «от самого себя».
* * *
Теперь, когда девять десятых моих современников погибли в двух войнах и между ними, когда все то поколение, которое было «взрослым», когда я еще была юной и молодой, если и живы, то так постарели, что смерть, кажется, была бы для них избавительницей, мне трудно вернуться к тому времени, когда преждевременная смерть или беспомощная старость производили впечатление несправедливого порядка мироздания.
Однажды мачеха взяла меня в богадельню; она обычно на праздники оделяла бедных стариков сахаром и другими продуктами. Я должна была ей при этом помогать.
В первой же палате меня охватил неприятный терпкий запах бобковой мази[122] и нечистых тел и постелей. Некоторые старики бродили по двору, другие лежали или сидели на кроватях. Все носили форменные халаты и ермолки. Когда мы оделяли их сахаром, они отвечали: «Чтобы вы делились с радостью и после празднества (симха)». Большинство было апатично, равнодушно.
В женском отделении проявляли больше оживления и любопытства. Между женщинами происходили стычки из-за лишнего куска сахара. Они спрашивали друг друга: «Ты не знаешь, кто они?» — «Какая разница! Бо́льшая мицва[123], чем отдать актерам!» (т. е. потратить на театр).
В подвальном отделении находились самые безнадежные, умирающие. Хроники, инвалиды. Они были в полудремотном состоянии. Здесь смрад был нестерпимый. Они нас почти не видели и не обращали внимания на приношение, тетя отдала оставшиеся продукты заведующему, чтобы он разделил по своему усмотрению. Паралитики, склеротики мозга, полусумасшедшие вежетировали[124] к своему затянувшемуся концу.
Иногда женщины и тут жадно выхватывали и запихивали в рот несколько кусков сахара.
Печальные еврейские глаза выглядывали из-под шапок, из-под одеял и платков. Из московской Ермаковской богадельни[125], где мы гуляли с няней, я вынесла воспоминание о чистеньких, веселых старичках и старушках, которые вязали чулок за калиткой или возились в саду, поливая цветы, пересаживая растения. Они грелись на солнышке. Может быть, это были те немногие, кто еще был на ногах и не достиг настоящей старости, или же русские люди были физически крепче, нормальнее, и такова же была их старость. Но эти сказочные старички были не похожи на наших.
Мачеха меня сильно приблизила к моему народу, я видела евреев, начиная с мальчиков в «чертовой коже» и невест, которых она снабжала приданым, — и до богадельни, во всех формах нищеты. В Москве я бы всего этого не узнала.
Мое детство было полно контрастов: переходы от нужды к богатству и обратно, как я это видела в доме моей матери; лихачи и шлепанье по грязи в школу, поездки за границу и в курорты, а потом лежание на верхней полке третьего класса два раза в году, баловство отца и обкармливание сладостями и задабривание меня отцом и дедушкой, а с другой стороны — абсолютно небрежное воспитание и отношение к моему здоровью. Я иногда кашляла месяцами, страдала головными болями, и это мало кого заботило, разве что мой отец вздыхал и говорил, что «мои книжки — его больное место». Преждевременная взрослость, даже пальто и платья у меня всегда были или слишком длинные, или такие, из которых я уже выросла. Еще полуграмотная, я читала наравне со сказками романы и рассказы Юшкевича[126], Щепкиной-Куперник и Вербицкой.
Я рано начала плохо спать и целыми ночами прислушивалась к бою часов на башнях церквей и костелов. Я знала все колокольни и отсчитывала на них удары. На Рождество я обычно ездила к маме в Питер. У нас с ней начались разногласия по всем вопросам. Религия, равноправие женщин, политическая свобода, социальное равенство, все, чем я была начинена за последние годы, вызывало возражения со стороны моей мамы. Мама накладывала вето на мои знакомства, выходы, книги, считалась с тем, что прилично и что неприлично, и редко кто из моих приятелей ей нравился.
В этом отношении у отца мне было привольнее: мне давали жить, как я хочу, не вмешивались ни в мои дела, ни в мое времяпрепровождение. Если к нам приезжали гастролеры, я, бывало, ходила на спектакли несколько вечеров подряд. Отец спросит: «Ты ведь вчера была, и сегодня — тоже?» Я отвечала довольно дерзко: «И завтра тоже». На этом и кончалось.
В Питере я была на гастроли Дузе[127], ходила в театр Комиссаржевской и Яворской[128], но всегда в сопровождении старших. Таким образом я пришла к заключению, что по окончании экзаменов я ни за что не приеду в Петербург в университет, а поеду за границу. И хотя я мать любила больше, чем отца, мы с ним были на более дружеской ноге, спорили о политике: я его считала безнадежным буржуем, он меня — «недозрелой социалисткой». «Мелко плаваешь», — говорил он (и был прав, конечно), но все это было в добродушном тоне. И часто, когда тетя бывала на даче, а я еще занята в школе, отец брал меня в хорошие рестораны, угощал обедами и ужинами, и мы с ним «кутили». Это было наше лучшее время, которое для него, может быть, было важнее, чем для меня.
Русская молодежь сильно отличалась от нас. Если я бродила по Невскому проспекту, по Литейному или Морской, я натыкалась на группы гимназистов и студентов, которые с шапками набекрень шли под ручку, занимая весь широкий тротуар, чему-то весело улыбались, хохотали, толкались или скользили по льду или тающему снегу. Вообще, вели себя, как малые дети. Я охотнее шла на Английскую или Адмиралтейскую набережную, в музей Александра Третьего, в Эрмитаж или водила сестренку гулять в парки и сады (в Академию на Песках), искала уединения, красоты — на берегу Невы. Петербургские мосты и улицы были куда богаче и лучше построены, чем наша матушка Москва, которую все еще называли «большой деревней».
Когда я вернулась после каникул домой, я серьезно взялась за занятия. Мы с учителем даже читали Локка[129], Платона, я зубрила латынь и писала экстемпоралии. Я решила пойти на историко-филологический факультет. Впрочем, я любила математику, могла часами сидеть над геометрической задачей; моя учительница музыки меня уговаривала пойти в консерваторию, а подруги непременно хотели сделать из меня балерину.
Больше всего я мечтала о путешествиях: мои регулярные поездки приучили меня к вагону, равномерному стуку колес, и еще я хотела побывать на море, в горах, на Волге. «Челкаш» Горького, его рассказы о бурлаках, цыганах и контрабандистах и разные путешествия, о которых я читала ребенком, приучили меня к мысли, что моя жизнь пройдет на колесах.
Раз мне приснился сон, что я вижу прекрасный мраморный храм. Вдруг его части падают, остается остов — в виде греческой колоннады, — и я себе говорю во сне: это язычество, религия, очищенная от всего лишнего. После этого я решила поехать в Афины и Рим.
В начале зимы, после того как я оставила школу, я еще иногда давала увлечь себя подругам на каток, или мы брали санки и уезжали в город. Но с приближением весны все были заняты экзаменами, я все реже и реже видела своих подруг, у нас не было общих тем для разговоров, и только когда пришло время расставания, мы иногда выходили на полотно железной дороги до первой и второй сторожевой будки и разговаривали о будущем. Весна только начиналась. В середине марта снег стаял на полях, но еще лежал в лесах и на горах. В долинах текли ручейки, и в них плыли куски хрупкого снега. Виднелась прошлогодняя серо-бурая зелень. Лес вдали был полуснежный, полузеленый и полувесенний. И такими же были мы — еще не расцветшие, не пробудившиеся девушки.
Когда все подруги разъехались после экзаменов и я тоже должна была пойти экзаменоваться, выяснилось, что за молодостью лет мне отложили экзамены на год и я должна была еще год сидеть дома, зубрить и ждать, чтобы мне исполнилось 17. Я была вне себя: мне все опостылело, и в городе, и без подруг, которые все вдруг кончили гимназию и радостные и веселые, освободившиеся, разъехались кто куда.
Я читала стихи модерных в то время поэтов Брюсова и Бальмонта и декламировала себе в подушку:
Отчего мне так грустно, отчего мне так скучно, я совсем остываю в мечте… Я устал приближаться от вопроса к вопросу, я жалею, что жил на земле[130].У меня не было друзей, и я думала, как писатель Сергей Ценский[131], что «где двое, там и ложь». Я не хотела себе сознаться, что сделала роковую ошибку, выйдя из гимназии, я бы могла быть уже кончившей и поехать за границу. Вместо этого я должна сидеть еще год над гимназическим курсом (восьмой класс), которого у нас в школе не было. Я решила поехать на короткий срок в Питер, к маме, и вернуться раньше с дачи, чтобы готовиться к экзаменам и быть уверенной в успехе.
* * *
По дороге из Вильно в Петербург я встретила русскую молодую женщину, которая на меня произвела сильное впечатление: я знала жизнь только по книгам, наша еврейская среда и особенно еврейская молодежь, среди которой я вращалась, немногим отличалась от меня по своим настроениям, взглядам, стремлениям. И вдруг я столкнулась с человеком из другого мира, я была еще слишком молода, чтобы понять и не быть подавленной такой встречей.
На вокзале перед окном нашего второго класса стоял молодой господин. Он был, видимо, чем-то взволнован и не спускал глаз с молодой блондинки, очень красивой, в элегантной шляпе с вуалью и в очень нарядном манто. В руках у нее был большой букет. Она стояла в коридоре против нашего купе, что-то ему говорила и улыбалась сквозь слезы, махала платочком, обещала писать и телеграфировать. Когда раздался третий звонок, она еще провожала его глазами, а он бежал вдоль вагона, натыкаясь на людей, на столбы и чемоданы, расставленные на перроне.
Букет был из белых тубероз, а розы и белые гвоздики держались на тонких проволочках, и внизу цветы были обернуты в белую бутоньерку из кружевной бумаги с белыми лентами. Такие букеты обычно давали невестам к венцу.
Когда молодая женщина с глазами полными слез вошла в наше купе, она еще несколько минут сидела в шляпе и пальто и с цветами в руках без слов и движения. Потом, как будто проснувшись, она посмотрела на меня, вытерла слезы, положила цветы, разделась и начала устраиваться, как это было возможно только в русских спальных вагонах, где в дамском отделении было место для двоих.
Она была очень просто одета под шикарным манто — в синей юбке и белой английской кофточке. Ее гладкие льняно-белые волосы были разделены на прямой пробор и собраны в узел на затылке. Она была очень молода и похожа на гимназистку или курсистку, как и я сама. Она мне улыбнулась и без лишних церемоний заговорила. Я предложила ей потребовать вазу для цветов у проводника, она охотно согласилась, и я пошла его отыскивать. Когда я вернулась с вазой и водой, моя спутница выглядела свежей, припудренной и сидела перед своим красивым несессером со всякого рода туалетными принадлежностями. Духи, одеколон и проч. наполнили наше купе разными ароматами, к которым я не привыкла.
Мы разговорились. В нашем городе, как это ни странно, у нас нашлась масса общих знакомых. Она сказала, что всего года полтора в Вильне, и тем не менее всех людей, которых я знала по фамилии или в лучшем случае по имени-отчеству, она называла очень фамильярно: Мишенька, Сашенька, Митька, Абраша, Яша и т. д. Потом мы заговорили о театре, об артистах той труппы, которая в этот сезон гастролировала у нас, и с ними она тоже, по-видимому, была на короткой ноге. Верно артистка, — подумала я. Мы заговорили о музыке.
— А знаете, я певица.
— Я так и думала, у вас голос музыкальный. Вы выступаете в концертах?
— В концертах? Как бы не так! Я певичка в кафешантане.
Я осталась без слов. Она не обратила никакого внимания на мое изумление.
— И знаете, мое амплуа — жгучая брюнетка. У меня такой парик, как у Кармен. У меня меццо-сопрано, и то сказать — трудно сохранить голос от вина.
Я снова не знала, что ответить, но мне и не нужно было подавать реплик. Не прошло и получаса, как она мне откровенно рассказала свою биографию. Они с матерью жили в маленьком городке. У них был военный постой. Один из офицеров в нее так безумно влюбился, что сделал предложение, и они повенчались. Было это нелегко, она должна была доказать, что она из благородного звания, что у ее матери есть капитал и пенсия (отец ее был чиновником). Наконец, офицер получил разрешение от полкового командира на женитьбу.
Вначале все было хорошо, у них часто бывали вечерники в полку, она всегда пела романсы и танцевала, имела большой успех у его товарищей. Потом он начал устраивать ей сцены ревности, но это не было серьезно. Когда его перевели на Кавказ, он заупрямился, не захотел взять ее с собой: «Не хочу, чтобы ты сделалась полковой дамой — и только!»
— В маленьком уездном городишке скучища отчаянная. Я посидела месяц-два, да и говорю маме: ты как хочешь, а я еду в Вильну, там музыкальная школа, может быть там я артисткой сделаюсь. Мама тоже заупрямилась: не пущу, да не пущу. Только я не послушалась; жалованье мое она получает, почту мне она пересылает, а мои письма — ему на Кавказ. Так это уже тянется почти полтора года. Раз я к нему на побывку ездила, было чудесно. Вы знаете Кавказ? Какие горы, Терек, и гора «Пронеси Господи», даже страшно делается, ну и поездки в горы. Я бы ни за что не уехала оттуда, да женщинам было там неудобно, это верно. А в Вильне я завела знакомства, и один господин мне предложил: хотите, я вас устрою в трио в кафешантане. Жалование хорошее, и так есть доход. Я вас расфранчу, говорит, в пух и прах. Ну, я и согласилась.
— А почему вы не поступили в музыкальную школу?
— Где там! Вставать утром в восемь часов, работать тяжело, да и все равно в оперу бы меня не пустили, а так хоть жизнь легкая.
Больше я ее не прерывала.
— Вы бы меня видели! Я танцую и пою. Поклонников у меня весь город. У нас много евреев бывает. Зимой на санках катаемся за город. А то в Варшаву ездим за туалетами. А когда в отпуску, такой кутеж бывает, не дай Бог. Ну и пить, конечно, с ними нужно, за это отдельно проценты полагаются. — Она немного помолчала. — Видели вы этого господина, который меня провожал? Вы его знаете?
— Нет, лицо знакомое, но не знаю, — ответила я.
— Он — один из самых богатых фабрикантов. Какие он мне материи на платья посылает, и бриллианты, и подарки, это даже себе представить невозможно. Я одета лучше всех, меня хотели даже солисткой сделать. Но тут вышла неприятность, я вам потом расскажу.
Так знаете, у него жена и дети. Жена молодая, красивая, красивее меня. Высокая такая шикарная дама. А он в меня влюбился, ну как мальчишка. Я ему и так, и сяк. Ты, мол, меня оставь, я все равно тебе не пара: у тебя жена и дети, и ты еврей, а у нас развод невозможен, да мой муж скорее меня убьет, чем даст развод. А он — ни с места. Что ни вечер, он у нас, свою ложу имеет. И потом в отдельный кабинет ужинать, и не даст мне одной или с кем-нибудь вернуться. Ну что вы скажете?
У нас раз даже до скандала дошло. Что я натерпелась от него!
Он немножко выпил лишнего, праздновал три месяца нашей связи. Привез мне сережки и жемчуга нитку, видите — эту? А у меня в тот день настроение что ли было какое-то озорное, или уж не знаю, мне что-то не до него было. Я перед тем получила письмо от мужа, чтобы непременно написать, как я время провожу, да с кем встречаюсь, да не хочу ли я к нему приехать на побывку. Я испугалась, может быть, ему что-нибудь известно стало обо мне.
Не знаю, что в тот вечер на меня нашло, только я ему вместо благодарности за подарки — отвяжись да отвяжись. Так что вы думаете? Он схватил нож со стола, да на меня, да и полоснул в грудь, чуть-чуть не убил. Правда, только немного кожу и мясо задел. Но что тут было! Он привез доктора-хирурга зашивать рану, и захлопотался, и две недели не ходил в дело, все за мной ухаживал, и в кафе неустойку заплатил, и лакею сунул, чтоб не болтал, и цветы каждый день посылал из магазина, и ночевал у меня; я думаю, его жена, небось, извелась от его такого поведения.
Она расстегнула кофточку, и я увидела довольно большой шрам в области талии, ближе к ребрам. Одновременно я заметила в двух или трех местах ранки на груди, как будто зажившие следы от ожогов. Я опустила глаза и не спросила ее, жаль было видеть это прекрасное тело так изуродованное.
— Вы видели эти ранки? Вы не думайте, это не от болезни, я здорова. — (Я не знала, о какой болезни она говорит.) — Вот какая наша профессия. Когда мужчины разбушуются, они как звери, ей-богу. Напьются, начнут зеркала бить. Сколько раз я потом осколки из парика вынимала, еще чудо, как в глаза не попали. А то начнут выкомаривать спьяна: «Дай прикурить, сто рублей получишь». И деньги на стол. «Да ну вас с вашими прикуриваниями». — «Дай, да дай, а не то — убью». Откроют декольте и давай горящей папиросой в тело тыкать, а потом целуют. Плачут, извиняются, суют в руки сто и больше, сколько хочешь.
— Может быть, вы бы ушли из кафешантана, вернулись бы к мужу или поехали бы в Москву, в консерваторию, на настоящую сцену. Или иначе как-нибудь устроились? — сказала я.
— Нет, деточка, это невозможно. У меня контракт еще на год. Недавно подписала. А вот теперь какая оказия — вчера получила я телеграмму от мамы: Дмитрий вернулся, приезжай немедленно. Сказала, что ты к зубному врачу поехала.
Я возьми да и покажи эту телеграмму моему Митеньке. Его тоже Митей зовут. Он в слезы. Бросай мужа, я разведусь с женой, увезу тебя в Питер или в Москву, или куда хочешь. Все неустойки заплачу. — Я еле его уломала, что, мол, я вернусь, чтобы не очень уж расстраивался. И опять же контракт.
А теперь я и не знаю, что мужу сказать. Соврать не могу, должна вернуться. Сказать правду еще хуже. И опять — знаки на груди. Подумает, что я заболела какой плохой болезнью. А то еще брюхатой меня сделает, я уж не знаю, как и быть…
Я видела, что эта красивая бабочка с пестрыми крылышками, такая еще молодая и веселая, попалась на булавку. Ее глаза снова заволоклись слезами. Но потом она стряхнула с себя заботу и сказала со смехом:
— А что, если мы с вами закусим?
Она сняла с сетки красивую корзиночку с провизией, там была фляжка вина, бутерброды с икрой и жареные цыплята, шоколад, пирожки, и чего-чего только не надавали ей на дорогу ее друзья. Я тоже вынула свой скромный провиант, но она мне не позволила ни к чему моему прикоснуться и требовала, чтобы я отведала от всякой ее снеди. Когда мы кончили наш обед, она снова аккуратно все запаковала, вынула из сак-вуаяжа шелковую подушечку и прикорнула на своем диване.
Я взяла книгу, но не могла читать. Я вспомнила всех людей, которых она мне назвала в начале беседы, моих учителей по гимназии, тех в кого мы, глупые девчонки, были влюблены, считали их какими-то полубогами, моих знакомых, мужей тех дам, с которыми встречалась моя тетя и работала в разных благотворительных учреждениях. Даже жениха одной из тетиных племянниц назвала эта красивая блондинка: его звала Яша, и был он адвокат — Яков Абрамович, важный человек в городе, и все завидовали невесте. «Я ни за что не выйду замуж», — решила я тут же категорически.
Когда моя соседка проснулась, она посмотрела на часики, которые висели у нее на золотой цепочке, и заторопилась: «Господи, да не проехала ли я свою станцию?» Она причесалась, снова попудрила носик и подвела немного глаза — я в первый раз видела, как это делается, — и сказала с улыбкой: «Ну, как вы думаете, понравлюсь я своему мужу? Я все болтаю, а вы мне и не рассказали о себе ничего. Я знаю, вы, еврейки, скрытные, не как мы, дуры».
— А вот я вам расскажу про ваших студентов. Я их имен не знаю. Они только раз у нас были после окончания гимназии. Такие молодые, как красные девицы. После спектакля приходит наш шеф и говорит: тут богатые сынки желают с вами поужинать. Ну что ж, ужинать — так ужинать!
Мы, как были, не переодеваясь, только грим сняли немножко, пришли в chambre séparée[132]. А их трое. Может, вы их знаете: один такой кудластый в очках, будет медиком. Другой рыженький, с бобриком, и усы только пробиваются. Как цыпленок. А третьего я знала. Он бывало все задками, в штатском, еще гимназистом к нам приходил, да им запрещено было, того Шурой зовут. Да, вот мы ничего, поужинали, ну и выпили, конечно. А тут мои пареньки разгорячились и давай спорить. Социализм, сионизм — это что такое сионизм? — и так увлеклись, что я боялась, как бы не подрались. Мы немножко обиделись, на нас-то никакого внимания. Моя вторая в паре и говорит: «Вы бы, господа студенты, раньше дома все это решили, а мы тут при чем?» Ну, ничего, смеются.
А я в тот вечер очень усталая была, зевнула и говорю: «Я еду домой». Они спохватились, заплатили кельнеру и заказали лихачей, развозить нас по домам. Со мной ехал вихрастый медик, по дороге все держал меня за руку, чего-то извинялся, а как подъехали к дому, всунул в ридикюль что-то. Поцеловал меня и проводил до двери. Назавтра я спрашиваю Маню: Ну как, проводил? — Проводил, говорит, золотой сунул в сумочку. А ты? — И мне тоже. Вот дураки! — Третью мы и не спрашивали: не наше дело.
Проводник пришел сообщить, что мы подъезжаем к станции. Он снял с сетки ее чемодан, и она начала готовиться, одеваться. Когда она была в шляпе и пальто, посмотрела на букет и сказала: «Знаете, я ведь цветы не возьму, боюсь, спросит, от кого да зачем. Возьмите себе, да вам и больше подходит невестин букет».
Мы попрощались, а на станции она забыла обо мне. Красивый статный офицер кивал ей издали, и она ему махала рукой: Митя, сюда, я здесь.
Я еще видела, как она прильнула к нему, и они застыли в поцелуе.
Я вернулась в купе. Туберозы пахли очень остро, и от этого запаха и от духов разбаливалась голова, розы и гвоздики опустили головки, на проволоках цветы держатся недолго. Когда поезд тронулся и проводник снова прошел мимо купе, я велела ему вынести цветы и начала устраиваться на ночь.
* * *
Все лето и зима у меня прошли в занятиях. Мои учителя были уверены, что я сдам экзамены, я была подготовлена по всем предметам.
Нас экзаменовали в мужской гимназии. В зале были расставлены не парты, а столы и стулья, для каждого отдельный стол. Мы все были торжественно одеты в наши лучшие партикулярные платья, мужчины в галстуках, в темных костюмах, девушки в темных, синих и даже черных платьях. Я себе сшила платье значительно длиннее, чем полагалось по моему возрасту, прическа тоже была почти «взрослая».
Первый экзамен был Закон Божий. Еврейский раввин нас очень легко экзаменовал, и мы все прошли.
На экзамене русского языка дали три темы, я выбрала Толстого: «Грех и искупление по романам Толстого». Я писала о «Воскресении» (когда я думала о Катюше Масловой, я все время видела перед собой мою спутницу по вагону), об Анне Карениной и искуплении смертью, о «Крейцеровой сонате» и о грехе Наполеона. Тема была очень широкая, или, вернее, я ее так расширила, что она обняла почти все проблемы, которые меня интересовали последние годы. Я выдержала на пятерку, и это был всего-навсего первый экзамен.
Письменные по математике у меня прошли все хорошо. Первый устный экзамен был по латыни. Латинист, латыш, антисемит и бюрократ, даже садист, как нам рассказывали гимназисты, которые знали его ближе, получил инструкции от правительства провалить всех евреев, чтобы не переступить процентную норму, так как во всех остальных экзаменах евреи прошли прекрасно. Было ясно, что в устных экзаменах они тоже не оплошают, но латынь для всех была — слабое место.
Латыш раздавал нам листки для экстемпоралия, приговаривая: «Эти девицы и молодые люди думают, что они знают латынь. Посмотрим, посмотрим. Настоящие гимназисты восемь лет сидели на скамейке и работали, а эти думают, что в два, три месяца они смогут пройти весь курс, посмотрим, как им это удастся». Мы были этими словами перепуганы насмерть. А когда он прибавил: «Я провалю всякого, у кого будет больше, чем пять ошибок», — мы все были уже «по ту сторону добра и зла»[133].
Почти все провалились. К следующим экзаменам допустили по нумерус клаузус[134] только четыре или пять процентов учеников.
Один русский парень, Сережа, который уже несколько раз в разных гимназиях сдавал экзамены на аттестат зрелости, потому что его выгнали из его гимназии «за неверие», — получил у батюшки на первом же экзамене вопрос: «Верите ли вы в Бога?» Он молчал и не ответил. Его отослали домой и не допустили ни к одному экзамену.
С этим парнем Сережей мы потом подружились. Он приезжал ко мне на дачу. Мы катались на лодке, он мне рассказал о всех своих неудачах в разных гимназиях в разных городах. Его несколько лет подряд преследовали за неверие, и так как у него не было денег и знания иностранных языков, он не мог поехать за границу продолжать свое образование.
Потом он запил. Я пробовала его отговаривать от этой скверной привычки. Но он махнул рукой на все. Раз он пришел ко мне и сказал: «Если вы выйдете за меня замуж, я перестану пить и снова сделаюсь человеком». Но я ему ответила, что за нееврея не выйду замуж.
— Ну, видите сами, батюшка меня наказывает за то, что я не могу быть православным, а вы за то, что я не могу быть иудеем.
Он ушел почти не прощаясь, и больше я его не видела.
По математике проваливали у нас заграничных инженеров, которые кончили в Берлине университет и там сдавали высшую математику, а здесь должны были только получить свой аттестат, чтобы иметь право на труд.
К концу экзаменов из сорока экзаменующихся осталось три или два. Это считалось даже большим процентом.
Мой домашний учитель, который накануне латыни меня подбадривал и экзаменовал á livre ouvert[135], считал, что я блестяще подготовлена, был возмущен, когда узнал, что я провалилась на Тите Ливии и Цицероне, которых я знала лучше всего. «На миру и смерть красна», — должна была я как-нибудь утешиться.
Летом я поехала с тетушками — Катей и Нютой — на Кавказ.
Раньше я поехала в Москву, там нас дедушка снарядил в дорогу. Теперь мы были уже взрослые, ехали без стража, даже с некоторым авантюристическим чувством повидать что-то невиданное, испытать что-то новое.
От Нижнего до Царицына (теперь Сталинград) мы ехали на пароходе общества «Кавказ и Меркурий», имели хорошую кабину, еда была знаменитая на всю Россию, а сама Волга была переживанием, которое осталось на всю жизнь. Широкая спокойная река, местами казалось, что это море без берегов, живописные горы Жигули, пение бурлаков, как в «Челкаше» Горького, и живописные города Самара (Куйбышев) и Саратов по дороге. Самара стоит на горе и вечером была освещена тысячью огней. В Царицыне переночевали в гостинице и оттуда поехали до Минеральных вод. Когда я увидела в первый раз гору Бештау, высокую, серую, грозную и мрачную, я от волнения расплакалась.
Мы жили в Железноводске в еврейском пансионе, но делали прогулки во все окрестные курорты — Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск с его серными источниками и открытой сверху пещерой, которую называли «провалом». Я перечитывала моего любимого Лермонтова и снова стала романтиком, забыла весь свой рассудочный и неглубокий материализм.
Здесь мы ближе всего познакомились с русской молодежью. Для Кати и Нюты они были совсем незнакомым миром, но для меня, которая в дороге познакомилась с русской певицей и знала Сережу и других гимназистов, не было больше сюрпризов. Самые молоденькие девушки и парни напивались до полусмерти, почему-то «заливали свое горе», свою скуку (вряд ли из этих кругов вышли настоящие русские революционеры, которых мы так уважали и боготворили). Одна молоденькая и хорошенькая девушка, Наденька, дочь нашей хозяйки дома, нам рассказала, как она с компанией забралась в погреб, вытащила коньяку, ликеру и водки, — «и так хорошо напились, что проспали непробудным сном до самого утра. Хотите, приходите вечером в беседку, мы и вас угостим». Мы, конечно, отказались.
Впрочем, к ужасу моих тетушек, которые были всего на четыре, пять лет старше меня, на нашем горизонте появился один виленский студент Черцендер, который узнал, что я в Железноводске, и приехал тоже туда. Я часто пропадала с ним в горах, одна, без тетушек. Я часто боролась между любовью и нелюбовью, чувствовала себя как лермонтовская княжна Мери, писала ему письма, которые мы по условию клали под камень в парке, и получала трагические ответы, приходила на свидания и не приходила, мы ссорились и снова объяснялись и мирились. А когда он поставил меня перед ультиматумом: повенчаться или разойтись, я «холодно отрезала» и сказала, что раньше, как через четыре-пять лет, когда я кончу свое среднее и высшее образование, я замуж не выйду. Он уехал, после чего я проплакала два дня, но потом успокоилась.
Здесь, на Кавказе, мне тоже суждено было заглянуть в судьбу другой русской молодой женщины. Это могло бы служить дополнением к тому, что я узнала от моей вагонной незнакомки-певицы.
В курортном парке, в ванных и на музыке, я познакомилась с одной очень хорошенькой дамочкой. Была она шатенка с пышными волосами, большими карими глазами и двумя ямочками на щеках. Все курортные фланеры на нее заглядывались.
— Вы тут с папой? — спросила я ее.
— Не-ет, это, так сказать, мой муж.
Я чуть не ахнула. Старый господин, седой, лысый на полголовы, с тростью в руке, которая помогала ему тащить его ревматические ноги, был ее муж?
— Вы не думайте, он меня очень хорошо держит. У меня квартира и выезд свой в Петербурге, и прислуга, и какие туалеты! И телефон он мне завел!
Я не отвечала.
— Но он очень ревнивый, — продолжала она, — он меня никуда не отпускает без себя. Я живу, как в затворничестве.
— И вам не скучно?
На ее лице промелькнула шельмовская улыбка: — Вы никому не расскажете? Я его обманываю и иногда так веселюсь, как вам, может быть, и не снится.
— Как же это? — спросила я.
— А вот я вам расскажу.
Вечером к ужину я его подпою немножко и начну зевать: «Ох, как я устала, спать хочу. Или это я пьяна?»
А ему только этого и надо. — «Иди, деточка, в постельку». — Я разденусь и лягу, а он уж и храпит.
А моя Дуняша, она у меня золото, уже в гардеробной держит все наготове: платье, корсет, туфли, ну, словом, только одевайся. Я из постели вон, одеваюсь в маскарадный костюм (в бальное платье боюсь, авось узнает еще, ему расскажут) — а внизу уж мой кучер Василий с лошадьми ждет, не у самого подъезда, а за углом. И еду на маскарад. У меня много знакомых там условлено, у меня ведь телефон есть, ей Богу. Ну вот, танцую часов до двух, трех, а потом тем же манером обратно. Дуня уже ждет меня в передней, и звонить не надо. Переоденусь — и в постель. Я много раз так удирала.
— Ну и ничего, сходило?
— Сходить-то сходило, да не очень. Раз прихожу я домой, а он как раз лежит, не спит, курит папироску. — «Ты где была?» — «У меня чего-то живот разболелся, так я не хотела тебя будить, беспокоить, я у Дуни в комнате лежала. А теперь лучше стало». — Ничего, молчит. Повернулся, как будто спит…
— А раз я такого страху набралась, что и рассказать нельзя. Недавно это было. То ли я была очень усталая после бала (меня провожал в карете один дружок, есть у меня такой), то ли сдуру раздеться-то я разделась, а сумочку — у меня такой ридикюль с гобеленом, его подарок к именинам, — забыла оставить в гардеробной и положила в спальне на туалетный стол.
Утром он всегда раньше меня встает, а я часов до одиннадцати дрыхну. Просыпаюсь, и душа у меня в пятки ушла: ридикюль открыт, и что в нем было — платок, духи, деньги — все выпало. Как же это я такую оплошность сделала? Звоню Дуне.
— Дуняша, как он, ничего?
— Ничего, — говорит, — чаю откушали, «Русские Ведомости» читают.
— И ничего тебя не спрашивал?
— Спрашивал, дескать, спят ли барышня, то есть барыня. Я говорю, спят. — Ну, пущай спит, не буди.
Я наскоро оделась, выхожу в столовую, поцеловала его, велю себе чай подавать. Он ничего, молчит. Потом говорит: «Я, душечка, велел лошадей закладывать, мы на воды едем. Что-то моя нога сильно разыгралась! Билет надо заказать и телеграммы отправить, опять же может тебе что купить надо для Кавказских вод».
Что ж, на воды, так на воды. Я взяла шляпу, и мы поехали по делам и в Пассаж. Я так думаю, или он не заметил, что в ридикюле моем карне де баль[136] был, а там все прописано: какого числа и где бал, и с кем я танцевала. А может быть, он подозревал, что я к полюбовнику езжу, а тут увидел, что я веселиться хочу, молода, дескать, — и простил. Только ничего мне не сказал.
— А почему же вы его не оставляете? — спросила я.
— Нет, зачем же? Жаль мне моего старичка, он без меня сопьется.
В это время мимо нашей скамейки прошел какой-то хлыщ в круглой соломенной шляпе: в одной петлице резинка от шляпы, в другой — гвоздика. Монокль в глазу и хлыстик в руках. Поклонился.
— Это кто?
Она усмехнулась:
— А это так, один в нашем отеле, много их тут приезжает в Пятигорск, на водах серных лечиться. «Позвольте, говорит, представиться». А я: «Ни-ни, у меня папенька строгий, нельзя». — «А я, грит, с вашим папенькой вчера в вист играл. Что это вы не даете за собой поухаживать?» — «Какие уж тут ухажерства, тут только за больными и старыми ухаживают, а я молодая и здоровая». — Так и отвадила.
Ей, видно, захотелось переменить тему.
— А кто тот студент, с которым вы вчера меня познакомили? Жених или знакомый?
Я покраснела:
— Знакомый, из нашего города.
— Ну, скоро мой старичок из ванных выходить будет, так я лучше пойду. А то он давеча говорит: что это ты, курсистка какая, что со студентами и жидами водишься? Прощайте.
Я осталась сидеть. Рисовала кончиком зонтика разводы на песке и думала: так оно и есть — жиды! С нами и водиться нельзя. А если бы мои тетушки знали, что я с этой «особой», содержанкой, разговариваю, мне бы тоже влетело.
Через минуту она вернулась:
— Слушайте, вы не обиделись за «жидов»? Я ведь это спроста, что на уме, то и на языке. Я потом подумала, что, может быть, вы обиделись?
— Нет, не обиделась. Мне не впервой.
— Ну, то-то же, спасибо. — И она ушла.
* * *
Осенью я собралась ехать в Швейцарию. Я решила раньше записаться на историко-философский факультет в Лозанне и через год приехать сдавать свои гимназические выпускные экзамены в России. Я поняла на этот раз, что всякая попытка экстерничать при мужской гимназии кончится снова провалом, и не по моей вине.
Мне исполнилось всего 17 лет. Мы ехали в компании подруг, но в Берлине я с ними рассталась, начала осматривать достопримечательности города — и делать покупки, я решила, что мои туалеты недостаточно «европейские». Я разыскала в Берлине своих родственников-студентов, которые меня сопровождали по театрам и музеям. Я была на мессе в Доме[137], в Национальной Галерее и встретила кузину, которая бегала со мной по разным «кауфхаузам»[138]. С моим немецким я не могла пропасть.
Я поехала в ту же Лозанну, где мы были когда-то с мамой. Я получила от нее список профессоров, которых она слушала 15 лет назад, и все они были живы и читали те же лекции. Я разыскала мамину кузину — эмигрантку, дочку муме Мере, и эта тетя Поля приняла меня в свою семью как родную. Так как она была похожа на всех наших московских тетушек, я ее очень полюбила, кроме того, мне очень импонировало ее революционное прошлое.
Их дети, две девочки и мальчик, все моложе меня, ко мне очень привязались, они мне помогали искать комнату с пансионом, покупать книжки и записываться в университет (пока как вольнослушательница). Их французский язык был лучше моего, и мне их помощь была очень полезна. В их доме бывали все знаменитые социалисты-революционеры, которые приезжали из России, из Сибири, которые были проездом на разных совещаниях или на конспиративных «явках», — чего я тогда не знала.
Некоторые из них жили в том же пансионе, что и я, — в Жордиль, в Шале Сувенир, и я с ними очень сошлась. Одна дама была больна и лечилась у знаменитого профессора Ру[139], и я за ней ухаживала в свободное время.
Моя еврейская и сионистская закваска, по-видимому, была достаточно сильна, если я противостояла очень сильному течению и влиянию зрелых, образованных людей с определенными взглядами и авторитетом. Но таково же было во мне всегда чувство сопротивления, когда я была с национально настроенными евреями, — я внутренне и на словах протестовала против их узости. А когда я была с русскими, я возвращалась к своему, еврейскому.
Я влюбилась в Альпы. Это были мягкие, светлые горы, не как суровый Кавказ, на фоне ярко-голубого Женевского озера. Приветливые шале, домики, светлая хвоя зимой и летом. Снег на вершинах, снег в зелени, розовый Альпенглюн, закат и восход солнца, цветы и фруктовые деревья, всем этим я упивалась и была счастлива.
У меня была чистенькая комнатка с видом на Женевское озеро, Лак Леман, с калорифером, который я сама топила брикетами и углем в форме яиц.
Утром я уходила в университет. Мы слушали лекции м-сье Сирвена по новой французской литературе, они были красивы по форме, на певучем изысканном французском языке, со всеми нюансами и оттенками в голосе, как в театре. Более глубокий и серьезный м-сье Милью читал нам историю философии, а блестящий м-сье Россье — историю 19-го века. Старичок Миллер читал немецкую литературу, и были еще другие профессора, которые нам преподавали язык (м-сье Андре слушала когда-то даже моя мама) и др. предметы.
Вначале я ничего не понимала, мой французский язык и мои знания были недостаточны для понимания серьезных лекций на иностранном языке. Но я выбрала собственную систему: вместо стенографии, которой я не знала, я записывала по слуху все, что улавливала. Дома со словарем и с помощью моих заметок я восстанавливала почти дословно всю лекцию. Таким образом я не только начала понимать язык, но и сам предмет, о котором читал лектор. Через два-три месяца я уже могла записывать набело лекции профессоров.
Семинары происходили наверху в Сите, в старом здании университета, откуда вид на весь город, на озеро и горы был такой, что я приходила всегда на полчаса раньше до начала лекций, чтобы посидеть на скамейке и полюбоваться Лозанной.
После обеда я просиживала по несколько часов в библиотеке и готовилась к работам. К одной работе — поэзия Альфреда де Мюссе — я готовилась пять месяцев.
Эту работу я читала с кафедры в семинаре с большим успехом, и профессор меня хвалил и не хотел верить, что я приехала с очень слабыми знаниями языка. Мои виленские длинные сочинения научили меня работать над темой, которую я сама выбирала и которая меня увлекала.
По воскресеньям мы в большой компании ездили в горы с санками, лыжами, ходили пешком. В вязаном шарфе, обмотанном вокруг шеи, в вязаной шерстяной кофточке, в короткой юбке и перчатках под цвет — мы выглядели гномами из сказки. Было легко, молодо и приятно. Весело и беззаботно, на альпийских высотах, с молодежью моего возраста или еще моложе меня (если это были дети моей тетушки Поли), в захватывающей быстроте саночек мы мчались вниз. Потом пили горячий шоколад в конфизери[140], и приходили разогретые и возбужденные ужинать к тетушке. По вечерам мы возвращались тоже в компании, по дороге покупали печеные каштаны, которыми обжигали себе губы, слушали уличных музыкантов, «Санта Лючию» и другие итальянские песенки — мы кормили обезьянок орехами и говорили с итальянцами по латыни.
Между лекциями мы забирались в маленькое кафе, где завтракали, а после концертов и театра шли «кутить» в «Ольд Ингланд»[141], самый фешенебельный кафе в Лозанне. Жизнь была прекрасна, вкусна, ароматна, звучна, как мажорная симфония. Ни один звук, ни один оттенок и краска не были печальны или некрасивы, негармоничны. Почему жизнь не может остаться такой навсегда?!
Все же я думаю, что, если бы мой отец не давал мне этой возможности учиться и путешествовать, я бы выросла очень печальным ребенком, голусной еврейкой в разорванной семье, и никогда не стремилась бы к красотам Палестины. Для меня Палестина была не убежище от погромов и голуса, а позитивной страной — наподобие Италии и Швейцарии, — где «померанцы зреют» — Dahin, dahin, wo die Zitronen blühen![142]
Первый бал, к которому я себе сшила платье из голубого швейцарского батиста, и успех, и танцы, и проводы домой целой компанией по тихим улицам Лозанны (по воскресеньям было разрешено даже петь и шуметь!) и встречи с девушками и молодыми людьми из России, Литвы и с швейцарцами — вся эта веселая студенческая среда послужила мне озоном, в котором я выздоровела от своей виленской меланхолии после неудавшейся революции и дышала и дышу, может быть, до сегодняшнего дня.
Весной я вернулась в Петербург, чтобы сдавать свои выпускные экзамены. Мама нашла мне протекцию в министерскую гимназию имени Великой княгини Евгении Максимилиановны; как и в Москве, здесь обошли правожительственные трудности, начальство гимназии смотрело сквозь пальцы на мое еврейское происхождение; «Если власти не вмешаются, — сказал директор гимназии, — я ничего не имею против».
Квартира мамы была маленькая, всего три комнатки, моя сестренка уже выросла и нуждалась в детской, а мне нужно было серьезно готовиться к экзаменам, так что мы решили снять комнату на той же лестнице. Этажом выше соседка-генеральша на два месяца сдала мне комнату сына, который погиб на Кавказе на военной службе. Над письменным столом висел его портрет, это был красавец офицер, от которого трудно было отвести взор.
Я работала беспрерывно, только в дни экзаменов выходила из дома. Из-за опасности попасть на глаза дворнику или швейцару я старалась прошмыгнуть незаметно на завтрак, обед и очень редко на улицу подышать воздухом. Если бы меня, неприписанную, поймали, меня бы в 24 часа выслали из Петербурга, и все мои экзамены, которые я уже сдала — и очень удачно, — пошли бы прахом.
К счастью, все обошлось очень хорошо. Я сдала почти 20 экзаменов на круглую пятерку, и после последнего экзамена уехала в Вильну. Туда мама прислала мне аттестат (аттестат зрелости, к которому я готовилась два года).
* * *
Так как наше имение было продано, наша семья и часто некоторые из бывших дачников имения — все вместе начали жить на наемных дачах вокруг Вильно. Одно лето это были Верки, другое — Нововилейск и третье — Ландварово. Каждое лето в другом месте, и каждая дачная местность была живописнее и красивее предыдущей. Река Вилия, Вилейка, озеро в Верках и озера в Ландварове — холмы и леса, поля и сады, парки и луга — я не знала места более красивого, если не считать Швейцарии. В Ландварове было графское имение графов Тышкевичей, были лодки на прудах, был огромный парк, кавалькада наездников и изящных наездниц в амазонках, псарня и конский завод — все это вещи, которые мне были внове и очень интересны: книги Мицкевича, Сенкевича и Тургенева оживали.
В Нововилейске я имела свою наемную лодку, в которой я уезжала на рассвете, завтракала в железнодорожной будке свежим черным хлебом, парным молоком и яблоками с дерева. Речка Вилейка имела изгибы и «разливы», ветлы и березы низко росли в бухтах, как на пейзажах Левитана. Я брала всегда с собой книги и возвращалась только к обеду. Но красивее всего были Верки, на берегу широкой Вилии, вблизи Зеленого озера. В глубоком сосновом лесу это озеро было необычайно зеленого цвета от растений (альги), которые росли на дне его, или от какого-то особенного химического состава воды, я не знаю. Это озеро было окружено лесом, и можно было целые дни проводить среди сосен и воды. В Верки ездили на небольшом моторном катере мимо красивых дач, вилл в стиле барокко, мимо станции Волокумпия и церкви готической — Калаврия в Тринополе, башни этой церкви были как на средневековых замках. Издали были видны горы — Замковая, Крестовая и холмы Поспешек.
Как могли люди эту неповторимую красоту, которая вызывала религиозное чувство и восторг перед творением Божьей природы и творчеством рук человеческих, — как могли люди впоследствии залить все это морем невинной крови стариков, женщин, детей и всех тех «малых сих», о которых говорит Достоевский…
Я не могу думать о Виленских окрестностях — Зверинце, Погулянке, Антоколе, этих лесах и дачных местностях, где мы, молодые, росли и веселились, не причиняли никому зла, чтобы не вспоминать снова, как и в Ошмянах, — Понару, братские могилы, полуживых людей, залитых негашеной известью, заживо сожженных и похороненных, — моих братьев не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова: от всей огромной семьи моего отца в Вильне, Вилейке, Лодзи, Белостоке и во всей Польше и Литве не осталось ни одного человека: немцы и их помощники — поляки и литовцы — уничтожили всех, всех, всех. Так создалось шесть с половиной мильонов жертв. Потому так тяжело вспоминать те красивые годы и лета моей молодости в «литовской Швейцарии».
* * *
Я старалась всегда иметь комнатку в мезонине или во флигельке, чтобы мне не мешали работать и учиться. Часть лета обычно я проводила у мамы в Райволе в Финляндии или в Сестрорецке, в более северной и суровой природе. В Райволе мы жили в небольшой дачке, построенной в легком итальянском стиле, с балконами и лоджией, с красивым садом и массою цветов.
Петербургские белые ночи, когда можно было читать без лампы, бродить ночью по лесам и по берегу Черной речки (где жил русский писатель Леонид Андреев), оставили мне другие воспоминания. Белая ночь, светлые сумерки давали то настроение, которое нервные люди переносили тяжело, но которыми мы, молодые поэтические натуры, восхищались и вдохновлялись для стихов, хороших и плохих. Кто на что горазд. Там я читала и перечитывала Пушкина и Достоевского, видела во всех людях «призраков».
* * *
Впрочем, после экзаменов, которые я выдержала в очень напряженной атмосфере, я так расстроила свое здоровье, что меня послали за границу. Я жила в Тевтобургском лесу, в санатории по системе Ламана[143]. В маленьком бунгало, в котором было всего две комнатки с двумя балконами для двух дам, я много лежала, отдыхала в шезлонге, но по утрам мы делали гимнастику, брали ванны, а после обеда, под вечер гуляли по расчищенным дорожкам леса, в котором первый наци — Герман, или Армин, Херусский[144] — одерживал свои победы и где ему поставили памятник.
Когда я окончила лечение, я поехала кататься по Рейну. В Бонне у меня была приятельница Марта, еврейка, очень ассимилированная. Она была камеристкой у богатой немки. Они жили в трехэтажной вилле — всего только старая дама и прислуга: кухарка, кучер и Марта. Старуха имела свои апартаменты внизу, второй этаж был закрыт и проветривался только два раза в году перед большими праздниками, если приезжал единственный наследник, внук этой дамы. В верхнем этаже, скорее мансарде, жила Марта, имела очень скромную комнатку. Здесь она меня приняла. Она выпросила себе на несколько часов коляску и повезла мне показать Бонн, дом Бетховена — небольшой, но приятный и уютный, со всеми реликвиями великого композитора, университет и проч. По ее же совету я поехала в Годесберг, тот самый прекрасный Годесберг, против Семигорья (Зибенгебирге), с феодальными замками, со скалами, на которых сидела гейневская Лорелея, — места, которые я любила по описаниями Тургенева в его рассказе «Ася». И в этом городе, который стал потом символом человеческого предательства и унижения[145], я провела несколько недель.
Пансион, в котором я поселилась, был интернациональный. Там проводили свои каникулы студенты из Бельгии, Англии, России и со всей Германии. Немецкие бурши устраивали комерши в своих кнейпах, пили бир,[146] дрались и веселились. У кого было больше шрамов, считался наибольшим героем. Мы различали корпорации, также фуксов от альтерхеррен[147] и проч.
Каждый вечер молодежь в нашем отельчике собиралась после ужина в большой гостиной. С нами были три «дочери дома» (Haustöchter) — очень молоденькие, хорошенькие, веселые и затейницы. Днем они прислуживали — одна в кухне, другая за столом и третья в комнатах. Они не принадлежали к семье, а проходили, так сказать, свой практический курс в этом налаженном и хорошем хозяйстве. Мы играли в фанты, в Блиндер Петер[148], пели национальные песни и гимны всех тех стран, студенты которых были представлены, давали соло танцы.
За неимением еврейских танцев и незнанием еврейских песен я пела все русское, танцевала казачок и трепака и учила их подпевать «Ах вы сени, мои сени» и «Красный сарафан». «Задумал Терешка жениться, а тетка Матрена бранится»[149] им нравилось больше всего, хотя они не понимали ни слова. Романсы Чайковского и Рубинштейна, за неимением нот, я пела под собственный аккомпанемент. Марсельезу, бельгийский гимн и немецкие народные песни мы тоже пели хором.
Две недели прошли как сон. Кто бы сказал и подумал тогда, что это действительно был сон, от которого скоро все проснулись? Перед моим отъездом все «любители» в складчину мне преподнесли томик стихов Шиллера.
По дороге я видела Кельнский собор, снова была в Берлине, где истратила свои последние деньги на подарки: за извозчика и носильщика в Вильне папа должен был заплатить сам [так как у меня не осталось ни гроша].
* * *
Я снова начала мыкаться и подавать прошения, но теперь уже в разные высшие учебные заведения, и ждать ответа. В Петербурге на Бестужевских курсах мне отказали, в Москве на Герьевских[150] — тоже. Но я поехала в Москву, чтобы лично хлопотать о поступлении на высшие курсы. У меня было много времени, я ходила по театрам, по целым ночам простаивала возле кассы Художественного театра; я видела «Бранд» Ибсена, «Гамлет» с Качаловым, «Вишневый сад» Чехова и «Три сестры» с Книппер, «Дядя Ваня» и более модерные — «Осенние скрипки», «У жизни в лапах»[151] и др.
По утрам я ходила на утренники и на репетиции всех симфонических концертов. В Синодальном училище[152] были прекрасные камерные концерты — трио Шор, Крейн и Эрлих[153], и таким образом музыкой и театром я заполняла мучительные дни и вечера ожидания ответа, который должен был решить мою судьбу: остаться в России или вернуться в Лозанну.
Наконец наступил тот счастливый день, когда меня приняли на Высшие женские курсы Полторацкой[154]. В 19 лет я себя уже чувствовала старой студенткой, почти «альтерхерр». У меня было «академическое прошлое», в то время как у моих товарок было только гимназическое. Я даже давала советы, как взяться за лекции, какие слушать и какие отложить, а какие можно вообще пропускать.
Первая работа, которую я взяла, была «Дон Жуан в мировой литературе». Потом я писала о гуманизме, о первом психологическом романе «Фиаметта» Боккаччо и, наконец, о Макиавелли. Особенно меня интересовала моя первая тема, потому что она была «блуждающая тема»[155], и после нее мне захотелось взять еще несколько тем, которые обошли всю мировую литературу, как Фауст, например, или «Жидовка»[156] и др. Но когда я попробовала составить себе список таких тем, я увидела, что нет ничего нового под луной, что все литературные темы были уже кем-то использованы для драмы или оперы («Паяцы», «Травиата»[157]), и каждое поколение дает новое толкование и новую форму старой теме.
Следующий семестр я занялась второй частью «Фауста». По дороге в Швейцарию я мельком посетила Франкфурт, была в доме Гете, и это дало мне возможность ближе подойти к духу Гете и к той эпохе, когда он жил и творил. Знание немецкого языка мне очень пригодилось.
Я познакомилась с одним старым профессором, который мне помогал выбором книг и предоставил мне к услугам свою прекрасную личную библиотеку. Мы слушали лекции о Гегеле, мы изучали психологию и литературу — и теперь я была счастлива, что моя подготовка, как домашняя, так и лозаннская, давала мне возможность лучше усваивать все, что для еще зеленых девочек с гимназической скамьи было новыми и трудными науками.
Я вошла также в еврейскую студенческую среду, там были и мои земляки из Вильно. Они не уставали и не переставали вести свои бесконечные споры и дискуссии о национализме и интернационализме, социализме и сионизме. По-видимому, найти путь назад к своему народу дело очень трудное и требует не только внешнего решения и выполнения, но и внутренней готовности. Русскому народу не нужно было «возвращаться домой», они были у себя дома. Им только нужно было решиться на переворот, на уничтожение царизма, и не удивительно, что за границей хозяйки тех квартир, где обычно жили русские студенты, не понимали и спрашивали: «О чем вы так волнуетесь, что целые вечера и ночи напролет не даете спать соседям, спорите, кричите и ведете себя, как варвары?»
Русские студенты подготавливали себя душевно для политического и социального переворота, мы, евреи, — еще и для национального: мы должны были вернуться к своему народу, от которого мы ушли, и к своей стране, которую мы потеряли две тысячи лет назад. Но все это я осознала значительно позже, тогда мне самой казалось, что наши дискуссии и неистовства утрированы, что мы просто слишком нервны из-за преследований и потому увлекаемся словами.
* * *
В этих студенческих кружках я познакомилась с Марком. Он начал меня обрабатывать. Марк Натанзон[158] был [виленским] сионистом, для него Палестина была не далекая азиатская и чужая страна, он реально готовился туда поехать, быть там врачом. Марк начал выкорчевывать из меня последние сомнения и возражения против сионизма. Целый год у нас велась дискуссия.
Сионизм не гармонировал с моими почти анархическими взглядами против власти, против религии, против национального шовинизма и «узости». Когда мы ехали с Марком на каникулы обратно в Вильну, мы договорились до логического конца и тут же спохватились, что один из нас должен будет уступить, если он не хочет потерять другого.
И уж конечно это не мог быть Марк.
Этот мой роман не мог кончиться, как все предыдущие, о которых мне говорили: «Вы не способны любить, у вас рентгеновский аппарат в голове, вы видите все отрицательные стороны человека; вы не способны прощать, но жизнь вам отомстит, у вас и в будущем не будет прошлого».
Марк не успокоился, пока я не сложила оружие и не подписалась под всеми его взглядами и стремлениями. Раньше всего я должна была научиться еврейскому языку (слово «древнееврейский» было вычеркнуто из нашего лексикона[159]).
Я была рада и счастлива, что кончились все мои сомнения, что я, отрицавшая голус из чисто эстетических соображений, смогу готовиться к новой жизни, буду строить новую страну, не должна буду жить, как мои родители, в атмосфере унижения, нищеты духовной и, как все евреи «в черте», — в материальной и физической борьбе за право дышать воздухом на чужой земле. В черте оседлости было душно, вне черты — еще хуже, в гетто евреи хоть не знали преследования. В Москве и Петербурге они должны были ассимилироваться и скрывать свое еврейство. И проблема языков — иврит и русский или идиш — все это отпало: мы поедем туда — туда — где померанцы зреют[160].
Марк снабжал меня сионистской литературой, брошюрами и книгами, и я сделалась правоверной сионисткой. Я заплатила первый раз свой шекель за право выбирать на сионистском конгрессе[161].
Я до сегодняшнего дня благословляю Марка не столько за то, что он пробудил во мне женщину и научил любить, сколько за то, что он спас меня от самой себя, сильной рукой и убеждением и верой — дал мне цель в жизни. Благодаря ему кончились все колебания и сомнения, и пессимизм, и скептицизм, которые отравляли мое детство и молодость. Я начала думать, не лучше ли мне перейти на медицинский факультет, для того чтобы слить наши профессии и работу вместе, но тут Марк проявил мало сочувствия: я нравилась ему такой, какой была, я должна быть учительницей в Палестине, а работа в клиниках, вивисекция и болезни, по его мнению, мало мне подходили. Я подозреваю, что он не хотел откладывать нашу свадьбу на пять и больше лет[162], и это была главная причина его доводов против медицины для меня.
Моя мать была в ужасе, что я так рано хочу выйти замуж, да еще за человека материально не устроенного. Мой отец считал нас безнадежно сумасшедшими с этими палестинскими планами: зачем ехать в какую-то Азию, без удобств, без воды и электричества, как он слышал, без удобных квартир и прислуги, когда здесь, в Вильне, есть собственные дома и все, что нужно людям. Он боялся снова потерять своего единственного ребенка.
Мачеха была сердита и разочарована: она «вскормила на своей груди змею», план соединения капиталов не удался. Это была неблагодарность с моей стороны. Единственно, кто был доволен и потирал руки радостно, был мой дедушка: «Шутка сказать! Без свахи, шадхоним, без приданого — выходит замуж за доктора, а в Палестину он сам [дедушка] охотно к нам приедет „умирать“». Дедушка сам был пионер и понимал всякий самостоятельный и новый шаг в жизни. Он не уважал своих сыновей за то, что они были «богатые сынки».
* * *
Мы повенчались без всяких церемоний и послали всем телеграммы. Поздравления пришли довольно прохладные, особенно мама была недовольна: сама молодая жена и мать, она могла скоро превратиться в бабушку. И хотя мой отец будировал, он не отказался мне помогать до окончания университета, а дедушка определенно от времени до времени посылал мне деньги и подарки.
Родственников Марка я знала мало, брат его эмигрировал в Америку, но мать его жила в маленьком городке под Вильной[163], и мы к ней ездили каждый раз, когда у нас была возможность и свободная неделька. Она была чудесная женщина, простая, хозяйственная, набожная всей душой, еврейская крестьянка. Если бы мы знали Палестину, как мы ее знаем теперь, мы не должны были оставлять ее в Польше, а взять с собой и устроиться в колонии — она была настоящим материалом для такой колонизаторской работы. Но все приходит слишком поздно.
В 1913 году мой муж устроился врачом в Вильне. Летом мы решили вместо свадебного путешествия и свадьбы, на которой мы себе сэкономили, <и которая обычно в нашей семье была дорогим удовольствием>, поехать на сионистский конгресс в Вену[164].
* * *
Мы выехали на несколько дней раньше, чтобы отдохнуть в Бадене возле Вены. Здесь мне удалось познакомиться с австрийским еврейством, ассимилированным, а благодаря смешанным бракам еще более отчужденным от своего народа. Одна дама мне рассказала, что ее отец, старый еврей, очень любит ходить в католический собор и по воскресеньям и праздникам играть на виолончели под аккомпанемент органа. О еврейских хазанах и хоральных синагогах она ничего не слышала. Когда я ее спросила, почему он должен играть ту музыку, под которую евреев вели на костры, сжигали их священные книги на ауто-да-фе, она вообще не поняла моего вопроса.
В Австрии евреи часто крестились за несколько дней до рождения ребенка, чтобы первый ребенок и все после него родившиеся не имели бы еврейской проблемы. Они им таким образом облегчали переход и уход от своего. Вагнер был их любимый композитор, Ницше — их идеолог.
В общем венские евреи очень симпатичны, как и сами венцы. Их лозунг «Лебен унд лебен лассен»[165], и они так же «гемютлихе винер» и «зюсе менделс»[166], как и настоящие немцы. Спорт, прогулки в горы, катание на лыжах в Земеринге и в Тироли и большая музыкальная культура — все это делало венцев очень приятными собеседниками. Но, как я потом убедилась, для нас они были венцы, для христиан они были евреи (крещеные или некрещеные).
Мы с Марком — новобрачная пара — сделались «clue сезона»[167].
Мы приехали на какой-то странный сионистский конгресс и вовсе этого не скрывали. Мы говорили открыто о какой-то азиатской Палестине, которая была Турцией, где когда-то велись войны крестоносцев за гроб Господень, — это все знали из школьных книжек, но не больше.
Были некоторые евреи, которые были лично знакомы с семьей Герцля, но «anter nous»[168] (потихоньку) строго критиковали его утопию и сумасшествие и жалели его бедную жену и семью.
Через несколько дней один барон представил нас своему старому отцу, бывшему министру. Мужья начали подводить к нам своих жен, а жены — мужей. Когда Марк или я после ужина рассказывали что-нибудь о Палестине (которую, к слову сказать, мы знали только по книжкам и брошюрам и газетам) или просто затрагивали тяжелую еврейскую проблему в России и говорили о судьбе тех, кого евреи называли «остъюден», христиане пробовали спорить о невыполнимости наших планов, но вскоре соглашались и потом благодарили: «Было очень интересно» или «Спасибо за приятно проведенный вечер». (Обычно в таких разговорах принимали участие только христиане, евреи же лишь назавтра подходили к нам, крепко жали руку и говорили: «Мы ведь тоже евреи» или «…были евреи».)
В конце концов нас просили помочь достать билеты на конгресс, оказать протекцию — для блазированных[169] аристократов это был новый аттракцион, взамен надоевших карт, спорта и скачек (для которых нужно было больше денег, чем для посещения какого-то экзотического конгресса).
Но хотя евреи скрывали свою национальность, их всегда можно было безошибочно узнать и отличить, их выдавали темперамент и недостаточно хорошее воспитание. Богатые евреи особенно нас шокировали. Часто за столом они ссорились, говорили о личных вещах в присутствии чужих людей. Нас они уверяли, что «понимают страдания несчастного еврейского народа», но мы им не верили, они даже не жалели тех «остъюден»[170], к которым они себя не причисляли. Часто они рассказывали анекдоты о какой-то богатой даме м-м Поляк, и цикл «поляк-вицев»[171] был неистощим.
О сионизме они говорили: «Нам и здесь хорошо». Их дочки льнули только к винер адель[172], и действительно — за деньги можно было купить себе графа или барона. Между прочим, наш барон был очень приятный собеседник, он нам рассказал о своих придворных переживаниях при дворе Франца Иосифа, о балах в Софиензале[173], которые он нам показал, и о путешествиях по Италии, и о жизни в Париже. Другой австрийский юноша, который часто вздыхал — как я угадала, из-за несчастной любви и долгов, — тоже просил нас достать ему билет на конгресс, и мы действительно раздали несколько билетов этим новым знакомым.
Самый интересный знакомый в Бадене, впрочем, был не венец, но русский академик из Петербурга. Его картинами на евангелические темы завешаны многие стены в Эрмитаже. Он не говорил по-немецки, и его посадили рядом с нами. С ним была его жена, на вид очень простенькая женщина, но, как выяснилось, она была очень образована, культурна и только лишена всех внешних претензий, которыми так отличались наши соплеменники. О еврейских скульпторах — Антокольском и Гинзбурге[174] — профессор говорил, что они «слишком умны, чтобы быть плохими художниками». Это был неважный комплимент, но и вообще его антисемитский душок был часто не совсем нам приятен. Правда, он не скрывал этого и с чисто русской откровенностью сознался нам, что антисемитизм привит ему с молоком матери с раннего детства. Он, как Толстой, борется с ним, так как знает, что это нехорошее и неправильное чувство, но оно сильнее его. Бессмысленно ненавидеть народ, которого почти не знаешь. «Когда-то, когда он молодым человеком был на Литве и в Польше — служил военным, — он встречал евреев, но, конечно, не близко. Почему-то все они были бедные, жалкие и носили какую-то странную одежду, лапсердаки, головные уборы и пейсы и какие-то ниточки висели из-под жилетов».
Впрочем, Библию [Старый Завет] он знал наизусть, и на его картинах евреи всегда идеализированы или наоборот, представлены в виде карикатур. Он даже сам рисовал библейские типы. Раз он спросил, не бываю ли я в Петербурге, он бы хотел с меня рисовать какую-нибудь праматерь — Рахиль или Ревекку или Сарру. Кончилось наше знакомство на том, что он не исключает возможности существования какой-то «секты талмудистов, о которой мы, может быть, вовсе не знаем». [Это было перед процессом Бейлиса[175]. Мы стали избегать его общества.]
Другая русская дама, генеральша, с которой я познакомилась в ванных, когда я ей немного рассказала об антисемитизме и преследованиях евреев в России, в «черте оседлости», о том, что в столице могут жить только академики и квалифицированные ремесленники, мне ответила: «Дорогая моя барынька, вы преувеличиваете, я ничего подобного не слышала, я нахожу, что у нас в Петербурге даже слишком много евреев. Я боюсь, что вы превратитесь в опасную революционерку. Красивая дамочка, как вы, должна больше заниматься своей наружностью и веселиться и не вдаваться в политику».
Русская аристократия не знала, что делается у них под носом. Они знали о «еврейском засилье», но не знали о еврейских страданиях. Наряду с пропагандой сионизма, мы с Марком ездили часто в город, ходили по музеям и по театрам, слышали «Тангейзер» и «Лоэнгрин» Вагнера, и я себе покупала шляпки и платья для предстоящего конгресса.
Однажды, когда мы вернулись с полными руками и пакетами в отель, нас встретили криками: «Ее нашли, ее нашли!»
— Кого?
— Да Джиоконду! — и все начали смеяться.
Оказывается, как раз перед нашим приходом спорили, похожа ли я на Мону Лизу, и все нашли, что похожа. В то время Джиоконда пропала из Лувра, у всех на устах только и была Мона Лиза Джиоконда[176]. Я, конечно, очень смутилась таким приемом, но Марк принял этот комплимент, как будто он мне принадлежал по праву.
Мы были «белыми воронами» с нашими разговорами о Палестине и конгрессе, всех больше интересовали каждодневные курортные сплетни и кто кем интересуется и проч. Один молодой человек разглагольствовал, что ему нужны фактически четыре жены: одна для разума, одна для чувства, одна, чтобы проявляла волю (так как сам он безвольный), и одна для репрезентации. Не мешает, чтобы каждая из них принесла солидное приданое.
Второй идеал жизни: быть здоровым и не иметь детей (gesund und neine Kinder haben). Это значит, связь безо всякой ответственности и обязательств. Шницлеровский роман «Путь к свободе»[177] — это выражение тогдашнего венского отношения к любви, к жизни и браку.
В сентябре мы вернулись с конгресса домой. Была масса блестящих впечатлений.
Открытие конгресса в концертзале Вольфсоном; речь Усышкина об университете, речи Вайцмана, Руппина, Жаботинского[178]. Было торжественное паломничество на гроб Герцля. Был еврейский театр под режиссурой [артиста] Цемаха[179], было палестинское кино[180], первое в ряду палестинских фильмов, еврейский концерт. Мы были ненасытны, боялись пропустить что-нибудь, готовы все воспринимать, как это мыслимо только в молодости. У нас собралась компания молодежи, с которой мы вместе выходили по вечерам, обедали днем и переживали каждое собрание и заседание конгресса. Я была еще на женском митинге и на собрании русского землячества.
Но когда мы вернулись в Россию, все эти впечатления стерлись и затмились под влиянием кошмарного процесса Бейлиса. Если наш гуманный профессор в Бадене верил в «еврейские секты», которые употребляют христианскую кровь для пасхальной мацы, то у простых и враждебных нам масс, организованных царским правительством и полицией и Союзом «истинно русских людей»[181], не было сомнения, что евреи людоеды. Уголовный процесс воровской банды превратили в процесс против целого еврейского народа, и чтобы спасти проститутку и воровку Чеберякову, или Чеберячку,[182] как ее звали, — не остановились все: судьи, эксперты, сам царь — перед позорным преступлением клеветы, мракобесия чисто средневекового и навета на невинного еврея [и на весь народ еврейский]. Мы читали по пяти газет в день, отравляли себя подробностями этого процесса 20-го века.
* * *
Практика Марка развивалась очень слабо. Молодой врач должен был месяцы и иногда годы отсиживать в своем кабинете часы и дни, пока навернется пациент.
Иногда мы вечером выходили в концерт, особенно если это были гастроли Леи, Анны и Петра Любошица[183] или других столичных концертантов. Но больше мы сидели дома. Марк читал медицинские книги. Утром в качестве волонтера он работал в еврейском госпитале и клиниках, учился и работал. В октябре я уже была беременной, и хотя у нас еще не было заработков и я физически себя чувствовала плохо, мы были счастливы.
В январе <1914 года> меня пригласили в Москву, и я хотела еще до родов побывать среди своих и воспользоваться свободными денечками. Я видела в Художественном театре «Николая Ставрогина» Достоевского и слышала «Миньон» с Неждановой и Марию Лябию в «Паяцах»[184]. В Малом театре я видела Гзовскую в «Змейке», молоденькая артистка была хороша даже в этой убогой пьесе[185]. Концерт Глазунова[186] был серьезный и трудный, но очищающий душу. И в заключение я ходила на сионистские вечера.
Марк требовал моего возвращения домой.
В Минске я остановилась от поезда до поезда, чтобы повидать свою польскую подругу Ядвигу из Швейцарии, с которой мы были в переписке. Она не кончила университета, потому что не было средств, и вышла замуж. Брак сложился очень неудачно, и даже католические духовные власти дали ей развод. После этого она стала очень религиозной, ездила по монастырям и ксенздам, исповедывалась и искала такого священника, который бы ее «понял» и «отпустил ее грехи».
Мне, еврейке, все это было очень чуждо, но я понимала, что она душевно мучается и несчастна, и готова была облегчить ей душу «светским» образом — чем возможно.
* * *
Я пролежала всю весну на своем балконе с видом на Вилию. Было тихо, хорошо, зеленеющий сад внизу, вдали лес — Зверинец — и весь противоположный берег реки. Птицы очумели от весны, шум, перелеты с ветки на ветку, с крыши на дерево — наш сад, и деревья, и вербы над рекой — все было покрыто птицами, которые строили гнезда. После дождя воздух был чист, на реке мелькали свежевыкрашенные лодочки, люди работали, поили лошадей, пилили дрова, строили или чинили купальни, женщины выколачивали белье на реке. Во всем чувствовалась весна.
Я тоже перед родами привела в порядок свое гнездо и ждала разрешения: каждая женщина чувствует себя перед первыми родами, как перед смертью, делается жалко каждого упущенного момента жизни, каждого непрожитого и неиспользованного часа.
По вечерам мы с Марком ходили гулять, чтобы много не пополнеть и чтобы роды были легкими.
И хотя я готовилась к смерти и знала, что для смерти абсолютно безразлично, сколько книжек я не дочитала и сколько часов не доиграла на рояли, я читала, играла на рояли, изучала еврейский язык и писала «прощальные письма» своим друзьям.
Запах груши в цвету был неприятен, но опадающие лепестки яблони и груши радовали глаз. Я страдала от жары, грозы, молнии и грома, любила ливень, который прочищал воздух, и снова ложилась на балкон, вдыхала в себя свежий и влажный воздух, любовалась оттенками речной синевы и солнечными бликами и читала книгу.
Седьмого мая по старому стилю я родила девочку. Назвали мы ее Рут.
Я не знала, что бывают такие муки, я всю ночь говорила: «Я больше не могу». Но надо мной все смеялись: так говорят все женщины, когда рожают.
Бедный папа маленькой Рут, кажется, больше моего «не мог». Он бегал по коридору, забегал ко мне, опять убегал, и если бы не он, я, кажется, орала бы еще больше, но мне было его жаль[187]. Под утро все было кончено, и я не умерла.
На следующий день приехала моя мама с полными руками подарков, от себя, от дедушки и от всех тетушек. Тут было приданое для ребенка, сервизы, деньги, белье и разные вещи, которые мне следовало бы получить еще к свадьбе. Я не только получила дочку, но и маму. Материнство нас соединило, она примирилась с моим браком и с моими дикими взглядами — сионистскими, и в нашем доме была полная идиллия. Цветов наслали столько, что вся квартира в них утопала, цветы выносили вечером из моей комнаты, и утром уже были свежие. В столовой был целый кондитерский магазин. Из-за присутствия матери ни отец, ни мачеха, конечно, не могли прийти меня поздравить, но они мне послали целый воз продуктов, вино, мед и все те запоздалые «дрошегешенк», свадебные подарки, без которых не обходилась ни одна еврейская семья: пара серебряных подсвечников, серебряная сахарница, бокалы для вина и проч.
Наша обстановка была более чем скромная, и теперь как будто все хотели наверстать упущенное и вознаградить нас за прежнее невнимание.
Из всей этой сутолоки в доме я, как бирюзу, извлекала взоры нежно-голубых глазенок моей малютки Рут. Я прижимала к себе ее сладкое, ароматное тельце, выкупанное почему-то в отрубях, а когда я встала, я снова начала любоваться лунными ночами, слушать [пение] соловьев, ждать каких-то новых чудес в жизни. Мне было 22 года, и жизнь была прекрасна.
Стояла уже палевая тихая осень, и женщины были особенно нарядны и веселы в то лето, и голоса мужчин баритональны, как бархат. Леса с высокими сосновыми аллеями и мягким мхом и травой и тихо катящейся рекой внизу — все было сказочно, и все как-то иронически улыбалось, когда случилось то самое страшное, чего никто не ожидал.
* * *
Случилось нечто чудовищное, как крик дикого зверя, как пляска безумных: нет сравнения. [19 июля по старому стилю] Первого августа по новому стилю была объявлена война.
Если бы теперь, оглядываясь назад, я вспоминала те четыре года, за которыми пришло замирение, и не повторилось бы снова и снова то же самое, может быть, я могла бы говорить о Первой всемирной войне, как о какой-то истории, о прошлом. Но теперь, когда мы стоим снова в разгаре событий, вся жизнь кажется сплошной — тридцатилетней — войной, как будто не было ничего иного.
Первая война была мировая, еще небывалая в истории. Последняя ночь, которую мы провели с Марком без сна, в упаковке, в слезах, как если бы это была последняя наша ночь в этой жизни. Он меня старался успокаивать, чтобы из-за ребенка, которого я кормила, я не волновала себя и не расстраивалась, но ничего не помогало. Говорили последние заветы, прощания, просьбы, обещания, давались последние ласки и утешения.
Марк был призван с первых же дней. Его прикомандировали к передвижному лазарету Красного Креста.
На вокзале трудно было сказать друг другу слово: было тесно, шумно, бестолково. Перед отъездом мы еще бегали покупать офицерские вещи, кожаные несессеры, какие-то никому не нужные бювары для писем, портфели, бинокли, все это пахло новой кожей. И такими же новыми кожаными чемоданами пахло от всех офицеров на вокзале в зале второго и первого класса. И так же заплаканы были все жены, дети и матери, и невесты.
Перед большим образом Богородицы валялись, вернее, валились бородатые солдатики в слишком больших сапогах и слишком длинных шинелях и, снявши шапки, так усердно бились головой об пол и протертый коврик перед иконой, что такая молитва, казалось, не могла не спасти от пули. А когда я вернулась с вокзала домой в свою пустую квартиру и прижала к себе малютку Рут, я чувствовала себя вдовой, а Рут была сиротой.
Потом настали дни одиночества, тоски, ожидания писем, приездов, коротких побывок на сутки и даже меньше.
Начали приходить известия с фронта о раненых знакомых, о пропавших без вести в Самсоновской Армии[188], о близких и дальних. Когда прибывали эшелоны с ранеными, я стояла на улице, заглядывала на носилки, с которых выгружали раненых, или стояла на вокзале среди толкотни прибывших или в ожидании еще не прибывших поездов.
Иногда я ждала поезда и час, и два, под дождем, между двумя кормлениями, чтобы в конце концов узнать, что транспорт не выгружают, что поезд перевели на другую станцию, или на другую линию, или вовсе послали в обратном направлении. И снова надо было ждать и ждать. От всего этого волнения у меня окончательно пропало молоко. Мы боялись, что не будет и коровьего молока, и ребенка перевели на грудь кормилицы. Это было хуже всего.
У кормилицы Маши, еще очень молодой девушки, которая заимела незаконного ребенка, не было первое время достаточно молока для двух детей. Надо было устроить ее ребенка на искусственное вскармливание, его отдали к какой-то женщине, дворничихе, у которой был свой ребенок и которая прикармливала обоих детей молоком — давала им «соску» (из хлеба, завернутого в тряпочку) и вообще старалась выходить детей по-своему.
Сиротские приюты назывались «домами ангелов», потому что там дети просто умирали без ухода и редко какой ребенок выживал. Здесь же простая женщина получала плату за каждого приемыша и была заинтересована, чтобы он жил. Но ребенок заболел и не выжил.
Я в первый раз в жизни поняла, какой страшной ценой покупается материнское молоко для богатых детей: я хотела спасти этого чужого ребенка, я бегала к врачам и в аптеку, пробовала взять его к нам, но все было напрасно. Я вспомнила, сколько кормилиц менялось у нас в Москве, когда моя сестренка была маленькой, всегда говорилось о том, что от волнения у кормилицы пропало молоко, что прибрал Бог ребеночка и проч. И я не понимала, в чем дело.
Когда Маша вернулась с кладбища заплаканная и я начала ее утешать, она мне ответила: «Что вы, барыня, да я вовсе не потому плачу, что Бог прибрал моего байстрюка, а уж больно ксендз дорого за похороны взял!»
Эти заботы на некоторое время меня отвлекли от самого главного: от войны. За два месяца все как-то выросли, постарели, изменились. Мы раньше не знали, не замечали, когда и почему люди десятилетиями накапливали злобу против своих ближних и почему так по-звериному и грубо начали они растрачивать эту злобу в форме войны. И хотя все были уверены, что война кончится через три-четыре месяца, что не хватит оружия, ни снабжения, ни продуктов, ни пушечного мяса, все начали привыкать к мысли, что это затяжная история, что война только в начале. О том, что война вообще никогда не кончится, об этом никто не думал.
Варварски разрушили город Лувен[189], и Реймский собор[190], и произведения искусства, и дорогие ценные библиотеки. Великие ученые и артисты, молодежь и совсем ни в чем не повинные женщины, дети, старики начали погибать тысячами. У всех было одно убеждение, что если эта война нужна, то только для одной цели: чтобы убедиться и доказать всему миру, как ужасна и бессмысленна война, как она вредна. Доказать воочию, что больше не должно быть войны. Война Войне!
И еще у малых и слабых народностей явилась надежда, что благодаря войне они будут раскрепощены, получат независимость и свободу. Но в таком случае должно было быть ясно, что это не последняя война, а первая в ряду длительных и тяжелых операций.
Я по ночам не могла спать. Я прислушивалась к дыханию своей малютки и думала о том, что нас ожидает впереди.
Марк иногда приезжал на несколько дней на побывку. Он был усталый, мало рассказывал и спал столько, сколько ему давали. Я могла заботиться только о его ванне, еде, покое. Мы не говорили ни о том, что там, и мало о том, что здесь.
Праздники он провел дома, но мы никуда не ходили, отказались от приглашений всех родственников и не ходили в синагогу В городе было тревожно, ловили каждый слух на лету, ходили в кафе Штраля[191], где собирались беженцы, жены призванных и где сестры милосердия отводили душу между работой и ночным дежурством.
После того как немцы попали в Бельгию, они двинулись на Францию. Они были уже почти под Парижем. Их отогнали, и они снова наступали. Англия готовилась к воздушным налетам, в первый раз в истории. В Польше немцы были под Варшавой, заняли почти всю Польшу, и их снова отогнали. Они были в Друскениках, в Сувалках, а потому русские двинулись на Львов и ниже Пшемышля. Турция неожиданно напала на Крым. Русские отозвали свое посольство из Константинополя.
* * *
Я больше не могла вынести этого бездеятельного ожидания. Ребенок имел кормилицу, которая была неплохой нянькой, и я бросилась в общественную работу. Иногда я дежурила в еврейском госпитале, я прошла в спешном порядке курс сестры милосердия. Госпитали были переполнены обрубками тел без рук и ног, умирающих, у которых спинной хребет был тяжело поврежден. У других были раздроблены внутренности. Одни в предсмертных муках корчились от боли и просили смерти, кричали хуже, чем в предродовых болях, другие лежали, как герои (георгиевские кавалеры), окруженные цветами, сестрицами, которые за ними ухаживали, многие были без сознания, даже без стона. Сестриц милосердия в белых платочках, из-под которых выглядывали локончики, завитушки, заботливо сделанные ночью папильотками, было больше, чем нужно, — это была большая мода — работать в госпиталях.
Я решила перейти на другую работу: в детские креши — приюты, и потом при беженском комитете[192], в котором я уж осталась до моего отъезда из Вильны. Вильна переменила свой лик: раньше это был провинциальный северо-западный город с еврейским и польским населением, довольно скучный и бедный. Теперь Вильна превратилась в ближайший тыловой центр, каждая маленькая лавчонка превратилась в склад военных снабжений, повсюду были военные свитеры, перчатки, шапки, эполеты, пуговицы, кожаные изделия, не говоря уже о продуктах, белье, книгах и писчебумажных принадлежностях, которые шли в огромных количествах на фронт и употреблялись на месте. Даже дамские туалеты, дорогое белье и кружева, драгоценности для тех, кого называли «маркитантками», продавались во всех лучших магазинах. Все кипело, и все лавки были переполнены.
Так называемые богатые беженцы были богаты в прошлом, а теперь распродавали свои меха и бриллианты, наполняли кафе, отели, улицы. Офицеры, помывшись и приодевшись, приходили к Штралю со своими дамами, военные корреспонденты всех газет, местных и столичных, собирали здесь сведения, свежие новости с фронта и писали свои впечатления из ближнего тыла. Иногда среди всей этой шумной и пестрой толпы попадались спекулянты валютой и разными «дефицитными» товарами, поставщики, которые жирно зарабатывали на войне, и подозрительные личности, о которых никто не знал, какая газета или фирма их послала. Шикарные женщины посылали через лакеев записочки офицерам и тут же получали от них ответ. Но больше всего сюда приходил наш брат, жены и невесты солдат, чтобы получить какой-нибудь поклон или новость с фронта или просто встретиться со знакомыми, товарищами и товарищами по несчастью. С тех пор как я отлучила ребенка и передала его няньке, дома мне было невыносимо одиноко и грустно. Рут привыкла к няне и охотнее сидела у нее на руках.
Вскоре некоторые подруги по гимназии начали появляться в траурных вуалях. Иногда собирались у той или другой дамы, чтобы вязать шерстяные шлемы, нарукавники, варежки для солдат. Старшие дамы вязали чулки и пуловеры, но мы еще этого не умели.
Количество беженцев все увеличивалось, со дня на день. Беженских детей стало так много, что учительницы не справлялись, и мы заменяли их каждый день в послеобеденные часы.
В разных школах, куда нас посылали, мы занимались с детьми ручным трудом, руководили играми, пели песни и кормили детей. Были дни, когда нельзя было отказываться ни от какой работы — иногда это была раздача еды на субботу, иногда уход за больными или устройство людей на новых квартирах. Самая тяжелая работа была при «решершах», переписи беженцев на местах, где они уже были кое-как устроены. В будние дни беженцы приходили в дешевые кухни обедать или брали еду на дом. В пятницу мы им приносили деньги на дом, и женщины сами себе готовили на субботу.
Тут мы натыкались на всякие типы беженцев и на все стадии беженства. Люди, которые вначале застенчиво выходили из своих комнат, отказывались принимать подачку: у нас, мол, есть еще, не нужно, дайте другим, — потом принимали эти деньги без всякого возражения. В третий раз они жаловались на то, что им дали недостаточно, что кто-то получил больше. В четвертый раз будировали и говорили о несправедливости. Под конец устраивали скандал волонтерам-общественникам, обещали жаловаться в комитет и «вывести на чистую воду».
Между собой эти товарищи по несчастью тоже никогда не могли жить в мире. Малейшая подачка, которая казалась кому-то более соблазнительной, чем то, что он сам получил, вызывала ссору и скандалы, до побоев. Нам приходилось не раз мирить, разнимать, угрожать лишением помощи, если не прекратятся зависть и пререкания.
Как с подачками, так было и с работой. Вначале все просили одного: работы. Но если предлагали работу, они отказывались. Для одного это было не по силам, для другого не подходило (ништ гепаст, ништ онгекумен). Тут мать говорила, что дочь квалифицированная портниха и не должна привыкать к «тандет»[193], там кухарка отказывалась стоять у плиты, потому что она слаба. Большинство отговаривалось тем, что им надо лечиться, просили талоны на врачей, лекарства, платья, потому, мол, что им не в чем выйти. Мы определенно знали, кто торгует талонами, кто продает платья, белье, обувь и вещи, — в перепалках они нам выдавали все тайны.
Они говорили, что нищенствуют на синагогальном дворе (шулхоф), там очень прибыльно — зарабатывают «сотни». Другие просили перевести их в Минск или Двинск, потому что им писали, что там люди получают не только все готовое, но и… театр. Для всего были очевидцы, и обо всех успехах (глики) в других местах знали все. Женщины больше всего ссорились из-за детей: тот ребенок побил ее сына или дочку, этот украл или съел что-то. Вообще, жалобы на кражи были почти каждодневным явлением. Иногда, когда мы заходили в комнату, в воздухе чувствовалось скрытое преступление, но никто не хотел говорить. Потом в коридоре или на дворе рассказывали, кого и в чем обвиняют.
Еще месяц тому назад эти люди производили впечатление приличных, даже интеллигентных, умоляли о работе, протестовали против филантропии, а теперь они доходили до унижения, падения, и в очень быстрый срок. Я приходила домой разбитая не только физически — непосильной работой, обсыпанная вшами, блохами, всегда боясь заразить ребенка какой-нибудь инфекционной болезнью, даже сыпняком (не раз мне приходилось помогать при перевозке тифозных с вокзала в больницу), — но разбитая морально, не веря в пользу того дела, которое мы делаем, считая его более вредным, чем полезным. Я понимала, что все это временно, что во время войны и повторной эвакуации нельзя затевать конструктивной помощи. Не сегодня — завтра мы сами превратимся в беженцев, и нас ждет такое же будущее. Обычно мы брали дома на окраине города, приспособляли их для массовой беженской иммиграции, и каждая группа наших волонтеров брала на себя заведывание таким домом. В одном этаже скопились так называемые свободные художники, не потому, что они были художники, а потому, что были свободные, безработные. Одеты щеголевато, в воротничках и модных галстуках, с напомаженными волосами на пробор и усиками, эти молодые люди претендовали быть учителями музыки (на мандолине), художниками (бывшие красильщики), писателями без имени и указания прессы, где они работали, и тому подобное. Некоторые заведомо избегали говорить на идише и говорили на ломаном русском языке.
Были такие, которые выезжали на своей набожности, не могли пойти работать туда, где трейф[194], не соблюдают субботу и проч.
Но было много таких, которые мне напоминали наших родственников и знакомых; они ничего не требовали, принимали неохотно и с болью то, что им давали, действительно застряли в нужде, высланные не по своей воле. В чужом городе, без средств, в ужасных материальных и социальных условиях, многие из них предпочли бы смерть этому мучению. Среди их соседей были больные венерическими болезнями, проститутки, гангстеры и профессиональные нищие, были такие скандалисты, которые себя выдавали за «партийных», пугали разными разоблачениями и протестами, потому что за ними якобы стоит какая-то организация, шантажировали криками, угрожали.
Тут же, среди этого человеческого материала, рождались дети, лежали голые и полуодетые на постели у больной и еще слабой матери старшие дети, как котята или щенки.
Иногда мать не посылала детей в школу или детские клубы по каким-то ей одной известным причинам: «чтобы не отрезали девочке косы», «чтобы ее не обижали другие дети» или «чтобы ее не лишила пайка». Никакие убеждения и даже угрозы лишить этого самого пайка, если она не пошлет ребенка в школу, на мать не действовали.
Ругань и проклятья, а иногда самоунижения и лесть по отношению к нам, работницам, приводили нас в отчаяние.
Это были всё вещи, к которым трудно и невозможно было привыкнуть, потому что каждая новая партия <беженцев> привозила с собой те же типы людей и те же явления: тех же бывших «файне баал габатим» (чудных людей с домом и достатком) или бывших буквально еще вчера тружениками и рабочими приличных людей, а сегодня уже — дно.
Люди оставляли свои машины, верстак, мастерскую, своих помощников и, беспомощные и безработные, безнадежно стояли в очереди за супом. Впечатление у нас оставалось такое, что эти люди не столько ненавидели подачку, сколько форму, в которой им давали помощь. Если бы прислали в закрытом конверте без контроля комитета — все охотно бы приняли, может быть, тоже роптали о сумме, о качестве одежды или пищи, но сам вид «комитетчиков» их бы не раздражал.
Целые семьи туберкулезных, разлагающихся, больных трахомой, хроников довершали эту массу беженцев.
В некоторые комнаты невозможно было зайти из-за вони и грязи. И тут же рядом находилась комната с комодом, на котором стояли подсвечники, над столом висела лампа, тикали часы на стене, стоял вычищенный самовар, и хозяин сидел над «Шасом» (Талмудом), а хозяйка заканчивала приготовления к субботе. Все это говорило о еще недавнем благополучии, о мелкомещанском мирном житии, и такие комнаты производили еще более печальное впечатление, чем типичные беженские берлоги.
Когда впоследствии мой отец наотрез отказался поехать с нами в беженство, я не настаивала; я видела своими глазами все эти стадии беженства, я знала, что он охотнее умрет на своей постели, чем подвергнет себя такой жизни.
* * *
Из Палестины тем временем приходили тревожные известия в связи с возможностью вступления Турции в войну[195], и был страх за маленькую горстку колонистов там.
В январе 15-го года маленькая заметка Жаботинского в газете повернула нож в нашем сердце. Из Палестины выслали четыре тысячи евреев в Египет. Преследовали сионизм, еврейский язык, еврейских стражей — шомрим, ликвидировали банк и боялись конфискации всего еврейского имущества.
Наряду с моей работой в ЕВОПО[196] (комитет помощи) шла наша обычная жизнь в кругу родных, друзей и школьных подруг. Одна из наших соклассниц, которую я любила больше всех, заболела тяжело. В работе для беженцев и домашних заботах я все не находила время ее проведать. Но однажды выбралась.
Сестра кормила ее киселем, она капризничала и отказывалась есть. Меня она еле узнала — она уже была полуслепа. Она жаловалась на боль во всем теле и на головную боль. Нетерпеливо переспрашивала, что слышно в городе, у меня, у подруг, но, не дожидаясь ответа, вдруг стала захлебываясь смехом рассказывать о каком-то музыкальном юноше из Петербурга, которого звали не то Раулем, не то Альбертом (прозвище), и, не кончив рассказа, застонала и замолчала.
Я ушла разбитая. Эта подруга, Лена, была самая веселая, яркая, способная девушка нашего класса. Очень музыкальная, она готовилась быть концертанткой, пианисткой и учительницей музыки. В концертах она всегда неистовала, аплодировала «до потери сознания». Она тоже принимала участие в революции 1905 года, но мы никогда ее революционность не принимали всерьез: однажды она шла на собрание «академической периферии» — было такое нелегальное учреждение, в которое мы ее выбрали членом, — но по своему обыкновению опоздала и потому не попала в облаву. Все потом над ней смеялись, и она больше всех: «Не удалось стать героиней!» Странно, что мы никогда не могли ее себе представить в будущем чьей-нибудь женой, матерью и даже концертанткой: как будто ее дни были сочтены. Впрочем, она с детства болела почками, как последствие скарлатины. Когда у нее болела голова (что случалось часто), никто не умел так заразительно смеяться, так гутировать[197] книгу, музыку, картину, красоту. Глупость и пошлость, мещанство она высмеивала и передразнивала в стихах, в прозе, в гримасах, на уроке и на улице. Мы редко понимали, почему ей нравится та или иная страница в книге, что красивого в описании шкуры пантеры с распростертой на ней рыжей женщиной, что хорошего в какой-нибудь модерной музыке или картине нового художника. Она всегда шла на несколько шагов впереди нас, всегда чем-нибудь увлекалась, и никогда не боялась прослыть циничной и даже «развратной». Говорили, что последние годы в Петербурге, где она училась в консерватории, она жила «бурно», каталась с кем попало на острова и прожигала жизнь. Даже не верилось, впрочем, может быть, она уже знала, что ей не долго жить на этом свете.
И вот я узнала, что она скончалась.
Я торопилась к дому, откуда должны были вынести ее маленькое тело. В большой комнате на плохо выметенном полу[198] лежала она, скорченная, покрытая черным старым пальто. Два рукава были разбросаны по обе стороны, а в изголовье горели три свечки.
Мать, такая же маленькая, вдруг состарившаяся женщина, заплакала при виде меня и сказала: «Вот наша Леночка».
На кладбище было тихо, снег покрыл могилы, хвою, памятники и холмы вдали. Говорили, что Лена любила сюда приходить на могилу своего молодого брата, и все повторяли, что как раз день его смерти совпадает с днем ее смерти, только пять лет разницы между этими двумя смертями. Как будто он ее позвал в день своей смерти, и она пришла. Мы свернули с главной аллеи в глубокий синеватый снег. Положили ее возле каменной ограды. Вдали был лес на горах. Сосны шумели. Вынули из гроба маленькое эластичное тело в белых «тахрихим» (саване), она извивалась в руках гробовщика, упала на дно ямы, которую тут же начали засыпать землей, смешанной со снегом. Отец прочел хриплым голосом кадиш (заупокойную молитву), кантор спел «Эль молей рахамим»[199]. Родные тихо плакали и начали расходиться.
Мы с подругами остались еще несколько минут, положили на холмик несколько роз и хризантем, которые принесли с собой. Я подумала о том, что несмотря на все убожество еврейских похорон и ритуала, наша Лена была бы рада таким похоронам: в них не было ничего неестественного. Не было мещанства, не было немузыкальных звуков и фальши. Скорее чего-то не хватало, но она бы предпочла недостаток излишеству.
* * *
Я продолжала работать в беженском комитете, особенно в регистрационном бюро, потому что меня заинтересовала статистика нашего виленского пункта. На собрании сотрудников было предложено создать несколько чисто конструктивных учреждений: вместо филантропических подачек — кооперативную лавку, где беженцы за малые деньги могли бы себе покупать по своему выбору, что им нужно; бюро труда вместо работы, которую им навязывали как ультиматум (кто не работает, тот не ест!), специальные школы для их детей, профессиональные школы и другие более достойные и радикальные меры помощи. Вся молодежь была за эти меры, потому что мы видели деморализующее влияние помощи деньгами и едой и потому, что в случае наступления немцев все эти учреждения могли быть как базис для общественной работы остающимся в Вильне. Новая эвакуация надвигалась на нас, придвинулась вплотную.
Легенда о том, как «король шел на войну, да в чужедальнюю страну»[200], была легендой, а мы были на фронте. Все пограничные города уже освободили от гражданского населения, все квартиры там передали войскам, и то же угрожало Вильне.
Марк, который снова на несколько дней приезжал со своим эшелоном, уже рассказывал о надвигающейся опасности, наступлении немцев, и мы начали все чаще задумываться, куда и когда нам двинуться.
Русские писатели выпустили воззвание по еврейскому вопросу, антисемитизм в армии рос, и такие люди, как Леонид Андреев, Максим Горький, Федор Сологуб, должны были обратиться к русскому населению, чтобы не поддавались внушению темных масс и не верили клевете на евреев[201]. Евреев обвиняли в германофильстве, потому что они на своем жаргоне могли сговориться с врагом[202], в шпионаже, в спекуляции и прочих смертных грехах. Марк рассказывал о канонаде, которая слышна с передовых позиций; в его лазарете и вагонах дребезжали стекла, офицеры часто уходили на позиции и не возвращались, работы с ранеными — часто хирургической — было столько, что он засыпал почти стоя, сидя, лежа, как попало.
Несмотря на то что мы из тыла переходили в полосу фронта, Вильна делалась все более нарядной, расфранченной и оживленной, какой она никогда не была. Масса автомобилей, масса нарядных дам, переполненные кафе, улицы освещены полным светом. Тогда еще не знали «блекаута»[203]. Темп жизни в нашем тылу был как в лихорадящем теле с высокой температурой: тревога в воздухе, хватание момента, приближение неизбежного: отступление наших войск и наступление врага.
В начале войны был ужас, жуткое беспокойство — за близких, за детей, обещали, что будем есть крыс и собак, был страх за тех, кого привозили на носилках, кто попал в плен, кто, может быть, уже ранен и убит. Теперь же заботы повседневные, личная жизнь каждого в тылу, исчезновение продуктов, дороговизна, непропорциональная заработкам, жалованию офицеров, не говоря уж о солдатском пайке, и забота о завтрашнем дне — все это отодвигало общие вопросы, и забывали о «дальних» ради «ближних».
Чтобы не сойти с ума и не впасть в меланхолию, старались развлекаться и отвлекаться как и чем возможно: я, например, возобновила свои занятия еврейским языком и музыкой. Моя учительница была полька, беженка, очень хорошая шопенистка и, кроме того, образованная женщина, бывшая сотрудница и приятельница Пилсудского, близкий друг Элизы Ожешко и художника Жмурко[204]. Портреты всех этих людей и оригинальные картины Жмурко висели у нее на стенах в ее маленькой беженской квартире.
Для меня эти уроки музыки и языка были как опиум, который мне давал на несколько часов в неделю забвение от всего, что я переживала в работе для беженцев. И вот наступили самые тяжелые дни.
В Нововилейске, в той милой дачной местности, где мы жили бывало и где я каталась на лодке и мечтала с книжкой в руке, теперь были беженцы, целые транспорты, по 1000 человек, и все лежали под открытым небом, голодные, холодные. Целая группа наших работников поехала на подводах и извозчиках отвозить им еду, хлеб, чай, сахар, медикаменты. Все это было каплей в море. В Вильне было уже 800 беженцев. Люди из Галиции рассказывали ужасы. Нуждающихся было так много, что мы перестали разбирать между теми, кто действительно ничего не имел, и теми, кто скопил себе кое-что «на дорогу». Мы давали уже квартиры без разбора, в плохих районах, в старых и негигиеничных домах. Усыпленное чувство чести, позор — это то, что мы оставили в душах этих накормленных и пригретых нами людей. Не одним хлебом жив человек, но и слезами нищеты[205]. Мы давали на Пасху жир, мацу, мяса вволю, сладости для детей, мы оставляли свои семьи и свой Сейдер и приходили оделять и устраивать их Сейдер, но мы чувствовали, что в каждой тарелке супа, «галке» или «кнейдлах»[206], в каждой маце — есть горечь подаяния.
Мы проклинали то русское правительство, которое вместо помощи этим несчастным беженцам само выгоняло их, превращая в париев.
Из прифронтовой полосы началось поголовное выселение евреев[207], их квартиры занимали их соседи, грабили их имущество, и получалось впечатление, что весь навет на евреев был создан только для того, чтобы разорить еврейское население и обогатиться на наш счет.
В начале апреля, когда весна уже была в воздухе и в людях, я однажды вышла в весеннем костюме, чтобы купить себе и весеннюю шляпку. Так хотелось быть снова молодой и забыть все страдания.
По дороге, проходя мимо беженского комитета, я увидела на тротуаре около двухсот человек новоприбывших беженцев. Женщины, дети, больные старики, все измученные с дороги, так что молодые казались старыми. Их только что выслали из одного города; и за то, что они замешкались, собирая свои пожитки, в наказание послали этапом и угрожали посадить в тюрьму. Их обвиняли в том, что они «хотели остаться у врага». Еле удалось их отстоять и оставить на свободе.
Я надела халат, начала поить детей молоком, накормила булками, отправила всех на временную квартиру — распределитель, все это заняло часа четыре. О шляпке и весне я забыла. Измученная, вернулась домой, взяла ванну, не заходя в детскую, чтобы не занести тиф моему ребенку, и легла в постель с книгой Германа Банга о войне — рассказ «Тине»[208]. Там тоже героиня несла тяжести войны, отречение от личного счастья; ее глаза были всегда с поволокой слез.
* * *
Неужели так было, так будет и никогда не кончится? — спрашивала я себя. Впрочем, иногда в силу самосохранения молодежь в нашем комитете «вырывалась» и убегала от этого кошмара.
Так, в Пурим мы устроили вечеринку, наготовили бутерброды, купили вскладчину вино, фрукты, играли в фанты, танцевали, пели еврейские песни, заставляли Ралю декламировать юмористические стихотворения, а меня — танцевать соло. Марк, который случайно был в отпуску, был веселее всех и душой общества. Наутро он уехал на фронт, а мы вернулись к своей работе.
Малютка Рут начала страдать зубками, сделалась капризной, ее нужно было отлучить от груди. Я разрывалась между своей детской и комитетом. Я читала книжки по физическому воспитанию, советовалась с нашей женщиной-врачом, но все это было насмешкой над теорией: искусственное питание делалось все труднее и труднее, а опасность занести заразу и вшей могла в любой день превратить мою малютку в такую же больную выселенку, как те малютки, среди которых я работала.
В работе мне приходилось почти ежедневно встречаться со всеми моими подругами: мы очень сблизились, и они приходили ко мне со всеми своими проблемами и горестями. У Рали муж тоже был мобилизован. Она мне созналась, что не в состоянии быть «верной» тому, кто отсутствует. Другая товарка по комитету, тоже подруга по школе, красавица Нина, с классическим лицом, с горбинкой на греческом носу, пышными черными волосами и карими глазами, с очаровательной улыбкой и красивыми зубами, классического сложения, молодая и свежая, приходила ко мне со своим горем: ее жених был в плену. Она не знала, что будет с их любовью, увидит ли она его вообще в жизни. А жизнь тем временем идет дальше, у нее много поклонников, которые готовы на ней жениться, но она верна жениху и будет ждать конца войны. И будет ли этот конец, и когда?
Другая подруга, Зоя, была сестрой милосердия. Каждый день она подвергалась соблазнам: врачи, студенты-медики, санитары, раненые офицеры — все не дают проходу, все уговаривают не быть мещанкой, мелкобуржуазной барышней. Нужно жить сегодняшним днем, мы не знаем, что нам принесет завтра. Любовь на плоскости операционной комнаты и докторской, куда дежурные ночные сестры приходят выпить стакан кофе или ликера, — это называлось у них «географической любовью» — как быть? Их пошлют на фронт, и сама она уйдет на фронт и тогда пожалеет о каждом потерянном часе. Кто ей вернет, заплатит за непрожитую жизнь, за аскетизм, за целомудрие? Иногда она говорила: «За один миг забвения я отдам все: молодость, здоровье, честь». Но назавтра она отрезвлялась и приходила в другом настроении: «Я послала всех ко всем чертям. Они уедут, а я останусь одинокая, опозоренная и больная». Я смеялась над ее «последовательностью».
Однажды пришла врачиха по детским болезням, которая работала в комитете и была нашим домашним врачом, и рассказала мне свою трагедию.
Еще до войны она была с родителями за границей. На курорте познакомилась с очень образованным, красивым и богатым молодым человеком. Она начал за ней серьезно ухаживать, они ездили в театры, на выставки картин, в музеи, гуляли в парках и лесах, и они вернулись домой женихом и невестой. Когда она назвала имя жениха, мне было очень трудно скрыть, что я знала его биографию, что он был женихом одной прекрасной бедной девушки, которую оставил из-за того, что у нее не было приданого. Но я скрыла от Лели это и слушала дальше ее признание. В один прекрасный день ее мать созналась ей, что родители жениха требуют такого богатого приданого, какого они не в состоянии и не хотят дать. В ответ Леля не хотела поверить матери и сказала, что это немыслимо, что они полюбили друг друга без вмешательства родителей и их брак не будет зависеть от приданого. Мать расхохоталась ей в лицо: «Я не думала, что у меня дочь такая дура, ведь весь ваш роман был подстроен нами, мы выписали его на курорт, шадхан (сват) не требовал большой суммы, и все было в порядке. Но если они такие свиньи, я вовсе не хочу, чтобы ты выходила за него замуж», и т. д., и т. д.
Леля тут же на месте побежала к жениху и с ним порвала. Он пробовал ее уверять, что он действительно влюбился, что сватовство тут не при чем, что он не требует никакого приданого. И вот она прибежала ко мне: что ей делать? Я, зная его прошлое, посоветовала ей записаться в эшелон Красного Креста или поискать другую командировку вне Вильны. Она так и сделала. Война завязывала и развязывала людей.
* * *
Вечера мы часто проводили в кафе Штраля. За столиком собиралась компания жен-солдаток, так мы себя называли. Один товарищ с фронта рассказывал: «Разглядел я на колокольне трех немцев, сообщил коменданту, велено было уничтожить. Выкатили в восемь секунд орудие, навели — и башню смело». Я думала, верно, врет, хвастает, как это можно в восемь секунд смести башню? Но было занятно слушать. Собеседник важно закурил другую папироску и продолжал рассказывать о других своих геройских поступках.
Говорили о цепеллинах, о бомбах, которые бросают с аэропланов, о разведке и «немецких зверствах». Все это звучало как-то невероятно на фоне красного дерева панелями кафе, с зеркалами во всю стену, с нарядными женщинами, с блестящими мундирами офицеров, полковников, врачей.
Однажды я за столиком увидела женщину. Ее лицо было мне очень знакомо, но она была так намазана и одета, что я не могла вспомнить, где я ее видела. Было ясно, что лакей ей приносит записочки, что она отвечает офицерам, назначает время и сумму или условия. Когда она улыбнулась кому-то и на лице заиграли две ямочки, я вспомнила: моя вагонная спутница. Верно, потеряла мужа, потеряла голос, и вот она у Штраля, за столиком. Я боялась, как бы она меня не узнала, и быстро ушла из кафе.
* * *
Когда наши денежные фонды истощались, комитет ЕВОПО устраивал кружечный сбор, и нам нужно было целые дни бегать с кружками, а вечером до глубокой ночи мы подсчитывали деньги: медные, серебряные, а иногда попадались и рублевые бумажки. Но нужда была больше того, что мы могли собрать.
И, наконец, пришел последний удар для еврейства черты оседлости — ковенское выселение. Нам сообщили, что в том же Нововилейске скопилось очень много вагонов с беженцами, но их не оставляют, а посылают дальше в Россию. Нужна скорая помощь, еда. Это было в Шовуот[209].
Их было, как выяснилось, так много — десятки тысяч, — что мы перестали считать и регистрировать, вода дошла до горла[210]. Мы перестали понимать, что творится вокруг нас. Ничего ужаснее до того я в своей жизни не видела, несмотря на то, что я почти год работала только среди беженцев.
Двадцать вагонов были битком набиты людьми. В первом вагоне я заметила семью, по-видимому, вчера еще богатую: мать и две дочери. Одна — красавица с черными локонами и голубыми глазами, с застывшим мраморным лицом. Без слез, без единой кровинки в щеках, она была похожа на статую. Я ее мысленно назвала Галатеей. Другая — более реальная, заплаканная. Мать мне рассказала, что их отец блуждает где-то по дорогам с товарами, а их везут неизвестно куда и неизвестно зачем.
Во втором вагоне старик с парализованной женой. Он хотел ее тайно снять, потому что боялся, что она не перенесет дальнего пути. Он хотел ее похоронить хотя бы на еврейском кладбище, если она умрет, не на чужбине. Но его отговорили, у нас не было носилок, власти запретили снимать с поезда больных, потому что Вильне, по-видимому, готовили судьбу Ковны. Старик попросил меня принести что-нибудь вроде басона (подкладного судна), так как не успел взять из дома даже самого необходимого. Я, не имея такого, принесла ему из нашей походной кухни мисочку, он поблагодарил и за это.
Больше я не могла различать индивидуальных лиц. Все слилось в одну общую массу в 24 часа постаревших, обнищавших, посеревших, запыленных, осиротевших и овдовевших людей. Плачущие дети, грудные малютки, рожающие женщины, дети, потерявшие родителей, и матери, бегавшие по вагонам искать какого-то мальчика или девочку. Матери, не успевшие проститься со своими сыновьями, которых отправили на фронт, жены, раненые мужья которых остались в лазарете там, в Ковне (и, может быть, их уже нет на свете или их эвакуировали в глубь России). Я себе записала кое-какие имена и названия армейской части, номера этих оставленных солдат (думала, что Марк поможет их найти), и все эти люди — среди них городские нищие, отсортированные в специальный вагон, потому что с ними никто не хотел ехать, полусумасшедшие, дурачки, калеки, эпилептики — все они обвинялись… в шпионаже.
На вагонах было написано: восемь лошадей или 40 человек, но в каждый вагон было напихано до ста людей или больше, кто считал? В одном вагоне была богадельня, с заведующим, который о них заботился. Когда мы подходили со своим подносом праздничных даров (к Шовуот), которые мы получили на вокзале от случайных людей (приносили нам несколько кусочков рыбы, сдобные булочки: «Берите, это все шовуот, у нас в доме не было больше, потому и мало»), и когда мы делили еду с кувшинами чая и молока и кофе (в Шовуот евреи пьют кофе с булочками), наши слезы капали на поднос, в чашку, и не было свободных рук, чтобы их вытереть. Краем рукава мы стряхивали слезы и шли дальше с фаршированной рыбой, с хлебом и колбасой.
Как и в комитетских столовых, тут были такие, которые отказывались: спасибо, дайте другим, у нас еще есть запасы. Другие брали спокойно: пригодится, мол, на дорогу. Третьи жадно вырывали из рук, как на картине «В погоне за счастьем»[211], — кусочек селедки, хлеба, стакан молока и пр. Иногда мне казалось, что я упаду в обморок. Так, верно, выглядело на погибающем пароходе «Титаник»[212], когда вырывали спасательные круги друг у друга из рук. Мне было дурно от запахов, от этих жадных рук, глаз, ненормальных лиц и тел. Дантовский ад — вот была бы красивая иллюстрация к поэме.
Этот навет на евреев был продолжением процесса Блондеса[213], Дрейфуса, Бейлиса. В пять часов вечера я вернулась домой.
Несколько дней и ночей продолжался этот кошмар. Повозки за повозками, фургоны невообразимых форм, телеги от навоза, извозчики, наполненные так, что лошади их еле тащили, — больные, роженицы.
«Герман и Доротея» была красивая сказка, идиллия в сравнении с этой еврейской трагедией. Часто гроб умершего присоединялся к этой процессии. Поляки кричали вслед: «Так и надо им, жидам, — уж больно разжились», «Загнать бы их всех в одно место и уничтожить», «Перерезать всех». <Они помогли немцам сделать это тридцать лет спустя.>
Классы стерлись: хозяйка с семьей и ее прислуга с семьей ехали в том же вагоне и ели из той же миски.
А тыловой город Вильна продолжал жить своей жизнью. На концерты приезжали одетые в хаки великие русские артисты — Собинов, Смирнов[214]; дамы спорили, кто лучше, Собинов был уже немного в упадке, но был мечтательнее, интеллигентнее, менее «тенорист», а «Димочка-душка» был еще в расцвете своего голоса, пел бравурно арию Риголетто — «сердце красавицы…», позволял себе трюки, слишком много «бель-канте, пьяниссимо, замираний». И о том, кто лучше и кому больше аплодировали, говорили на следующий вечер в кафе Штраля.
А беженские дети пели с учительницей песню: «Монтиг бульбе, динстог бульбе…», песню о картошке — «В воскресенье — картошка, в понедельник — картошка, во вторник и среду — картошка, в четверг и пятницу — картошка, в субботу, для перемены, — картофельный кугел, и в воскресенье снова картошка». Когда этим детям рассказывали сказку о волшебницах и феях, они смеялись и говорили, что все это — «бобемайсес», бабкины сказки, в которые они не верят. Они смеялись над учительницей, которая занимает их такими глупостями, эти реалистические, наученные горьким опытом, трезвые еврейские дети.
* * *
Наконец, приехал Марк и потребовал, чтобы мы безотлагательно оставили Вильну. Он знал, что наступил последний срок. Нас ждало выселение или его самого вышлют на Восточный фронт, на Кавказ или дальше, и тогда мы останемся разлученными, отрезанными друг от друга. Этот довод был самым сильным, и мы начали в быстром темпе готовиться к отъезду.
Марк взял двухнедельный отпуск и перевез нас в Лугу, ближе к Петербургу. Нас провожали на вокзале все, кто мог вырваться.
Мой бедный папа, который ни за что не хотел ехать с нами в беженство, хотя его жена уже давно поехала к своим детям в Россию, стоял на перроне. Он перчаткой протирал свое пенсне, все беспокоился о малютке Рут, чтобы ее не простудить в дороге, чтобы хорошо ее кормить и проч. Он дал мне с собой мою страховку, полис, так как знал, что это его последняя помощь нам.
В Луге мы сняли маленькую дачку, ребенок был первое время сильно беспокоен без своей няни и привычной обстановки, но когда мы устроились и нашлась новая няня и кое-какая мебель, детская кроватка, ванночка, она привыкла, и мы обжились.
Марк уехал обратно, на Северо-Западный фронт. Я не знаю, какое прощание — первое, в начале войны, или второе, когда он возвращался на передовые позиции, — было более печальное и жестокое.
Я осталась одна со своей Рут. Ей исполнился год, но она еще не говорила и не ходила. На столе кипел самовар, но, спев свою печальную песенку, он затихал, потому что не было никого, кто выпил бы вторую и третью чашку. Я была с песками, с лесом, речкой, озерами и прудами. И с Рут. Сквозь тюлевые занавесочки прокрадывалась светлая петербургская белая ночь. В деревне лаяли собаки. Было еще холодно, и дверь на балкон была прикрыта. Каждое слово прохожих звучало четко в тишине ночи.
Моя мама жила снова в Москве, а в Петербург переехала только тетя Нюта, которая тем временем вышла замуж. Иногда она приезжала нас проведать. У нее еще не было детей, и она привязалась к моей дочке.
Утром мы с Рут спускались к реке, я расстилала большую пеленку или одеяло на травке, она лежала на животике, тянулась к стебелькам, следила за божьей коровкой, улыбалась, не могла ничего сказать, сползала со своей подстилочки, чтобы что-то сорвать и схватить. Мы собирали ландыши, а потом я оставляла Рут с новой и еще молодой няней и шла на рынок, за покупками: цыплята, сметана, клубника — в Луге еще было всего вволю, не то что в прифронтовой полосе.
Под конец я нашла в Луге много знакомых петербуржцев и беженцев, как я сама.
Я начала учиться в белошвейной мастерской, чтобы шить для своей крошки, и потому, что день для меня был слишком длинным, и надо было его наполнить.
* * *
Однажды ко мне приехала моя старая знакомая по Лозанне — полька Ядвига. Она работала в Гатчине в качестве гувернантки — преподавала французский язык. Вначале мы были очень рады встрече, но потом почему-то «договорились до честного конца». Однажды мы сидели на балконе и чистили клубнику. Для нее, как она всегда утверждала с немного преувеличенной лестью, было праздником приезжать ко мне, отдыхать в моем уютном доме, как бы богато или бедно он ни был обставлен, и говорить со мной «по душам», как она не может говорить ни с кем из своих родных и знакомых. И вдруг, что называется, ни к селу ни к городу она выпалила: «Я думаю, среди евреев есть немало разных шахер махеров[215], шпионов, предателей, и особенно среди польских евреев — они русифицировали наш край и погубили нашу страну».
— Где ты видела таких евреев?
— Я не видела, но так говорят. Ты, конечно, совсем другая, ты не похожа на этих польских жидов, и т. д.
Я прекратила всякую дискуссию на эту тему. Мы еле дождались вечернего поезда на Гатчину, я ее проводила, и на этом кончилась наша многолетняя дружба.
Я вспомнила, как в Лозанне на одном концерте, кажется, это был прекрасный концерт Яна Кубелика[216], ко мне подошла одна знакомая еврейка, студентка, и сказала: «Тут есть одна девушка, она минчанка. Она просто влюблена в тебя, хочет с тобой познакомиться. Кроме того, вы живете в той же местности, почему бы вам не поехать домой вместе?»
Она мне показала глазами на Ядвигу. Красивая, гордая полька с двумя косами, уложенными вокруг головы; я ее знала из наших ежедневных поездок в фуникулере в университет.
— Она мне не нравится, она антисемитка, — ответила я.
— А ты шовинистка, как ты можешь знать ее взгляды, если вы даже незнакомы. И к тому же у нее был друг еврей, только родители не позволили ей выйти за него замуж, и она могла бы теперь быть еврейкой, иметь еврейских детей. Не будь такой узкой националисткой.
Я решила себя перебороть. Мы познакомились с Ядей, встречались ежедневно в течение целого семестра, она поверяла мне все свои тайны; я влияла на нее, чтобы она не оставляла университета, чтобы она готовилась к экзаменам; я ее приглашала потом после своего замужества к себе, знакомила с нашими друзьями, принимала, как если бы она была мне самым близким человеком, посетила ее в ее доме, познакомилась с ее родителями. И в конце концов она открыла свои карты — она ненавидела евреев.
Я не могла ей рассказать, какое впечатление на меня произвело ковенское выселение и как ее сородичи реагировали на это.
Но когда мы вместе читали «Лурд» Золя и она сочувствовала всем этим беснующимся хроническим больным, она верила в чудо. Но она не сочувствовала тем, для кого не было чудесного исцеления без собственного государства, кого гнали и преследовали только потому, что они были евреи, кому поляки кричали вслед: «Так им и надо, пархатым жидам, всех их загнать в одно место и перерезать». Я ей не рассказала об этих тяжелых переживаниях, потому что я думала, что она, интеллигентка, толерантная и проч., не ответственна за плебс, быдло.
И вот она оказалась в их числе.
* * *
В Луге была дивная природа, стояли хорошие летние дни, малютка Рут прекрасно поправилась, она уже начала понемножечку ковылять на своих ножках и лепетать первые слова. Она любила теплую ванночку и научилась кушать ложкой кашу или сметану с ягодами.
Я получала письма от Марка, бегала на почту каждый день, получала письма также от папы. Вильна все еще была в русских руках, но уже агонизировала. Я получала письма от знакомых военных корреспондентов, писавших об ужасах передовых позиций, которые все больше приближались к Вильне. Многие из моих подруг разбрелись кто куда; кто уехал с военно-медицинскими поездами в разные направления, другие беженствовали, некоторые подруги готовились поступить на высшие женские курсы или выйти замуж. Почта была самым главным моментом в моей жизни каждого дня.
Марк писал, что у него были «высокие посетители» в госпитале, председатель Татьянинского комитета, и губернатор, и еще представители Городского и Земского всероссийского союза помощи. Все обошлось хорошо, хвалили порядки, и он, кажется, получит заведывание госпиталем где-нибудь в тылу.
Конец лета затянулся больше, чем я предполагала. Когда начинал по ночам барабанить дождь по крыше, я начинала подумывать о том, чтобы двинуться дальше. Но, во-первых, простудилась в один из дождливых дней, а потом выяснилось, что я снова беременна.
Я мечтала осенью вернуться на свои курсы, а тут такая задержка. Во время войны с двумя крошками и мужем на фронте, с малыми средствами — было от чего прийти в отчаяние. Я полетела в Петербург к врачу, к моей тетушке Нюте, и хотела во что бы то ни стало освободиться от второго ребенка. Но Нюта, как и в детстве, приняла свой менторский тон, прочла мне «нотацию» и не позволила ничего предпринимать без Марка.
В ответном письме Марк, наоборот, поздравлял меня, был уверен, что у нас будет сын, и обещал скоро приехать.
От папы пришло последнее письмо, это было поздравление к еврейскому Новому году. Вильна была отрезана от нас на несколько лет.
На даче в Луге, как это бывало вообще на русских дачах, приятно и оживленно делалось только под конец лета. Когда нужно было уезжать, я познакомилась с одной музыкальной семьей, где бывали концерты, где вечно кто-то готовился к концерту, артисты «музыкальной драмы» пели, молодой гениальный скрипач упражнялся ежедневно со своим учителем на скрипке. Затеяли благотворительный концерт в пользу беженцев. Я сидела за цветами, собрали 1000 рублей, что было очень много для такого скромного места, как Луга. Все дачники к концу лета передружились, перезнакомились, устраивали прогулки, спевки и вечеринки. Бабье лето было мягкое и красивое, и вовсе не хотелось уезжать в город.
По дороге на Восточный фронт Марк приехал к нам погостить. Марк утешал меня тем, что после войны, когда мы приедем в Палестину, у нас уже будут двое больших детей, и было бы гораздо труднее начинать там жизнь с малышами. Мы начали упаковываться, Нюта приезжала несколько раз мне помогать, и с помощью Марка и Нюты и ее мужа мы благополучно выбрались из Луги и добрались до Москвы. Няню я взяла с собой из Луги.
* * *
В Москве мало чувствовалась война. Если бы не беженцы и не военные в форме, нельзя было бы сказать, что на границах идут бои. Оттуда приходили ужасные слухи и сообщения. Газеты замалчивали правду. Немцы заняли всю Польшу и всю Литву. Из-за поражений искали козла отпущения, и, конечно, не было лучшего, чем евреи. Не бездарность генерала Алексеева и его начальника Николая Николаевича Романова[217], не коррупция в области интендантуры, не неподготовленность к войне и слабость пограничных крепостей — только мы, евреи, были виноваты. Мы на нашем жаргоне «сговорились с врагом и продали Россию немцу»! Мы «выставляли огни на крышах»!
Уже в Луге на рынке я слышала: «Не меняйте ей деньги, это жидовка!». «Не продавайте жидам», — со злобой раздавалось в лавках, на почте, на улицах. На моей родине, в Москве, которую я любила, по которой всегда тосковала, куда всегда стремилась, в Москве, где я начала свою школьную и университетскую жизнь, где я была дома больше, чем где бы то ни было, где у меня были мать и дедушка и все мои родные, я вдруг сделалась не только проклятой еврейкой и беженкой, но я «объедала несчастный русский народ», я и мне подобные повсюду «толкались и лезли в очередь, наполняли театры и трамваи, улицы и магазины». А мой муж тем временем был на фронте, а я — солдаткой.
Я стала чаще искать еврейского и сионистского общества, я жалась к своим. Моя сестрица Оля нянчила мою Рут, как я сама нянчила ее в детстве. Я нашла очень плохую и дорогую квартиру, меблированную, которая принадлежала мобилизованному офицеру; его семья поехала в имение к родителям. Письма из Вильно прекратились. От Марка я получала почту под номером, без указания места. Я даже не знала, где он, в зоне опасности или в тылу.
Кое-как я устроилась. Я записалась на симфонические концерты под управлением Сергея Кусевицкого[218]. Я взяла абонемент на утренники в Большой театр и в Синодальное училище на трио камерной музыки.
В сионистских кружках вели дискуссию о Жаботинском, его активизме и проанглийской политике[219]. Я сразу приняла сторону Жаботинского, я не видела пользы в еврейском нейтралитете, и я читала в женских кружках доклады о Палестине, которую знала только по прессе и по тем данным, которые доходили до нас.
Москва была как кипящий котел. Улицы, переполненные людьми, богатые беженцы повсюду (бедных отправили в глубь России). Эти богатые беженцы кололи всем глаза своими туалетами, бриллиантами, шумным плохим русским языком, словечками «извиняюсь» (перевод с польского «пшепрашем»). Атмосфера антисемитизма в Москве сгущалась. Все боялись погрома, похожего на «майские события», когда громили немцев в начале войны, выбрасывали их мебель и рояли через окна и проч. Лозунги «Долой жидов», «жидовское засилье» — слышались повсюду. Дачи на ближайшее лето не сдавались евреям, беженский русский язык все передразнивали, также акцент и напев. У всех на устах был еврейский «национальный» костюм: «котиковое пальто и сапфировые серьги». За ложу на Шаляпина платили целое состояние, но если платили евреи, всем это кололо глаза. На Ильинке была облава, искали неприписанных. В Думе Чхеидзе и Фридман (наш еврейский депутат) не раз говорили о погроме, который висит в воздухе.
Дома у меня было масса дел и забот: ребенок, кухня, уборка, няня, которая еле справлялась со всем нашим маленьким хозяйством, дороговизна, так как все сильно вздорожало, плохое самочувствие из-за беременности, холод зимой — печи были испорчены, и мы топили керосиновую печурку, которую мне дедушка прислал в подарок. Центральное отопление было приостановлено из-за недостатка топлива.
Мне было 23 года, и я себя чувствовала старухой. Я хваталась за соломинки. Первая были книги: Рабиндранат Тагор, Ахматова, Брюсов, Бялик в русском переводе[220] и многое другое. Вторая соломинка — музыка. Я слышала Рахманинова с увеличенным оркестром и хором с солистами, которые пели «Зеленый шум» и «Колокола», и его собственные произведения, им же исполненные. В концертах пела Нежданова[221] — «Соловей», она и сама была русский соловей. В Большом я слышала «Травиату», но помнила в той же опере Кузнецову-Бенуа[222] и осталась недовольна. Пошла послушать «Аскольдову могилу» с Дамаевым[223], оперу, которую любила моя покойная бабушка.
Когда я была свободна от занятий и детей, я шла с тетей Фирой (тетя Фира была беженкой из Варшавы) в музеи и на выставки — мы с ней были единственные в семье, которые любили картины, статуи. В ту зиму все начали увлекаться футуризмом, кубизмом, супрематизмом, Шагалом, Альтманом[224]. Их портреты и картины выставлялись везде, о них писал художественный критик Россций[225] и другие.
Второе увлечение интеллигентской Москвы было — богоискательство. Андрей Белый, Зинаида Гиппиус и Мережковский, Гершензон, который писал о декабристах, Станкевиче, Грановском[226], затем теософия, антропософия Рудольфа Штейнера[227], религиозные коммуны, толстовство — все это обсуждалось, принималось и не принималось. Все искали смысла жизни в это бессмысленно-жестокое время.
Нас, сионистов, занимала проблема кооперативных хозяйств, в духе Франца Оппенхеймера[228], коммуны, которые уже тогда строились в Палестине. Впоследствии они приняли формы кибуцим.
Я мечтала о такой коммуне в Палестине, где можно было бы жить в силу внутренней дисциплины, не по принуждению, на основе взаимного соглашения. Труд физический и духовный, религиозная свобода — но не свобода от религии, — художественное воспитание детей и интенсивная культура для взрослых.
* * *
Художественный театр меня перестал радовать. Я не отрицала прекрасного исполнения и режиссуры, игру, постановку, весь этот тщательно выработанный «couleur locale»[229], на котором стоял и держался художественный театр — ансамбль, доведенный до совершенства, какого не было со времени Мейнингенского театра, о котором я только слышала и читала. Но было что-то в Художественном театре, что меня перестало увлекать. Может быть, благодаря совершенному ансамблю внимание не могло сосредоточиться на ком-нибудь или на чем-нибудь — не было той центральной фигуры, ради которой мы, провинциальная молодежь, бывало неистовствовали на гастролях Комиссаржевской, Яворской, Савиной, Дальского, Варламова, Далматова, Карамазова и братьев Адельгеймо, Орленева, Самойлова.
Эти гастроли в Вильне были событиями в нашей жизни, переживаниями. «Нора» или «Привидение», «Гедда Габлер», «Отелло», «Братья Карамазовы», «Евреи» Чирикова, «Гамлет», «Макбет», «Дикарка» — были образы незабываемые. Дузе в «Родине» Зудермана заставляла забывать антураж, игру остальных артистов, недостатки в декорациях, игру под суфлера, исторические «ляпсусы». Все это было неважно, когда большой, гениальный артист или артистка были на сцене. Возможно, что на фоне войны и еврейской трагедии все нытье и все драмы чеховских героев и истерия Достоевского были неуместны и не производили больше впечатления. Правда, «Пер Гюнт» и «Бранд» Ибсена и «Гамлет» с Качаловым, и Станиславский в «Село Степанчиково» действовали на меня, как и в прошлом. Зато я ходила в балет — видела Гельцер в «Евнике и Петронии», Балашову-Каралли в дивертисменте («Полонез» и «Мазурка» Шопена, «Норвежский танец», «Умирающий лебедь») и Мордкина в «Итальянском нищем». Танцы были у меня в крови, когда я слушала музыку, я всем телом танцевала. Я могла плакать в балете: потому что сама не стала балериной и потому, что чувствовала каждое движение и звук.
Я ходила в театры и на концерты, потому что приближались роды, и, как и перед рождением Рут, я старалась не упустить и использовать каждый «оставшийся в моей жизни час».
Наконец, я начала готовиться к родам. Нужны были деньги на вторую постельку, колясочку, больницу — теперь я уже не рожала дома, и не было Марка возле меня — и на обрезание, если будет мальчик. Мне тяжело было снова обращаться к дедушке и матери, но они сами позаботились обо всем и облегчили мне эту задачу.
* * *
В конце февраля я родила сына. Когда кончились роды и боли, я от радости поцеловала руку акушерке:
— Спасибо за сына.
Она засмеялась:
— Это вы благодарите Бога и вашего мужа, я тут не при чем!
Марк приехал в последний момент. Он очумел от радости. Мы решили дать сыну имя его покойного отца — Меир, по-еврейски это означает «светящийся». И действительно, ребенок был, как солнечный луч. Рут была брюнетка с голубыми глазами, Меир был блондин.
От радости я стала религиозной. Я хотела жить «по Божьи». Я хотела заслужить свое счастье и мир для двух моих детей.
Я считала, что страдания нас должны научить добру, заслужить бессмертие не на том свете, а на этом — хорошими поступками, лаской, добрым именем, творчеством, строительством, работой для своего народа и для всего человечества. Я готова была простить всем нашим врагам, лишь бы нам дали жить и не уничтожали «малых сих».
Я была против войны, но я даже готова была понять войну, если она может принести спасение, освобождение малым и слабым народностям и моему несчастному народу тоже. Война за лучший мир и новую форму жизни.
Моя религиозность была ближе к пантеизму. Я любила природу и все живое и сущее, я готова была принять «соборность», вселенскую церковь, экстаз в религии и искусстве, в творчестве и коллективном труде. Я верила в общность человеческих интересов, и культур, и веры, в общую эстетику и мораль и все, что дает человечеству и отдельному человеку счастье: как любовь, рождение ребенка и материнство.
Страдания, если они были целесообразны и вели к каким-нибудь достижениям, я принимала тоже как счастье. Д’Анунцио[230], который утверждал, что «восторг — достояние Божества» и «наслаждение — самый верный путь к познанию, указанный нам самой природой», что «человек, много выстрадавший, менее мудр, чем много наслаждавшийся», для меня был так же приемлем, как Данте, который через Ад и Чистилище вел нас в Рай.
Я любила стихи Бальмонта:
Кто ты? — Кормчий корабля. Где корабль твой? — Вся земля. Верный руль твой? — В сердце, здесь. Все? Добро и рядом зло? Сильно каждое весло. Пристань? — Сон. Маяк? — Мечта. Достиженье? — Полнота. Полноводье, а затем? Ширь пустынь — услада всем! Сладость, сон — а наяву? В безоглядности живу[231].Эта радость и приятие жизни, хорошей и плохой, счастья и страдания, все это дало мне мое материнство, рождение сына, без которого я бы не чувствовала свою задачу выполненной. А я, безумная, хотела уничтожить его в зародыше!
После обрезания Меира Марк вернулся в свой лазарет.
Квартиру нам пришлось переменить, так как вернулись хозяева. Я получила временно квартиру на Подновинском бульваре. При доме был сад, так что не надо было ехать на дачу, я сидела на бульваре и в нашем садике с двумя ребятами. Я читала Грабаря[232], Шлецера о Скрябине[233], Серова и Бергельсона[234]: скрябинская «Божественная симфония» была мне по духу, а бергельсоновская еврейская чеховщина уже больше не соответствовала моему весеннему настроению.
Из моего окна было видно много зелени, особнячки в листве, нарциссы в грядках, прозрачно-белые лепестки с кроваво-желтыми оборванными сердцевинами. В мае доцветали жасмин, сирень, а на рынке уже редко можно было купить ландыши и незабудки. Впрочем, Марк меня баловал: в одном магазине цветочном он заказал цветы для меня, так что каждую субботу я получала его привет.
Музыка на Подновинском играла военные марши, вальсы и польки, попурри всех опер и опереток. Я вела дневник моих двух малюток. Я записывала все слова Рут, начало ее лепета, и все улыбки трехмесячного Меира.
Было трудно доставать продукты, и все говорили о дороговизне. Мясо — 85 копеек, курица — четыре рубля, ботики — 35 рублей. Мы сидели против красивого дома князей Щербатовых, выстроенного в греческом, непривычно-модерном для Москвы стиле. Дальше был особняк Шаляпина, который он пожертвовал для военного лазарета[235].
В Троицын день моя молодая няня была плохо настроена: ее мать дала мне ее с условием, чтобы я ее «не распускала»: «У меня старшая дочка сбилась с пути, — говорила она, — живет в грехе с женатым человеком, и ребеночка прижили, так эту бы дочку мне уберечь. Не пускайте ее никуда». Но я, старая барыня, жалела эту молодую девушку, я брала ей билеты в комедию, иногда давала ей свои билеты на утренники в Большой, и вот теперь, в Троицын день, она сидела на окне и плакала:
— Ты чего, Лиза? Пошла бы погулять на Девичье Поле или в город бы съездила.
— Я оттого и плачу, что вы позволяете, а мне не с кем.
Свобода тоже, значит, не всякому и не всегда впрок.
Тут уж я ничем не могла ей помочь.
Я писала каждый день письма Марку, но они были долго в пути, выдыхались, и когда он их получал, я уже имела другие заботы и мысли и настроения. То же самое было с его письмами. Я скрывала от него болезни детей, желудочные заболевания и простуды, я не хотела жаловаться на недостатки и дороговизну, и особенно на то, что мне, как и Лизе, скучно и «не с кем выйти».
* * *
Моя подруга Раля, которая тоже эвакуировалась из Вильно в глубь России, писала мне, что за время отсутствия мужа они очень «отошли» друг от друга. Она намекала, что бросит, кажется, его и выйдет замуж за художника, который не мобилизован, и которого она «понимает», и который ее «понимает». Я ей ответила, чтоб она не дурила, что понимание и непонимание еще не причина для того, чтобы оставить хорошего мужа, который ее любит, верит ей и на войне мечтает только о ней, ждет ее писем и сам находится в опасности. На это она мне ответила, что я в свои 23 года — старуха, не понимаю чувств, из-за которых люди кончают с собой, убивают других и делают самые большие безумства. Я ответила, что я действительно не понимаю, но понимаю настоящую любовь, верность и дружбу до конца жизни. Где она была, о чем думала, когда выходила замуж? Так мы с Ралей и не поняли друг друга.
Впрочем, как я потом узнала, она развлекалась где и как могла, но мужа не бросила и даже после войны родила ему ребенка.
О своей другой подруге, Леле, враче, я узнала, что, наперекор всем стихиям, она вышла замуж за своего жениха (который якобы женился на ней только по расчету) и теперь, имея от него двух детей и работая в госпитале, так несчастна, что готова развестись с ним, но вместо этого старается топить свое горе в алкоголе и новых романах. Леля была ценным человеком и прекрасным врачом, и мне было очень за нее обидно. Я жалела, что сдержанность и нежелание ее огорчить, а больше наше привычное невмешательство в чужие дела помешали мне открыть ей глаза перед ее свадьбой, рассказать ей то, что я знала с первых рук, не по сплетням городским, и не дать состояться этому браку. Но теперь уже было поздно.
В июле Марк приезжал на побывку. Мы ездили гулять на Воробьевы горы, закусывали с целой компанией в ресторане Крышкина, любовались видом на всю Москву. В тот день был легкий дождичек, солнце, несмотря на это, ярко светило, и на небе была радуга. Часть города попадала в двойной спектр радуги. Белая церковка Новодевичьего монастыря, Нескучный сад и дворец царицы Елизаветы, а внизу Москва-река, мосты, Храм Христа-Спасителя и весь город. Неописуемо красиво.
* * *
Осенью я по целым дням бегала в поисках квартиры, потому что и из этой квартиры нас гнали — хозяева должны были вернуться с дачи. Мне было до боли жаль оставлять эту нашу квартиру, где был сад для детей, где по вечерам я отдыхала и наслаждалась жемчужной луной, влагой, ароматом. Я изнывала в беготне по большой Москве. В переполненных трамваях, из одного района в другой, повсюду оставляя «на чай» дворникам, соседям, прислугам, няням, агентам и разным посредникам. У меня не было денег на крупное отступное, но я тратила деньги по мелочам, чтобы подкупить всю Москву, что было немыслимо.
Я чуть не плакала, когда видела на окнах у людей занавески, на дверях парадного подъезда хорошо вычищенную дощечку, медную, с именем обжившихся хозяев. Я завидовала всем, у кого был свой телефон (вспоминала, как моя кавказская знакомая говорила: «Он мне телефон завел, ей Богу!»), словом, я не мирилась со своим беженским положением, я хотела быть гражданкой этого моего родного города — по крайней мере, до отъезда в Палестину.
Я прочла рассказ о парихмахере Яшке, который всю жизнь мечтал почему-то поехать в Швецию, а кончил тем, что поступил в хор балалаечников. Я себя спрашивала, не будет ли так же и с нашей Палестиной?
Я насмотрелась квартир и интерьеров, каких не видела за всю мою жизнь. То сдавалась квартира, где молодая пара художников разводилась, и оставляла на стенах картины — красочные пятна, блики, на которых ничего не разберешь. На диванах тоже были разбросаны такие «пятна и блики»: парчовые халаты, подушки, но в общем, довольно грязно и запущено. То это были маленькие мещанские квартирки, заставленные разной ненужной лишней мебелью, за которые просили такую несуразно большую цену, что я застенчиво извинялась и уходила. Иногда это были действительно роскошные и дорогие квартиры, которые мне были не по карману, но которые я потом видела во сне. Иногда я забиралась на пятый этаж по грязной и скользкой лестнице, проходила дворы с кошками и мусорными клоаками, спрашивала десяток людей, и все это для того, чтобы узнать, что квартира уже сдана, или что евреям не сдают, или что надо при этом купить обстановку за баснословную цену. Чаще всего мне отвечали, что не сдают с детьми.
Я со слезами на глазах шла дальше, возвращалась к своим заброшенным детям, не имела сил с ними играть, им улыбаться и укладывать их спать.
Наконец, по большой протекции я получила комнату в отеле. Няня варила на спиртовке кашку детям, я обедала у мамы, а няня себе что-нибудь мастерила: окрошку с квасом или винегрет.
И вдруг случилось чудо: один из моих агентов, студент, позвонил в отель по телефону: «Пожалуйста даму, у которой двое маленьких детей». Я была единственная с такой приметой. Я побежала по адресу, всунула ему 80 процентов отступных и получила ключ. Квартирка была малюсенькая, на Собачьей площадке на Арбате, но когда я торжествующе возвращалась, спускаясь по лестнице, мне навстречу уже поднимались другие претенденты. Я в тот же день переехала. Мама и дедушка дали мне самое необходимое из обстановки, остальное я купила на последние деньги, которые у меня остались от последнего полиса, «приданого капитала». Мы с нянькой на подводе перевезли все, вымыли квартиру, все расставили и привезли детей.
Это был одни из самых счастливых дней моего беженства: у меня была своя, не меблированная, квартира, со своими занавесками, телефоном, медной дощечкой на дверях.
* * *
У меня была маленькая комната с трехстворчатым окном, которое выходило в сады, откуда были видны церкви, большие дворы. Дедушка мне подарил бракованные сукна, которые у него остались на складе, и хороший материал, из которого я сшила себе дождевик-реглан и такую же шапочку. Свою комнату я отделала, как все тетушки говорили, «à lа художественный театр», — сукном, и было очень уютно и хорошо.
Вообще дела у дедушки и отчима шли очень хорошо, война им пошла впрок, так что все мне охотно помогали: мама даже подарила мне к праздникам на два платья, я имела не только крышу над головой, но и «туалеты». Все гости воздерживались от излишних комплиментов моей слишком маленькой квартирке — по-еврейски, дира, а по-русски — дырка, — но я только посмеивалась. Что нужно человеку, который с двумя детьми и прислугой уже годы живет по чужим углам? Я даже послала Марку телеграмму в очень возвышенном тоне и получила такое же поздравление и цветы на новый адрес.
Знакомый профессор тоже пришел меня поздравить с новосельем и жаловался, что «материя коснулась вплотную и душит!» Даже в трамвае он чувствовал материю. До сих пор он жил исключительно духом, жена обо всем заботилась, а теперь все ученые и художники говорили об одном: как достать керосин, мыло, рис, мясо и сколько жена заплатила за то и другое.
И еще был виден недостаток краски для волос: все молодящиеся бабушки стали старушками, а блондинки — брюнетками, и наоборот.
В сентябре я была совсем устроена. Я любила ездить в город за покупками — на Кузнецкий мост, в Пассаж, к Мюру и Мюрелизу[236]. Было прекрасное бабье лето, еще очень тепло, на улицах оживленно. Начинался зимний сезон, надо было заплатить за абонемент на симфонические концерты и проч. Но главная забота была о продуктах. Мы с няней нашили мешочки, и я «мешочничала»: детям нужны были крупы для кашек, нам — мука для хлеба, сахар и проч. Я бегала по рынкам, по знакомым, и везде мне продавали, что было возможно достать. Моя кормилица и няня Настя много мне помогла в этом отношении, ее семья действительно мешочничала, ездили по железной дороге в деревни, скупали у крестьян продукты и привозили на поезде «максимка»[237]. Иногда требовали в обмен не деньги, а драгоценности, материалы, белье, галантерею, серебро. Если это была мука или яйца для детей или русское топленое масло, я ничего не жалела и давала все, что у меня просили.
Когда все устройство моего нового гнезда, из которого рано или поздно мне придется вылететь и искать новых приютов, было закончено, я начала снова подавать прошения в высшие учебные заведения, чтобы кончить свое начатое и прерванное образование.
Теперь я была женой офицера действующей армии, и у меня были шансы быть принятой.
* * *
Мы решили с Лизой, что без меня она не справится с хозяйством, и нам нужна опытная няня, а она, Лиза, останется за кухарку. Прихожу в бюро труда, подводят мне старушку. Я ей говорю:
— Значит, у меня двое ребят, погодки, одному два года, другому скоро годик.
— Ну и что ж, это ничего, мы к детям привычные.
— Ну и стирка, конечно.
— А со стиркой не берусь.
— А как же без стирки, нянюшка, дети-то малые.
— А когда же стирать-то, барыня? Ну, встанешь утром, чайку попьешь, покормишь детёв, оденешь, ну, гулять пойдешь. Придешь с гулянья, чайку попьешь, а там, смотри, и детей кормить и укладывать спать нужно.
— А детей помыть или выкупать — это у вас как?
— Пообедаешь, чайку попьешь, не успеешь оглянуться, а уж дети встали, и гулять вести нужно. А там придешь, детей покормишь, чайку попьешь, и вечер надвигается. Ужин, да и детей укладывать нужно. Когда ж стирать?
Так мы с ней и не сговорились. Я взяла на помощь Лизе девушку, а Лиза осталась, как была, нянькой.
* * *
Я поступила на свои старые курсы, мне зачли все сданные когда-то экзамены и зачеты и семестры. Я была очень счастлива. Но эта радость совпала с самым большим горем, какое я испытала до тех пор: папа мой скончался через полгода после нашего отъезда из Вильно[238]. Мне не с кем было поделиться этим моим горем: дети были малы, мать моя меньше всего была подходящим человеком, чтобы мне сочувствовать, я даже не говорила с ней о том, что получила это известие, а Марка мне и в письмах не хотелось огорчать — чем бы он мог мне помочь?
Я даже не сидела «шиве» (семь дней)[239], потому что смерть произошла полгода назад и в дальнем месте. Я себе представляла его одинокого, без нас, без жены, которая уехала раньше, без настоящего ухода, врачей, питания. Кто знает, как все это произошло? Я по-своему любила этого красивого джентльмена, всегда хорошо одетого, спокойного, с безукоризненными манерами, с приглаженными фиксатуаром усами, бородкой, который обожал меня и мою дочку. Я не могла забыть, как все последнее время нашего Виленского пребывания он повторял: «Умереть в своей постели, только не быть беженцем». Я не знала точно времени его смерти, ни болезни, ни условий, в которых он умер. Я предполагала, что в Москву с нами он не хотел ехать из-за моей матери, с которой он не мог встречаться, а в семью мачехи ему было бы еще тяжелее попасть. И вот, вернувшись один с вокзала, после того как он нас проводил, он остался сам, в своей большой квартире, с прислугой, и недолго прожил.
Тот же знакомый, который рассказал мне о смерти моего отца, рассказывал об австрийском фронте, с которого вернулся. В Галиции евреи страдали и от войны и от антисемитизма. Однажды он зашел к еврейскому портному. Несколько минут спустя он услышал треск разрывающейся бомбы. Осколки попали в дом портного, жена была ранена, ребенок убит наповал, другой ранен в ручки. Подмастерье сошел с ума, спасся только сам портной и солдат, который это рассказывал.
Комендант Тарнова вывесил объявление, что во главе немецких войск, обстреливавших город, стоит еврей. Результатом было изгнание, погром и проч.
* * *
Мои занятия на женских курсах были для меня большим утешением. На этот раз я взяла работу «О политических воззрениях в Италии 14 века». У другого профессора я работала по Пушкину. Я сидела несколько часов в Румянцевской библиотеке, читала Фохта[240], Бургардта[241] и многое другое.
В ноябре <1916> Марк приехал на двухнедельную побывку. Я не ходила в театры из-за траура и отдала ему все свои абонементы. В Художественном ставили «Мизерере» Юшкевича[242], хотели будто бы «Дибук» Ан-ского[243], но решили, что слишком много «иудаизма» зараз, — так, по крайней мере, нам рассказывали те, кто имел отношение к театру Впрочем, мы, евреи, всегда болезненно чувствительны, и, может быть, причины были другие. Дети почти не узнали своего папу, особенно малютка сын, но Марк был очень горд и счастлив, он брал их гулять на бульвар, возился с ними дома.
Когда Марк снова уехал, я зарылась в свои книжки. Ильин[244] читал о Гераклите, его философии огня — вдохновенно, неистово; мы все очень увлекались его лекциями.
По вечерам я слушала лекции вне курсов. Так, Михаил Осипович Гершензон, русский ученый, словесник (еврей), читал о Пушкине, которым я в то время усиленно занималась. Он говорил, что уже за 11 лет до своей смерти Пушкин начал «остывать», его жаркая и страстная натура потомка Арапа Петра Великого начала угасать, и «хлад души», о котором поэт сам говорил, был противоположностью «огненности» его прежней натуры. Иногда я читала доклады в женском сионистском кружке, но меня смущала аудитория; все это были пожилые дамы, приятельницы мамы, которые знали меня еще тогда, когда я «гуляла под столом».
Я возвращалась с лекций всегда одна, смотрела на лунное морозное небо, усыпанное звездами, слушала хруст снега под ногами и грустила о жизни, которая шла мимо, без радости; особенно тяжело было первое время после отъезда Марка.
И вот, в этом одиночестве, с двумя детишками на руках, незаметно я попала в период первой русской революции[245].
* * *
28-го февраля <1917> утром не было газет. Первого марта в городе было объявлено осадное положение. Трамваи остановились. На улицах не видно было городовых. Было спокойно, несмотря на оживление в городе. Все почему-то ходили по мостовой, не по тротуарам. Продовольственные лавки усиленно торговали: все покупали свечи, керосиновые лампочки, стекла к ним и делали запасы. Все чего-то ждали — революции, забастовки?
Самые невероятные слухи росли с минуты на минуту. Телефоны не работали. Кто говорил, что Николай Второй передает свою власть брату Михаилу, кто говорил, что он отказывается от трона в пользу своего сына, наследника Алексея, при регентстве Михаила Романова. Говорили, что правительство арестовано и уже назначено новое Временное Правительство, что войска в Петербурге отказались стрелять в толпу и еще многое другое.
Из-за отсутствия газет нельзя было проверить правдивость слухов. Никто ничему не верил, но тем не менее все повторяли то, что только что слышали на улице. У всех были расширенные зрачки. Вечером мы видели патрули солдат и какую-то наспех сформированную милицию.
Я проснулась в пять утра. Выглянула в окно, патрулей уже не было, значит, старая власть ушла, и новой еще не было. Из истории мы знали, что «междуцарствие» — неспокойное время. Мы с няней одели детей, взяли их на руки и еще с кое-какими узелочками в руках пошли пешком к нашим родным. В 11 часов вечера я подошла к редакции «Русских Ведомостей» и среди большой толпы ждала первых известий из Петрограда. Первый номер — «соединенный бюллетень» всей прессы — говорил о событиях в Столице. Оставались еще невыясненными отношения народа к династии.
Второго марта были расклеены прокламации на всех углах, и ими были заклеены объявления осадного положения. Революция была уже в ходу. Народ ликовал, извозчиков и трамваев не было, носились только автомобили с красными флагами, солдатами, рабочими, студентами, женщинами. Все они были вооруженные и кричали «Ура, да здравствует Революция!»
Третьего марта сделалось снова жутко. Говорили, что наследник умер, что решался вопрос династии, телефон снова перестал работать. Наконец пришла телеграмма об отречении от престола Николая Второго[246].
Днем я была на митинге наших курсисток. Было уже известно, что Михаил отказался перенять трон, и все были возбуждены, о занятиях никто не мог думать.
Четвертого были похороны жертв революции, и хотя она называлась «бескровной», похороны были, и очень многолюдные, торжественные. Вспомнились дни 1905 года, только без паники и напряженности и страха, которые были тогда.
Настроение в толпе сильно отличалось от того, которое было 12 лет назад: мы пошли на Красную площадь, народу было уйма, трудно было протиснуться. Никто не хотел «ходынки», и потому были сдержаннее. На Воскресенской площади перед Думой произносили речи.
Какая-то баба возле меня пробовала заикнуться: «Ох, батюшки, как бы чего не вышло…», но ее тут же осадили: «Иди, тетенька, домой, если боишься, тут такая благодать, а ты вовсе несуразное несешь». Баба замолчала.
Пятого марта все начало утихать. Мы стояли перед свершившимся фактом государственного переворота, который шел сверху, из высших сфер, из войска, администрации, государственной Думы и аристократии. Даже в великокняжеской среде и Николай Николаевич и Михаил Александрович велели подчиниться Временному Правительству. Народу обещали Учредительное Собрание, достойное окончание войны и конституционную власть.
Мы, русские евреи, пережили настоящую сказку, самую чудесную, тихую и благодатную, почти бескровную политическую операцию и освобождение от царского ига и несправедливости. Змей сбросил свою старую, скорчившуюся, сухую полинялую шкуру и вышел на свет — яркий, глянцевый, блестящий.
На углу Арбатской площади выступали с речами кадеты (конституционные демократы), Грузинов, Челноков, Кишкин, их голоса звучали резко, четко: они клялись вместе с народом не возвращаться к старой власти, чего бы это ни стоило, и работать «для устроения дорогой родины». Челноков был красив своей седой гривой. Кишкин был назначен председателем исполнительного комитета и потом градоначальником Москвы.
На курсовых собраниях с первых же дней началось брожение. Левые социал-демократы хотели сорвать собрание, внести раздор, подрыв доверия к временному правительству. Звали к забастовке, но большинство не поддалось. Вынесли решение — вернуться к занятиям, перейти к нормальной жизни. Одна немолодая курсистка почему-то рассказала, что в 1905 году она пострадала за революцию (потеряла ребенка), но все же осталась верна своим идеалам, и теперь она призывает к повиновению временному правительству и к занятиям «до учредительного собрания». Тогда выяснится, за кого большинство. Мы — демократы, был ее лозунг.
Я молчала, потому что не хотела «делать русскую революцию». В душе я была самых крайних взглядов: я была против октябристов и кадетов, против гегемонии романовской клики, я была даже за социальную революцию: пока не будет социального равенства, политическая свобода была недостаточна. Но кто спрашивал меня, еврейку, да и что мне их «чужая свадьба»? В лучшем случае мы должны были бороться за еврейское равноправие, когда его не было, и молчать — когда оно нам дано.
На улицах стало легче дышать, можно было безболезненно говорить все, что думаешь, но, как я очень скоро выяснила, — и это право голоса было ограниченное.
Когда-то мы декламировали на вечерах, в 1905 году:
Все решит последний, грозный, все девятый вал решит. Но, чтоб вал пришел девятый, вал последний, роковой, Нужны первые усилья, нужен первый вал, второй. Пусть они едва заметны, пусть они отражены, Ждите ж, братья, ждите с верой Побеждающей волны[247].Был ли это действительно вал девятый? Как потом выяснилось, это был первый из русских переворотов.
Все были за мир с немцами, но за мир почетный.
Я была выбрана в совет студенческих депутатов, даже против своего желания. Но вскоре я отказалась от этой чести.
На первой лекции одного из профессоров из евреев — Ю. Айхенвальда[248] — он говорил о текущем моменте. Никто из профессоров не мог говорить ни о чем другом. Айхенвальд начал с пацифизма, толстовства и его «не убий», непротивления злу и проч., потом перешел на мир, который спасет Россию и революцию. После лекции курсистки волновались: «Жидовская трусливая раса сказалась, их на фронте вешали на каждом дереве! Все шпионы и негодяи!» — и это кричали женщины, бывшие сестры милосердия, интеллигентки. Я тут же сказала этим антисемиткам, что не хочу иметь никаких дел с ними, не буду представительницей в их советах.
Я им сказала, что русская революция начинается тем, что затыкают рот и не позволяют высказывать свое мнение, что у старого заслуженного профессора может быть право на взгляды, не похожие на взгляды этих новоиспеченных патриоток и черносотенок. Как меня не побили, я не знаю, но домой я вернулась душевно побитая.
Я написала Марку письмо, полное отчаяния, и заверяла его, что я ни за что не дам своим детям воспитания и школу вне Палестины, и только молила судьбу, чтобы мы уже дожили до того времени, когда мы сможем уехать. Я работала в сионистском клубе, где была выработана программа работы среди женщин, среди молодежи и детей. На собрании сионистского съезда было предложено Сыркиным послать Жаботинскому приветствие[249], но 18-ю голосами это предложение было отклонено. Раньше мы боялись войны на территории Палестины, теперь мы ее ждали трепетно, и когда было сообщение, что английские войска вошли в Иерусалим, было у нас ликование. Митинги, самые импозантные, чередовались один за другим: на общееврейском митинге выступал Членов[250], раввин Мазе[251], представители всех еврейских партий — было 7000 человек[252].
На следующий день было большое сионистское собрание, русский поручик и представители поляков приветствовали нас, новую эру в нашей политической и национальной истории. На этом митинге было собрано 1300 шекелей, из них 800 новых. И как в улье у нас шла большая созидательная работа.
* * *
А дома хозяйство делалось все более сложным и тяжелым. Достать мясо или рыбу, муку, рис, сахар стало почти невозможно. Перед Пасхой я работала, чистила и убирала с няней, так как вторую прислугу пришлось отпустить, было все дорого. К Сейдеру я Рут взяла к маме. Марк мне прислал к моему 25-летию цветы и подарки.
На курсах возобновились занятия. Я взяла работу о «Героидах» Овидия[253] и пользовалась латинскими источниками. Мне приходилось выступать с докладами на курсах (об эпохе Возрождения) и на митингах в Политехническом музее — от сионистских женщин. Когда я теперь вспоминаю, как интенсивно я работала, как тяжело, и как бодро при этом себя чувствовала, я понимаю, что только в молодости, в 25 лет можно вынести такую «нагрузку».
Я вставала в шесть-семь утра, делала закваску белого и черного хлеба, покупной хлеб был перемешан с мякиной, и его невозможно было есть. Если тесто было поставлено с вечера, я его месила раз, и два, приготавливала хлеба, завтракала и уезжала на курсы. В 12 часов я возвращалась, ставила хлеб в печь, наскоро поджаривала котлеты или другое блюдо к нашему обеду, а после обеда снова уезжала работать в библиотеке или в семинарию. Возвращалась часов в пять домой, помогала Лизе купать детей и укладывать их спать, после ужина садилась заниматься, иногда до двух часов ночи. Конечно, хлеб пекли не каждый день, но вместо этого были покупки, мешочничество, публичные лекции или общественная работа в женских сионистских кружках. Находилось еще время для родных, театра, выставки новых художников, таких как Шагал, Бродский, Ляховский, Шлезингер[254], Альтман и др.
20-го апреля был грандиозный вечер в театре Зон[255] — в пределах Палестинской недели — с участием Ермоловой, которая читала «Еврейские мелодии» Байрона, с участием писателя Фришмана[256] (проза) и Бялика (стихи). Стихотворение «Хефкер вайб унд хефкер кинд»[257] произвело большое впечатление, это еврейское отчаяние, доведенное до последнего отрицания всего нам дорогого и святого. Небольшой оркестр играл квинтет Александра Крейна и много другой камерной еврейской музыки. После концерта мы все пошли в фойе на студенческий чай и на фаршированную рыбу. Меня проводили домой в три часа ночи.
В ложах и в зале было много беженской еврейской публики, южные типы, каких мы обычно не видали в Москве. Были писатели из Одессы и Киева, из Бессарабии. В моей ложе сидела необычайно интересная пара — я их встречала не раз на вернисажах и на премьерах в опере, но не знала, что они евреи: мужчина с седой гривой и серыми глазами и с ним рыжая яркая женщина в белой шали до земли. Они имели очень артистический вид, не были похожи на мещанских мужа и жену и так и остались загадкой для меня.
К концу Пасхи приехал Марк, нас приглашали часто в разные частные дома на собрания и вечеринки, на парадные ужины. В таких случаях выступали артисты — профессор Шор играл Лунную сонату Бетховена, которую я обожала, певицы пели еврейские песни, а «артисты четвертого искусства», как их называл Бялик, — купцы — рассказывали анекдоты.
На рассвете, когда мы возвращались на извозчике домой, мимо Кремля и мимо пустых улиц, перед булочными и мясными лавками стояли длинные очереди, жуткие хвосты укутанных в теплые шали женщин и мужчин с надвинутыми на уши картузами. Если бы я сама не пекла черный хлеб и если бы мы не сделались вегетарианцами, я бы вместо вечеринок тоже должна была стоять в этих хвостах, мерзнуть и проклинать свою долю и временное правительство, как это делали все. В воздухе висела междоусобная война, и вторая революция казалась неизбежной.
Но состоялось какое-то соглашение между советами и министрами. Речи Гучкова, Керенского и Церетели[258] в Думе были сплошной истерикой. В конце мая появились первые ласточки из-за границы: они приехали в «запломбированных вагонах». Здесь все косились на них, потому что они ехали через Германию: для одних они были слишком левые, для других — слишком правые. Денег у них всех не было, и никто не хотел им помочь. Те, кто был левые социалисты, большевики, впоследствии устроились, остальные выжидали. Среди этих возвращавшихся в Россию эмигрантов были также моя тетя Поля и ее муж. Они вернулись из Лозанны, оба сильно постарели, устали от эмиграции, были разочарованы в том, как их приняла Россия и социалисты, ради которых они в свое время жертвовали своей свободой и жизнью. Но их дети сразу пошли в большевистское подполье.
У меня было мало времени для родных и чужих: я готовилась к экзаменам. Сдала логику, психологию, языковедение и введение в философию. Я работала по ночам и была сильно переутомлена. А майское солнце, голубое небо, свежесть и прохлада по утру, почки на деревьях и золотые купола, которые были видны из моих окон, даже черепичные крыши и штукатурка домов — все как-то пело о весне. Я тосковала по лодке на Вилье, по шуму и скрипу уключин, по зыби на реке и сыроватой дымке вдали. Парение птиц низко над водой, перекликание бурлаков или приречных рабочих, плоты, парусные лодочки на горизонте — все эти воспоминания мешали моим мыслям сосредоточиться на сухом экзаменационном материале. Но я преодолела и это, я только решила непременно найти дачку где-нибудь в подмосковной и провести лето с детьми вне города.
Я нашла дачку, небольшую, с вышкой-чердачком для себя. Оттуда я видела восход и закат солнца, а днем там было ветрено и прохладно. Хозяйство было сложное: большой огород, сад, курятник, варка, печение хлеба, маринование и соление впрок и сушение грибов. Дети бегали голышом и босиком, на солнце стояла большая миска, в которой им было разрешено полоскаться. При дачке была небольшая русская банька с русской печкой, маленьким окошком в поле, при баньке такая же крошечная клеть, сенцы, там мы топили часто, стирали белье и мылись, как моются русские мужики под праздники и воскресенье.
По вечерам, уложив детей спать, я садилась на своем балкончике. Вечера были теплые, без мушек и комаров, не было ни пыли, ни шума, ни движения, и в этой абсолютной тишине и спокойствии я любила наблюдать жизнь птиц, грачей и галок (я плохо разбиралась в орнитологии, но всегда любила птиц). По вечерам у них бывал слет на полях и деревьях. На лысом незасеянном клочке земли слетались они парами, группами, перекликались, давали знаки друг другу. Один грач, вождь, летит вперед. Остальные сидят почти неподвижно, иногда зачем-то перепархивают с ветки на ветку. Похоже на игру в города или на английский «файв о клок»[259]. Иногда они очень низко над землей шагают и летают. Их вечерний разговор в тихих тонах, замирающий — это не то, что сумасшедшие предутренние звуки: «кра-кра», когда вы готовы эту черную стаю проклинать за то, что вам не дают спать, и наша дворничиха даже хотела их всех перестрелять.
Наоборот вечером, как во время еврейской молитвы «неила» в Йом Кипур[260], эти птицы объяты какой-то элегией, молитвой. Иногда один грач описывает соло-пируэт перед всей компанией, потом вызывающе смотрит на остальных, как бы спрашивая: ну, что скажете, хорошо? ловко? — а после смотрин робко и деликатно за ним улетает грачиха. А может быть, наоборот, это самец улетает за самкой. Один грач всегда сидит на телеграфном столбе, на самом высоком месте и как муэдзин громко зовет оттуда, скликает правоверных.
Затем, отлетев на версту, все домашние грачи без гостей возвращаются в гнезда под крышей, в трубы печей и на деревья. Что преследуют эти вечерние скопища? Политика, матримониальные цели, спорт, выборы? Кто знает. Днем в поте своих крыльев они зарабатывают свой хлеб, перелетают с дерева на дерево, с поля на поле, наполняют клювы своих птенцов, кричат, что-то тащат, у кого-то что-то отнимают, совсем как люди. Как на Налевках и в Зарядье[261] — как беспокойные конкурирующие между собой евреи, так ведут себя эти беспокойные птицы. А еще говорят, что птицы не сеют и не жнут, и не знают «ни заботы, ни труда»[262] — это неправильно, они буквально не знают, как проживут и чем просуществуют завтрашний день. И потом эти вечные эмиграции и реэмиграции, и соревнование сил, забота о том, как они перенесут дальний путь через моря и не отстанут от своей братии. Я эгоцентрически сравнивала их с еврейским народом — в борьбе за существование, в молитвах и отдыхе и в образе жизни.
С моего балкона можно было наблюдать не только птиц, но и возвращающихся с пастбища коров, когда пастухи переругивались с коровами и между собой. Это были мытищенские школьники, которые летом прирабатывали себе пастушеством. Кроме того, дачницы вылезали в цветных капотах и в шарфиках на голове встречать мужей на станцию и помогали им тащить мешки и кульки. Лес синел вдали, был подернут вечерней дымкой.
В июле мошкара и комары сделались остервенелыми, в воздухе носились пушистые шмели. Скосили луга, копны сена стояли круглыми горками, и пахло скошенной травой. В нашем огороде поспевали огурцы, фасоль, лук, расцвели розовые мальвы. Подсолнухи выросли забором. В самые жаркие дни воздух был тяжел и душен, томились люди и птицы, дети слегка болели лихорадкой. Я выписала одну из тетушек, чтобы помогла мне в хозяйстве и с детьми, а когда дети поправились, слегла я. Дети прибегали ко мне в травинках и соломинках, они только что вывалялись в сене. Лиза, которая воспитывалась в деревне и знала все, что касалось хозяйства, приносила мне свежие огурчики. Мы должны были начать их мариновать и солить под «нежинские»[263]. Словом, работы было по горло, страдная пора, а я лежала больная и читала биографию Бебеля, Коллонтай и много разных брошюр, которые навезла с собой. Среди книг, конечно, было и руководство по огородничеству, которое я купила у букиниста на Ильинке. Изящная книжечка Гершензона о грибоедовской Москве[264].
Наконец я встала и начала готовиться к осенним экзаменам. В Петрограде была небольшая междоусобная война, которая закончилась победой Временного правительства, но правительство вышло с изрядно помятыми боками: ушли князь Львов, Переверзев и все кадеты.
Ленин готовил большевистское правительство.
Когда в душный вечер Рут не могла заснуть, она хныкала: «Мама, мне скучно спать». Я ее понимала, мне тоже делалось все скучнее и скучнее. В конце июля ночи были лунные, и вокруг луны зеленовато-желтый обруч. Тихие скошенные поля, пустынные дороги, ночные голоса и одиночество. Собаки лаяли на луну, и кто-то из дачников пел: «Ах, зачем эта ночь так была хороша?»[265], и я тоже спрашивала: «Зачем?»
Облако плыло на луну, и моя свечка догорала. Я ее тушила и лежа в темноте думала о войне, о втором кризисе в министерстве. На фронте мы отступали, в тылу была разруха, Россия куда-то катилась, и мы, неприкаянные евреи-сионисты, катились вместе с ней. Это был четвертый год войны и третий нашего беженства. Я, молодая, не имела настоящей жизни, жила прошлым, вспоминала Ошмяны, «почту» с колокольчиком, которая всегда приносила какую-нибудь нечаянную радость в виде гимназиста или подруги из города, или письма, открытки с изображением «Апофеоз войны» — груда черепов, или «Всюду жизнь» — как арестанты из вагона кормят воробьев крошками[266], и при этом несколько нежных слов, или письмо моего папы: «на твои расходы возьми у тети» (расходы — это ириски, или батист на кофточку, или тетрадка) — и как все это было мирно, спокойно, не похоже на наше бурное настоящее и еще более неизвестное и страшное будущее. Я вспоминала озеро в Верках с кувшинками, водяными лилиями, камышами, вербами. Ржаное поле с васильками и красными маками, и когда теперь я слышала издали военный оркестр в маленьком дачном парке, меня уже не тянуло туда, как в детстве, я знала, что кроме солдат в обнимку с девушками и кроме пошлости на дачной сцене там ничего не было.
Осень снова была мягкая, теплая, цвели золотые шары, георгины, настурции, а в огороде поспевали помидоры, свивалась капуста, огурцы уже были большие, годились для соления, но не для маринования, их снимали, чтобы не перезрели. Я рано вставала, чтобы копать картошку с грядок в мешки. Вечера делались длинные и звездные. Жатва приходила к концу, и по вечерам зажигали фонари.
Иногда из города приезжали знакомые, один знакомый надел военный френч и галифе и поехал на фронт — «главноуговаривающим комиссаром». Солдаты не хотели больше воевать, и нужно было Керенскому и его комиссарам немало усилий употребить, чтобы не разрушали фронта.
Я ездила в город переклеивать детскую комнату: обои были гладкие, но бордюр был из зайчиков, котят, птиц и верблюдов. Аисты, обезьянки и клоуны в пестрых костюмах довершали украшение. Получилось довольно весело. Пусть хоть ребятам будет весело. Нам обещали зиму холодную и голодную.
Перед отъездом с дачи мы резали последних курочек и доедали последние яйца. Я скрывала от детей, что это наши курочки, мы с Лизой будто продали наших и вместо них купили белое мясо. Иначе Рут бы не согласилась есть: она так любила Чернушку, Беляночку и пестрого рябого петушка. Я рассказывала ей сказки о Peter Pan (Бари)[267], о феях и волшебницах. Она всему верила, ее глазки сияли от увлечения. Рут была поэтической натурой, как и ее мама когда-то, она танцевала вокруг моего стола и мешала мне работать и писать письма. Меир лез на руки, и я должна была обрисовывать его ручонки на белой бумаге, чтобы папа знал, куда поцеловать.
В 1918 году мы до поздней осени пробыли на даче. Марк работал на Восточном фронте, получал время от времени командировки в Москву или приезжал в отпуск.
Осенью я сдала свои экзамены и готовилась к кандидатскому сочинению. Я взяла тему — Тургенев, а для второй работы — некогда мною прерванный Фауст, вторую часть. Я читала «Илиаду» и «Одиссею» и старалась забыть в занятиях обо всем, что нас ждет, и торопилась кончить высшее учебное заведение.
В Москве торжественно открыли Государственное совещание в Большом московском театре. По обеим сторонам стола, за которым председательствовал Керенский, стояли телохранители с шашками наголо. От евреев выступал адвокат Грузенберг, от Кавказа — Чеидзе.
Потом готовились к выборам в Учредительное Собрание. Были грандиозные демонстрации с плакатами: «Вся власть Учредительному Собранию». Мы были на улице, когда огромная толпа шла в демонстрации. На одной из улиц был затор, трамваи остановились, и толпа ждала. Вдруг на трамвайной площадке появился человек странной наружности, с нечесаной гривой, вдохновенным, но не совсем нормальным лицом. Он начал произносить анархистскую или христианскую речь — трудно было выяснить, кто он, — против борьбы партий, против государства, против Учредительного Собрания. Все люди — братья, да не властвует один человек над другим, люби ближнего своего, как самого себя, царство Божье не от мира сего, и ждите второго Пришествия. Публика слушала, посмеиваясь — блаженненький, мол, если вместо продранного пальтишки носил бы хламиду и посыпал пеплом главу, можно было бы перенести его в древний Иерусалим.
Во время выборов в Учредительное Собрание была не только борьба партий, но и сильная агитация в прессе; мы, сионисты, голосовали с «трудовиками»[268], на политической арене появились левые социал-демократы, большевики, и никто ни о чем не говорил, кроме выборов.
Я спрашиваю нашу старую няню: «Ты за кого будешь голосовать?» — «Да я за кадетов». — «Какая ж ты кадетка, ведь ты рабочая?» — «Ну и что ж, что рабочая, а за кого барин, за того и я». Моя няня Лиза голосовала за трудовиков, а мамина горничная Арина — за большевиков: «У нас вся деревня за пятый номер, ну и я за пятый номер!»
* * *
И хотя в 1917-м я бредила «социальной революцией», когда она пришла в октябре, стало очень тяжело и совсем не так, как все себе представляли. Интеллигенцию обвиняли в «контрреволюции», и хотя мы не были капиталистами, а скорее наоборот, пролетариями — я тяжело работала и училась, а Марк был врачом и мало зарабатывал, — мы сразу попали в число «буржуев». Я чувствовала это на каждом шагу.
Наша квартирка, к счастью, была так мала, что нас не могли уплотнить, но раньше, чем наступили все неурядицы, связанные с переменной власти, пришлось снова очутиться на фронте, на этот раз — гражданском. Рядом с Алексеевским Юнкерским училищем[269] стрельба шла по целым дням. Вечером велели заклеивать окна, потому что стреляли «на огонек». Я сняла со стен свое «художественное» сукно и повесила его на окно. Так я вечерами и даже ночами могла зажигать свет и заниматься своими Пушкиным, Тургеневым, Гете.
Днем нужно было скрывать от детей всю правду.
— Мамочка, почему стреляют?
— А это, деточка, солдатики учатся стрелять, да еще не умеют, и вот, попадают в наши окна, ты ложись на матрац в коридорчик и играй в игрушки.
Играли в лото и кубики. А в кухне, которая выходила на двор, я делала лапшу, и дети помогали мне: катали пирожки из обрезков теста. К маме нельзя было выбраться, на улицах шла такая стрельба, что раз мы вышли, и мертвая подстреленная птичка упала к нашим ногам. Мы вернулись домой и засели в своем коридорчике. Иногда приходила наша кузина, сестра милосердия, которая работала совсем недалеко от нас, приходила усталая, грязная, голодная — она подбирала раненых целые дни и ночи. Я ей давала помыться, кормила ее и укладывала спать до следующего дежурства.
В Москве кончилась гражданская война между белыми и красными. Мы видели из окон, как разоружают офицеров: срывали погоны, пуговицы и эполеты, снимали кокарды с шапок и отбирали шпаги и револьверы.
К нам пришли с обыском, искали оружие домового комитета. Потом мы слышали, что предком (председатель домового комитета) со страху бросил револьвер в уборную, и нужно было вызвать инсталлятора[270], чтобы вычистить каналы, так как трубы заткнулись, и нельзя было пользоваться уборными. Револьвер нашли и вернули полиции.
Как и после революций 1905-го и 1917-го, были похороны жертв: красные тянулись вдоль всего Арбата, несли венки с красными лентами, женщины имели на головах красные платки, мужчины — красные повязки на руках. Гробы были покрыты красными тканями, пели революционные песни. Издали процессия с балкона казалась кроваво-красным морем. Но было красиво.
На следующий день были похороны «белых». В толпе шли студенты, интеллигенция, учащиеся, переодетые в штатское юнкера и офицеры, генералы с женами, все в штатском, а выправка военная. Дамы были в траурных повязках и вуалях. Гробы были покрыты белыми покрывалами, белые венки, ленты, белое священничество, попы в серебряных клобуках и белых рясах. Были слезы, чего не было накануне. И похоронный марш. Мы еще не знали, что это не белая, а черная Россия, которая кончила Деникиным и Махно и еврейскими погромами.
Это была последняя демонстрация белой Москвы, потом все контрреволюционеры ушли в подполье, или разъехались, или «саботажничали», или были так прибиты, что стали ниже травы, тише воды.
И вот началась жизнь под большевиками.
Очереди не прекратились. Провизии стало еще меньше, чем раньше. Топливо тоже исчезло. Хлеб с соломой получали через домком, у кого еще были кое-какие запасы муки, допекали последние хлеба. Хлеб приносили из булочной в больших бельевых корзинах и раздавали по карточкам. Каждую ночь слышались выстрелы, особенно на Лубянке. Под аккомпанемент грузовиков, которые заводили как бы для езды, давали залпы. Чека расстреливало буржуазию. Буржуазия вся перешла на положение лишенцев, их не записывали на биржу труда и лишали права голосования в Советы и продовольственных карточек. Квартиры уплотнили до отказа, из многих квартир, которые были нужны под клубы и учреждения, выбрасывали население на улицу, и пока им указывали другие квартиры или «жилплощади», немало заболевало и умирало.
В народе, особенно в белой России, очень силен был антисемитизм. Все в душе или громко на словах обвиняли евреев в том, что случился этот переворот, законы о запрете возбуждать население против евреев еще не были в силе, и на улице и в лавках, как и прежде, при царской власти и при временном правительстве, слышались юдофобские лозунги и пропаганда. Во главе большевиков под теми или иными псевдонимами были еврейские вожди, и народ это знал. Правда, они отказались от своего еврейства, к которому никогда не принадлежали, особенно Троцкий, Каменев, Зиновьев[271], но факт оставался налицо — Лев Бронштейн-Троцкий был жид. И мы это слышали ежедневно и ежечасно.
По ночам мы спали плохо, от времени до времени к домам подъезжали грузовики, люди в кожаных куртках подымались по лестницам и увозили на Лубянку кого за «контру», кого за спекуляцию или за хранение золота. Товары и продукты надо было регистрировать, каждый день приносил новые декреты. Революционная разруха была на полном ходу.
По вечерам нельзя было выходить из дому из-за грабежей и хулиганства, снимали шубы с людей, ботики и галоши. В трамваях вырезали из пальто куски меха, снимали брошки, вынимали бумажники из карманов. Одна наша знакомая рассказывала: «Еду это я в трамвае, теснота адская, народу набилось и справа и слева, я еле сижу, стиснутая со всех сторон. И что-то дурно мне стало. Тут одна дама возле меня: „Позвольте, — говорит, — вам помочь, уж очень душно“ И начала что-то на мне расстегивать. Я и не почувствовала, как она расстегнула и отстегнула брошку и сошла на следующей остановке. Прихожу я домой, рассказываю дочке, хватаюсь за воротник, а брошки-то и нет. А вы знаете мою брошку, золотую с жемчугом, она еще от матери моей мне досталась. Вот тебе и помогла, небось, дала понюхать чего-нибудь специального».
В трамваях стало вообще невозможно ездить, все висели «гроздьями», последний держался «на честном слове», малейшее движение — и мог слететь под колеса. Так же было и в поездах, в дачных и дальнего следования. Слова «жидовская морда» не сходили с уст. Старики боялись выходить в гололедицу, так как тротуары и улицы не расчищали и все ломали себе руки и ноги. Многие знакомые ковыляли с палками и даже на костылях. У кого был «барский вид», тому несдобровать: «И, барыня, знаем мы вас, попили нашей кровушки, будет…»
Но несмотря на всю эту разруху и неурядицы, на все трудности переходного времени, мне не хотелось оставлять Москвы, моей умирающей красавицы.
На Высших курсах занятия шли ни шатко ни валко. Профессора сидели в шубах, мы — в пальто и калошах. Сами профессора говорили, что мысли и слова замерзают, мозги стынут, не работают.
С продуктами делалось день ото дня тяжелее. Мешочничество было запрещено. Было опасно провезти в трамвае даже фунт хлеба или муки. Последнее лето мы с детьми жили на той же дачке под Москвой. Но, как назло, лето было печально красивое, уезжать из Москвы для меня было, как если бы душа должна была расстаться с телом. Палестина была далеко, война еще не кончилась, и я боялась, что и в третий раз не кончу своего образования. Я все лето работала: огород я передала Лизе, дети подросли. Рут было пять лет, Меиру — четыре, и Лиза могла справиться с хозяйством и без меня. Я писала свои зачеты и готовилась к экзаменам.
Тем летом еще каким-то чудом успели созвать еврейский съезд общин, мы ночью возвращались в теплушке под именем «Максимка», на которой мешочники ездили в дальние губернии за продуктами. Товарищи мешочники нам же — мне и моим соседкам — помогали вылезать из вагонов без ступенек. По вечерам я сидела на своем балкончике, слушала трескотню кузнечиков, свист дачных локомотивов, смотрела на золотой закат солнца и на золотую листву на березках. Осенью, когда накрапывал дождь, двери на балкон были открыты, и сырость и свежесть, запах деревьев и дождя проникали в комнату.
Марк вернулся в Москву и начал хлопотать об освобождении от военной службы и об отъезде на Литву[272] — мы были литовские подданные и имели законное право оставить Россию. Было тяжело уехать и еще тяжелее остаться. Я получила разрешение не слушать лекции в ближайший семестр — профессора понимали, что с малыми детьми при плохом питании и холоде мне будет не до занятий, и позволили мне приезжать и сдавать экзамены вне очереди.
Многие друзья-беженцы искали себе места на географической карте — кто в Польше[273], кто в Литве, кто на Украине. Но все мои родные и друзья были москвичи и никуда не двинулись. Сионистов среди них тоже не было, а белых — и подавно, евреи всегда были настроены против антисемитской белой России. Как потом выяснилось, москвичи избегли еврейских погромов деникинских, колчаковских, петлюровских, польских и других банд.
Мы, что называется, сидели на чемоданах. Мы не знали, когда наш беженский транспорт отойдет, мы укладывались и снова распаковывались. Всю мебель и картины и книги и вещи мы оставили в Москве, что с этим стало — пропало или родные продали на базаре за хлеб и картошку, — я не знаю и никогда не спрашивала. Мы взяли с собой только самое необходимое, для себя и детей. Я еще купила себе несколько книг, чтобы не перестать работать, так как была уверена, что к экзаменам я вернусь обратно, как мне позволили профессора. Но все это, конечно, были «напрасные мечтания». Наш поезд наконец был подан, нам сообщили об этом в последний момент. Он стоял на запасном пути, далеко от вокзала, это была теплушка, на которой было написано: восемь лошадей или сорок человек.
Ни мама, ни дедушка не могли приехать с нами попрощаться, так неожиданно все вышло. Дедушка, правда, мне обещал, что приедет на вокзал, но не приехал. Ему, верно, было трудно примириться с мыслью, что он не в состоянии мне, своей любимой внучке, которую он всю жизнь баловал, теперь, в час нужды, дать несколько рублей на дорогу. Сам он жил в задней комнатушке в своем доме, на иждивении детей. Хорошо, что бабушка рано ушла из этого мира, ей было бы несносно и тяжело доживать в тех условиях, в которых кончал свою жизнь этот московский купец и богач, мой дедушка.
* * *
Мы ехали восемь дней[274]. В нашем отделении в теплушке ехала еще одна семья евреев, тоже демобилизованный молодой врач, и его брат, и старики родители. Я была все время занята «гигиеной», как они это называли. Я начинала день тем, что мыла пол в теплушке, потом прибирала все, варила для детей кое-какие кашки, если была остановка и не трясло. Нам друзья дали белый хлеб для детей и яичный порошок «Эгго», который тогда очень вошел в моду, и другую провизию. Марк и молодые люди с каждой станции нам приносили чайники с кипятком — для питья, для мытья, даже стирки. Мы, может быть, из-за этого доехали благополучно до границы и не схватили сыпняка или другой инфекции. Пыль, грязь, утомление, длинные остановки в переполненном вагоне были невыносимы.
Так мы доехали до Двинска. Здесь нам пришлось сделать маленькую остановку, две ночи и день мы провели на вокзале. Сотни репатриированных валялись вповалку на границе, и мы боялись, что нам тоже откажут или задержат въездную визу. Но как-то все обошлось, мы получили наши пропуска и смогли двинуться дальше.
В Двинске была совсем другая обстановка. Военная дисциплина и порядок и чистота, даже комфорт. В вокзальном ресторане сервировали обед на скатертях, с вином, с лакеями во фраках, как полагается. Для детей даже было пирожное.
Это был первый день праздника Кущей, Суккот, и мы решили его отпраздновать. В соседней зале буфетчик справлял свадьбу не то сына, не то дочери, там играла музыка — вальсы, мазурки, кадрили. У нас под столом ноги двигались в такт музыке, но мы не решились присоединиться к ним. Мы расположились после ужина на бархатных диванах «nur für Offiziere»[275]. Мы выпили за наше будущее в Палестине — мы твердо решили, что наш путь не в Литву или Польшу, а в Палестину.
К утреннему поезду начали собираться военные и денщики с багажом, и мы должны были освободить наши диваны. Пивные стаканы звучали как клавиши плохо настроенного инструмента. Гортанный прусский говор и смех выгнал нас из зала второго класса, и мы пошли бродить по перрону. Молодой доктор и Марк по очереди рассказывали о своей работе на Кавказе, в Сибири, а когда подали поезда, наши пути разошлись: они уехали в Латвию, мы — в Литву.
В окнах мелькала повоенная новая оккупированная Литва. Вырубленные леса, проволочные заграждения, сожженные сторожевые будки, новые строения с характерными для Германии диагоналями крест-накрест по красному кирпичу, немецкие вывески. Четыре года изменили до неузнаваемости этот знакомый мне путь. В сетке для шляп и зонтов я нашла кожаный стек — хлыст, первый подарок оккупированной Литвы.
* * *
В Вильне, после того как мы в отеле немного отдохнули с детьми, я поехала на кладбище к папе. Могилы не нашла, пришлось через погребальное бюро — «хевре кадише» — искать на карте место его могилы. Три года стерли и холмик, и надпись на нем.
Неделю я жила в таком трауре, какого, может быть, не было бы, если бы он умер на моих руках. Все горе трех лет, скопившееся и задушенное, прорвалось в эти первые недели. Я обошла его врачей, разыскала прислугу, родных его и мачехи. Как я и предполагала, он умер очень одиноко, без правильного питания и ухода. После его смерти разнесли весь дом, все движимое имущество, взломали письменный стол и вынесли все документы. То же самое сделали с моим добром, которое осталось на хранении у папы.
В старой папиной квартире мы себе устроили первое пристанище. Дома были страшно запущены, жильцы и арендатор не платили, ремонтов не делали. Многие квартиры пустовали за непригодностью для жилья. Долго мы не могли выдержать в этом доме: по соседству был немецкий военный постой, ночью солдаты бодрствовали, а днем спали. Ночью они варили себе свой эрзац-кофе и громко разговаривали, а днем мы должны были ходить на цыпочках, чтобы их не разбудить, и следить, чтобы дети не плакали и не шалили громко. Ни мебели, ни посуды мы не нашли. Чтобы устроиться наново, Марк подал заявление в комендатуру о пропаже вещей и представил список мебели и всего, чего не доставало. И как это ни странно, с чисто немецкой аккуратностью мы получили обратно нашу мебель и мебель отца. Все ценное и мелкое, что можно было унести и выслать в Германию, мы, конечно, не получили.
Я жалела старинные часы, которые всегда стояли на столе у отца, старинные, бронзовые, с фигурой городничего верхом на коне, — это было художественное произведение. Его, конечно, украли. Мебель была сильно попорчена, инкрустации из махагони[276] выпали, на рояли и столах были следы горячих кастрюль. Я и прислуга несколько недель тяжело работали и, вместе со столяром и поденщицей, наконец привели все в порядок. Мы нашли себе квартиру на другой улице, она была нам слишком велика, и несколько комнат мы заперли на ключ.
Я бегала по антикварным лавкам и тут и там находила свои вещи. Иногда я их откупала, иногда нам их отдавали без лишнего разговора, потому что если были свидетели, то краденое или забранное все равно нужно было возвращать бывшим владельцам. Но иногда мне просто не хотелось перегружать дом старыми воспоминаниями и тратить труды и деньги на борьбу за старую картину, зеркало в золоченой раме и диваны, которые потеряли свой первоначальный вид.
Мы не успели еще распаковать наши вещи и расставить все по местам, как дети заболели тяжелой «испанкой»[277]. В конце концов и я, и Марк заразились, и мы все четверо лежали с высокой температурой среди беспорядка, без настоящей прислуги. Знакомые врачи приходили нас проведывать, все боялись осложнений на легкие, потому что в тот год «испанка» нередко кончалась смертью. Казалось, мы никогда не вылезем из этой болезни, из страха за детей, из беспорядка и беспомощности, но и это кончилось. После «испанки» и устройства нашей квартиры мы были такие усталые и измученные, что решили поехать отдохнуть к свекрови.
Она жила по-прежнему в местечке[278]. Она сильно постарела и изменилась за эти годы одиночества и немецкой оккупации, у нее реквизировали все, что могли, но ей оставили одну корову, и теперь она восстанавливала свое хозяйство. Она нам бесконечно обрадовалась, особенно ребятам, которых она даже не знала. А они сильно выросли и стали людьми.
Свекровь старалась нас откормить, чтобы мы поправились. Свое молоко, яйца, масло и зелень — все было совсем как в ошмянском имении когда-то. Дети радовались бабушкиным булочкам, мясу, яйцу. Марк спал по целым дням, а мы с ребятами ходили гулять по снегу, соорудили маленькие саночки и катались с горки. Но долго это благополучие не могло продолжаться: я должна была привести в порядок свои дома, Марк должен был начать работать в госпитале как хирург, ассистент главного врача.
Когда мы вернулись и я закончила уборку квартиры, мы устроили «ханукат ха-байт» — новоселье, все наши старые друзья пришли нас приветствовать с приездом, мы устроили «картофельный бал», с оладьями.
Зимой было холодно, топлива было мало, мы сжимали нашу жилплощадь насколько возможно. Жили в одной комнате, топили печку, которая выходила в другую комнату и немного грела коридор. Обедали большею частью в кухне, где была русская печь. Я взяла старуху кухарку, которая нянчила и детей, когда я была занята. Я вернулась к своим занятиям, я собиралась ехать в Москву для государственных экзаменов. Но из этого ничего не вышло. За время нашего пребывания в Вильне три раза менялась власть. Сначала были немцы, потом у них была спартаковская революция[279], и начался на фронте тот же развал, братание и бегство, что и в России. Пьянство и отсутствие дисциплины, которой когда-то так гордилось немецкое юнкерство; все это тяжело отражалось на населении. Из Вильны вывозили все, что могли: награбленное имущество, продукты, ручки от дверей, отдушины от печей — это был «металл для пушек». Были специальные магазины, которые запаковывали и запечатывали сургучом эти посылки врага.
* * *
После немцев было небольшое междуцарствие с поляками, а потом пришли большевики. Снова начались обыски, аресты, реквизиция товаров, продуктов и вещей. Чека и расстрелы работали и здесь. Комиссары жили в лучших гостиницах, их дамы себе заказывали из крепдешина не только платья, но и туфельки под цвет, лучшие портнихи, маникюрши и парикмахеры работали на них. Даже те, кто еще немножко верил в коммунизм и благо от нового социалистического строя, вовсе разуверились в нем.
Из магазинов исчезли последние продукты: как и немцы, русские посылали их в глубь России. Голод и отсутствие пайка заставляли многих пойти работать в комиссариаты. Дороговизна росла, лавочники припрятывали товары, чтобы избегнуть «учета», и продавали из-под полы. На каждый продукт было несколько сортов покупателей: для друзей, для чужих и для подозрительных покупателей. Эти платили меньше, но и товар получали худший. Нужно было быть не только лавочницей, но и психологом, схватывать в мгновение ока ситуацию и назначать цену. Наши еврейские торговки в этом отношении перещеголяли всех знатоков человеческой породы.
При всех трех властях голод был такой, что люди пухли, валялись на улице, и был особый род попрошаек, которые симулировали смерть от голода. Впрочем, даже врачу было трудно отличить правду от симуляции.
Раз я привела с лестницы девочку, почти без сознания. Я пробовала давать ей есть, но она все вырывала. Я ее напоила горячим чаем и уложила. Через два часа она пришла в себя и приняла первую пищу. Потом она со слезами на глазах и кое-каким запасом пищи ушла. Денег она ни за что не хотела брать.
Всех наших заработков не хватало на еду. Я поступила в контору, которая экспедировала товары в советскую Россию, и так проработала до Пасхи. Мы получали товар из-за границы, регистрировали его, перепаковывали и отправляли груз. Перед самой Пасхой пришел большой транспорт, который мы должны были «специфицировать»[280], и я работала до позднего вечера. Я почти не видела детей и не могла готовиться к празднику. Тем не менее я была счастлива, что мне удалось купить продукты на Пасху и даже пригласить гостей к Сейдеру.
Все пришли с детьми почти того же возраста, как Рут и Меир. Все ребята спрашивали «четыре вопроса» — арба кушьот[281] — и было очень весело. Дом утопал в цветах, которые принесли гости. Я еще никогда себя не чувствовала такой спокойной и счастливой, как в этот Сейдер: мой муж вернулся живым с войны, мои дети перенесли и выдержали все болезни и недостатки в России и Польше, не погибли, и я была окружена друзьями. Свечи горели в серебряных подсвечниках, которые свекровь мне подарила взамен тех, что украли немцы.
* * *
В субботу, во вторые праздничные дни, наша прислуга пошла в город и принесла новость: город занят поляками, улицы очищают от прохожих. В городе осадное положение, и после шести часов нельзя зажигать огня. Мы целый день сидели взаперти. Марк поехал в госпиталь, и мы прислушивались к отдаленной стрельбе. На нашей улице ходили патрули, и ночь прошла спокойно. В воскресенье стрельба шла в районах более близких к нам. Мы лежали на матрацах в коридоре, дети скучали, капризничали, в окна столовой попадали пули. Ко мне пришла соседка Аня, которая боялась быть у себя. На моих глазах пуля проскочила мимо ее головы, она подняла ее и спрятала в карман «на память». Некоторые соседки нервничали и закатывали истерики, но большинство держалось спокойно, старались заниматься хозяйством. В кухне, обращенной во двор, даже варили обед, кормили всю семью. Вечером принесли мацу и оставшуюся пищу и устроили праздничный стол в полумраке, завесив окна и заставив их шкафами и матрацами. Один сосед был особенно услужлив, двигал мебель по желанию дам, ставил самовар, таскал матрацы с места на место. После ужина, когда всех детей уложили спать, он нам читал вслух. Настроение было далеко не паническое, ночью стрельба совсем утихла.
На следующий день утром стрельба возобновилась и стала усиливаться. Пули летали по комнатам, застревали в мебели и рамах картин. Когда я выглянула в окно, завешанное темной занавеской, я увидела в щелку несколько убитых солдат и штатских. Один лежал с расставленными ногами, а в желобке улицы текла кровь. Солдаты с винтовками целились в наши окна, я убежали снова к детям в коридор. Стрельба то усиливалась, то затихала, наконец стало так тихо, что казалось, что все кончено. Хотелось вздохнуть свободнее. Но это продолжалось только минуту. Внизу на лестнице черного хода мы услышали шаги, шаги многих подымающихся людей. Шум, крики, выстрелы и дикие голоса женщин. В дверь раздался сильный стук. Марка не было, со мной и детьми была еще старая кухарка, ее молодой сын и парень — жилец, которого нам «всадили» во время советского уплотнения. В кухню зашло восемь солдат с винтовками на прицел и криками: «Руки вверх!»
— Вы стреляли, — это был их пароль. Так они заходили во все квартиры на всех этажах. Солдаты рассыпались по всем комнатам, перевернули все вверх дном, штыками вскрывали шкафы. Они забирали деньги и ценности, даже открывали затворки печей и отдушин. Обоих парней в нашей квартире они арестовали, хотя никакого оружия не нашли у них. Дети были заплаканы и перепуганы. Они дрожали, как в лихорадке, и надо было их успокаивать: дяди хорошие, они вам ничего не сделают.
Через десять минут мы снова услышали шум, шаги с новой и большей силой. Солдаты ворвались уже не одни, а в сопровождении «кожаной куртки», который искал «большевиков». Как мы потом узнали, это был русский большевистский комиссар, которого поймали с поличным, с оружием в руках, и даровали ему жизнь временно, с тем условием, что он покажет, где скрываются его товарищи-коммунисты. Он, конечно, все взвалил на евреев, которые жили в том же доме. Евреи, мол, стреляли в польские войска. Когда все они ушли, раздался страшный крик моей соседки Ани, и ее принесли раненую к нам с простреленной грудью. Польские девушки положили ее на пол на один из матрацев, и она кричала не своим голосом, что на ее глазах только что убили ее мужа[282].
И действительно, через ту же занавеску я увидела убитого ее мужа, который лежал на тротуаре с простреленной головой.
Я подала ей первую помощь — разорвала простыни и перевязала крест-накрест грудь, но кровь не переставала просачиваться через повязку.
Дети всех этажей плакали и звали отцов, которых увели солдаты. Все няньки их оставили и кричали: «Я православная, это мой сундук, не трогайте», или «Я католичка, я не жидовская служанка, я сама по себе». Все двери были настежь, и погром шел открыто, все вещи валялись на полу. Я только тем успокоила детей, что тетя Аня больна и нельзя плакать. Мои дети были разумные и воспитанные и слушались резонов. Но все другие вместе с матерями кричали благим матом. На лестнице почему-то стоял тот самый комиссар в куртке и сын моей кухарки, и вместе с ними были солдаты, они покуривали и даже смеялись. Я поняла, что мальчик или его мать спасли себя тем, что сделали навет на других. Соседи и соседки-польки что-то оживленно нашептывали солдатам, и все они берегли нас, чтоб мы не разбежались. Когда одна еврейка спросила, где наши мужья, солдат хладнокровно ответил: «Юж забиты», уже убиты.
Через несколько минут явились к нам санитары и хотели перевязать раненую Аню. Она была возбуждена, проклинала все и их тоже, и они было собрались уйти, но я умолила их перевязать ее рану, которая была полна крови.
Я решила пойти в город искать Марка, узнать, жив ли он. Мне одолжили платок на голову, и я начала спускаться с лестницы. Но в этот момент раздался выстрел над моей головой, и я услышала страшный крик моей дочки: «Мамочка!» Она держала за руку братишку и цеплялась за мою юбку. Мне ничего не оставалось, как вернуться в свою квартиру и снова успокоить детей.
Квартира снова наполнилась «галлерчиками» и «познанчиками» (это две дивизии или два легиона, которые носили названия своего генерала Галлера и города Познани). Аня почти свалилась с низкого дивана, и один из них толкнул ее в голову: «Ишь, ранена, а кто те ранил?» — и все смеялись. Ругались они самыми площадными словами, «пся крев»[283] было самое меньшее, но, к счастью, я плохо понимала галицийский польский язык. Один снял с раненой бриллиантовое кольцо, свое обручальное я сама дала, чтобы не испытать прикосновения этих грубых рук. Он спокойно взял кольцо и вышел.
В этот момент вошел другой молодой парень, почти мальчик, с голубыми глазами. Он начал с остервенением ругаться: «пся крев», «холера» и проч. Он все время держал ружье направленным на меня, на Аню и на детей. Перед тем как он ушел, он нагайкой ударил меня и толкнул раненую. Она закричала от боли. Когда я потом читала о зверствах голубоглазой арийской бестии, я всегда видела перед собой этого красавца с голубыми глазами и светлыми волосами из-под конфедератки[284].
Когда квартира опустела и легионеры ушли, нам, женщинам, стало более жутко. Мы думали спрятаться у польских соседей, но нам отказали в двух квартирах, а эти две соседки были самыми «человечными», так нам всегда казалось. Нам больше не на что было рассчитывать. Мы остались у себя. Я поправила Аню на ее постели, устроила детей на матрацах. Я прошла по всем комнатам. Я собиралась с мыслями, что взять с собой, потому что я твердо решила уйти еще до ночи. Враги были в этом доме внутри и снаружи, а ночью не было бы пощады от этих белых зверей. Шкафчик, в котором я держала кассу той фирмы, в которой я работала, был проткнут штыками, но у солдат не было времени искать среди книг, и среди неразрезанных книг я нашла всю пачку бумажных русских царских денег, которую спрятала накануне.
Чужие деньги были спасены. На столе я нарочно оставила портфель и бумажник с деньгами, и это они, конечно, очистили и подумали, что больше денег нет. Бумажник валялся на полу пустой. Таким образом я спасла 22 тысячи рублей, которые принадлежали фирме.
Потом я собрала все цветы, которые выглядели дико среди погромного разрушения, и чтобы они не резали глаз и чтобы враги не видели больше наших праздничных цветов, я выбросила их в мусорный ящик. Я видела в окно, как раздели догола убитого человека, и как люди поглядывали на наши окна, показывали на труп и что-то рассказывали новоприбывшим. Медлить нельзя было, надо было уходить из этой вражеской берлоги, нас ждало еще худшее. Вдруг был снова стук в дверь. Я боялась открыть, а когда открыла, ноги мои подкосились, и я упала в обморок. Марк с красным крестом и двумя санитарами и сестрами стоял в дверях. Я слишком долго сдерживалась, и теперь силы меня оставили. Меня привели в чувство. Марк начал открывать письменный стол, вынул бумаги, документы, мы собрали кое-какие вещи для детей и, не оглядываясь по сторонам, мимо трупов и мимо легионеров прошли из нашего дома в смежный переулок и дальше, к нашим друзьям в центр города. Санитары несли на носилках Аню, она была уже почти без сознания. Мы с ней встретились значительно позже, когда она вышла из больницы. Она мне потом рассказала, что при обыске у нее нашли ту пулю, которую она спрятала в карман «на память». За это застрелили ее мужа и ранили ее. Наши друзья устроили детей на диване, дети всхлипывали всю ночь. Я сидела в кресле и не могла закрыть глаза. Меня трясла нервная лихорадка.
Марк вернулся на работу. Было много раненых евреев, он нам не мог больше ничем помочь, да и я не могла говорить, так я была потрясена. Мы оставались у наших друзей некоторое время.
На виленском вокзале сделали передаточную тюрьму, на утро после погрома должны были выслать всех арестованных для полевого суда за городом. Матери и жены приносили пищу — арестованных не кормили, и город посылал еще добавочные порции. Пакеты с платьем и обувью отнимали, и арестованных переодевали в лохмотья, полные вшей и грязи. Всем евреем угрожал расстрел, если случайно кто-нибудь из христиан за них не ручался. В лучшем случае их ссылали в Галицию, в концентрационные лагеря. Некоторые поляки, бывшие ППС[285], ручались за знакомых евреев и спасали их от смерти. Моя учительница музыки была в их числе. Ее покойный муж, врач, как я слышала, спасал людей от болезней, посылал на свой счет бедных евреев в Варшаву на операцию. Евреи, когда он умер, оплакивали его как самого большого благодетеля, и шли за гробом. Пани Домбровская спасала евреев от наветов и ручалась за них своей головой.
То же самое делал не раз староста города Вильны (Абрамович) и брат Пилсудского Ян, адвокат[286], который знал многих евреев Вильны лично. Но таких было немного. Пилсудский назначил комиссию еврейских нотаблей, они разъезжали по городам и тюрьмам и освобождали всех, кого знали и кто внушал доверие. Лидскому раввину комендант города сказал: «Пани Рабби, у вас только одна голова, как вы можете ручаться за всех жидов?» На это раввин ответил: «Я положу свою голову за всех и за каждого в отдельности». Этот раввин потом погиб у немцев.
Но не всех удалось спасти. Арестованных мучали, пытали, несколько раз ставили к стенке, раздевали догола и направляли на них ружья, а потом отпускали, и так повторяли несколько раз. Иногда в коридоре они слышали: «завтра в шесть утра». Они молились, читали Псалтирь, говорили Видуй[287], делали завещания письменно и устно, но их не убивали. В поездах и дорогах их не кормили, и если бы не население на станциях, которое выходило с продуктами и пищей, эти люди умерли бы с голода. В поездах их клали друг на друга в такой тесноте, что со многими делались сердечные припадки. В тюрьмах держали в грязи и испражнениях, на каменном полу, сутки и больше, а потом везли дальше. У тех, у кого были очки, снимали очки, и людей оставляли слепыми.
Большевики отступили от города недалеко. Их ждали со дня на день. Иногда они возвращались, и уличные бои усиливались. Арестованным евреям обещали в таком случае расстрел. Мы слышали грохот снарядов и однажды видели отступающий обоз и растерянные польские лица, солдат и цивильных. Польские дети и женщины отступали с обозом.
* * *
Мы некоторое время жили в отеле, и только когда польская власть стабилизировалась, мы начали искать себе другую квартиру. Я ни за что не хотела вернуться в нашу старую квартиру. У нас украли все, что можно было украсть: платья, костюмы мужа, все продукты, все ценное. Работали, как мы потом узнали, все: солдаты, соседи, хозяйка дома, наша собственная прислуга и ее сын, которого она освободила предательством. Когда я пришла забирать наши вещи из квартиры, в которой был погром, костюмов Марка не было, зато во всех углах лежали кучи грязного белья и рваной обуви.
Квартира, в которую мы въехали, была не в лучшем состоянии. Многолетний солдатский постой оставил следы в каждой комнате, во всех углах. Я не имела денег для радикального ремонта и должна была с новой прислугой собственными руками вычистить всю грязь.
На дворе был солдатский клуб и помещение женской бригады. Пьяные солдаты бушевали каждую ночь, и наши дети с криком просыпались, когда по ошибке в середине ночи стучали к нам вместо клуба или, вернее, публичного дома, который там устроили. Дети были так нервны, что боялись каждого военного, солдата или офицера.
* * *
После всех этих событий все наши знакомые начали разъезжаться, кто в Варшаву, кто в Америку. Мы начали всерьез подумывать о Палестине, но прежде чем нам удалось туда уехать, прошло еще полгода.
Еврейская общественная жизнь начала налаживаться: вышли газеты на идише, сионистская[288] и бундовская (Tog), начали появляться в Вильне разные «знатные иностранцы»: комиссия Моргентау[289] для исследования событий. Все были заинтересованы в том, чтобы затушевать события и замирить общественное мнение; понятие «appeasement»[290] тогда еще не было знакомо, но оно уже существовало. Всем делегациям делались торжественные приемы, их возили показывать место действия, где расстреливали евреев, где их закапывали живьем, сжигали. В здании еврейской «кегила»[291] шел разбор сотни дел, туда приводились свидетели и пострадавшие, которые давали показания.
Но евреям все эти комиссии ничего не дали, кроме обиды и разочарований; всё назвали «инцидентами», «военными эксцессами», и это не помешало новому займу Польше со стороны Америки и Вудро Вильсона, защитника правды и справедливости.
Несмотря на все пережитые ужасы, Вильна скоро оправилась. Люди вошли снова в работу помощи пострадавшим, были благотворительные вечера, справляли 15-летие со дня смерти Герцля, вечера еврейского культурного кружка Тарбут[292], вечер Керен Каемет[293], детские спектакли и даже целые дни, посвященные Палестине. Все бросились в эту шумную общественную работу. Дешевые кухни, детские приюты, ликвидация голода. Объединенный клуб писателей — сионисты и идишисты — устраивали встречи и приемы для разных новоприехавших знаменитостей.
Знаменитый еврейский Виленский театр возобновил свои спектакли. В Вильне были заложены невероятные источники еврейской культуры, старых и новых литературных традиций. Библиотеки Страшуна[294] и Сыркина, читальни были переполнены еврейскими учеными.
Проездом жили в Вильне еврейские писатели — Шимон Ан-ский, Сегалович, братья Нигер — Чарный[295], Вайтер-Девенишский, которого убили поляки, и многие другие.
В 1919 году наш «Иерушолаим де Лита»[296] имел свой блестящий расцвет. Евреи, как раненые звери, привыкли к погромам и зализывали свои раны. Если, бывало, зайдешь к раввину в день после погрома, и этот день была суббота, вы могли найти на столе белую скатерть (чистую простыню), пару подсвечников (если серебряные были украдены, то медные), халу и фаршированную рыбу на столе. Вся семья была в чистых платьях и помыта, как если бы ничего не случилось. Еще вчера здесь бушевала зверская банда, и завтра начнутся будни и заботы, но сегодня — суббота. Как после смерти домочадца в доме запрещено говорить о покойниках, так тут тоже старались не вспоминать происшедшее. И так было не только у раввинов, но у всякого набожного еврея.
Поляки были заинтересованы в том, чтобы в первых выборах «Земель Всходних» (в районе северо-западного края и Вильны в том числе) население голосовало не за литовцев, а за поляков. Они делали всякие дипломатические шаги, чтобы замазать прошлое и помириться с нотаблями и влиятельными кругами в еврействе. Они не останавливались перед визитами, личными извинениями. Мы знали, что эти вежливые заигрывания накануне плебесцита прикрывали все тот же антисемитизм и национальную ненависть.
Но жизнь шла дальше, эмигрировали единицы, население оставалось на прежнем месте и должно было жить с господствующей нацией. Теперь это были не русские, не немцы-оккупанты и не литовцы — это были поляки. В школах стали вводить польский язык, в учреждениях говорили по-польски, и евреи, как всегда, были склонны к примирению. Две тысячи лет научили нас молчать, терпеть и страдать и быть патриотами того отечества, в котором мы живем.
Перед отъездом из Вильны, когда мы уже знали, что визы — дело времени, я начала прощаться с этим городом, где была могила моего отца, где я оставалась дома, где у меня были друзья еще с раннего детства. Я стала ходить по грязным уличкам гетто, по Ядковой, Еврейской, Жмудской, Стеклянной, Рудницкой. Я полюбила этот город, который я не ценила и не понимала раньше.
Я была на школьном дворе, в большой синагоге Виленского Гаона, в библиотеке Страшуна. Как будто я знала и предчувствовала, что все эти улицы и районы превратятся со временем в гитлеровское гетто, с которым будут связаны трагические воспоминания и ужасные представления. Я будто предчувствовала, что я уже никогда не вернусь сюда, и что это та временная родина евреев, где делалась их история, культура, — в последний раз в голусе, в изгнании.
Отвращение к этому еврейскому гетто, которое я испытывала в детстве, куда-то исчезло, я стала смотреть другими глазами на эти улочки, на арки, на отделку древних синагог, на кладбище, на стариков и женщин-торговок с горшками с тлеющими углями между зябнущими ногами, на рынки с товарами. Я прислушивалась к остроумному еврейскому говору (теперь мне понятному) и интонации — уже без раздражения и стыда и презрения к моему несчастному народу. С этим чувством любви и жалости к Вильне я оставила город.
Я поехала на кладбище к отцу, где теперь стоял приличный памятник, побывала на могиле моей подруги Лены; на могиле Вайтер-Девенишского был подстреленный орел из мрамора. Я закончила все свои дела, передала доверенность поверенному и адвокату и начала паковать вещи. Дюссельдорфский пейзаж — вересковое поле, который я получила как свадебный подарок от своей боннской приятельницы Марты; портрет мадам Лебрен[297], обе картины простреленные пулями во время обстрела нашей первой виленской квартиры, большой портрет Герцля на балконе в Базеле, Венера Милосская, репродукция из Лувра — все эти картины и к ним еще мебель, рояль, книги, зеркала, сервизы, ковры, линолеумы, то есть все, что сохранилось, я оставила в Вильне. Мы решили, что в Палестине не нужна вся эта роскошь, что жизнь там надо начинать очень просто, скромно, что для всего этого у нас не будет ни комнат лишних, ни места. И как я потом раскаялась, что в незнании палестинских условий я с таким легким сердцем бросила и раздала и навязала людям вещи, без которых моя жизнь стала очень бедной, будничной, неуютной.
Я отдала много вещей в сионистский клуб, кое-что нам удалось продать, чтобы иметь деньги на дорогу.
В последние вечера, когда все уже было запаковано, мы с Марком пошли на берег реки. Листва, как кружево на фоне светлого серебра лунной ночи, река была гладко-металлическая, виднелся весь противоположный берег, дома, пожелтевший лес, зеленые сосны на пригорке, заборы и крыши, башни костелов и луковицы русских церквей. Всё рисовалось четко, изящно, все было окрашено в шоколадно-сероватые тона, цвет серо-бурой лисицы, даже с проседью. На мосту стояли одинокие силуэты.
Была уже поздняя осень, на столе увядали лиловые астры, облетал виноград, обвивающий стены дома на противоположной стороне, желтые листья устлали тротуары, вся Замковая гора в золоте, кусты бузины и барбариса с красными гроздьями, запах спелых яблок в воздухе, каштаны в спелых коробочках. Дожди шли вперемежку с прекрасными днями бабьего лета. Паутинки летали в воздухе и застревали в волосах. Днем иногда еще бывало тепло, пели кузнечики и стоял звон — жужжали стрекозы. Вечерами накатывала пряная духота, прожектора освещали Вилью, и светлые полосы, словно северное сияние или как зарево белого пожара, падали на дома и сады.
Нам устроили прощальный банкет. Мы были первые эмигранты в Палестину после войны. Мы ехали не в Турцию, как прежние эмигранты, а в НАШУ ПАЛЕСТИНУ, как мы и все наши друзья думали. Это было событие, какого давно не было в Вильне и в Истории.
* * *
Из моих близких подруг многие разъехались еще раньше: Нина с делегацией Красного Креста уехала в Вену, к своему жениху, и там вышла замуж. Зоя была в Киеве, там тоже вышла замуж, и я не знала, куда она направила свои стопы — осталась ли в воюющей и разгромленной Украине или успела выехать за границу. Раля была в Советской России.
Когда мы приехали в Вену, Нина встретила нас на вокзале, приютила у себя. Она была очень счастлива, ждала ребенка, муж ее хорошо устроился, принял австрийское подданство. Мы старались этими пятью днями вознаградить себя за последние тяжелые месяцы. Мы с Марком оставляли детей у Нины и ходили по театрам и музеям. Мы видели «Риголетто» с Пикавер и Кюринна, «За стенами» в Камершпиль — пьесу из еврейской жизни[298], комедию «Отец и сын» в Бургтеатр. Направление в театрах повсюду было тогда комедийное, слишком много трагедий было в жизни за последние годы, все хотели развлечься.
Я посетила свою старую приятельницу-немку, ее сын тоже был врачом и прошел войну, как и Марк. Их квартира была наполнена старыми безделушками и тяжелой мебелью, прислуги не держали, в Вене был голод, и было тяжело держать в порядке дом и доставлять продукты. Особенно они жаловались на холод, ради нашего визита в последний момент зажгли камин углями и несколькими щепочками. От ее знаменитой «Wiener Küche»[299] ничего не осталось — угощение, как и отопление, было жалкое.
Выехали мы в Триест на рассвете, в поезде, переполненном людьми.
В Австрии разруха была не меньше, чем в России. Только здесь голод и холод были организованные, вышколенные. В вагоне сидели на багаже, на тюках, в коридоре. И все, как еще недолечившиеся раненые, говорили о войне. Хотели осознать то, что пережили, и зачем пережили. «Зачем мне было убивать русского? Wie komm ich dazu?[300]», — спрашивали они друг друга. Они как будто не знали, что именно Австрия была зачинщицей войны. Их уговорили, что они не служили ни причиной, ни поводом войны.
Мы проехали Заммеринг, отроги Тирольских Альп. Я не могла оторваться от окна, хотя ландшафт днем был слишком сладкий. Но ночью горы, долины, домики, шале, туннели, кипарисы, старые феодальные замки, виноградники в снегу и снег на горах — и все это при лунном свете — были как в зачарованном царстве.
Днем дети прилипли к окну, и их нельзя было оторвать даже для маленького завтрака, но ночью, когда они спали на наших местах, мы с Марком стояли в коридоре, смотрели на звезды величиной с блюдце (мелкие из-за луны не были видны), ручьи, водопады, как замерзшие голубые ледники. И потом восход солнца — розовые дома, замки, деревья, камни горных террас с виноградниками. Мы преодолели бессонную ночь, стояние на ногах, усталость. В Триест[301] мы тоже приехали на рассвете и до утра сидели на вокзале. Укутали ребят в шали, а сами дрогли от бессонной ночи и нетопленного вокзала. Вокруг нас бушевали полупьяные итальянские «солдатеско» в серых пограничных крылатках. Мы согревались эрзац-кофе из потрескавшихся толстых чашек, и Марк по телефону искал для нас убежище. Наконец нашлась свободная комната у одной галицийской еврейки, которая нас хорошо приняла, несмотря на детей (куда мы ни звонили, с детьми всюду отказывали), дала нам право варить ребятам кое-что в ее кухне, подавала нам в комнату самовар, и на стене даже был портрет Герцля.
Мы ждали несколько дней нашего парохода. Мы ходили в город к морю, покупали апельсины, которых уже давно не видели, осмотрели очень красивую новую синагогу, подымались на трамваях в гору.
Наконец нам сообщили, что товарно-пассажирский пароход отходит на Венецию и называется он «Тироль». Первый день Хануки мы провели в Венеции. В третьем классе парохода пассажиры зажгли первую ханукальную свечку. Хазан пел «змирот» и благословлял ханукальную «менору». Мы все хором пели «Гатиква»[302] и другие сионистские и палестинские песни — их запевали те несколько оторванных войной от страны палестинцев[303], которые теперь возвращались к себе. У наших деток блестели глазки. Господа из первого класса наблюдали это зрелище, как самый экзотический спектакль.
У нас была каюта первого класса, но ели мы во втором, а весь день проводили с палестинцами и пассажирами третьего класса. В первом классе была обычная левантийская публика: чиновники, служащие на Ближнем Востоке, кое-какие турки, богатые арабы, и на этом фоне — молоденькая девушка-швейцарка с дамой, которая сходила за «маман». Барышня выглядела 15-летней девочкой, хотя ее возраст был неопределенный, как и сама «маман», как и цель ее поездки в Каир, куда она ехала. Она забавляла весь экипаж, садилась на колени всем офицерам, молодым и старым. Она выглядела очень наивной: один офицер из экипажа был ее папа, другой — дядя, третий — муж, четвертый — жених и т. д. И с каждым из них она играла соответственную роль, ласкалась, ссорилась, надувала губки. Все смеялись и щипали и тискали ее по-своему.
Во втором и третьем классе были палестинские реэмигранты и новые иммигранты, как мы сами. Здесь можно было слышать все языки, всю историю еврейского рассеяния за последние десятилетия и все надежды, какие евреи возлагали на будущее.
Я первый раз в жизни видела, как пароход отчаливал от пристани. Снимали сходни, снялись с якоря, крутили канаты на гигантских блоках, потом с помощью небольшой моторной лодочки сделали поворот, легко отчалили от берега, почти бесшумно, наконец дали темпо и вышли в открытое море.
Все дни мы проводили на палубе, на носу парохода. Дети играли возле меня, за нами шел светло-зеленый след морской — мрамор, изрезанный белыми жилками. Пристань, мол, здания, маяк на берегу, вершины гор по берегам, когда мы проезжали города и отчаливали от разных пристаней, как бисер освещенные по ночам деревни — все это менялось, повторялось и исчезало.
Мы плыли восемнадцать дней. Берега Италии, виноградники, дикие волнистые холмы, скалистые или снежные. На одной палубе было солнце, море купалось в лучах и блестело металлом. С другой стороны палубы море светилось только отраженным светом. Чайки вились вокруг парохода, детишки бросали им крошки хлеба.
Из всех городов, которые мы видели в этом путешествии, только Венеция произвела чарующее впечатление: венецианская ночь, трепещущие в каналах отражения огней. Колокола там звонили в ту ночь ну точно, как у нас в Белокаменной. Наши дети очень хорошо выдержали все прогулки по площади Сан-Марко, вдоль Палаццо Дожей, Понте Риальто и по Еврейскому гетто. Из Палаццо Дожей из-за войны были вывезены все картины. Тюрьма, Мост вздохов, каменные решетки, которые извне выглядели как украшение, но внутри в Средние века служили для того, чтобы преступники, которых вели на пытки и смерть, не бросились в море и чтобы их не видели снаружи. Все мои прочитанные книжки о кватроченто и квинквоченте, все мои работы о Макиавелли, Боккаччо, все мое восхищение старой аристократической Венецией ожили. Сан-Марко, изящный снаружи и внутри, площадь с голубями, прекрасные кондитерские, где мы угощали детей кассатой[304], вознаградили их и нас за всю усталость. Мозаика, краски, фрески, золото, разноцветный мрамор стен и колонн, роскошь магазинов на площади, венецианское стекло, белый алебастр, бронза, древние лампы — глаза разбегались, и мы только жалели, что у нас нет ни единого лишнего гроша, как у прочих туристов, чтобы купить себе и детям что-нибудь на память в этом волшебном городе.
Как и в Триесте, здесь в переулочках между домами висели мокрые кальсоны и сушилось другое белье и почти хлестало прохожих по носу. Резные гондолы перед домами на лагунах, черная покрышка, как на гробу, красивые костюмы гондольеров, еще более изящные женщины в длинных черных шелковых и шерстяных шалях с длинной бахромой — все это было так не похоже на скучные европейские города. В этом было еще Средневековье и эпоха Возрождения. На пароходе я читала о Венеции, об Италии, а дети рисовали осла — то, что произвело на них наибольшее впечатление в Италии.
Я подружилась со стюардессой, которая — по традициям дома моего дедушки — получила от меня на чай до отплытия, а не в конце путешествия. Она делала мне и детям ванны, ухаживала за нами во время морской болезни, стирала мне детские платьица и белье.
Пароход шел не торопясь: из Венеции обратно в Равенну, где его перегружали. Равенна стоит на высокой горе, стены ее домиков спускаются прямо к морю. На верху горы — шпиль, ажурная башенка с колокольней, а на одном из бесчисленных островков вокруг — белая колоннада. Все тонет в кипарисах, кругом пещеры, и на каждом берегу — башня с маяком.
Я в бинокль рассмотрела, как эта зеленая лампа на маяке вертится, кружится вокруг своей оси. Одна сторона маяка остается неосвещенной, другая — яркая, как реальность и иллюзия, причем не всегда реальность — мрак, а иллюзия и мечта — свет. Хотя и принято считать, что так оно должно быть.
Мы часто с Марком бродили по палубе или сидели в шезлонгах и говорили о том, что́ нас ждет в Палестине. Мы не хотели тешить себе иллюзиями, страна была сильно задета войной, население было не раз эвакуировано со своих насиженных мест, они перенесли голод и нехватку снабжения, это мы знали из газет и слышали от тех палестинцев, которые оставались в более тесном контакте с родными и со страной. Кроме того, нам предстояла пионерская жизнь, мы начинали сами все сначала, и страна должна было начать строиться, но мы были молоды, и, как Бальмонт говорил, «в безоглядности плыву», — по крайней мере, тут, на пароходе, мы хотели плыть в безоглядности. Рут вспомнила, что всегда в Ханука мы ели оладушки, и ей взгрустнулось. Не было игры в «дрейдл» (волчок) и не давали «ханука гелд» (деньги в подарок).
Ночевали мы у порта Фазано, как говорили, из-за мин, но вернее потому, что утром снова нужно было разгрузить товары.
Наш еврейский комиссар сделал анкету всех эмигрантов. Некоторые даже не знали, зачем они едут. Это были настоящие вечные жиды с посохом, без определенной идеи, цели, уверенности, что их путь подходит к концу. Проехали Спалату, красивый далматинский городок. Ажурные здания, мусульманские минареты, башенки, кипарисовые кладбища Диоклециана-Солона. По вечерам, как нам сказали, там небезопасно разгуливать, дикое гнездо, масса солдат, говорят по-русски (были у нас в плену).
Здесь уже чувствовался переход от Европы к Азии: плоские крыши, каменные дворики, слабая культура винограда.
Пинии — это южные сосны.
По дороге в Бари[305] была сильная качка. Все заболели морской болезнью. В Бари мы вышли, гуляли по городу. Новостью для нас были пальмы и платаны, на одной из площадей — памятник Россини. На одной из стен города — мраморная доска, благодарность города своим героям: Джордано Бруно, Обердану и королю Гумперту, объединителю Италии. В сквере стояла его же прекрасная статуя.
Мы посетили кафедральный собор. На улицах Бари перед Мадоннами горели фонарики. Мы ходили по припортовым улицам, все комнаты были открыты настежь, несмотря на декабрь. В одной церкви играл орган. Повсюду иконы и статуи Мадонны и распятия. И тут же двуспальные кровати, и женщины с вычурными прическами и зазывными жестами. Не зная дороги, мы заблудились и попали в мир апашей и проституток. Узенькие проходы, стены, соединенные арками, сводчатые коридоры, окна с решетками, как в тюрьмах. Вода моря ударяла в стены домов. В порту было темно и душно, компании картежников и пьянчужек смотрели на нас. Мы были рады, что оставили в тот вечер детей на пароходе с семьей палестинцев. Мы кое-как выбрались из этого лабиринта, вернулись на рынок, купили детям апельсины с листьями, орехи, миндаль, винные ягоды, каштаны и кокосовые орехи. Все эти подарки юга их очень обрадовали, но не всё они хотели попробовать, так как видели эти плоды впервые.
На лотках базара были разложены устрицы и раковины (которых мы не купили) и висели флажки и фонарики из разноцветных стекол. Может быть, канун Рождества придавал такую праздничность рынку, церквам, даже припортовой полосе — перед каждой Мадонной горела лампадка.
Я читала Гете «Поездка по Италии» и Бельшовского[306], которых я купила еще в Москве и везла с собой во время всей поездки по Италии.
В Бриндизи я видела впервые, как элеватором нагружали груз и… нагрузили на наш маленький пароходик 400 арабов. Люди по-змеиному ловко карабкались, кричали гортанными голосами, тащили сами по лестницами свой багаж, какие-то тюки, скакали через борт, юркие, гибкие — ничего подобного мы прежде не видали.
Все рассказывали, что эти арабы едут из Америки, где они заработали много денег и теперь везут их на Левант зашитыми в пояса. Несмотря на это, они были грязны, шумны, некультурны, сидели на полу, ели руками, так что жир тек с их пальцев.
Мы перестали сходить на «deck»[307], где мы раньше проводили большую часть времени. За ужином во втором классе итальянец под аккомпанемент мандолины и гитары пел итальянские романсы и попурри из итальянских опер. Наша Рут была в восторге. Она научилась у швейцарки «строить глазки» и кокетничала со всеми, ее баловали, в особенности у нее завязался роман с одним датским капитаном.
Мы проехали остров Корфу по пути к Криту. Накрапывал дождь, и море сильно волновалось. После Бриндизи все снова заболели морской болезнью. Потом проехали Кандию, родину Ифигении[308]. Мы устроили импровизированный концерт, приближаясь к берегам Африки. Все евреи уже перезнакомились, заставляли друг друга петь и танцевать.
31-го декабря 1919 года, под Новый год, мы прибыли в Александрию.
Утром осматривали колонны Помпея, Птоломея, катакомбы, Сарапеум, а после обеда поехали на еврейское кладбище. Здесь южные тенистые аллеи, белые мавзолеи, мраморные фамильные склепы, колонны, барельефы. Совсем не похоже на еврейское кладбище в России или Польше.
На могиле еврейских легионеров, погибших у Галлиполи, в первых боях за Англию и Палестину, в полку Патерсона[309], стоял деревянный «моген Давид», и на колонке братской могилы — надписи на всех языках. По-русски было написано: «нашим товарищам». Здесь, как нам говорили, Жаботинский произнес надгробную речь. Мы были очень взволнованы этими первыми поклонами приближающейся к нам Палестины.
Первого января 1920 года мы причалили к Порт-Саиду. Здесь наш пароходик нагружался углем. Угольная сажа проникала в легкие, в нос, и мы с детьми несколько раз переодевались. Платья уже были летние, даже белые батистовые, хотя это были крещенские морозы, по нашим понятиям.
Рядом с нашим пароходом стояла большая барка, наполненная углем. Куча негров или замазанных сажей арабов в грязных халатах, с платками на голове, с желтыми соломенными корзинами в руках, облепили эту барку. Два тяжелых бруска служили сходнями. Эти египетские рабочие, перегружая уголь, пели что-то монотонное, вроде русской «Дубинушки». На этих мостках они выстроились шеренгой, передавали из рук в руки наполненные углем корзинки. Эта картина была как-то особенно примитивна, как будто в наше время нет механических способов пересыпать уголь с места на место. Так, верно, выглядели рабы на галерах две тысячи лет тому назад. Так, верно, строили пирамиды, передавая шеренгой камни от одного другому. Их цепь шла от берега до нашего машинного отделения, и издали они не были бы похожи на людей, если бы между погрузкой они не успевали пить воду из глиняных джар[310]. Один рабочий был ранен в ногу, и его сосед по цепи какой-то тряпицей перевязал ему рану. Работа продолжалась дальше, без остановки, конечно. Когда подошла лодка с конкурентами, ее отогнали баграми. Единственный «человеческий» момент был, когда этот товарищ перевязывал рану на ноге другому. Иначе они выглядели бы, как цепь на блоке в механизме.
Из-за 400 арабов, которых нам посадили в Бриндизи, наш пароход превратился в настоящий Ноев ковчег: стало грязно, тесно, одна женщина родила ребенка. Мы были счастливы, когда наше путешествие приблизилось к концу.
* * *
Когда второго января 1920 года мы причалили к Яффе, все евреи страшно волновались. На горке расположился небольшой город восточного вида, а недалеко от него — несколько домиков с белыми крышами. Нам сказали, что это Тель-Авив. Мы вовсе не знаем, какой атавизм или какие подсознательные воспоминания дремлют в человеке, в народе. Я не отрицаю, что, может быть, только благодаря пропаганде и внушению многие чувствовали себя при приближении к этому берегу евреями, сионистами, детьми этой страны и этого азиатского побережья. Но буквально все евреи, старые и молодые, дети особенно, — все были так наэлектризованы, у всех были слезы на глазах, пели «Гатиква» и не могли петь оттого, что горло сжималось. Вряд ли была эта земля для кого-нибудь родиной (было несколько таких, кто родился здесь, — дети колонистов, учившиеся в Париже), но для всех это была Родина[311]. Я даже думаю, что те блуждающие души, которые ехали без цели, авантюристы, тогда забыли на миг, что не на свою желанную родину едут, не в «землю обетованную».
* * *
С парохода нас сняли рослые арабы в живописных костюмах с красными поясами и фесками. На руках они нас перенесли с парохода на маленькие качающиеся лодочки, которые лавировали, как нам казалось, с опасностью для жизни, между рифами. Наш багаж, который был погружен на другие лодочки, то появлялся, то снова исчезал, и нас успокаивали, что ничего не пропадет. Встретили нас родные Марка, которых я не знала, но о которых Марк мне много рассказывал: это были старые палестинцы, приехавшие еще до войны[312]. Они позаботились о нашем багаже, взяли нас на извозчика — арабандже — и повезли мимо апельсиновых бояр, пардесим, в Тель-Авив. Дети сидели как зачарованные: апельсины на деревьях, верблюды и ослы без счета.
Тель-Авив был маленьким городком, всего две-три неоконченные улички. Бульвар Ротшильда, улица Герцля, которая венчалась зданием гимназии Герцлия, небольшим строением с зигзагами на крыше, — тогда считали, что это восточный стиль (и действительно, Дамасские ворота в Иерусалиме имели подобные зигзаги). Мне все казалось, что эта гимназия соскочила с картинки издательства «Леванон», которое выпускало палестинские фотографии и портреты еврейских деятелей. Все деревья в Тель-Авиве были кустарниками. Небо здесь было более голубое, чем в Италии и даже в Египте, или так казалось из-за желтых дюн. Запах моря, белые домики, раскаленный песок и благоухание апельсинных цветов одуряли и сбивали с толку.
Три дня к нам приходили гости, весь Тель-Авив перебывал у нас. Я перепутала все лица и не могла отличить директора гимназии Мосинзона[313] от мэра города Дизенгофа[314], а его — от врача по ушным или по внутренним болезням. Все учителя и они же писатели, аптекари и директора каких-то общественных учреждений пришли приветствовать первых после войны иммигрантов[315]. То была Алия шлишит — третья иммиграция. (Первая — Билу[316], вторая — до Первой войны.) Хоть я и читала перед публикой несколько докладов о Палестине, я не имела никакого представления о настоящей Палестине. Несмотря на то что еврейский язык я изучала с самого детства, здесь я не могла связать двух слов. Я плохо понимала, что мне говорили, мы переходили на русский язык, которым владели почти все, кроме нескольких немцев и галициан. Нас расспрашивали о России, о революции, о большевиках, но раньше, чем мы открывали рот, чтобы ответить, тельавивцы переходили на другие темы, которые их больше интересовали. Они рассказывали о Кемаль-паше, о высылке в Египет или в Петах-Тикву, о военных школах в Турции или в Бейруте и о том, как сами варили сахар из винограда[317]. Наши погромы, война и революция были им чужды и далеки. Мы встретились точно с двух разных планет. Дети пробовали говорить на ашкенозисе и на сфарадите[318] и застенчиво замолкали, потому что их родной язык все же был русский.
Но все это не мешало мне почувствовать какое-то опьянение от палестинской атмосферы, как климатической, так и общественной. Вскоре я встретила тех дам, с которыми переписывалась и от которых получала материал для своих докладов о женской работе, а также тейманские[319] кружева для наших выставок в Вильне и Москве. Меня приняли, как старую хаверу — товарища. Через неделю детей отвели в первый раз в детский сад, и не прошло и месяца, как они заговорили на иврите лучше нас всех.
Первый визит мы решили сделать в Сарафенд[320]. Как бывший военный, Марк чувствовал свою принадлежность к еврейскому легиону.
По дороге мы остановились в Микве-Исраэль[321] и осматривали агрономическую школу. Все впечатления были ярки, без нюансов, как само палестинское солнце. Первое мое разочарование было то, что Палестина вовсе не наша, как мы себе ее представляли после Бальфурской декларации[322]. Палестина была пустая, незаселенная, но не еврейская.
Полковник Марголин[323] принял нас очень любезно, нас взяли в военную кантину[324], и многие «гдудники» пришли с нами знакомиться. Палатки были комфортабельны, чисты, культурны и на фоне Иудейских гор выглядели совсем не по-азиатски. В ту первую нашу вылазку мы были перегружены впечатлениями самыми разнообразными и противоположными: восточные колодцы, мельницы, вращаемые ослами и верблюдами с завязанными глазами, караваны навьюченных верблюдов, арабы верхом на осликах, а сзади — их жены с кладью, как если бы сами были ослами: на голове целый дом, пуки хвороста и чуть ли не сундуки, джара с водой либо плоская корзина с товаром, зеленью — вот самое малое, что эти женщины несли на своей голове.
В Сарафенде мы видели походную кухню, оборудованную по самому последнему слову военно-транспортного искусства, и рядом кухонька, где на углях варилось что-то, или просто печка, отапливаемая сушеным навозом, в которой пеклись арабские питы, плоский хлеб вроде мацы, но квашеный. В одной из комнат учителя Шохата[325] в Микве рядом с полкой самых серьезных научных книг стояли «орудия производства» — лопата, грабли, заступ и проч. На столе — красивая ваза с цветами, в другом углу — рабочие высокие сапоги.
Мы четыре часа тряслись от Тель-Авива до Сарафенда и обратно. Я не чувствовала себя усталой, я все принимала без критики, с радостью, с восторгом; я получила вдруг не еврейскую, а гойскую голову (а гоише коп) без мудрствований лукавых. Я вспомнила слова Пушкина по прочтении гоголевских «Мертвых душ»: «Господи, как печальна наша Россия». Если бы мы могли уже сказать: «Господи, как печальна наша Палестина», мы бы слово «печальна» должны были заменить словом «прекрасна», потому что печаль и наша — два понятия несовместные.
Я жалела, что я не мужчина, я бы просто записалась в гдуд Марголина.
Но я была мама двух детей и должна была приняться за хозяйство.
По дороге я нарвала немного анемон, цикламен, и мы видели красные плоды кактуса сабры и маслины, но не черные (как в магазине Елисеева), а зеленые[326] оливки на деревьях. Мне понравились черные арабчата, грудастые женщины с джарами на голове, как в песне «ходим мы к Арагве светлой каждый вечер за водой»[327]. И куполообразные мечети с узкими минаретами, и колодцы, и бульвары из пальм, и тяжело обремененные плодами апельсинные рощи и лимоны. Касторовое дерево по обеим сторонам дороги, мимоза с пахучими желтыми цветочками, все было как-то нереально, фантастично или как в постановке в театре из жизни на Ривьере.
Я решила раньше всего записаться на курсы, чтобы изучить «в ударном порядке» иврит. Но так как были курсы только для садоводниц и учительниц, я записалась в семинарий имени Левинского[328].
До этого мы решили с Марком поездить по стране, так как потом уже будем заняты каждый своим делом и не сможем вырваться. Наши родственники помогли нам в этом отношении: они переняли на себя заботу о детях.
Мы выехали из Сароны в сторону Петах-Тиквы. Осмотрели кое-какие пардесим, сорвали в первый раз апельсины с дерева, в Петах-Тикве нам показали оросительную станцию на реке Одже (Яркон), мы были в домиках рабочих, в школе, на работах в школьном саду и на уроках истории, Библии и арифметики. Мы гуляли по улицам маленькой колонии и были в мэрии, обедали у наших петербургских знакомых, у которых был барский дом с колоннами и которые были уже старые колонисты. Дорога обратно шла мимо палаток бедуинов, горели костры, пахло жженым навозом, проехали стан индусских солдат, там играл вальс военный оркестрик.
На повороте наша кибитка перевернулась, и мы все повалились в грязь. Дорога на Петах-Тикву была хуже той, по которой несколькими днями раньше мы ехали в Сарафенд. Пока наши мужчины вытаскивали коляску из рва, бедуины обступили нас, глазели и просили бакшиш. С царапинами и синяками мы снова забрались в пролетку и на этот раз кое-как благополучно доехали до дому.
Несколько дней мы отдыхали. Впрочем, ходили гулять в Яффу, мимо пардесим, и к морю; в Тель-Авиве не было дороги к морю. На еврейское кладбище ходили по пескам, и это была целая экспедиция с сандвичами и бутылкой чая. При вое шакалов и при внезапно наступавшей темноте мы возвращались из каждой такой прогулки. Нас предупреждали, чтобы не возвращаться в темноте, потому что арабы имели обыкновение нападать, ранить мужчину, отбивать женщину и красть все, что можно было украсть. Не останавливались перед насилиями. Поэтому мы старались всегда гулять по утрам и возвращаться к обеду домой.
Следующая поездка была в Ришон-ле-Цион[329]. Осматривали винный погреб общества Пико[330] (барона Ротшильда). Посетили иеменитские домики. Иемениты все черные, малорослые, кудрявые, жили почти в курятниках, в бараках, сколоченных из досок и жести, с жестяной крышей, иногда облепленной глиной. В плохую погоду и дождь такой домишко мог быть снесен ветром, и вода проникала через каждую щель.
Застали мы их за субботней молитвой, в талесим (белая шаль), за кидушем[331]. В домиках, несмотря на полное отсутствие «обстановки» и бедность, было довольно чисто, спали на циновках, келимах[332], и редко на ковре. Под циновки для тепла подкладывали мешки с соломой, что-то вроде матрацов. В углах и возле стен были разложены подушки. На таких же подушках сидели, и маленькие скамеечки служили им столами. Еда примитивная: салат, пита, хлеб, в субботу — кое-какое варево из зелени, в парадных случаях, как мне сказали, — баранина с рисом. У входа стояли галечи, деревянные туфли, сандалии, похожие на шлепанцы. Дома все ходят в чулках, и считается невежливым оставаться в ботинках. Нам как гостям разрешили не разуваться.
У некоторых теймонцев были на полочках книги, Священное Писание, молитвенники. Это «хахамим», ученые и рабаним, по-ихнему. Их книги писаны от руки, как когда-то писалась Тора, специальными софрим. Женщины работают: вышивают пестрые вышивки, плетут корзины из пестрой соломы, и их изделия тут и там украшают комнаты.
Их женщины быстро старятся, и когда я их спрашивала, сколько им лет, мне часто отвечали «шлошим», тридцать, но выглядели они на шестьдесят. Морщинистые, без зубов. Получалось так, что у молодых мужчин были старые жены или наоборот, очень молоденькие (вторые и третьи), масса ребят, и почти все с глазными болезнями.
Впоследствии многое изменилось в быту теймонцев: их жены научились работать в качестве прачек и уборщиц, мужчины — на фабриках и в колониях, как сельскохозяйственные рабочие. Детей вылечили от глазных болезней, многим выстроили новые каменные домики, и молодежь начала учиться и получать должности. В общественной и даже политической жизни они начали играть известную роль. Но в тот наш первый визит к ним у меня осталось ужасно тяжелое впечатление: мы в наших агитационных речах за границей идеализировали эту эмиграцию из Теймона, их художественные работы и проч. И вдруг я увидела почти бедуинское существование, с той только разницей, что бедуины часто бывали богаты, торговали скотом, верблюдами, разводили скот и жили в крепких палатках, покрытых добротными келимами, и бродили всегда от дождя и ветра в сторону тепла и жаркого климата. И некоторые теймонцы нам рассказывали, что так, в своих домиках «на курьих ножках», они живут уже десять лет и больше. В Теймоне они были богаты, но здесь они в Эрец-Исраэль — и они ни за что не вернутся обратно. Они производили впечатление очень сметливых, неглупых евреев, о политике знали больше, чем можно было предполагать, они спрашивали нас о страданиях евреев в Польше и России и говорили, что «их сердце обливалось кровью», когда они читали о погромах на Украине и в Польше.
Один теймонец, Саадия, с красивыми, как бы подведенными глазами, водил нас показывать колонию. Их женщины в черных платках с золотом вышитой повязкой и в черных шароварах были похожи на турчанок. Их язык оставался арабским, но дети уже говорили на хорошем иврите, с гортанными звуками, как могли говорить наши предки две тысячи лет тому назад. В одной хижине, когда узнали про гостей, собрались рабочие екева — винокуренного завода — и принимали нас очень приветливо. Многие среди них были учениками иешивы в Теймоне или даже имели «смиха лерабанут»[333] (были раввинами). Когда мужчины говорят, женщины помалкивают, и я тоже держалась этого правила. Впоследствии я убедилась, что женщины вне дома далеко не молчаливы и не застенчивы.
В одном домике пели песни — змирот — по песеннику, переписанному рукой, и нам объяснили, что это уже целую неделю гуляют — смейхим[334], свадьба. Нас попросили зайти. На столе были рассыпаны угощения, изюм, китайские орехи (ботним), соленый горох, сушеный виноград — шефтала, куски апельсин и какая-то настойка собственного изделия. В этом мире апельсин и винограда теймонцы «радовались» отбросами и кусочками всех этих продуктов.
Жених был из Иерусалима, невеста местная, очень молоденькая. Ради гостей куда-то сходили и принесли вино. Детки были расфранчены ради свадьбы, но так как матерям, по-видимому, всю неделю было не до них, их грязные, умные и веселые мордочки нуждались в мытье. Мы отведали кое-чего, чтобы не обидеть, пожелали мазал тов и пошли дальше.
И тут же, рядом с этими евреями как бы из другого мира аравийской пустыни, мы попали в дома помещиков, старых колонистов. Нас пригласили в большой каменный дом с колоннами и верандами, с плиточными разноцветными полами, с коврами во всю длину и ширину комнаты, с большим садом. Пальмовые деревья, кактусовые аллеи, кипарисы, акации и эвкалипты давали тень и красоту этому поместью. Финиковые пальмы и вашингтонии[335], двадцатилетние деревья, образовывали густые своды и давали всему этому палестинскому уголку вполне «субтропический вид».
В доме, в котором мы гостили, был старый литовский уклад, жирный богатый стол, посуда и украшения, привезенные из Карлсбада. Только слуги говорили на арабском жаргоне.
В Реховоте мы посетили зоолога Ахарони[336], который нам показал свой зоологический музей, и посмотрев таким образом колонии вблизи Тель-Авива, мы с Марком решили оставить посещение Иерусалима и Хайфы до другого раза.
* * *
Я поступила в Семинарию. Во главе ее стоял доктор Ицхак Эпштейн[337]. Я его знала из Лозанны, где он когда-то жил с семьей. Там, в студенческом кружке «Израэль», я слышала его доклады о Палестине, об арабском вопросе, о том, что мы, сионисты, не считаемся с трудностями: чтобы восстановить нашу старую родину, мы должны будем пройти через жертвы и опасности и преодолеть многое.
Здесь, в Семинарии имени Левинского, Эпштейн читал лекции по психологии в стиле сократовских вопросов и ответов, и было очень интересно. Такие греческие симпозиумы я уже слышала в Москве на лекциях Ильина, но там профессор отвечал на вопросы, которые он же задавал, а здесь мы все принимали участие.
Детский сад при Семинарии был поставлен очень современно по системе Монтессори[338]. Вела его м-м Арари, а ребята были прелестны. Здесь не было никаких глазных заболеваний, ни трахомы, которая тогда была очень распространена в Палестине. В этот же ган иелодим[339] мы отдали наших детей.
Я, кроме психологии, слушала педагогику, еврейскую литературу, Библию и еврейский язык. Последний мне давался нелегко, так как я не имела той традиционной подготовки, которую получали мужчины в хедере и в иешивах, или по крайней мере подготовки к бар-мицве, чего мы, девочки, не получали. Было очень трудно переключиться от чужого к своему.
С крыши Семинарии был очень красивый вид на море, пардесим, дюны, финиковые пальмы, на город на горе Яффа. Когда мы проходили с детьми к морю или на почту, голая Яффа без зелени производила удручающее впечатление, только у самого берега пески и рифы в море и вид башни минаретов в Яффе на горе были красивы.
Купаться еще нельзя было, потому что мы приехали в середине зимы. Жизнь в Тель-Авиве была более чем провинциальная, но ее нельзя было назвать мелкоместечковой: это не было голусное местечко, как Ошмяны, например, хотя в Ошмянах было больше населения, были базарные дни, куда съезжались крестьяне всей округи. Здесь был другой культурный уровень, здесь все были приезжие, не местные, у всех был один идеал: строительство, новая жизнь. Скорее колонизаторские методы, но очень тесный, замкнутый круг. Почти все знали друг друга, нужно было считаться с приличиями, с условностями. Кроме Марка, конечно, было еще несколько врачей, которые могли смотреть на него как на конкурента. Нужно было считаться с «общественным мнением», с положением. Мы до сих пор были богема, свободными птицами. Он на войне, я в университете. Теперь нас стесняли предрассудки и несвобода. Первое время я часто попадала впросак, потому что не узнавала всех «нотаблей» города. Я забывала их имена и их положение. Но и с ними случались такие же казусы. В Семинарии учитель Библии меня в первый раз увидел на уроке. Заметил, что я новенькая, и начал меня спрашивать, кто я, откуда и когда приехала. Я пробовала односложно отвечать. В последний момент он меня узнал и страшно смутился: «Господи, да вы же жена доктора Натанзона, мы с женой были у вас с визитом!» Весь класс хохотал, и мы с учителем вместе с ними.
* * *
В начале февраля 1920 года мы в первый раз поехали в Иерусалим. Ехали поездом, в Луде была пересадка. Дорога была прекрасная, особенно от Рамле вверх, в Иудейские горы. Вначале пейзаж был мягкий, бояры (пардесим), окруженные кактусовыми изгородями, миндаль в цвету, поля и луга, покрытые алыми анемонами и маковыми головками среди сочной зелени. Чем выше, тем природа делается суровее, поезд поднимается в горы среди скал. С одной стороны — гористая стена, с другой — обрыв вади, где зимой течет речка дождевой воды. На горах видны следы завалившихся террасс, масса пещер, по преданию, Самсонова пещера, иногда пещеры с гладкими стенами, как будто дома, выточенные в горах, с отверстиями не то дверей, не то окон. Дома, выстроенные в этих горах, тоже похожи на пещеры, а горы — на развалины домов, трудно различить, где рука человека и где — природные логовища. Если не люди, то овцы, козы и пастухи находили здесь пристанище. Домики — как бы приклеенные птичьи гнезда; кажется, что сильным ветром или слабым толчком — землетрясением — отколются и сорвутся в бездну. Остатки крепостей, минареты. Мужчины в полосатых халатах, в белом платке с черным обручем (кефия и маагал) на голове.
Мы проехали Экрон, Артуф, лагеря индусских и английских солдат. Последняя станция перед Иерусалимом — Беттир, или Бейтар, родина Маккавеев[340]. На вершине мы увидели Иерусалим.
Приехали мы в пятницу под вечер. Заехали в лучший тогда отель «Варшавский», который был знаменит тем, что на обед там давали четверть курицы и бульон с лапшой и точно то же на ужин. Простыни на кроватях прикрывали ровно три четверти кровати, так что та четверть, которой не доставало в простыне, восполнялась лишней четвертью курицы.
Но в тот вечер мы были в таком энтузиазме от всего виденного и того, что нам еще предстояло увидеть, что, помывшись наскоро над миской (текучей воды не было, как и электричества), мы пошли к Западной Стене, или Стене Плача, как ее тогда называли.
Ночь была лунная. С нами шли наши спутники по поезду, тоже новоприбывшие иммигранты, учитель с женой, которые знали Иерусалим. Мы шли по скользким коридорам Старого Города, мимо Яффских ворот при свете лампочек, мимо восточного базара, башни Мигдал Давид, углубляясь в этот странный восточный город, и пришли к Стене как раз к вечерней молитве маарив.
Женщины молились отдельно, плакали навзрыд; они обычно идут к Стене в минуту горя, когда есть больной в доме или тяжелые роды или после похорон. Они кладут камешек на выступ в стене, чтобы таким образом обратить внимание Бога на их просьбы. Направо мужчины в бархатных халатах всех цветов: синих, желто-золотистых, лиловых, красных или в черных атласных с такого же цвета меховой шапкой «штраймл». Шапки невысоки, но широкие. Длинные пейсы, бороды и все тело качается во время молитвы, читаемой громко и нараспев, а где нужно — тихо и шепотом, в одиночку и хором. Молодые юноши отличаются от стариков только тем, что нет бороды и усов на лице, в остальном даже мальчики 13 лет выглядят взрослыми. Один юноша с классически прекрасным лицом (с него бы рисовать Уриэля Д’Акосту[341]) привлек мое внимание тем, что бил себя ревностно в грудь и исступленно молился, прикасаясь к Стене. Замаливал ли он какой-то тяжкий грех или из ханжества должен был кому-то показать свое рвение, не знаю, но так как даже малыши подражали взрослым, я готова была принять второе предположение.
После молитвы все как будто проснулись. «Гут Шабес!»[342] — и стали снова прозаичными и будничными евреями. Была даже перепалка между двумя из них, и третий должен был их мирить и разнимать. К ужину нас пригласили в самый открытый и гостеприимный дом, где было много гостей: представитель ИКА (барона), который говорил по-французски, несколько писателей-одесситов, немецкие евреи. После ужина нас водили на крышу показывать при лунном свете вид на весь Иерусалим, Омарову мечеть, Аксу, стены Старого Города. И весь город как на ладони — Гефсимания, Скопус. Я вспомнила, как однажды сын Бен-Иехуды, Итамар Бен-Ави[343], нам рассказывал, что Иерусалим — самый красивый город в мире. Тогда я сочла это преувеличением, но увидев своими глазами, готова была с ним согласиться. Правда, я еще не видела ни Рима, ни Афин и многих других городов, но Иерусалим был прекрасен.
На следующий день мы пошли в музей «Бецалел», где профессор Борис Шац[344] нам показывал свои сокровища. Нам показали также еврейскую древнюю нумизматику, шекели; потом мы снова пошли в Старый Город, ходили по Виа Долороза, нам показывали весь путь Христа до Голгофы, такие места, где якобы царь Давид увидел Батшеву и где останавливалась царица Савская, когда приезжала с визитом к царю Соломону. На каменных стенах и дверях многих домов были арабески, скульптурные барельефы, украшения, на домах — свисающие балкончики из мелкого плафона, чтобы женщины могли смотреть на улицу и не быть видимыми. (Светелки в русских теремах строились во время татарского нашествия в то же приблизительно время.) Арабы прятали своих женщин от мужских глаз, и в Палестине это осталось до наших дней.
Старый Город должен бы быть сохранен как музей для грядущих поколений и как религиозная Святыня. Для этого нужно было бы разрушить все негигиеничные жилища, перевести население в более здоровые кварталы за стенами города, рынки и восточные и невосточные базары тоже перенести в другое место и вместо них развести сады, скверы перед Стеной Плача, перед церквами и мечетями. Это было бы самое красивое и Святое место на белом свете. План архитектора Геддеса[345] был приблизительно таков.
После обеда мы целой компанией пошли в Омарову мечеть. Прошли через Дамасские ворота; весь двор мечети выложен огромными гладкими плитами; колоннады, маленькие капеллы, старые кипарисы в обхват, и среди всего этого прекрасное здание мечети. Стены простые, покрытые кафлями художественной раскраски. Синие кафли, синяя мозаика — это то, что характеризует Восток. Потом в Каире, в музее я видела много синей эмали и мозаики, которыми покрыты саркофаги из гробниц Тутан Камона[346].
Внутри храма — скала, окруженная забором из колонн. Пол устлан дорогими коврами Абдул Гамида[347]. Цветные стекла, купол, мозаичные стены и ковры только оттеняют монолитность той скалы, над которой построен храм. Грандиозность и примитивность этой скалы на горе Мориа, на которой, по преданию, Авраам должен был принести в жертву Ицхака, и Святая Святых под ней, все это так полно еврейских легенд[348], что трудно отделаться от чувства несправедливости, что нас выбросили из нашей страны, захватили такие наши Святые места, как Храм Соломона, и выстроили на них чужие Святыни. Все эти легенды выходят за пределы архитектурных или художественных достоинств самого Храма. Стена Плача — это сама Библия[349], и эта стена охраняет двор мечети Омара.
Целая свора шейхов, разных прислужников, бакшишников, держателей туфель превратила мечеть в лавочку. Один шейх с рыжей бородой, с белым тюрбаном вокруг фески, с заискивающей улыбкой особенно прислуживал нам, был гидом, старался объяснять и водить вокруг скалы и под нее. Он вытянул у нас бакшишами 70 пьястров. Я потом не раз видела его в этой же мечети, и в Аксе, и возле Соломоновых конюшен: он говорил на разных ломаных языках.
Однажды, несколько лет спустя после нашего первого посещения Иерусалима, я увидела его в роскошном «ролсройсе» на улицах города. Я шла с кем-то из иерусалимцев и спросила, пораженная: «Кто это?» Я знала этого шейха, он очень охотно разговаривал с еврейскими дамочками и брал бакшиши. «Как, вы не знаете? Это Муфтий, Хадж Амин, ставленник Герберта Самуэля. Он после тюрьмы сделал его главным иерусалимским муфтием»[350].
И этот муфтий позднее помог Гитлеру и Эйхману уничтожить шесть с половиной мильонов евреев. Газом, в известковых ямах, насаживая на штыки младенцев. Это он требовал, чтобы евреев не выпускали из Восточной Европы, чтобы они не спаслись и не эмигрировали в Палестину. Но в наш первый визит к Омаровой мечети нас еще не считали врагами арабов, мы были скорее туристами, новым источником дохода для всех этих шейхов[351].
После мечети Омара и Аксы и Соломоновых конюшен мы поднялись на стену, откуда видна вся Масличная гора, Гефсиманские сады, гробницы Авессалома, Захарии[352] и древняя пещера прокаженных. Наверху был виден Скопус и плац, купленный меценатом Ицхаком Гольдбергом[353] из Вильны для будущего еврейского университета. А на холмах видны были все еврейские кладбища, так ясно и отчетливо, что казалось, можно пересчитать памятники на могилах.
В воскресенье мы посетили «Ваад Гацирим», еврейскую экзекутиву[354]. Петр Моисеевич Рутенберг[355], с которым Марк был в Москве в «Союзе евреев-воинов», принял нас в своем бюро, где он работал над планом электрификации Палестины. Его бюро было завалено планами, чертежами, но он нас заставил тут же выпить с ним стакан чая, который принес шамаш (слуга) на подносе: «Выпейте же со мной стакан чая в Палестине». Он вспомнил, как приезжал ко мне на дачу под Москвой в самое голодное время и как я его угощала не только чаем, но и калачом из белой муки с изюмом[356].
Мы поехали на извозчике на Скопус посмотреть краеугольный камень будущего университета. В небольшой рощице стоял заброшенный дом какого-то чудака англичанина, и это заброшенное поместье послужило началом грандиозного комплекса, который со временем превратился в университет, госпиталь, школу сестер, музей, библиотеку и центр всех научных лабораторий и институтов, гордость новой Палестины.
Необычайный вид на весь Иерусалим, с одной стороны, и Мертвое море и Моавитские горы — с другой, Иордан, который втекает в Мертвое море, синее, гладкое, как бы лакированное озеро. И вокруг были разбросаны вулканические кратеры и холмы. Словно и не существовало меж нами и морем тридцати километров, так ясен и прозрачен был воздух. Горы были в лиловато-сизой дымке даже при ярком солнце. Внизу были видны арабские деревушки, и среди них — Анатот, родина пророка Иеремияу.
По другую сторону — Иосафатова долина, мечети, двор Омаровой мечети, двор с бывшими «Золотыми воротами», где стоял наш Бет Гамикдаш (Храм). Весь город и долина утопали в оливковой зелени и хвое. По дороге нам повстречались окутанные вуалью арабки. В своих черных чачафах они сидели почти неподвижно среди могильных памятников. Мне сказали, что им разрешается ходить только на кладбища, и там они встречаются со своими товарками, это их «ladies’ club»[357].
В мужском клубе, у Мусорных ворот, мужчины курят кальян, тоже молчат, мало разговаривают, играют в игру, похожую на наши шашки, — шеш-беш.
Вечером того же дня мы были приглашены к одному писателю, на русские блины. Мы встретили здесь, как и в предыдущий вечер, всю иерусалимскую интеллигенцию, очень тесно связанную между собой.
Мы ездили к гробнице праматери Рахили, на полпути от Вифлеема[358]. Все было запущено и веяло древностью.
В Вифлееме, наоборот, все было чисто, и люди нарядно одеты. Из-за близости к Иерусалиму этот городок, по-видимому, хорошо зарабатывает на продуктах, которые ежедневно отвозятся в город, и еще на Святынях христианских. Женщины все носят длинные белые платки, одетые как бы на феску; нам продавали вышивки и предлагали свежие яйца. Дети по дорогам продавали цветы или просили бакшиш. Но анемонов и цикламенов я сама нарвала целый букет. Хеврон мало чем отличается от Вифлеема, только здесь Святыня — гробницы наших еврейских праотцев[359], куда нас, конечно, не пускают дальше третьей ступени.
В Иерусалиме мы еще видели гробницы царей[360], Святой Елены[361] и других, колоссальное подземелье, выточенное в скалах, стены двора, сарапеум наподобие александрийского[362], подземную цистерну, грандиозные ступени, которые ведут в это подземное царство. Все эти монолиты — крепости времен рабства и военных осад. Я боюсь, что мы еще вернемся к этим подземным туннелям и убежищам, если войны будут продолжаться.
Я бродила по восточным базарам, покупала кое-какие мелочи для своего будущего хозяйства, пестрые ткани, вышивки арабок, медные кувшины с серебряными инкрустациями, глиняные джары для воды. Восточный гортанный говор, навьюченные кладью верблюды, ослы, почти библейские лица, сладости, с которых капает жир, туши баранов и овец с жирными курдюками, разукрашенные бумажными цветами, слоеные штруделя на огромных медных подносах, салаты тхина и хумус с мелко накрошенной зеленью, запахи специй и козьего белого, окрашенного соком свеклы сыра в стеклянных банках, растопленный жир, разные лебены — простокваши из овечьего и козьего молока, все это было очень живописно и интересно, но не для наших европейских вкусов.
Допотопные мельницы с ослом и верблюдом с завязанными глазами, как мы уже видели в Египте, вертят жернова и блоки; кузнецы раскаляют металл так, что на наковальне искры летят во все стороны; золотарики с разными цепочками, филиграном, и то, что у нас называлось «красный ряд»: мануфактура, арабские келимы из верблюжей шерсти, вышивки, полосатые шелковые ткани, кашмиры из Персии, Бухары и Дамаска, вышитые ермолки, стеганые одеяла и груды белой ваты, манчестерские ситцы и еще многое другое. Шум, гам, грязь под ногами, дети с больными головами и глазами просят бакшиш, ослиный навоз, пряности и кипящие на оливковом масле кебаб и шашлык в открытых ресторанах — этот восточный базар служил в то время сердцем Иерусалима.
Но это сердце останавливалось ровно в пять часов пополудни. Киоски, ладки[363], магазины и лавки закрывались, лавочник переставал курить свой кальян и выкрикивать названия товаров и отправлялся домой. Вечером при свете керосиновых лампочек редкая дверь открыта в квартиру или ресторан или мастерскую. Все замирает.
Так арабы сидели на своих высоких ладках годы и столетия, подремывая в жару, лениво торгуя в холод. Мы, евреи, пришли со своими новыми методами, разбудили их от спячки, показали, что есть конкуренция на этом свете, прогресс, заработки и высший «standard of life». Это нам не простится. Один образованный араб, с которым я говорила по-французски в поезде, мне сказал: «Дайте нам петь нашу песенку. Мы не хотим вашей культуры и вашего темпа. Нам это чуждо». Он намекал на песенку из рассказа о владельце замка и сапожнике (или другом ремесленнике?), которую мы учили еще в школе. Ремесленник пел свою песенку и мешал богачу отдыхать. Богач послал ему деньги и просил прекратить петь. После нескольких дней ремесленник ответил: «Дай мне петь мою песенку, я не хочу твоих денег».
Но в данном случае с арабами дело обстояло иначе. Мы не были владельцами замков. Мы зашумели своими молотками, заступами, машинами и тракторами, и проснулись богатые эфенди. Они поняли, что наши новые методы внесут брожение в ряды пролетариев, и захотели запретить нам работать. Им угрожало повышение заработной платы, они бы не могли дальше так эксплуатировать своих вассалов, феллахов, у которых они были сплошь в долгу. И они подняли бунт не снизу, а сверху. Песенку пели не несчастные феллахи и бродяги-бедуины, а те эфенди, которые сидели в Париже и Каире и насвистывали совсем другие мотивы.
Обратно из Иерусалима мы ехали не поездом, а в такси (фунт и десять египетских пьястров за одно место). Дорога была очень извилистая, серпантина, которая семь раз изогнулась в одном месте и за то была прозвана «местом семи сестер»[364]. Эта дорога показалась нам еще красивее, чем железнодорожная.
* * *
15 швата мы были с детьми на пикнике, который устраивает каждый год в этот день школьная сеть — Праздник посадок[365]. Было несколько тысяч детей и даже малыши из детских садов. Дефилировали мимо памятника Неттера[366], основателя агрономической школы в Микве-Исраэль. Наши ребята в первый раз посадили своими ручонками деревца. Потом был спорт, футбол, разные состязания, и мы с Марком были приглашены к директору школы на завтрак.
Зима 1920 года была суровая даже в Тель-Авиве. Целыми ночами ветер рвал ставни, домов было мало, и все они были обращены к морю, хотя стояли на очень большом расстоянии от берега. Говорили, что с 1878 года не было такой лютой зимы. Вода на море стала темно-серой, как сталь. Дорога к морю была почти невозможной. Лампа гасла даже при закрытых окнах и ставнях. Ветер вздувал занавески, и двери в комнатах хлопали каждый раз, когда открывалась входная дверь. Иногда в них с треском лопались стекла. Наши дети простудились и почти всю зиму попеременно хворали инфлуэнцей. Я «отморозила» себе пальцы на руках, чего не было даже в Москве. Я никогда не могла согреться. Я оплакивала каждую шерстяную и меховую вещь, которую я оставила, подарила и раздала в Вильне и в Москве. У меня даже не было порядочного зимнего пальто. Мы ехали в полной уверенности, что здесь в Палестине это не нужно. Дети еще имели легкие пальто, и, как курьез, мы привезли для Рут капор и муфту, но никакие палестинские дети не носили ничего, кроме свитера или «мишки» из шерсти, и вместо чулок у них были носки.
Печей у нас не было, в некоторых домах для красоты были вделаны камины или кафельные печи, но их никто не топил. С маленькими печурками таскались по комнатам и еще больше простужались от неравномерной температуры.
* * *
Перед Пуримом были первые события — инциденты с арабами, которые нам, евреям, стоили нескольких жертв. Пал Трумпельдор. Было еще пять убитых и столько же раненых в Кфар-Гилади. Наших легионеров не допустили к самообороне. Трумпельдор, уже простреленный в живот, еще командовал[367]. Его последние слова были: «Хорошо умереть за Палестину»[368].
Арабы проникли ночью как бы в поисках каких-то французов из Сирии, а на самом деле — чтобы убить евреев. Мы, евреи, были застигнуты врасплох.
Все пуримские празднества были отменены, и в стране был траур. После Пурима выпал снег, чего в Палестине тоже никогда не бывало. Когда я подымалась на крышу нашего дома или с балкона Семинарии я могла видеть снег на Иудейских горах.
Но вскоре наступила весна. Дети поправились, их послали в школу, я вернулась к занятиям в Семинарии. Море снова стало голубым, лазурным, фисташковым, бирюзовым и синим. Иногда все эти цвета образовывали полосы, как в спектре.
Волны набегали на рифы, скатывались на песок. На рифах был зеленый мох. После беспорядков, когда арабы были очень возбуждены и опасны, они снова вернулись к мирной жизни, сидели на берегу, удили рыбу, чинили сети, жевали свою питу и продавали нам зелень и рыбу.
Ночи были лунные, и если не зажигая света бывало смотришь из окна или с веранды, нельзя было избавиться от иллюзии, что смотришь постановку в театре какой-нибудь пьесы, вроде «Ромео и Джульетта», «Шейлок», «Ночь в Сорренто», «Кво вадис» или «Сон в летнюю ночь».
Палестина была очень декоративна, города не застроены, растительность сравнительно бедна, а горы очень скульптурны.
После обеда, когда дети возвращались из детского сада, я вела их на бульвар Ротшильда, они играли, а я читала: «Болезнь воли» Рибо[369], «Полиглоссия» Ицхака Эпштейна, «Тройственный образ совершенства» Гершензона, «Жан-Кристоф» Ромен Роллана и многое другое.
5-го апреля пришло первое сообщение из Иерусалима о серьезной стычке между арабами и евреями. Были убитые и раненые. Англичане плохо защищали как арабов, так и евреев. Вернее, их рука была в этом деле. Перед праздником Неби Муса[370], который совпадает часто с нашей Пасхой, в мечетях велась сильная пропаганда против евреев. Divide et impera[371]. Но мы не чувствовали, что это погром, как в Польше и России. В Вильне в день Сейдера наша «стружувка»[372] прибегала в панике искать у нас своего пропавшего Ватюка или Владека, который преспокойно в это время играл в «рине», где было его настоящее место действия. И это портило на весь вечер наше настроение и праздник. Здесь же рассказывали, что, если в Иерусалиме пейсатый еврей бежал в направлении беспорядков, ему говорили: «Реб ид[373], куда вы бежите, там бьют». На это он отвечал: «Ну, потому я и бегу туда, может быть, нужна моя помощь».
Приехало много туристов, первых из Европы после войны. Все были опьянены и восхищены палестинской весной.
Жаботинского и его товарищей по самообороне посадили в Аккскую тюрьму[374]. Туда начали ездить целые группы «паломников», посетителей с фотографическими аппаратами, и всех пропускали во двор Аккской крепости. Жаботинский негодовал, что Самуэля[375] назначили нацивом — Высшим Комиссаром, — хотя вся Палестина приняла с восторгом этого первого наместника-еврея: на него возлагали большие надежды. Самуэль устроил свой первый прием.
В тот день, когда был заключен мир с Турцией и была ратифицирована Бальфурская декларация и мандат вручен Англии[376] с тем, чтобы охранять еврейский «национальный дом», я случайно была в поезде между Тель-Авивом и Лудом. Вдруг кто-то крикнул: смотрите, мираж! Мы подбежали к окну. Увидели воду, в которой отражались деревья, пальмы, целый оазис. Я впервые видела то явление, о котором прежде только слышала и читала.
В тот день в Тель-Авиве было повышенное настроение, пили за здравие, танцовали на улицах. В Иерусалиме ходили к Стене Плача и во всех синагогах молились: «Шехехйону, вкемону лезман хазе!»[377] Это странное совпадение — мираж и английский мандат — вспоминалось мне всегда, когда после «первой любви» с англичанами наступило горькое разочарование. Бальфур, правда, был тогда уже мертв, и Ллойд Джордж тоже.
В мае мы устроились на своей квартире. Мы сняли меблированную квартиру одного врача, который должен был оставить по каким-то причинам Палестину на продолжительный срок. Он также передал Марку свою практику. У меня не было забот об устройстве, и я могла продолжать свои занятия еврейским языком. Хорошей библиотеки в Тель-Авиве не было, и я одалживала книги у частных лиц: Пр. Шлейф — «Шалтверк дес геданкенс»[378], Отто Бруно — «Переписка»[379], Вассерман — «Христиан Ваншаффе», Ибаньес, Бер-Хофман[380] и многое другое.
* * *
Я получила первое сообщение из Москвы, что моя мама и вся семья живы и здоровы. Это был большой день в моей жизни. Только дедушка умер. Правда, он был уже очень стар. Я вспомнила, как этот старик всегда на ночь приходил к нам, детям, закрывать ножки одеялом. Мы считали, что это из педантизма, аккуратности, но я допускаю, что у него, сухого купца, который забывал имена своих детей («Катя, Нюта, совершенно, где моя чашка!»), были сантименты, любовь к детям и внукам.
Первое лето нам показалось очень жарким. Я себя спрашивала, почему в этой стране, где солнце печет, как в духовке, ночи лунные и красивые, где все ярко, смеется, как бы кричит о счастьи и плотских радостях, где каждую неделю поспевают другие плоды, все более сладкие и спелые, — в этой стране родились самые великие элегии, слова Пророков, Псалмы, Экклезиаст, книга наивысшего скептицизма, эпикурейства, даже нигилизма, и местная палестинская песня, как арабская, так и еврейская, подобна завыванию плакальщиц, монотонная, печальная. Я не удивлялась синагогальным мотивам, которые родились на «реках Вавилонских», в эти две тысячи лет голуса и преследований. Но даже первые реакции на исторические события — речи пророков — уже в древности были не в мажорном, а в минорном тоне, и прогноз был всегда пессимистический.
Нам теперь, в нашей новой «экзистенции», нужно будет перевоспитать себя, вернее, наших детей и молодежь, перестать ныть, как в искусстве, так и в жизни. Иеремиада должна перестать быть нарицательным именем, понятием. Может быть, эта меланхолия была связана с самой природой? Закат солнца в Иерусалиме с его бледно-лиловыми, серовато-розовыми красками действовал меланхолически.
* * *
Осенью мои дети заболели коклюшем, раньше Меир, потом Рут. Моя жизнь стала тяжелее, приходилось работать в доме, открывать двери пациентам, записывать все приглашения на дом, помогать Марку. Я сама шила для детей белье, и платьица, и штанишки для Меира (благо, когда-то научилась этому в Луге), я варила, закупала продукты, а теперь еще ухаживала за больными детьми. Уборка кабинета и приемной тоже была на мне. Теймонка приходила только для мытья полов и стирки. Вечером я была такой усталой, что засыпала на ходу. Я неохотно выходила, если нас куда-нибудь приглашали.
В Рош Гашана — Новый год — было еще очень жарко[381]. Мы в первый раз справляли этот праздник у себя, не за чужим столом, с первинками гранат, вином, медом как символом сладкого года, с зажженными свечами, рыбой, детьми в новых ботинках и платье.
Коклюш у детей развился и переходил в закатывание и рвоту Чтобы отвлекать их от припадков, я занимала их ручным трудом. Мы с Рути шили платья для кукол, вырезывали из картона домики, мебель и кукол. С Меиром мы клеили кораблики, пароходы и автомобили. Эти несколько часов, которые я посвящала детям, меня вознаграждали тем, что детки были ласковы, послушны, не ссорились, не дрались и почти не кашляли. Мы с Марком решили, что болезнь больше нервная, чем органическая. Самое лучшее воспитание — позитивное, когда даешь что-нибудь детям и ничего у них не отнимаешь. Слово «осур» — нельзя — было в то время вычеркнуто из нашего лексикона, не потому, что этим детям ни в чем не было отказа, наоборот, они не нуждались в запрещениях: творчество, ручной труд и даже помощь в доме заполняли их жизнь так, что они стали образцовыми детьми. Если бы у каждой матери было терпение и время и желание немного отдаваться своим детям, вместо того чтобы кричать на них и читать нотации, как это делали в нашем детстве, воспитание было бы значительно успешнее и легче.
Вместо Семинария я взяла частного учителя для себя и детей, так что праздничные каникулы и время болезни у нас не прошли даром. Но я убедилась, что никогда не стану гебраистом. Я была слишком усталой, чтобы вечером читать на иврите, я была рада читать на всех мне понятных и доступных языках. И потому я жила с нечистой совестью по отношению к языку, который должен был стать главным нашим разговорным языком и языком культуры.
День десятилетия нашей свадьбы, который совпал с осенними праздниками, носил уже новый, палестинский характер, в нем не было ничего традиционного. Правда, я получила несколько медных подарков. В тот день мы пригласили кое-каких новых друзей и родных Марка и пели палестинские песни, танцевали хору «до потери сознания», как можно веселиться только в молодости.
Обычно в Палестине в те времена к субботе готовились уже со среды. В четверг в Тель-Авиве уже трудно было найти уборщицу, а в пятницу — невозможно, все женщины работали у себя дома над приготовлением к субботе. То же самое было и перед праздниками. С Пурима начинали готовиться к Пасхе, а это промежуток в шесть недель. То же — перед Новым годом и другими «Йомим нероим»[382].
И когда пришли праздники, мы в первый раз почувствовали, что у нас нет старой семейной праздничной атмосферы. Не было традиций. Надо было все черпать из самих себя. После праздничного ужина Марк пошел к больному, дети легли спать, свечи догорели, я сидела в углу с книгой. Я поняла, что еврейство тысячелетия держалось религиозными традициями, а мы, новые палестинцы, оторвались от религии и традиций и не знали, как заполнить эту пустоту. Тем не менее мы построили на балконе кущу, в которой дети ели с большим аппетитом, чем за обеденным столом. Украсили ее гранатами, фруктами и красным перцем, бумажными цепочками и портретом Герцля.
В хол хамоэд (средние дни в Суккот) я поехала на несколько дней в Иерусалим. Я жила у одной новой приятельницы, немки, которая пригласила меня к себе, зная, как некомфортабельны иерусалимские отели. У нас бывали интересные посетители, туристы, и там я познакомилась с профессором Геддесом, который был занят планом перестройки Иерусалима: гора Скопус должна была превратиться в культурный центр. К сожалению, его план перестройки Старого Города не был осуществлен.
Мы все посетили еврейского скульптора Мельникова[383] в Старом Городе, который имел необычайно интересную студию с видом на мечети, стены и Иосафатскую долину. Он впоследствии создал статую «Льва в пустыне» на могилу героев Тель-Хая.
Кроме того, меня попросили прочесть доклад о Московской студии «Габима», которая работала над несколькими новыми пьесами, «Дибуком» Анского, «Вечным жидом» Д. Пинского, пьесой Переца[384] и других. Мы хотели, чтобы «Габима» приехала в Палестину[385], но для этого она еще не была готова ни материально, ни в смысле репертуара. Я также познакомилась с известной американской общественницей мисс Сольд[386] и с писательницей Джесси Семптор[387]. Последняя, несмотря на детский паралич, которым она страдала в детстве и последствия которого остались на всю жизнь, очень продуктивно работала и даже рисовала. Она мне подарила для моих детей несколько картин из детской жизни.
Все эти знакомства и впечатления меня немного оживили и развлекли. Но такие вылазки я не могла себе позволить делать часто.
* * *
Второй год нашей жизни в Тель-Авиве мало чем отличался от первого. Отчасти мы немного акклиматизировались, болели реже, но отчасти жизнь как-то усложнилась, и нам начали предъявлять большие общественные и денежные требования. Практика далеко не могла покрыть всех расходов, я работала все больше, не говоря уж о Марке, который за 25 пьястров должен был бегать к больным на дом, по жаре и в холод, и ночью. На дому он принимал утром и после обеда, и вообще мы не знали покоя ни ночью, ни днем.
На Пасху мы были приглашены к Сейдеру к родным, но вся предпасхальная чистка и уборка была на мне, масса гостей, туристов, мытье посуды и проч. Мы все еще не могли себе позволить взять прислугу или поехать на летние жаркие месяцы куда-нибудь всей семьей. Поездки на два-три дня в Иерусалим или Хайфу больше утомляли, чем служили для отдыха. Кроме того, даже на несколько дней нельзя было оставить дом без хозяйки, и приемную и практику без помощи врачу.
На Пасху, как всегда, съехалось много туристов. Леди Самуэл приезжала в Тель-Авив к своим родным, и для дам устроили чай, я тоже была приглашена. Было скучно, конвенционально до смешного. Все дамы, конечно, были очарованы, а мне все время казалось, что я принимаю участие в глупой комедии или в детской игре «в города», когда одно место остается свободным — это стул возле хозяйки, и по очереди его занимает то та, то другая дама, которой ставят шаблонные, никому не интересные вопросы, причем ответы, конечно, тут же забываются. Это английские обычаи, которые вводят в еврейской Палестине.
После Пасхи 21-го года снова был погром в Яффе с 40 жертвами и массою раненых[388]. Тут Марку пришлось поработать как хирургу.
Волна беспорядков и тревоги прокатилась по всей стране. Как жители вулканических мест привыкают к извержениям вулканов, так мы, евреи, и даже в Палестине, привыкаем к вспышкам, погромам, беспорядкам.
Однажды [П. М.] Рутенберг взял нас в своей машине покататься по колониям. По дороге мы впервые видели «намаз»: араб разложил коврик или верхнюю абайю[389] на земле и усердно ударялся головой о землю. Петр Моисеевич сказал: «Пока мы не научимся так молиться, Палестина не будет наша». Он делается религиозным. Я спросила: «А может быть, наоборот, пока арабы не перестанут ударяться головой о землю и не научатся вместо этого вести трактор, Палестина не будет им принадлежать?»
Англичане только на том и выезжают, что арабы курят кальян и конкурируют с еврейскими рабочими в низкой заработной плате. В наших колониях колонисты предпочитают арабских рабочих в пардесим и на других земледельческих работах. Эти евреи работают против сионизма[390].
Если бы разрешили массовую еврейскую иммиграцию, как советовал Нордау[391], мы бы были ближе к нашей цели, но все наши пропагандисты только и делали, что проповедовали «осторожность», не перенаселять Палестину, а англичанам с арабами того и нужно. К счастью, у нас есть стихийная иммиграция, без сионистской пропаганды, в силу обстоятельств: из Курдистана, Йемена, Персии, Кавказа, Сибири, Польши и Галиции.
В конце лета я получила малярию терциану, два дня лихорадило, а на третий, когда спала температура, я была слаба и выглядела, как выжатый лимон. Пришлось первый раз взять прислугу, потому что я не могла работать. За болезнь я прочла много книг по воспитанию детей, также Бирюкова о Толстом[392] и письма Розы Люксембург к Софии Либкнехт[393]. Социализм ищет максимум материальных благ для трудящихся, Толстой ищет максимум духовных благ, Царствие Божие на земле. Но не только синтеза этих двух нельзя создать, даже минимума достижения каждого в отдельности нет.
* * *
В 1922 году я слышала первый хороший концерт в Палестине: Надя Этингон[394] — рояль, Тельма Иелин[395] — виолончель. Играли «Крейцерову сонату», «Тарантеллу» Листа, этюд Шумана, еще Рахманинова, Карелли, Глазунова. Я три года не слыхала такого концерта.
С детьми мы были на фильме «Продажа Иосефа братьями»[396] — красивая «клюква».
Когда я не болела малярией, я работала по 16 часов в сутки; все утопические умствования о четырехчасовом рабочем дне (Толстой) и семичасовом (Герцль) возможны только в теории. Я спать не могла от усталости и боли во всем теле.
Но я, конечно, не одна так работала: все люди свободных профессий (врачи, бывшие купцы, адвокаты, писатели) работали на квишах[397] — при постройке дорог, шоссе; создавались бригады, как на военной службе — так называемый гдуд авода (рабочий отряд), для построек кибуцим, городов. В России люди «от станка и сохи» делались комиссарами, переоценивали свои знания и возможности, оставляли «довоенных жён» и переключались на бюрократическую жизнь. У нас, наоборот, профессора делались чернорабочими и не считали свою тяжелую физическую работу унижением для себя. За неимением природных, наследственных крестьян наши интеллигенты делались ими. Впрочем, трактор, и комбайн, и машины требовали не столько физической силы, как интеллекта. А араб все еще продолжал идти за сохой, погоняя осла, мула и верблюда. Они молотили зерно копытами быка или мула и вертели колодцы верблюдами с завязанными глазами.
В Пурим мы были на балах[398].
Я не видела красоты в модерных танцах, я была воспитана на русском балете, но Марк начал увлекаться танцами и заставлял и меня танцевать. Я первое время противилась тому, что женщина должна слепо подчиняться воле мужчины, который ее «ведет», но если я будировала, мне наступали на ноги, и я смирилась. Мы редко пропускали возможность вечером потанцевать.
На одном из пуримских балов был чудный первый приз: два бухарских костюма, кавалер и дама в парчевых оригинальных костюмах. Головные уборы и драгоценности — все было взято из семейных сундуков. И типы тоже подходили, они принадлежали к самым богатым иерусалимским бухарским семьям, торговавшим большею частью персидскими коврами и другими восточными товарами. Говорили, что эти два костюма стоят 1500 фунтов.
Пурим в Палестине был скорее карнавал, похожий на итальянский или французский, но, конечно, не такой богатый, гораздо более скромный и сдержанный в смысле веселья и распущенности. Маски, костюмы, балы были еще в пределах еврейского фрейлахц[399]. И то сказать, откуда могли взять эти голусные евреи ту радость жизни, которая накапливалась у других народов в течение тысячелетий. Наша музыка еще была преимущественно синагогальная, хазанут, со слезами и завываниями, с плачем и молитвами. Даже наш самый веселый праздник Пурим носил в себе дух «освобождения от погрома в персидской столице Шушан Хабира». Здесь, в Палестине, в школах и детских садах начали давать спектакли на тему Эстер-малка, Ахашверош, Мордехай и Гаман-гароша[400] и даже в театре «Тай» поставили пьесу на эту традиционную тему[401]. Девушки и молодые женщины и даже пожилые дамы начали одеваться в теймонские и бухарские костюмы, начали выбирать королеву красоты чисто еврейского типа, и, к счастью, здесь наш «национальный костюм» перестал быть «каракулевое манто и сапфировые серьги», как говорили антисемиты в Москве. Для наших костюмов мы искали в старых иллюстрациях, в Библии и во всех художественных альбомах, какие попадались под руку, костюмы еврейских царей, цариц и библейских героинь.
Мы с Марком начали подумывать о собственном домике. Так хотелось, чтобы у наших детей была почва под ногами, свой дом, свой сад, цветы, огород, посадки — та почва, из которой они могли бы черпать любовь к стране, к земле. Хотелось пустить корни наконец в этой стране, ради которой мы бросили родину в изгнании, с романтическими воспоминаниями, с интересной культурой. Наши дети уже не знали бархатистой вербы, лотков с товарами, бабочек из бархата с дрожащими золотыми и серебряными усиками, чертика из плюша, «морского жителя», заклеенного в стеклянной трубочке. Они заменили пищухи колотушкой, которой якобы били Гамана, воздушные шары так же летали в воздухе, но вместо Вяземских пряников и коврижек были еврейские лекехлах, вместо грецких орехов в золотой бумаге — ботним (земляные орехи), вместо ваньки-встаньки и деревянных кукол кустарной работы — кустарные ослики и караваны верблюдов, а искусственные цветы сменились живыми, сорванными на полях. И когда мы справляли первую и вторую годовщину нашего пребывания в Палестине, мы желали себе 25-ю. Марк даже купил бутылку «Аликанте» фирмы «Кармель Мизрахи»[402], хотя у нас не было погреба, и оно, верно, испортится за 25 лет, но мы уже мечтали о четверти века в стране.
Свой дом, своя комната, своя полка книг и свой сад стали нашей тоской и молитвой. Мы должны были учиться радоваться жизни, как человек после операции учится ходить, есть, улыбаться.
Праздники здесь получили другое значение. Детские именины празднуются в школе, особенно в детском саду. Матери приносят угощение и подарки в мешочках, учительница дает им «программу», игры, поздравление и подарки. У нас в детстве были радостные воспоминания: вкусовые, обонятельные, как, например, запах подогретой мацы на Пасху, вкус «кремзлах» в «эйегемахц», варенье из редьки на меду, орехи, тоже варенные в меду, радость игр в орехи, «дрейдлах» (волчок), в карты — на Хануку и специальные подарки, как гелд (деньги) на Хануку или шалахмонос[403] на Пурим. Скрип новых ботинок, ощущение чистоты и красоты в доме перед каждым праздником, новые платья и даже новая форма — коричневое платье с черным передником — в начале каждого учебного года. Я боюсь, что здесь мы детям мало даем этих переживаний. Я хотела, чтобы моя мать или мать Марка приехала к нам и жила с нами, чтобы все религиозно-праздничные обычаи и традиции, как соблюдение субботы, кошерование и строгая уборка к праздникам, стало бы так же важно нам и нашим детям, как это было важно нашим родителям. Лично я в себе не находила силы и достаточно ханжества, чтобы принимать все это всерьез и проводить в жизнь.
Вообще я думаю, что наше поколение пустыни потеряло много первичных чувств: осязания, обоняния, вкуса. В пути все делается временным и недостаточно важным. Наши дети приехали сюда в слишком раннем возрасте, чтобы помнить такие вещи, как «идет, гудет, зеленый шум, зеленый шум, весенний шум» или «открывается первая рама»[404] (здесь она никогда не закрывается), или первые санки, первые колеса. Здесь весь год полувесна, полулето, иногда дожди, иногда засуха. А может быть, я ошибаюсь: у них есть свои первые впечатления, о которых мы не знаем.
Я следила за Рут и Меиром во время Сейдера, когда открывали дверь для Ильи-пророка,[405] — бьется ли их сердце в страхе и волнении, как оно билось у меня, когда я шла открывать дверь. И даже подарки, выложенные утром в день их рождения, на мой взгляд, не вызывали особенного энтузиазма. Они вообще более реальные, менее сантиментальные дети. Может быть, это здоровее.
В июне 22 года мы решились наконец летом выехать всей семьей в горы. Мы выбрали Артуф[406] в Иудейских горах, где было прохладнее, чем в Тель-Авиве. Вдали виднелись арабские деревушки, могилы каких-то шейхов, а легенды говорили, что это места, где наши древние вели борьбу.
На горке была болгарская деревушка Гар Тов[407], и дети ожили в этой деревенской обстановке. Познакомились с детьми колонистов, ходили в птичник, коровник, дир (козлятник), ездили на осликах и мулах. Каждый день открывали что-нибудь новое, раздобыли себе щенка, которого хотели взять с собой в Тель-Авив. Я же прислушивалась к эхо в горах, которое похоже на морской прибой, читала книжки и отдыхала.
Но под конец Меир заболел двумя палестинскими болезнями: амебной дизентерией и харарой[408], накожным раздражением, которое появляется с хамсином[409] и пропадает неизвестно отчего. Без врача и налаженного хозяйства трудно было оставаться в Артуфе, и мы вернулись домой.
Дома я нашла письмо мамы из Москвы, что сестра Олечка, работая в госпитале при тифозных, заразилась сыпняком. Она болела дома, чтобы не подвергнуться в городской больнице плохому уходу и осложнениям. Няня сама за ней ухаживала и выходила ее.
Из СССР начали прибывать в Палестину люди. Были ли они сионисты, выпущенные из тюрем и Сибири, или посланные к нам специально для коммунистической пропаганды, мы не знали. Рассказывали, что Москва при «нэпе» стала прежней нарядной Москвой, магазины открыты, толпа лучше одета, и даже открыли много кустарных производств, где люди могли зарабатывать себе на сносную жизнь, и на рынках появились продукты. Если допустима эта новая экономическая политика, то к чему нужны были ссылки и борьба со спекуляцией, кулачеством, даже террор и казни?
Трудно было понять перемены в советской политике. Но это было при Ленине, а потом все облегчения были снова отменены.
Наша жизнь вошла в свое обычное русло. Однажды мы были приглашены на чтение новой оперы композитора Гнесина «Юность Авраама». Писал он ее в Баб-эль-Ваде[410], где будто бы была настоящая родина Авраама. Теперь это был плохой кафэ для проезжих, где можно было достать кроме турецкого кофе еще газоз[411] в бутылках, не охлажденный и слишком сладкий. Запахи ослиного навоза и грязь повсюду вряд ли могли способствовать вдохновению композитора, но на горах была кое-какая зелень и красивый вид в вади. Здесь еврейство ищет новых путей как в музыке, искусстве, литературе, так и в строительстве, педагогике, даже в «управлении государством». Все эти первые начала и искания даются с трудом.
Все деятели, портреты которых мы в голусе вешали на стены, потому что тот создал первую школу, а этот — первую гимназию, или музей и художественную школу, или агрономическую ферму для обучения детей земледелию, все эти люди, вспотевшие, в помятых костюмах, бегали по Тель-Авиву, захлопоченные дефицитами, очередными заботами и повседневными делами. После их смерти их именами, правда, называют улицы, но при жизни они не вызывали особого пиетета — в своем отечестве… нет пророков!
Такое же будничное отношение было к людям, которые где-то когда-то пострадали от погрома, в Польше или на Украине, или сидели в тюрьме за революцию или за контрреволюцию. Все стало обычным делом. Сионизм стал не идеалом, а реальностью, даже торжественные поминовения не вызывали особенного внимания. Все торопились — на деловое заседание, профессиональные митинги или искали развлечений.
Про Первую войну тоже почти забыли. Кто вспоминал «и глад, и мор»[412], и то, что ели конину, и что жир пахнул стеариновой свечкой и смазочным маслом, и не знали, из чего сделана колбаса (кстати, собака отказывалась ее есть). Наши дети имели вздутые животы от излишнего количества бобов и гороха, а в некоторых губерниях в России были случаи людоедства. Я помню, как писали из деревни: «А мы тетеньку съели», — и мы не знали, ужасаться или смеяться над этим письмом.
А разврат, который войска вносили в города: в Вильне коммерческое училище было превращено в венерическую больницу, и внизу под окнами стояли матери, и отцы, и сестры, и другие родные с приношениями.
А здесь женщины торопились в лавочку купить что-нибудь на ужин, штопали чулки и штанишки детям, гладили мужу рубашку на завтра, чтобы было в чем выйти на работу, бежали к инсталлятору, чтобы починил кран в ванной, иначе за ночь вся вода вытечет. Задачи сегодняшнего дня затемняли все воспоминания прошлого и все планы на будущее. Не каждый день брали в руку книгу Герцля и Нордау, и даже для газеты не всегда было время.
* * *
Единственно можно было выйти из повседневности, когда случайные [здесь] туристы приглашали нас покататься по стране и посмотреть все, что есть нового в строительстве. Раз меня пригласили проехаться по Галилее, которую я вообще не знала. Я впервые поехала в кибуцим и колонии за пределами Тель-Авива.
Мы ехали через Иерусалим. Да самой Изреэльской долины не было еврейских поселений, была Аравия, пустынная страна. В арабской деревне Шило мы сделали первый привал, пили теплое козье молоко, потом проехали Шхем. Шхем, он же Наблус, — настоящий восточный город, ослепительно белый на солнце. Дома двух- и трехэтажные, с террасами и садами. После Шхема попали в Дженин, деревню, которая утопала в зелени, как оазис в пустыне, и только к четырем часам мы въехали в Эймек[413]. Первый пункт был Нурис, или Эйн-Харод[414].
Кибуц имел только палатки, без единого дома. Мастерские слесарные, швейные, сушильня табака, все это было в состоянии постройки, не закончено, все служило для удовлетворения нужд кибуца, ничего на сбыт. Мы осмотрели питомники, гумно, сельскохозяйственные машины, кухню, столовую и палатки хаверим[415]. В тот же вечер были даже сооружены подмостки для любительского спектакля «Гадибук» Ан-ского, который должен был состояться вечером. Нас угостили супом, салатом и хлебом. Я зашла в палатку двух девушек. Постели были покрыты простынями, в углу был таз, кувшин и полотенце для умывания. В этот час все рабочие шли к источнику Эйн-Харод мыться, так как у них еще не было душа. При источнике было два отделения, мужское и женское, завешенное мешками. Источник мог бы служить местом купания общего для всех, но у них не было купальных костюмов, и это бы мешало настоящему мытью после работы.
Мы еще осмотрели детскую школу и больницу. Только школа была выкрашена в зеленый цвет, и на фоне их очень примитивной жизни эта школа выглядела роскошной. Детская мебель, белая; на столе уже был приготовлен ужин: яичница, лебен в чашке, салат из томатов и оливков, кашка для малышей. Учительница молоденькая, по-видимому, очень преданная и находчивая в своем деле. По стенам развешаны картинки и самодельные игрушки: шитье, бусы из миндаля, шелухи бобов, рисунки детей, лепка из пластилина и глины, все крашеное в разные цвета. Все красиво, симметрично, со вкусом и целесообразно, для старших детей, по-видимому, был учитель столярного ремесла. Кроме того, в этой маленькой школе был класс с партами и черной доской для старших детей, географическая карта Палестины. А рядом была пристройка — ванна, кухня, в которой варили, как и везде в Палестине, на угольях, и махсан — кладовка с продуктами, крупами, зеленью — все по росту детей, чтобы они могли принимать участие в варке пищи. Вокруг домика — сад, в котором дети работали. Чистота была идеальная, продукты покрыты сетками от мух, а кроватки — мускитерами от комаров.
В ванной у каждого ребенка было свое отделение для полотенца, зубной щетки и проч. Учительница мне сказала, что их купают два раза в день, воду приносят извне, из источника, что нелегко даже при текучей воде. Ванна каждый раз дезинфицировалась спиртом. Эта школа была любимым детищем кибуца, ее показывали туристам «на закуску». Потом я видела гораздо более усовершенствованные школы и детские сады, но эта первая школа в Эйн-Хароде на меня произвела самое сильное впечатление, даже больше, чем наша тель-авивская школа по системе Монтессори. Эта молоденькая учительница положила основание и начало для многих кибуцианских школ, которые могли брать пример с нее. Я подумала: «Голь на выдумки хитра», без денег тоже можно создать культурное дело, где дети учатся краскам, размеру, нанизыванию, симметрии и красоте. Когда я вернулась в палатку, перед тем как мы сели в авто, одна из девушек сказала: «Ну, осмотрели уже кибуц, в два дня хотите осмотреть всю Палестину и все знать?»
— Я уже несколько лет в стране и не имела возможности оставить дом и свои обязанности. Сколько раз ты выезжала за это время в город и к товарищам в другие кибуцы? Ты, верно, знаешь лучше меня страну, я не сомневаюсь. Но я должна ждать, чтобы приезжие туристы меня угостили этой поездкой, у меня нет даже осла с тележкой.
Кстати, в это время во двор Эйн-Харода съезжалась на телегах, на грузовиках публика на спектакль, парни в белых рубашках, девушки в пестрых платьях.
Мы торопились куда-нибудь, где можно было бы переночевать. По дороге мы еще заехали в Мерхавью[416]. Здесь было много американцев. Дома были благоустроены, также и сараи и конюшни. Товарищи и даже мальчики гарцевали на прекрасных конях, комнаты и дома были обставлены роскошно в сравнении с палатками Эйн-Харода. Говорили они не только на иврите, но и на идише и по-английски. У одной хаверы комната была задрапирована пестрым ситцем, всюду были цветы в вазочках. Столовая была уютная, скатерти на столах, сервировка, как в приличных вегетарках. В углу шкаф с посудой. Все блестело чистотой и новизной. Так же было и в кухне. Нас угостили чаем со свежеиспеченными булочками.
Мы засветло оставили Эймек и ночевали в Назарете, в немецкой гостинице. Наутро с балкона мы смотрели на Назарет. Город расположен на горе и в долине. Масса монастырей, церквей, часовен, одна часовня особенно была красива, прозрачна и очень архитектурна. Когда смотришь издали, кажется, что в ней живут духи.
В гостинице я выкупалась и даже помыла голову. Но спать было невозможно от жары и москитов. Только на рассвете и вечером еще можно было дышать. В шесть утра мы выехали по направлению к Тивериаде.
С каждым подъемом открывался новый вид, все более широкий и прекрасный. Один из наших спутников, инженер по профессии, развивал свои планы орошения Палестины. Все вади должны быть наполнены источниками, водой, построить плотины, воду провести из Тивериадского озера, построить каналы и таким образом поднять плодородность страны. Население можно увеличить в четыре раза.
Наконец внизу показалось Генисаретское озеро, жемчужина Палестины. Издали мы распознали колонии: Месха <Кфар-Тавор>, Мельхамия, Иемма <Авнеэль>, Пория, Седжера, Кинерет, Дгания и Хамей Тиверия — горячие источники, в которых купаются страдающие ревматизмом. У нас был хороший бинокль, и наш шофер служил нам гайдом[417]. Мы миновали Мицпу и Мигдал[418]. В Мигдале нас приняли рабочие, показали двор, сыроварни, бояры, фруктовые растения и пальмы. Много тропических растений, климат там субтропический, как и в Иерихоне.
Хавер, товарищ, который ехал на муле рядом с нашим такси, рассказал нам об административных проблемах этой колонии, построенной на деньги московских сионистов. Для осушения местности были посажены эвкалипты, банановые плантации; воды в Мигдале много, речонки впадают в озеро. Заросли, как в девственном лесу, были редкостью в Палестине, пустынной, сухой летом и не культивированной. Мы отдыхали возле ручья, позавтракали, рвали яблоки с дерева.
Из Мигдала мы ехали в Аелет Гашахар[419] и Кфар Гилади, мимо Рош-Пины, «бароновской колонии»[420], и мимо Маханаима. Тут я разговорилась с девушкой, которая пекла хлеб и варила на всю группу. Работали беспрерывно всю неделю, без субботы. Только две женщины работали в хозяйстве. Кухонька и столовая были сколочены из досок, как русская клеть. Летом жарко, зимой холодно и сыро. Маханаим был — совхоз, мошав овдим[421].
Когда мы проехали Меромское озеро[422], показалась гора Хермон, в то время без снега. Аелет Гашахар выглядела, как крепость с отверстиями для стрельбы. Все обложено мешками с песком. В момент, когда мы приехали, все были заняты книгами, которые только что прибыли из Тель-Авива.
Дальше мы блуждали между бедуинскими деревушками, между их талерами, проехали вброд болото Хула, полное москитов. Как нам сказали, все население там было заражено хронической малярией.
Нас обступила орда арабов монгольского типа, многие похожи на негров, все укутанные в отрепья. Их коровы были похожи на буйволов, жили в воде и, может быть, тоже были заражены малярией. Хула производила удручающее впечатление. Только когда мы отъехали несколько километров от этого места, мы повстречали первого еврейского шомера[423], верхом на лошади, в полном вооружении. И какова же была наша радость, когда наша спутница его узнала. Это был какой-то ее знакомый по кибуцу. А нам уже казалось, что мы заблудились в этой дикой местности, что нам угрожает опасность.
Мы миновали маленькую крепость — Тель-Хай, место последней геройской борьбы и смерти Трумпельдора и его товарищей. Наконец мы приехали в Кфар Гилади. Встретила нас Маня Вильбушевич[424], старая шомерница, пионерка и социалистка еще со времен первого русского сионизма. Она нам дала помыться в «ванной комнате», которая была не что иное, как кишка с водой, проведенная на чердак, над конюшней. Там же находились их спальни. На одной половине был еще весь чердачный хлам, а на другой были расставлены кровати, покрытые все теми же чистыми простынями. Вместо столиков — ящики, обернутые в простыни. Мы спустились в столовую. Рядом была маленькая пекарня, где в то время пекли свежий хлеб. Нас угостили оставшимся обедом, томатовым супом, сухой, без жира, кашей из пшеничных зерен и стаканом чая с хлебом. Школа и детский дом оказались далеко не на той высоте, как в Нурисе (Эйн-Хароде). Дети постарше спали с родителями, на чердаке и в палатках.
Единственно, что было поставлено образцово, это ясли для новорожденных: молодая прелестная няня, 10–12 маленьких белых кроваток с мускитерами, дети чудные и толстенькие и несколько отцов, которые, наклонясь над кроватками, кормили их из бутылочки молоком. При этом доме была выстроена кухня, ванная, балкончик и уборная: как в сказке про гномов.
Еврейские пионеры, халуцим, были готовы спать над сараем и коровником, в мухах и запахе навоза, лишь бы их малые дети могли воспитываться, как принцы. Дежурная мать помогала этой няне держать в аптекарской чистоте этот детский дом.
Товарищи Кфар Гилади были спаяны уже 15 лет общей работой и защитой границ. Среди них было немало вдов тех шомрим, которые пали в борьбе с арабами и бедуинами, которые нападали из-за угла или в открытом бою. В этом кибуце была особая серьезность, гордость, и меня все это взволновало и растрогало до слез. Если бы я могла, я бы пошла к ним, чтобы с ними делить их тяжелую жизнь и строительство.
Когда мы сидели в питомнике, которым заведовал голландец Франц, возле каменного бассейна, напротив был виден Хермон, горы, долины, зелень и камни. Кибуц наверху выглядел, как маленькая, заброшенная деревушка. Мои спутники на обратном пути были молчаливы: на них произвело впечатление то, что нечем было помаслить кашу. Другая палестинка, которая сама проделала путь пионерки в кибуце, и я смотрели на все неудобства кибуцной жизни, как на временное и необходимое. Я завидовала товарищам в Кфар Гилади и неохотно возвращалась к себе домой в город, с тяжелой жизнью, отягченной частным хозяйством и всеми условностями городской жизни.
Но это настроение у них, богатых туристов, скоро развеялось. Мы вернулись в Сафед (Цфат), хотя по дороге были еще четыре остановки: дороги были очень плохи, и каждая остановка была опасна из-за бедуинов и арабов, которые окружали наше авто. Местность была дикая.
Ближе к Цфату снова открылась необыкновенная панорама: Генисаретское озеро, Меромское озеро, Хермон, ущелья внизу. Мы просто обмерли от неожиданности и красоты. В Цфате мы заехали в маленький заезжий дом — ахсанья шел Kemu Дан[425]. Мы сидели на балкончике, увитом зеленью, комнаты были очень просто, но чисто обставлены, весь город с балкона выглядел, как только что выкрашенный. Даже камни и памятники на могилах были в сизо-голубом цвете, так же дома и заборы. Здесь, не в пример кибуцу, ужин был очень хороший: масло, сыр, простокваша, яйца и свежий хлеб.
На рассвете мы выехали в обратный путь. Мы проехали Тивериаду, построенную из черного базальта, купили на рынке фрукты (а мне еще гофманских капель), так как поездка меня утомила, я себя чувствовала совсем больной.
В Назарете нас пригласили на обрезание. Молодая мать и новорожденный были очаровательны, и если бы не моя усталость, я бы имела большое удовольствие от этого бриса. Кто-то сострил, что почти две тысячи лет здесь не было еврейского обрезания. Там же я встретила знакомого дантиста, который практиковал в Назарете. Он рассказал несколько анекдотов, как арабы впервые в жизни видели искусственные зубы. Богатые из них себе заказали целый прикус.
Однажды приходит такой пациент, а во рту у него нет прикуса. «Где же твои зубы, которые я тебе сделал?» — спрашивает дантист. «Я их послал в Хайфу показать моему брату», — похвастался тот. Женщины обычно приходили к дантисту со всей семьей, с соседками и родственницами, потому что это было не только лечение и развлечение, это было событие в жизни, и женщины никогда не выходят одни из дома.
Когда мы вернулись в Тель-Авив, моя спутница, с которой я большею частью делила комнату в дороге, мне созналась, что она в седьмом месяце беременности. Я пришла в ужас: «Как, по этим дорогам ты не боялась выкинуть? Ведь нас бросало из канавы в канаву, по-моему, даже не беременная женщина могла заболеть, я сама еле доехала». Но она только посмеивалась.
Несмотря на физические трудности поездки в то время, когда Палестина выглядела далеко не так, как теперь, эта поездка по Галилее осталась как самый чудесный сон: новая колонизация, несбыточное стало реальностью, утопия — действительностью, каждый силуэт на ярком или тускнеющем небе запомнился на всю жизнь.
Я рассказала Марку обо всем виденном и пережитом и предложила, чтобы мы вошли как «хаверим» (члены) в кибуц, хотя бы в Кфар Гилади. Как врач он бы нашел себе работу во всей округе. Марка очень взволновал мой рассказ. Он понял, что я не столько была очарована всем виденным и что это не результат увлечения красивой поездкой, сколько недовольство Тель-Авивом. Я не могла работать без прислуги в хозяйстве, страдая малярией, имея на себе заботу о детях, о его врачебной практике, ассистировать в кабинете в качестве сестры милосердия и еще играть роль дамы в обществе. Все это было мне не по духу и не по силам.
* * *
И с тех пор мы начали обсуждать все возможности перестроить нашу жизнь так, чтобы работать по силам и способностям и приносить пользу стране. Мы решили, что ему нужно раньше всего получить специальность, он слишком рано женился, Первая война у него отняла четыре года, которые могли быть использованы на специализацию, и хирургическая работа на войне была не обставлена так, чтобы можно было научиться новым и совершенным способам и методам. Единственным выходом из положения была бы поездка в Америку, где у него был брат, там изучать хирургию, а я тем временем поеду с детьми в Вильну, чтобы жить с дохода от домов и приготовить все для ликвидации имущества.
Нам нелегко далось это решение. Мы недели и месяцы не могли с ним ни о чем ином говорить, когда мы оставались одни. Нас ждала разлука на год, может быть, на два, мы не знали, достаточны ли будут виленские доходы для нашей жизни и для того, чтобы Марк не должен был целиком пасть беременем на своего брата. Главное, даже на время менять детскую школу, вырвать их из уже кое-как налаженной рутины жизни и учения. Затем, какое впечатление произведет наш отъезд на людей? Не было ли это бегством, изменой нашему сионизму? Единственный плюс, кроме специализации Марка, было то, что у нас не было еще собственной квартиры, так что сняться с места было нетрудно, и еще, быть может, то, что перемена климата для моей малярии считалась благоприятной. Я решила тайком от Марка поехать не вторым, а четвертым классом, деком[426], чтобы не влезать в большие долги, и так как в Палестине еще не было польского консулата, а мы еще считались польскими подданными, я должна была взять пароход на Румынию, где был такой консулат.
Марк уехал раньше нас: мы с детьми остались до конца учебного года.
* * *
Тель-Авив в то время переживал строительную горячку. Все люди, у кого были деньги и у кого их не было, строили себе дома. Весь город был сплошной строительный плац: с кирпичами и цементом, с шумом молотков и пил, с новыми улицами, которые прокладывали по какому-то никому не ведомому плану. Все улицы были в прорехах: тут застроили плац, там — четверть плаца, а рядом три или четыре плаца стояли пустыми. Все закрутились и застроились. Рассказывали анекдоты о людях, которые «закладывали подушку», чтобы в «банчике» взять ссуду и с этой двойной ссудой шли в другой «банчик» и получали там 60 % на дом. Плац покупали в кредит и строительный материал тоже. Если это и был гротеск, то недалеко от правды. Сады еще не посадили, а если посадили, они были покрыты пылью и песком. Верблюды караванами перевозили камни и «зивзив»[427], песок и мелкий камень [щебень] и размельченные раковины, которые покрывали дюны. Нужно было много силы сопротивления, чтобы не поддаться общей горячке. У нас был плац в конце Алленби, улицы, которой еще не существовало и к которой даже не было подъезда и дороги, так что о постройке на этом плацу, даже если бы мы были богаты, не могло быть и речи. Но мысль о собственном домике всегда меня не оставляла. Я мечтала ликвидировать «голус» — виленские дома — и потом выстроить дом и даже санаторий для Марка. С этими мечтами я пустилась на деке четвертого класса с двумя детьми в путь.
В мае мы выехали на пароходе «Романия», проехали архипелаг, суровые берега. Горы невысокие, скалистые, без зелени. Море было спокойное, синее с белой пеной. Наши места были в трюме, на верхней полке. Было очень душно, и мы все время стукались головами о потолок. С нами ехали реэмигранты, разочаровавшиеся в Палестине. Они ругали страну нехорошими словами, еще хуже ругали сионистов, организацию «Ваад гацирим»[428], Усышкина (которого они называли а шишкин), Рутенберга, которого почему-то называли Рудником[429], и каждый из них имел, что сказать: каждый рассказ начинался с того, что они получили займы и субсидии, жили на чужих харчах и уехали, не заплатив своих долгов.
Я стыдилась за них и боялась за себя, что люди и меня могли причислить к этой компании.
С утра начиналось забавно: передразнивали арабский базар:
— Ялла тут, ялла тут, ялла бананес, ялла маранцы, гуте петрушке! Глида, абуза аэма! (Тут — дикая малина, абуза аэма — мороженое).
Говорили эти реэмигранты на десяти языках. По-польски пели «Штандарт» и солдатскую песню «Польская громада». По-русски Вертинского, по-немецки — «Фатерландслид»[430], на идише — всевозможные песни, по-итальянски — «Санта-Лючия», арию из «Тоски», а больше всего «бин их мир а холуцл, а холуцл фум Пойлен, Ге их мир ин шихелах, ин шихелах он зойлен!»[431] И снова о «ласке и маске» Вертинского[432] или арию Ленского из «Онегина» — «Куда, куда, куда вы удалились». И так с утра и до вечера. От «Гатиквы» упорно воздерживались. Они ее пели по дороге в Палестину, и неуместно было ее петь на обратном пути — из Палестины. И все эти песни пели, зевая, потягиваясь, меняя белье у всех на виду, обуваясь, перебирая вещи. Тут же кто-то молился, накладывая тфилин и талес (филактерии и шелковую шаль для молитв), тут же закусывали хлебом с луком и чесноком и сардинками.
Мыться ходили на верхнюю палубу, там же чистили зубы, и, помывшись и причесав свои напомаженные волосы, ложились на верхней палубе и затягивали популярную тогда «томате-лид»: «Агванья, агванья, каашер яцати меония»[433]. Это песнь о томате, без которой не обходится ни одна еда в Палестине. Если собирались кучками, начинали спорить: «Палестина не имеет будущего» и «Для меня это не страна!» Это — рефрен всех разговоров.
Некоторые рассказывали со всеми подробностями, на чем они потеряли, на делах, на домах, на компаньонах, которых проклинали. Другие высчитывали, сколько процентов за то время и с этого капитала они могли бы заработать в Варшаве, где не 8 %, а 80 % зарабатывают на капитале. Одна дама говорила: «Тоже мне страна — ни сметаны, ни утки, ни гуся, ни куриного жира». Эта «качка» (утка) и сметана послужили причиной ее отъезда. Я вспомнила египетские горшки с мясом и перечла в Библии: «И те, которых посылал Моисей для осмотра земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле, сии, распустившие худую молву о земле, — умерли, были поражены перед Господом»[434]. В тот момент я еще не знала, что это наказание Божье осуществится полностью. Никто из четвертой алии[435], которые вернулись, реэмигрировали, не были спасены, все погибли в гитлеровской Восточной Европе.
Кроме томатов, еще много смеялись над «зейтимами» (оливками), над «хацилим» (баклажанами) и над салатом, без которого ни один палестинец не садится за стол. Богатые из второго и первого класса рассказывали друг другу, где они оставили свою «приватную Стену Плача» [Private Klagewand]: у одного это было в Хайфе, у другого — в Тель-Авиве или колонии.
Мы проехали Дарданеллы и Галлиполи, были на меже Азии и Европы. Места Троянских войн, Митилемы, Лесбос, родина Сафо, Геллеспонт, место, где Леандр переплывал к своей возлюбленной Геро[436].
Иногда нам удавалось организовать нечто вроде декламационного и музыкального вечера, в котором принимали участие главным образом палестинцы и туристы, <едущие> за границу. Были даже полупрофессиональные артисты: одна танцовщица и одна поэтесса.
В румынском городе, где был консулат польский, меня с детьми продержали три недели. Раньше всего мне заявили, что я не польская подданная, хотя у меня еще был польский паспорт. Со следующим пароходом меня должны были отослать с детьми обратно в Палестину. По-польски это называлось «с поворотом до Жерузалему».
Пока я стояла в очереди с еще сотнею таких же беженцев, мои дети валялись на лестнице консулата, с утра ничего не евши, заплаканные, измученные уже дорогой от Констанцы до Галаца. Так мы простояли с шести утра до полудня. Сионистский представитель, который был на месте, кричал, что нечего было оставлять Палестину, что все знают, что Румыния не дает евреям даже транзитной визы, и мне особенно он сказал, что я должна вернуться обратно. Полицейский чиновник угрожал нам тюрьмой в случае, если не будет визы. До обратного поезда в Констанцу было всего пять часов. Я не видела выхода. Тем не менее я взяла детей, повела их в ресторан и решила уложить их в любом отеле, чтобы развязать себе руки и искать возможности не возвращаться в Палестину.
Наши вещи лежали на хранении на вокзале. Мы обошли три отеля, и везде нам отказывали — отчасти потому, что у нас бумаги не были в порядке, отчасти, может быть, потому, что наш вид после всех испытаний был довольно непрезентабельный, но главным образом потому, что «с детьми не принимают». Одна русская женщина, которая нам прислуживала в ресторане, посочувствовала нашему несчастью, говоря, что это — самая бесчеловечная страна, в которой она сама как эмигрантка немало намучалась. Она дала нам адрес одного еврейского отеля. Там нам за доллары дали темную комнату, с дверью в коридор, но без окна. Я уложила детей спать, не раздевая их, я не была уверена в чистоте этих постелей, сама я слегка переоделась и пошла снова в консулат, еврейский комитет и другие учреждения, где я могла надеяться на помощь, хотя бы на отсрочку высылки. На мое счастье в комитете нашелся случайно один влиятельный еврейский деятель, даже не сионист, который взялся мне и детям помочь. Он взял нас под свое покровительство. Я ему со слезами на глазах показала наши бумаги, рассказала обо всем тяжелом положении, и он поручился перед сигуранцей (комиссариатом), что до получения транзитной визы мы будем аккуратно являться в полицейский участок, ежедневно, и по получении визы в Польшу я оставлю Румынию. Я показала ему деньги, которые у меня были с собой, так что он был спокоен, что мы ничем не будем его затруднять. Мой паспорт у меня забрали, и только в пять часов вечера я вернулась к моим детям в отель.
Не доходя до отеля, я увидела своих заплаканных, растерзанных и взлохмаченных ребят на улице. Рут держала за руку братишку, и так эти Гензель и Гретель гуляли по улицам Галаца. Я снова повела их в какой-то кафе, напоила молоком, накормила, вернулась с ними в отель и с разрешением в руках потребовала себе лучшую комнату и уложила детей спать. Я дала три телеграммы: в Вильну и Варшаву с просьбою выслать немедленно мне визу. Благодаря моей экономии — езда не первым классом, а деком — и благодаря совершенно неожиданной для меня девальвации, о которой в Палестине мы мало знали, я была при деньгах и могла ждать.
Когда дети уснули, я лежала без сна и думала, как неосторожно я сделала, разрушив тель-авивское пристанище, позволив Марку уехать в Америку без того, чтобы обеспечить нас хотя бы на несколько месяцев, и вообще подводила итоги своим злоключениям и со страхом думала, получу ли я визу в Польшу. Мой паспорт, по-видимому, был чем-то испорчен (может быть, на нем была пометка, что мы — сионисты и навсегда уехали из Польши). Как мне потом объяснили, хотя это и не было убедительно, в наших паспортах было меньше страниц, чем у «верноподданных» граждан Польши. Ни Марку, ни родным в Палестину я не написала ни слова, и все были уверены, что мы уже давно в Вильне.
На следующий день я себя чувствовала очень плохо. К вечеру у меня была температура 39,8. Меня знобило, я еле дотянула до вечера и легла спать одновременно с детьми. На следующий день я их водила утром в кафе завтракать, потом обедать, снова посылала телеграммы в Польшу и после обеда слегла.
Ночью, когда я проснулась, или, вернее, очнулась, я услышала крик Рути: «Мамочка, что с тобой?» Я лежала на полу в обмороке. И если бы не моя дочка, которая, по-видимому, проснулась от моего падения, я не знаю, чем бы это кончилось. Я ударила себе висок и бок. Рут мне помогла снова лечь в кровать. Утром малярийная температура спала, и, чтобы скрыть от хозяев гостиницы свою болезнь, я снова потащилась с детьми в кафе и ресторан.
На третий день я отнесла нашему благодетелю все мои деньги и просила его в случае моей смерти отослать детей в Палестину. В комиссариат я регулярно ходила каждый день, чтобы полиция не пришла в отель меня арестовать. Наш благодетель, как я его называла в мыслях, очень переполошился и прислал мне врача. Врач был сионист, узнал, что мы тоже семья врача, позаботился о том, чтобы для меня нашли комнату в лучшей гостинице, приходил каждый день меня проведать, и я начала поправляться. Еду нам приносили в комнату из ресторана, а лекарства покупал мальчик из гостиницы.
Когда припадок малярии прошел и не повторился, я начала с детьми выходить: мы гуляли по берегу Дуная, в парке, очень большом и красивом, и я делала покупки. Тем временем получились ответные телеграммы, что визы в пути, надо было только набраться терпения.
Румыния была для меня испытанием, но нельзя сказать, что совсем не интересным. Женщины там были сильно накрашены, напудрены и одеты не по-европейски, не в тайер[437], как это принято, и не в спортивных платьях, а в том, что у нас называлось послеобеденным и даже вечерним туалетом. Высокие французские каблуки, шапочки на отлете, длинные платья до обеда — все это производило дикое впечатление. По-видимому, вся жизнь людей проходила вне дома. Квартиры были нечистые, неуютные, кафе и рестораны переполнены нарядной публикой с самого утра. Ребенка в уборную невозможно было повести, так грязны были задворки, и если приходилось идти мимо кухни, то пропадал аппетит к еде.
Жизнь производила впечатление некультурной. Красивы были только природа, парк, река и еще вышитые национальные костюмы: шитье шелком, золотом, ткани вроде парчи, вуали, затканные золотом, вышивки и ленты и очень красивые блузочки и рубашечки, вышитые всеми цветами. Такую я купила себе и Рути. В парке было чудесно по утрам, дети играли возле меня, я читала или шила им платьица, косоворотку Меиру и «дирнль»[438] Рути. Клены, липы, акации, березы, по которым я стосковалась. Мы радовались зелени и бабочкам, сирени и жасмину. Иногда мы с детьми катались по Дунаю до Браилова и обратно.
Я ежедневно после обязательного визита в полицейский участок (секуранца на их языке) являлась в польский консулат, но визы не было. Жара стояла ужасная, я купала детей ежедневно в нашей собственной резиновой ванночке, которую я привезла с собой. Воду для купания и для чая я варила тоже на собственной спиртовке.
По вечерам мы ходили на пристань, Меир любил следить за пароходами, а когда дети ложились спать и засыпали, я садилась на окно и смотрела на улицу на освещенные окна домов, на жизнь в Румынии. Женщины, даже очень молодые, были полные, и раньше, чем решиться, какое платье им надеть на вечер, они перемеривали несколько разных платьев. Потом, расфрантившись, намазав себе лицо и губы и напудрившись, они уходили со своим кавалером куда-нибудь. Иногда это был плешивый старый муж, а иногда молодой… любовник. Кто мог проникнуть, не было ли это наоборот.
Как долго будет продолжаться моя ожидательная и наблюдательная жизнь в Галаце, я не знала, мое терпение начинало лопаться. Я себя должна была успокаивать, что в жизни каждого человека был свой «Галац», но мой мне надоел. Раз я пошла на прекрасный концерт Ионеско[439], играл он Тартини, Брамса, Сарасате, Паганини, Вьетнам — музыка меня немного примирила с жизнью. Артисты, художники, музыканты всех национальностей, это все еще тот элемент, из-за которого прощаешь народам их жестокость, ксенофобию, узкий шовинизм, антисемитизм и бесчеловечность. Бетховен, Моцарт, Бах, Шиллер, Лессинг, Сенкевич, Мицкевич, Конопницкая, Элиза Ожешко, Короленко спасут ли когда-нибудь честь тех народов, к которым они принадлежали. Золя и Бальфур — совесть человечества.
Раз я зашла в парикмахерскую помыть голову (благо румынская лея стояла так низко, что с нашими стерлингами, как бы мало их ни было, можно было выдержать некоторое время). Тут я увидела ту русскую эмиграцию — белую Россию, о которой я много слышала, но которой я не знала. В соседнем кабинете одна из женщин красила себе волосы в рыжий цвет. Другая мыла голову и завивалась. Раньше разговор шел по-русски, потом перешел на французский, румынский и вперемежку на все языки — в их профессии это было необходимо, если хочешь иметь «интернациональную клиентуру». Вначале было трудно, конечно, выяснить, к какому классу и профессии они принадлежат, но потом выяснилось. Говорили о том, что надо следить за зубами, ногами, волосами, потом перешли на портных, на туалеты и шляпы. Дальше пошло все вместе — подарки, чулки, тратится, разоряется, сошлась, разошлась, ангажементы, накопила платьев, подарил кольцо и брошку, много белья, шелковое. Она распродает бриллианты, «теперь нет богатых друзей». Потом пошли сплетни: эта сошлась со стариком, но он ей ничего не дал, та — красавица, заболела и уехала в Бухарест лечиться, эта больна, та уже стара и т. д., и т. д. Завтра она едет в Бухарест, авось подарит хоть несколько пар шелковых чулок, — рассказывала рыжая. Правда, она ревнует, но она горда, страдает, но черт с ним, — говорила брюнетка. Когда они вышли из своих кабинок и проходили мимо меня, они ничем не отличались от самых буржуазных дамочек, приятных и «приятных во всех отношениях»[440]. Они заплатили и вышли.
Откровенные болтливые сплетницы, без лишней злобы, они перескакивали с русского на довольно хороший французский язык и часто вставляли румынские слова. Когда они выходили, вошла третья, тоже, видимо, их знакомая, потому что они очень приветливо поздоровались. Тут уж я слышала, как с русской парикмахершей она говорила исключительно о варьете, напевала двусмысленные песенки и была еще оживленнее, чем две первые. Она выглядела еще более «дистенге»[441], видно, все еще молодая и пользовалась успехом у мужчин.
На следующий день я встретила рыжевыкрашенную даму с собачкой на улице. Она стояла с очень солидной пожилой дамой, господином и мальчиком в матросском костюмчике. Кто они были? Бывшие офицеры белой армии или те «княгини», о которых пишут романы «из парижской жизни», те, кто продав все свои драгоценности, перешли на самое драгоценное — на свое тело и честь?
Одна русская дама жила в нашем отеле, и я с ней познакомилась. Она мне рассказала, что в России они были очень богаты, были фабрикантами и, конечно, должны были бежать. У нее была четырехлетняя девочка. В один злосчастный день ребенок перестал ходить. Вместо того чтобы пойти к врачу и посоветоваться с психоаналитиком, ей посоветовали пойти к ворожее, чего в Румынии немало. Ворожея девочку заперла в темной комнате, кричала, била ее, и ребенок от страха и шока… пошел. Через несколько дней, конечно, припадок повторился. Кто знает, не осталась ли эта девочка после таких опасных экспериментов инвалидом на всю жизнь?
В Галаце было много эмигрантов, которые приехали, как я, на день-два в ожидании визы в ту или другую страну. Их путь из Константинополя в Париж или Америку всегда лежал через Румынию. Иногда они ждали месяц, два, иногда застревали на несколько лет. Раньше они ходили ежедневно в консулаты, потом примирились, получили нансеновские паспорта[442] или жили на взятках чиновникам, которые им пролонгировали визы до бесконечности. Это были значительные источники дохода румынской бюрократии. Эти эмигранты сначала истратили все свои деньги, потом продали бриллианты, меха жен, белье и все, что имело ценность. Потом пускались в разные профессии, спекуляцию, играли на бирже, женщины поступали в кафе, мужчины делались шоферами — все потеряли всякую надежду вырваться когда-нибудь из этого болота.
Многие продолжали жить на нераспакованных чемоданах в отелях. Одна дама рассказала, что ее муж потерял на делах целый капитал, на который они могли бы существовать десятки лет. Другая собиралась уже два года… в Бухарест — оперировать катаракту на глазу, но никак не могла собраться.
* * *
Мои дети уже привыкли к тому, что я каждый день бегала в консулат, и ждали меня в коридоре: «Ну что, есть виза?» За три недели они успели переболеть инфлуэнцей, поправиться и снова лежать с той или иной болезнью. Наши деньги таяли.
Однажды я решила воспользоваться перерывом между всеми этими болезнями и принять решительные меры. Меня навел на эту мысль лакей ресторана, где мы ежедневно обедали. Он меня спросил: «Вы едете в Польшу? Я бы мог вам помочь, у меня есть связи в польском консулате». Я поблагодарила и сказала, что завтра дам ему ответ. Было еще довольно рано, и я пошла в консулат. Я попросила свидания с самим консулом. «Консул не принимает». Тогда я перешла с французского на самый чистый русский язык, который, как я заметила, все чиновники знали лучше других языков. Я заявила, что я еду в Лондон, оттуда будет сделана интерреляция в польский сейм, где у меня есть много знакомых «послов до сейма», сенаторов. Я даже назвала несколько имен.
— Я уверена, что моя виза прибыла, но по каким-то непонятным мне причинам ее задерживают. Кроме личного запроса обо мне будет еще запрос, почему в галацком консульстве держат евреев с польскими паспортами месяцы и годы, почему мне, польской подданной, у которой осталось недвижимое имущество, не дают проезда в Польшу для устройства моих дел, для продажи моих домов польским гражданам, почему я должна сидеть с двумя больными детьми в этой дыре, где даже транзитные визы не дают, и т. д.
Чиновник не долго думая мне ответил, и очень вежливо: «Них се пани не денервуе, ютро бенде виза» (не волнуйтесь, госпожа, виза будет завтра). На следующий день я получила визу на свой паспорт и двинулась с детьми дальше. Таким образом мне не пришлось прибегать к «протекциям» лакеев из ресторана и взяткам. Моя виза лежала неделями наготове, кроме того, как мне объяснили потом в Варшаве, я вообще не нуждалась ни в какой визе. Если бы я не перешла в оффензиву[443], я бы посидела еще неделю в Галаце и, не солоно хлебавши, вернулась в Палестину.
Два дня мы провели у наших друзей в Варшаве. Я купила себе и детям кое-какие платья и пальто, потому что в Палестине за три года мы так обносились, что невозможно было выйти на улицу. Я носила клеенчатый дождевик в самую светлую и ясную погоду. В Палестине лето продолжается три четверти года, и с батистовыми платьями и свитером можно обойтись, но не в Польше. Наши друзья баловали детей, возили их кататься в Лазенки, в Саксонский сад, а меня вечером брали в театр.
* * *
В конце июня мы очутились в Вильне на Антоколе. Я сняла маленькую дачку, наняла барышню, знающую еврейский язык, которая занималась с детьми, и мы жили на полном пансионе в одном из лучших отелей.
Мы жили на пригорке, на опушке леса, настоящего соснового бора. Дремучий лес, как в сказках. Дети проводили целые дни на реке, в лодке и купались, немного занимались с учительницей, а больше радовались зелени, саду, огороду, кукушкам и прогулкам. У них на даче была большая компания ребят, с которыми они проводили дни, а я была освобождена от ухода и заботы о них.
Я получила почту, которая нас дожидалась в Вильне. Из писем мамы я узнала, что она овдовела: ее мужу сделали операцию, которую он не перенес и умер под ножом. Из второго ее письма я видела, что для нее нет другого выхода, как приехать к нам в Палестину. От Марка была целая куча писем и телеграмма, полная тревоги. Он не понимал, почему нет сообщения о нашем приезде в Вильну. Я постаралась его успокоить и объяснить, что по формальным причинам задержалась в Румынии. Первые дни, как реакция после всего пережитого, я лежала в полной прострации, даже читать мне было трудно.
Я любовалась Вильей, ее далекими и прекрасными берегами, тенистыми садами, я впитывала в свои легкие запах сосны и смолы. Теперь, когда мы были в безопасности, когда дети откармливались не только на «качке и сметане», по которым так тосковала реэмигрантка, но получали утром в постельку горячее молоко со свежеиспеченной булочкой, и клубнику, и цыплят к обеду, и все прочее, и когда я была одета во все новое и модное и потеряла это чувство приниженности, которое имеет каждая женщина, когда у нее и «одежонки порядочной нет» (по Островскому), и когда я слушала кукование кукушки в лесу и радовалась за ребят, и читала Рабиндраната Тагора[444] и другие хорошие книжки, я поняла, как тяжело все последние годы мы мыкались по чужим квартирам, без прислуги, в тяжелой домашней работе, без отдыха, с детьми, которые были чаще в постели, чем на ногах, и сама в малярии. Я имела твердое намерение сделать все, чтобы как можно скорее вернуться домой, в Палестину, и построить нашу жизнь на более здоровых и нормальных началах.
В августе распустились красные маки, поспела рябина и вишни, яблоки начали лиловеть и алеть. Над столом нашей веранды уже свисали спелые груши. По вечерам при заходе солнца сосны стояли розовыми до самых верхушек. В комнате тоже пахло смолой от шишек, которые детки собирали в кучи и употребляли для каких-то своих таинственных целей.
Когда я немного поправилась, я начала по утрам выезжать в город по делам, на коллективных извозчиках, вместе со всеми деловыми мужчинами, или на маленьком пароходике, который циркулировал между Верками и Вильной. Мы проезжали мимо берегов Вильи с красивыми дачами, виллами в стиле рококо или барокко, мимо костелов и скверов, старых улиц города, который я знала с самого детства.
Я ремонтировала квартиры, сдавала новым жильцам, устроила себе маленькое бюро в одной из квартир, куда приходили красильщики, столяры, печники, штукатурщики, дворники, управляющий.
Когда я приходила к жильцам и арендатору требовать квартирной платы, они все как будто сговорились и мне отвечали: «что будет с ам исроэл, то будет и с реб Исроэл», то есть «что будет со всеми <евреями>, то будет и с ними». Иначе говоря, не хотели платить. Управляющий, который за время немецкой оккупации и после нее изрядно деморализовался и за небольшой бакшиш оставлял неплательщиков в покое, понял, что, если он не будет энергичнее, он потеряет заработок и жалование, и свои проценты. Я дала новые доверенности на ведение моих дел и взяла другого адвоката, который мне помогал в делах. Они же должны были уладить все валютные дела. В Польше в то время была девальвация, было правило, что все деньги нужно тут же на месте тратить, иначе они на следующий день теряли свою ценность. Я покупала все нужное для нашего хозяйства и для дома и платила рабочим ежедневно за сделанные починки.
Праздниками[445] я взяла детей в синагогу, в которой мой отец прежде был «габай», член синагогального комитета. Меир в новом матросском костюмчике, Рут в новом шерстяном белом платье с любопытством смотрели с галереи вниз на все, что происходит: в Палестине они никогда не были в синагоге. Хор и кантор, пение, «арон кодеш» <Скиния Завета>, благословение «когеним», шофар (труба) и весь ритуал на них произвел самое сильное впечатление. Я в тот день имела очень нерелигиозное настроение. Я философствовала о том, что еврейская история должна наконец повернуться в другую сторону: вместо «гавлага»[446] — смирения, умиротворения, уступок и непротивления злу, которое до сих пор мы практиковали [даже] больше, чем этого требовали Толстой и Ганди. Мы должны научиться наступать, требовать, бороться за свои права, как личные, так и национальные. Все привыкли считать евреев стороной наименьшего сопротивления, нам запрещали дышать воздухом на нашей земле, греться на солнце, как другие народы; личные неудачи меня научили, что там, где я смирялась и уступала, люди наступали на меня. Десятки, если не сотни людей пользовались тем, что мне принадлежало по праву, я болела и работала не по силам, а мои два дома стояли, не принося ни копейки дохода. Галац меня научил тому, что сотни людей и сегодня еще стояли на лестнице разных консулатов, и если бы они заговорили, как я, на понятном людям языке угрозы, а не деликатно ждали и терпели и, застенчиво улыбаясь, сходили бы с лестниц, они тоже добились бы своего. Молитвы: ошамну, богадну, тоину, гозальну, хотану и проч. <виновны, изменяли, ошибались, грабили, злоупотребляли> — на этот раз меня не трогали. Может быть, я была большой грешницей, но народ, который каждый год бьет себя по груди и кричит, что он разбойничал, грешил, убивал, ошибался, изменял, — может уговорить все другие народы, что это так и есть. Наша Библия и пророки и молитвы научили нас и других, что мы большие грешники, и если мы не покаемся, но Бог нас страшно накажет. Разве мало мы были наказаны за самый большой грех, что мы были слабы? Что мы не отвоевали нашей страны, не вернулись в нее и еще теперь не возвращаемся? И каждый голубоглазый солдат имеет право нам кричать: «расстрелять», и каждый шейх имеет право нас «сбрасывать в море». Дети были полны праздничных переживаний, а я думала свои горькие думы.
Мы после синагоги были приглашены на обед к знакомым, а потом дети, возбужденные и очарованные, вернулись на дачу. Меня на следующий день ждали «нудники и канительщики», как их называл мой [покойный] отец, — ремесленники и жильцы.
Когда мои жильцы видели, что я без их просьб и требований посылаю в квартиры починщиков, велю чинить печи, окна, двери и потолки, они испуганно спрашивали: «Зачем это? Мы и так бы прожили дальше». Управляющий им говорил с моих слов, что это не для них, так как десять лет они не платят квартирной платы, а делается потому, что дом продается, и новый хозяин должен его получить в приличном виде. Всех неплательщиков он, конечно, выбросит. Тогда они смиренно приносили ему те несколько злотых, которые они считали возможным для себя, и просили возобновить контракт, который не был возобновлен уже десять лет. Они поняли, что шутка про «ам исроэл и реб Исроэл» им не поможет. Еще резче поступил мой адвокат с арендатором: он ему написал, что если за десять лет не будет внесена плата за аренду с процентами, мы подаем в суд. Арендатор не заплатил ни копейки за прошлое, но сделал новый контракт на два года вперед и внес деньги в долларах. Эти доллары были посланы в Америку, и Марк получил их на учение и на жизнь.
* * *
В январе 24-го года мы двинулись обратно в Палестину. По дороге я снова была в Вене у своей милой Нины. У нее уже была прелестная дочка, в которую мои дети влюбились. Я ходила с Ниной по театрам, мы видели два раза Моисси: раз в «Фаусте», что было гораздо сильнее, чем опера Гуно, и раз в «Белом Спасителе», пьесе «Монтесума» из жизни индейцев в Америке (времен первой колонизации). В «Белом Спасителе» белые [испанцы] распинали индейца, и играл его еврей Моисси[447]. Было очень символически — краснокожий Вождь был жертвой.
Мы вернулись в Тель-Авив. Я сняла маленькую квартирку за Сароной, далеко от города. Местность была мало заселена. Ветры зимой дули с моря и со всех сторон, потому что не было садов и деревьев. Песок подымался с ветром и проникал во все окна и щели. Но мы устроились довольно уютно, и друзья из Тель-Авива приезжали нас проведать. Вместо кроватей были диваны — деревянные нары с матрацем, покрытым материей. Вместо ковров — келимы, книжные шкафы сколочены из апельсиновых ящиков и завешаны ситцем. Так же были устроены шкафчики для посуды и белья. [Полевые] цветы на столе и теймонские корзинки с фруктами украшали комнаты. Кое-какие ткани я привезла с собой, другие купила на базаре.
В семь часов все затихало в нашей «шхуне́» (районе [квартале]), слышалось только дыхание спящих детей, ветер рвал крышу, гудел по трубам, рвал ставни. Шакалы рыдали, как больные дети, по дорогам и в пардесим. Дом еще не был окружен ни забором, ни деревьями, и хозяин откладывал все это до «лучших времен». Платила я немного, так что требования тоже были малые.
* * *
Моя сестрица Оля писала, что она выходит замуж, и ее жених получает место инженера на Днепре, так что мама не может остаться у нее, не имея средств к существованию, а взять ее с собой они не могут, еще сами не знают, как устроятся. Поэтому необходимо выписать маму в Палестину. Я, конечно, ответила, что буду только рада приезду мамы, потому что я с детьми одна, и я хочу работать, а детей и хозяйство передам маме. Я начала хлопотать о сертификате для мамы и, чтобы перейти на новые рельсы, купила новую кошерную посуду, начала по пятницам зажигать свечи, чтобы дети привыкли еще до ее приезда к этому обычаю. Я также купила 15 горшков цветов и растений, что положило начало нашему саду. До того цветы у нас были только полевые: анемоны, цикламены, дикие незабудки, маргаритки и желтые ромашки, которыми были покрыты все поля весной.
В ту зиму дети перенесли корь, врача поблизости не было, и мы лечились кое-как сами. Однажды, когда дети лежали больные в постелях, а я сидела с книгой возле них, случилось нападение арабов на еврейскую пару — парня и девушку. Случилось это возле нашего дома. Пара возвращалась из города. Я услышала крики, плач, шум. Я заперла дверь на ключ и выбежала в поле. Там уже собрались соседи, делали перевязку и давали первую помощь пострадавшим, и вскоре их взяли на телеге в город, в больницу. Молодежь из ближайшего кибуца хотела идти в арабскую деревню «мстить», но я их умолила разойтись, потому что если бы вся деревня набросилась на нас, было бы хуже. Когда я вернулась домой, дети, перепуганные и заплаканные, выскочили из постелей. Я еле их успокоила, хотя сама была далеко не уверена, что ночью не случится чего-нибудь [погрома]: мы были отрезаны от города.
В мае Рут слабо поправлялась <после кори>, больше лежала с повышенной температурой. Мы с ней вместе читали и подружились. Меир, восьмилетний мальчик, не удостаивал нас своим обществом. Он пропадал с товарищами, впрочем, после кори он имел хороший аппетит и появлялся в разные часы дня скушать что-нибудь и подкрепиться.
Мама приехала только в конце августа. Я встретила ее в порту, я еле разыскала ее среди большой толпы. Дама в сером костюме с длинной черной креповой вуалью, постаревшая и сильно изменившаяся. За шесть лет, что мы не виделись и мало переписывались, мы стали почти чужими.
Мама ввела сразу кое-какие новшества <в наше хозяйство>. По субботам на столе появилась белая скатерть, над свечами она делала благословение, и мы не могли ни ездить в город, ни писать. Мама была набожной, по субботам ходила в синагогу. Мама рассказала о наших родных в Москве. Тетя Фира и тетя Машенька обе не могли свыкнуться с новыми обстоятельствами жизни. Фира тяжело заболела сердцем, Маша с голода упала на улице под трамвай, недолго болела и умерла. Катя вышла замуж и уехала на Украину. Она была слишком слаба и деликатна, чтобы отстаивать свои желания и взгляды. Она забросила занятия живописью, отдалась вся ребенку, которого избаловала и который ее тиранил, как и вся семья мужа. В Москву ей не дали вернуться, хотя она тосковала по своим и не любила тот город и ту среду, в которую попала. В 34 года она погибла от холеры, которая на Украине свирепствовала. Так «тихая и смирная», она отошла от этой бурной эпохи и жизни, для которой она не подходила.
Младшая Нюта, которая не имела детей, пошла работать к большевикам. Как самая молодая в семье, она была по своим взглядам ближе к коммунистам. Вся остальная молодежь получила образование в вузах: кто врач, кто инженер, кто чиновник на советской службе. Все они лояльно служили и работали. О политике они, молодые, со стариками никогда не разговаривали. Все племянники имели профессии и были заняты, моя мама редко когда их видела. Моя сестра Оля вышла замуж за инженера, молодые уехали на строительство, и последние предотъездные дни моей матери были очень грустны — она продавала, что могла, чтобы скопить себе на дорогу.
Один коммунист на пароходе, который ехал <работать> в консульство куда-то за границу, ей сказал: «Хорошо, гражданка, что вы оставили Россию, вам там не место, с вашими барскими замашками». Я даже боялась, что ей и здесь, в Палестине, будет не по себе, с ее привычками, взглядами, набожностью и «замашками».
Здесь строилась новая страна и на социалистических началах. Здесь собственность никогда не была целью, всегда только средством. Здесь не придавали в тот первый период нашего строительства значения вещи, мебели, эстетике, комфорту. Маме я первой купила кровать на пружинах с мягким ватным матрацем. И кресло она получила. Но переход от Советской России до новостроящейся Палестины был для нее легче, чем если бы она приехала на десять лет раньше. Она не была ни билуйкой, ни пионеркой [ни сионисткой даже]. О России она говорила мало, по-видимому, это было запрещено. Но мы знали, что они голодали последние годы, что после смерти мужа ей приходилось для легализирования своего вдовьего существования стоять в разных очередях, под дождем и снегом, на разных биржах труда, отстаивать свою «жилплощадь» и проч. Она с гордостью рассказывала, что она все это очень храбро и ловко проделала, особенно когда ей нужно было выхлопотать себе выездную визу.
— Ты не думай, ко мне до последнего дня приходили гости. Я их угощала на серебряных блюдах сушеными гренками из черного хлеба и в китайском фарфоре подавала чай из морковки. И когда гости уходили, они еще благодарили и говорили: «Мы знали, что вы нас угостите чем-нибудь вкусненьким!»
В общем, после того как кончилась гражданская война и всех «лишенцев» лишили, а всех «кулаков» раскулачили и сослали в Сибирь и в дальние края, террор уменьшился, и жить стало легче. В особенности во время НЭПа. Сама мама работала на какой-то кустарной фабрике и кое-что зарабатывала себе на жизнь. Кроме того, на рынке они продавали шубы, белье, серебро и все, что накопили за десятки лет буржуазной жизни. Они меняли ножи и вилки, отрезы и посуду на муку и продукты и так питались. Сестра же сразу, как и вся молодежь, пошла работать в бюро и приспособилась, пока не вышла замуж. Дедушка, после того как его выгнали из его дома, переехал к маме и дожил у нее в маленькой комнатушке до 80 лет. Когда ему исполнилось 80 лет, он велел купить леденцов, созвал всех детей и внуков, и устроили чай. Он вынул последние у него оставшиеся серебряные бокалы, которые, как я помню, стояли в его витрине вместе с вазами для этрога и лулова и прочими драгоценностями (шкафчик был хрустальный с махагоновым деревом и выстеган красным шелком). Эти бокалы он собственноручно наполнил леденцами <вместо вина> и поставил каждому возле его места. Это было его наследство и последний подарок. Такой же бокальчик был предназначен для меня, и мама его мне привезла.
Перед смертью дедушка стоически относился ко всем своим несчастьям. Он даже не чувствовал себя несчастным. Он педантично вел свое хозяйство в своей комнатушке, сам вытирал пыль, ежедневно менял белье — чтобы умереть «во всем параде», всегда интересовался, кто из его современников уже умер, и сердился, если от него скрывали правду. Если погода была пасмурная, он говорил: «Вы совершенно, того, не жалейте денег, возьмите карету на кладбище, а то простудитесь». Ухаживала за ним мама, но он мало болел, очень мало ел и скончался очень спокойно и мудро. Главное, у него не было никакого протеста и ненависти против нового режима: он принимал в свое время Александра Второго, потом Александра Третьего, потом Николая Второго и потом Ленина. В святых книгах сказано, что нельзя восставать против властей.
Сам он меньше всех своих детей вырос в роскоши и, хотя был мильонером, в нем не чувствовалось буржуа [капиталиста]. Он был всегда пионер, инициатор всех новшеств, трудился с раннего утра до вечера, без отдыха, без курортов, без поездок и прогулок. Воскресенье летом на даче — единственный день, когда он хлопотливо с дворником Демидом привозил нам продукты и на следующий день на рассвете снова уезжал. В субботу зимой он ходил в синагогу, а в субботу вечером снова принимался за работу. Мы все удивлялись его стоицизму, и я в душе радовалась не раз, что бабушка не дожила до такой старости. [Она бы не нашла в себе такой стойкости.]
Он сохранил ровно столько денег, сколько нужно было на саван из голландского полотна. В нем его и похоронили. На Драгомиловском кладбище, рядом с бабушкой. Кое-какие реликвии мама привезла с собой: его кожаный кошелек, портфель, тфилин и талес (филактерии и талес), семейные молитвенники и очень мало своих драгоценностей, остатки того, что было раньше и пошло на рынок, за продукты. Разрешение на 200 рублей драгоценностей она использовала и привезла с собой немного моего белья и серебра. О том, куда девалось все мое добро — книги, картины, шубы и все белье, — я ее не спрашивала, так как поняла, что все было продано за эти шесть лет или перед ее отъездом. Лес рубят, щепки летят!
Московское и виленское мое хозяйство, все, что мне отец и дедушка дали в приданое, все пошло прахом. Здесь все нужно было начинать с начала, и мы пока еще спали на досках и вместо шкафов употребляли сколоченные ящики из-под апельсин.
О том, как разбазарили квартиру мамы в Москве, я знала еще до своего отъезда, так что мне не приходилось много спрашивать: во все комнаты вселили жильцов, рабочих и чиновников, все имели свой примус в кухне, ванна всегда была испорчена или в состоянии починки, уборная тоже. Уплотненцы спали и во всех коридорах, за занавесками. Все берегли свое топливо и продукты от соседей, всегда кто-нибудь оставался на страже. Все родственники занимались кустарничеством: кто вязал свитеры, кто занимался сапожничеством, шили туфли, галоши с войлоком, валенки, вязали чулки и детские вещи. Мужчины открывали мастерские часов и других изделий. Очень многие из нашей молодежи пошли на Гражданскую войну и там погибли. Перед отъездом мама продала рояль, я ей послала 50 фунтов, и с этим она приехала. Она была очень довольна своей поездкой по морю и писала домой: я стараюсь забыть о прошлом, не думать о будущем и жить настоящим.
Здесь я ей показала Тель-Авив, город, выстроенный еврейскими руками. Она восхищалась синагогой, кошерными мясными лавками, которых она уже давно не видела (они в Москве были вегетарианцами, чтобы не есть трейф), морем, природой, звездами и луной, которых за стенами московских и петербургских домов она никогда не видела. Она говорила, что чувствует себя как на Ривьере, считала, что Бог ее спас, чтобы она могла умереть в Святой Земле. Она была еще очень бодра, ей было 58 лет, креповую вуаль мы сняли с ее шляпы, она видела, что здесь этого не носят, все ее туалеты были заменены новыми, более соответственными климату и палестинской моде.
Но свою жизнь мама создала себе по старому московскому шаблону. Она регулярно выписывала из Парижа «Последние новости», читала книжки на всех языках (английскому она научилась в «ударном порядке» перед своим отъездом <из СССР>). Впоследствии она играла ежедневно несколько часов на рояли, чтобы не разучиться и сохранить свою технику, как она говорила. Она научилась нескольким самым необходимым словам на иврите, чтобы объясняться с лавочниками и детьми, которые приходили в дом. Наши дети, хоть и плохо, но еще говорили по-русски.
Она купила себе самовар, и — так как не было угольев и горничной, которая бы его ставила на стол, — он украшал самоварный столик. Она любила приглашать дам своего возраста, которые ее называли бабушкой, так называли ее даже немки, которые не знали русского языка. После гостей она мыла сама чашки, ложечки и тарелочки, имела свою собственную чашку, как староверка, и к этой чашке никто не смел притронуться. Она умела занимать гостей и считала недостойным для себя, если бы у нас гости скучали или не имели бы хорошего угощения, или иначе как-нибудь остались недовольными приемом. Чтобы занимать публику, она с неподражаемым юмором рассказывала, как лавировала между домкомами и комиссарами, как она научила няньку «держать язык за зубами», как нянька приноравливалась к новому «прижиму». Мама передавала на смоленском говоре все, что нянька говорила, и рассказывала, как торговала на рынке красным товаром во время НЭПа, и как, получив свой социальный паек, покупала на рынке мучицу, и луку, и прочую снедь, и приносила все домой, в общую коммунальную кассу, и в таком же роде.
Когда мама училась на курсах английскому языку, ее спрашивали: «Зачем вы, тетенька, учитесь?» и удивлялись, что она едет к дочке в колонию. И еще больше удивлялись на курсах шитья, как она ловко рисовала модели, почти как парижские. Об одном нашем знакомом она рассказала, как однажды он пришел и первый его вопрос был:
— Вы ничего на мне не замечаете?
— Не-ет, а почему вы спрашиваете?
— Да вот, стою я на трамвайной остановке, а рядом со мной несколько школьников что-то шепчутся, пересмеиваются. Потом одна девочка посмелей взяла, да и спросила: «Дяденька, вы дяденька или тетенька?» И представьте себе, что мое пальто действительно перешито из жениной шубы, а голову я повязал кашне, чтобы меня не продуло, уж очень холодно.
Между прочим, в гололедицу мама упала и сломала себе руку, так что во время плохой погоды у нас она всегда чувствовала боли в этой руке.
Другая дама рассказала, как на их дворе была семья лишенцев.
У них был мальчик, который играл с ребятами. Пришли кожаные куртки и спрашивают: «Где живет гражданин такой-то?» Мальчик недолго думая отвечает: «Где живет гражданин — не знаю, а есть тут мальчик такой со второго двора». Куртки пошли на другой двор. Тем временем 11-летний мальчишка побежал по лестнице вверх, прыгая через две и три ступеньки, и сказал отцу: «Папка, смывайся, тебя ищут». И таким образом спас отца от чрезвычайки.
Вообще, наш дом сильно оживился с приездом мамы. Ее давнишний шарм и умение привлекать людей не исчезли до конца ее дней. Но нередко мама начинала грустить по дочери, по родным, особенно когда переписка прекратилась и она годами не получала ни от кого писем. Там она была старшая в семье, все с ней советовались, к ней приходили, многим она помогала чем могла. Здесь ей пришлось перейти на вторые роли. Я не хотела бы оскорбить ее память, сказав: на роль «комической старухи», хотя в русских театрах это была очень почетная роль. Впрочем, немало наших друзей и даже молодых дам и людей приходили к ней советоваться по своим деловым и матримониальным вопросам. Ее очень любили. Но ее не удовлетворяла роль «чьей-то мамаши», она всегда была первой скрипкой в своем семейном оркестре.
У меня лично переменилось отношение к маме: из немого поклонения оно перешло в чувство снисхождения и жалости, как если бы у меня одним ребенком больше стало в доме. Я должна была выбросить из головы все проекты о кибуце или упрощении нашей жизни. Наоборот, наша жизнь делалась все более комфортабельной, барской. Я маме обставила комнату настоящей мебелью, полированный шкаф заменил вешалку, завешанную простыней, пианино раньше взяли на прокат, а потом купили на выплаты. Свою кровать она покрыла пикейным белым одеялом и крахмальными накидками. Часто я покупала посуду лучшую, чем то, что было на рынке, старый Мейсен или Розенталь[448], потому что она «воспиталась на севре и саксе». Ее радовали чешский фаянс, карлсбадский хрусталь и кружево ручной палестинской работы, или венское, или кусочек брюссельского, — это то, что ей напоминало ее лучшие годы. Правда, тут это все появилось значительно позже.
Праздники в нашем доме начали справляться по всем правилам еврейской религии. Мама имела свое место в первом ряду в синагоге, и субботний ужин и обед должны были отличаться от будничных: как можно без фаршированной рыбы и бульона куриного с курочкой? Моя мать была женщина с волей не в больших делах, а в мелочах. Мы ей давали действовать по ее желанию, часто свыше наших материальных возможностей.
* * *
В июне 1925 года, раньше, чем Марк должен был вернуться домой <из Америки>, друзья пригласили меня проехаться по стране и в Сирию и на Ливан. Ко дню прибытия Марка я должна была быть в Хайфе, чтобы встретить его.
Я с радостью приняла это приглашение. Мы были больше недели в пути. В Хайфе мы остановились на Кармеле в отеле «Герцлия». Кармель тогда еще был далек от того припортового курорта — «Луфткурорта», — каким он стал впоследствии. С нашего балкона был прекрасный вид на бухту и на весь город. Весь Кармель был сплошной лес, но не европейский: исключительно сосны иерусалимские покрывали его.
До обеда я поехала на Гадар <новая шхуна между Кармелем и городом Хайфой>, чтобы посмотреть образцовый детский сад, о котором мне рассказывали. Моя приятельница, ганенет (садоводница)[449], у которой мои дети раньше учились, просила зарисовать мебель и все устройство. Я ей помогала в работе и теперь охотно выполнила эту просьбу. Квартиры в Хайфе уже тогда были значительно лучше строены, чем где-либо в стране: шкафы в стенах, чтобы не занимать место ненужной и громоздкой мебелью, ванны и кухни, облицованные кафлями, все балконы с видом на море и на горы, и многое другое, что скрашивает и облегчает жизнь.
Мы выехали из Хайфы в Бейрут мимо Акко, по берегу моря и мимо пальмовых рощ. В Акко поднялись на крышу крепости, остатки крестовых походов и наполеоновских войн. Все веяло стариной. Мы заехали в агрономическую станцию, затем миновали старые акведуки, реку Кишон, которая впадает в Средиземное море, и Расель Накура[450] на границе между Палестиной и Ливаном. Мы попали буквально в фьорды. Сады тутовые (шелковичные) были коротко пострижены, Сидон — фабричный город — все производило впечатление гораздо более культивированное, чем арабская Палестина. Левантизм, смесь Востока с Западом, христианство, смесь языков и наречий, много французского, на котором в Ливане говорили во всех кафе и ресторанах по дороге.
Часа в четыре мы приехали в Бейрут, в отель «Метрополь». Отель очень богато обставленный, декорированный мрамором и коврами. Грандиозные салоны и залы, столовая, такие же просторные комнаты. Стол более восточный, острый, для нас всех почти неудобоваримый. Салаты из тхины, хумуса, рыба жареная в оливковом масле, <баранина с рисом (шашлык и пилав)>, штрудель из жирного слоеного теста, очень сладкий, начиненный сезамом. Все было довольно вкусно, мы только боялись, чтобы, как ларинская брусничная вода, нам все это «не наделало вреда».
Мы, дамы, конечно, посетили «Галери де Лафайет», который будто бы получал модели прямо из Парижа, затем нас вечером повели в казино на берегу моря. Вид на город и море вечером был красив, но само казино оказалось восточным непрезентабельным кафе: барак с каменным полом, музыка скверная, фильм не по нашему вкусу, детективный. Женщины здесь были накрашены еще больше, чем в Румынии, мужчины в фесках почему-то сидели с ногами или одной ногой на стульях, без обуви (может быть, от привычки сидеть так дома). Днем мы еще побывали в музее, в каком-то загородном кафе, где нам показали военные трофеи, но где красива была только богатая природа — зелень и масса воды. Красива была дорога на Ливан и Бааль-Бек. Поднимались через Митрем, Аллеи на суровых горах. Меньше зелени, чем в Бейруте, но больше грандиозной скульптурности, пластики. Пили чай в Спора и вечером приехали в отель «Пальмье» в Бааль-Беке.
Еще тем же вечером гайд нас потащил в кафе посмотреть, как женщины танцуют «танец живота». Ни красоты, ни искусства в этом не было, просто грубый секс, и женщины производили впечатление жалких проституток. Но зато руины при лунном свете, мимо которых мы проходили, были волшебны. Утром мы основательно осматривали эти руины. Я не знаю, что на меня произвело большее впечатление: красота и монументальность тех колонн, которые сохранились, монолиты, остатки греческой и римской культуры, или сила разрушения, когда один толчок, одно движение геологических пород способно разрушить рабский труд и художественный замысел целых поколений, гордость строителей и то, что казалось людям вечным, крепким, прочным и солидным. Ничто так не говорит о преходящем, о невечности тиранов, их мавзолеев и рукотворных ценностей, как руины.
От Аллей до Дамаска снова шла суровая дорогая, скалистые поля. Город Дамаск утопал в садах, но был далек от сказок «1001 ночи». Мы два дня осматривали кустарные фабрики, еврейские рабочие были похожи на наших теймонцев, но гораздо более тщедушные. Работали не только женщины, но и малые дети. Условия на фабриках были ужасные. Складывалось впечатление, что в этой стране не знают, что такое рабочий контроль. Ни здоровье женщин и детей, ни возраст, ни беременность женщин не щадились. Инкрустации из меди и серебра, золота, дерева всех цветов и оттенков, белая кость и перламутр, ковры, вышивки, дамасский шелк. В окнах магазинов все эти невинные украшения женских гаремов и полуевропейских салонов, приятные подарки и сувениры, особенно те, на которых разные эмблемы христианства и которые экспедировались в Святую Землю для продажи туристам и паломникам, — все это запекшиеся кровь и пот и гной туберкулезных бацилл. Все рабочие, работницы и дети выглядели кандидатами на тот свет, и не завтра, а сегодня — «краше в гроб кладут»!
Поужинали мы тихо, и всю ночь я не могла закрыть глаз. Я слышала молитвы муэдзинов на минаретах и думала, что люди говорят о «царстве Божьем внутри нас», и возмущалась, что вместо душевных потребностей люди не заботятся о том, чтобы открывать бесплатные и дешевые столовые при таких фабриках, как те, что мы видали, не помещают детей в здоровые, чистые школы, где бы им давали три раза в день еду и не посылали бы на фабрики. Здесь нужно было бы поставить честного образованного министра труда, который бы контролировал заработки фабрикантов и все излишки употреблял для оздоровления этого несчастного населения.
Сирийские богачи наполняли все отели в Ницце и Париже, играли в рулетку и покупали своим женам парижские модели, жемчуга и бриллианты, заработанные буквально на трупах, пока еще живых.
Встала я раньше моих спутников и, когда они после завтрака пошли по магазинам, я их не сопровождала. Я пошла в гости к одной палестинской семье учителя, который преподавал в еврейской школе. Я провела с ними почти весь день. Под вечер наш шофер не хотел выезжать, боялся разбойников по дорогам. Но мы его уговорили рискнуть и добрались до Сафеда (Цфата) с такой быстротой, что еще поспели к ужину в «Ахсанья» Кетти Дан. <Ахсанья — заезжий дом.>
Чтобы немного переменить настроение и развлечь себя и свою компанию, мне удалось подшутить над одним гостем в отеле, которого мы все знали из Иерусалима. Это был высокий чиновник в эмиграционном бюро. Он был очень строг в смысле «легальности» и Laissez-passer[451], особенно с иммигрантами, которым он отказывал в сертификатах и визах. Я ему говорю:
— Знаете, мистер, я ведь нелегально ездила в Сирию и обратно. Теперь, когда мы по эту сторону границы, я могу это сказать. Вы должны строже следить за пограничными порядками.
— Каким образом? — он даже в лице переменился.
— А вот как. Я пришла в ваше бюро в Иерусалиме, прошу наскоро мне сделать лессе-пассе для прогулки в Сирию и Ливан. Не тут-то было. Надо ждать до завтра, до послезавтра, принести какие-то удостоверения от еврейских властей, разные документы. А тут мои спутники меня торопят, у них у всех уже визы были в кармане, не хотят ждать. Так я решила ехать без паспорта. На границе туда — маленький бакшиш и обратно — то же. Вот я и прокатилась в Сирию.
Я думала, мои спутники поперхнутся со смеху, еле сдерживали салфетками еду во рту — ни проглотить, ни выплюнуть. Кончилось тем, что я показала мой паспорт и визы, и мы все хохотали как сумасшедшие. [А английский чиновник был смущен.]
На следующее утро мы снова осматривали Сафед. Я посетила старую знакомую, поэтессу Рахель Блувштейн, которая лежала в госпитале для туберкулезных[452]. Я привезла ей поклоны и подарки от друзей, и она была очень рада мне. <Она всегда меня журила за то, что я не говорю на иврите так, как надо, не читаю, не пишу и не изучаю язык в совершенстве. И она, конечно, была права.>
Мы осмотрели старый город, синагоги и потом выехали в Метулу. В Кфар Гилади выстроили за это время три новых детских дома, зелень и питомники значительно разрослись, был новый бассейн для купания и палатка шомера (сторожа), он же скульптор, которого я знала еще из Иерусалима <Мельников>. Были новая маслобойня, новый коровник, мастерская. В кухне пекли свежий хлеб и хорошо пахло печёным. И кроме всех этих новшеств прибавилось кладбище со статуей погибшей девушки.
На обратном пути мы были в Кинерет[453] и ночевали в Тивериаде. Из-за жары невозможно было спать всю ночь. Мы лежали на балконе, под мустикерами, но без сна. Наутро посетили Капернаум[454], осмотрели развалины синагоги якобы со времен Христа, потом теплые Тивериадские источники и оттуда поехали в Дганию[455].
Тут была масса новых аллей, деревьев, домов, весь кибуц разросся до неузнаваемости. На обратном пути мы осмотрели Кфар Иелодим — детскую колонию: школа, интернат, птичник, даже зверинец и небольшой театр. В Седжере[456], которая обрабатывалась только арабами, мы даже не сделали привала и проехали в Нагалал, в агрономическую школу для девушек под началом Ханы Майзель-Шохат[457]. Здесь нам показали все хозяйство и угостили обедом. После обеда мы осматривали хозяйство частников, нагалалских крестьян. Нагалал построен кругом[458], и каждое хозяйство — сектор. В центре его — общественные здания, школы, «Бейт-ам» (народный дом) и проч. Ближе к центральной улице домики с садом, за ними идет огород, коровники и птичники и, наконец, поле, которое занимает самую широкую часть сектора. В Нагалале я распрощалась со своими спутниками: они торопились в Тель-Авив, а я должна была вернуться в Хайфу, чтобы встретить Марка у парохода. Мы встретились с Марком не как старые папа и мама 12-летней дочки и 11-летнего сына. Мы сильно стосковались друг по другу. Его пароход прибыл после обеда, и нам пришлось ночевать в Хайфе. Я рада была, что не взяла ребят встречать папу, они бы нам мешали. У нас накопилось столько нерассказанного и ненаписанного в письмах, что эти сутки были нам просто необходимы.
* * *
Дома было большое волнение и радость, когда мы приехали со всеми американскими чемоданами и подарками. Дети не знали, кому и чему больше радоваться: папе, которого не видали почти два года, или маме, которую не видали неделю, или всем подаркам и распаковке. Марк почти не узнал своих «хуцпаним и сабр» (нахальных палестинских кактусовых колючих ребят[459]). Я обещала им не рассказывать, какую борьбу мне приходится с ними вести за каждое мытье и душ, об их драках и ссорах между собой, а главное — обо всех двойках («ло маспик»[460]) в науках. У Рут были неудовлетворительные отметки в арифметике, у Меира — в Библии и иврите.
Марк привез детям кожаные дождевики, мой шурин и невестка прислали нам массу полезных для хозяйства вещей: разные кожаные сумки, стоячие лампы, платья американские, которые нужно было переделывать и перекрашивать, и много других подарков. Главное, его брат одолжил ему некоторую сумму денег, с которой мы могли начать восстанавливать наше хозяйство. Мы сняли двухэтажный дом неподалеку от того места, где мы жили, и начали подыскивать себе компаньонов для клиники и санатория. Для этого нам пришлось еще продать плац, который у нас был у самого моря в Тель-Авиве, на улице Алленби. Мы нашли среди наших друзей интерниста[461] и гинеколога. Первый был женат, и мы с его женой Ханой решили сами вести хозяйство и ограничиться самым минимальным персоналом. Только теймонка для «спонжи» (мытья полов), санитар и сестра — это было все, с чем мы открыли нашу больницу.
Моя мама переняла на себя все домашнее хозяйство и детей, а еду мы в судке им троим посылали раз в день из больничной кухни.
Для клиники купили общий подержанный автомобиль, полу-амбуланс, полу-такси, и в нем по очереди ездили в город за покупками. Вечером, кто был свободен, ездил в город в кино или театр. В этой же машине врачи делали свои визиты и иногда даже привозили больных.
Все пятеро начали ревностно учиться править машиной, чтобы получить «лайсенс»[462], и у нас сделался спорт, кто раньше выдержит экзамен. Наш гинеколог первый получил такой «лайсенс», и мы его употребляли за шофера. Первое время не обошлось без трений, без неувязок: у нас не было оборотного капитала. Иногда, когда мы получали заказ на роды или операцию, я в экстренном порядке звонила в тот мебельный магазин, где мы купили всю мебель и кровати, чтобы мне прислали еще кровать и матрац и еще вещи, без которых уже невозможно было обойтись. Так же было и с посудой. Вся посуда заказывалась по телефону по образцу, который был у нашего лиферанта[463]. И простыни, и подушки покупались по мере надобности.
Вначале дом был почти пустой, и только — как камуфляж — тут или там была прибранная комната с одной застеленной кроватью, стулом и столиком. Мы еще не были популярны, у нас не было достаточно пациентов, а персонал и продукты, освещение и вода, налоги и прочее — все шло своим путем. Мы все больше приходили к заключению, что «дом нас съедает». Мы начали вести переговоры с хозяином, чтобы он нам продал дом в рассрочку. В конце концов мы его уговорили и взяли большую ипотеку на это имущество, чтобы выплатить ему порядочную сумму.
Кроме больницы, которая первое время не давала достаточно работы и заработка, Марк начал ездить в окрестные деревни и колонии. У него появилась кое-какая практика среди арабов, и его вызывали на консультации. Наши компаньоны, конечно, делали то же самое.
Я еще раньше, до приезда Марка, занималась общественной работой в женских кружках. «Капля молока»[464], детский сад, группа для рукоделия, группа для изучения еврейского языка, также школьный родительский комитет, где учились наши дети. Женская общественная работа меня так затянула, что я должна была войти в разные центральные комитеты, и мне даже предложили ехать в Польшу для пропаганды. Теперь, когда для меня поездка в Польшу все равно была неизбежна (мне писали, что есть шанс продать дома), я охотно взяла на себя волонтерскую пропагандистскую работу. Я обещала им прочесть несколько докладов, как я это делала в России, но теперь у меня было гораздо больше знания Палестины. Я начала собирать интервью у некоторых деятельниц Палестины, и, конечно, первой была мисс Сольд.
Во время устройства нашего нового санатория мне пришлось столько работать, что я переутомилась, наши врачи настаивали на том, чтобы я использовала свою поездку не только для дел, но и для поправления здоровья. Меня послали на три недели в Карлсбад, но я предпочла маленький и симпатичный Яхмисталь, где было дешевле и не так шумно, как в Карлсбаде. Там были радиоисточники и та же вода, что и в Карлсбаде.
Я поселилась у одной чешки на горе, в маленькой, очень чистенькой комнатке. Внизу по камням журчал ручей, далеко, как черные жуки, сновали на горах и по дорогам автомобили, пропадали за поворотами и снова появлялись среди зелени. По вечерам, как фосфористые жуки-светляки, они загорались и потухали. Тишина была такая, что нервы успокаивались, я отдыхала и только тогда чувствовала, как я устала от всего: устройства дома, нового дела, ведения хозяйства, как я себя перегрузила работой, общественной, профессиональной и домашней.
Потолок моей комнатки под крышей был покатый, маленькие окошки с занавесочками из белого маркизета, на столе лежала скатерть из вязаных кружков, числом 365 — по числу дней в году, и такие же салфеточки белели повсюду, на комоде, на столиках. Хозяйка сама красила мебель и все, что можно было выкрасить в саду и в доме. Скамейки, садовые столы, какие-то мухоморы с красными головками и белыми пятнышками на них, все это, по-видимому, должно было служить украшением пейзажа. Кроме того, моя хозяйка пела тонюсеньким голоском и аккомпанировала себе на гитаре. Этот мещанский дилетантизм был как бальзам для моих нервов. Карлсбадская вода и ванны сделали чудо. Уже на второй неделе я была другим человеком.
Напротив нашего дома находился «Палас Отель». Оттуда после обеда к нам доносились звуки танцевальной музыки: и на большой веранде были видны танцующие пары. Даже лавирующие среди столиков лакеи с подносами казались издали, как Петрушки в кукольном театре. У нас была тишина, тиканье часов на стене, запах вереска и сосны. Там были огромные зеркала, ковры, горячая текучая вода, во всех комнатах телефоны, музыка и танцы два раза в день. Танцевали и стар, и млад. Танцмейстер с гладко прилизанными волосами, которые прикрывали его лысину, и худенькая девочка в черном, в меру декольтированном платье, которые назывались «эйнтанцеры»[465], вкрадчиво приглашали вас на танец. Фокстрот, блюз, танго и разные степы. С первых же шагов он и она делали технические замечания и — кончали тем, что приглашали вас взять несколько уроков, «если вы хотите идти с веком!»
Дамочка в черном ведет солидного господина — издали кажется, что это он ее ведет, но это иллюзия, старик еле усвоил себе всю модерную премудрость; но он небезнадежен, она его научит. Когда ей наступают на ее черные лодочки, она улыбается, она к этому привыкла.
Я решила, что не надо отказываться «идти с веком», и записалась на курс модных танцев. Но с первого же урока я была страшно обескуражена. Господин Муш (так он назывался) на меня накинулся:
— Где вы обучались этим балетным па? Здесь вы не в русском балете, и не старайтесь, пожалуйста, вести меня. Здесь я, я веду…
Когда он увидел недовольство на моем лице — заправской танцорки, которая танцевала в балете «Снегурочка» и под началом настоящего Чудинова-третьего или четвертого, я уж не помню, — он стал немного мягче и на прощание сказал:
— Вы небезнадежны, сегодня вы уже кое-что успели и через несколько уроков будете танцевать! — Танцевать! И это они называли танцами!..
Через два урока он уже был доволен, забыл о па и балетах, я же заплатила его мадам Муш несколько крон и перестала ходить.
В «Палас Отель» я уже не боялась танцевать с настоящими танцорами (я считала себя специалисткой) все эти блюзы, степы и фоксы.
Когда прошли мои три недели, и я поправилась, я поехала дальше. В Праге я переночевала и приехала в Вильну совсем оправившейся.
Мне удалось найти покупателя на один дом. Моим отцом этот дом ценился в 80 тысяч рублей, это 8 тысяч фунтов по той валюте. Я продала дом этот за 1500 фунтов, то есть в пять раз дешевле. Но больше не давали. Я наполовину уже была освобождена от «голуса» и была этому рада. Этими деньгами мы с Марком выкупили нашу долю в больнице. Остальные компаньоны должны были хлопотать, чтобы выплатить ипотеку.
* * *
Я все сделала по программе: я читала доклады, я была в Карлсбаде, я продала дом, но одного я не учла — в Палестине я отвыкла от резкой европейской осени. Я простудилась и получила катар легких. Меня в спешном порядке «послали в Италию», то есть домой. Я вспомнила своего бедного дядю Сашу и не заставила повторять дважды: я вернулась в Тель-Авив. Но дома мне тоже было холодно, температура подымалась каждый день под вечер. Марк боялся, что я запрягусь в работу, и отвез меня на целую зиму в Иерихон.
* * *
В Иерихоне была не зима, а лето, но скука смертная. Дорога мне показалась особенно пустынной. Некоторые песчаные холмы выглядели, как нарезанные куски телятины, — глина, смешанная с песком. Мои глаза заволокли слезы.
Остановилась я в арабско-немецком отеле. Комната была небольшая и без всякой меблировки. Там принято было привозить с собой все, до постели включительно. Окно выходило в темный запущенный сад — бананы, пальмы, смоковницы, бояра апельсинная и лимонная, но все это не имело рук садовника. Оливки особенно печально выглядели.
Мне было мрачно, жутко, скучно. Я не хотела огорчать Марка, сказала, что всем довольна, и мы пошли пить кофе. Кофе, кстати сказать, там было самое лучшее, какое можно было достать в Палестине — кафе-тюрк, в маленьких чашечках, вареное с сахаром, с какими-то специями и с кофейной пенкой наверху.
В большой столовой, отделанной в арабском вкусе, с золочеными зеркалами, пестрыми и некрасивыми занавесками, высоко повешенными олеографиями на стенах, с канарейкой в клетке. Расстроенное пианино и мебель третьестепенного ресторана довершали все остальное. Здесь это было «first class»[466].
Так как дело шло к Рождеству, под потолком были подвешены бумажные гирлянды всех цветов. В углу стояла небольшая украшенная елка, и черные слуги прислуживали нам за столом.
После кофе Марк уехал, я еще просмотрела несколько прошлогодних журналов и, не зная никого, ни евреев, ни христиан, ушла к себе в комнату. Я зажгла керосиновую лампочку, смерила температуру и легла под холодное одеяло. Ужинать мне не хотелось, я чувствовала себя оторванной от семьи, от работы, от жизни. Я думала, что, если мне не удастся продать свой второй дом, моя семья останется с долгами, без возможности продолжать начатое дело. Дети были еще так малы, что нуждались в матери, а я сама была «при смерти», так мне казалось, по крайней мере.
У нас не было возможности лечить меня в Давосе или в Сан-Морице[467] или послать меня в горы, в Финляндию или Норвегию, например. Так что нужно было сидеть здесь, в этой арабской дыре, без всякого комфорта, без ванны и текучей воды, с острым и непривычным восточным столом. Я плохо спала эту ночь и жалела, что не осталась дома, не вернулась с Марком в Тель-Авив, но я не хотела начинать сказку про белого бычка с начала.
На следующий день я с утра начала осматриваться. У русских матушек мне не понравилось, у коптов было жутко, у грека — грязно. Только в монастыре у греческого батюшки мне подошло. Здесь за весь сезон в три месяца с меня просили только пять фунтов с четвертью, и то в рассрочку. Это была келья с отдельной дверью, с окном, с глиняным полом. Вокруг жили арабские семьи с детишками. Мужчины были феллахи, которые перешли в Иерихоне на ремесло, столяры, слесаря и проч. Они уже были полу-горожанами, сверх полосатого халата носили пиджаки и вместо кефии — феску. Женщины ходили большею частью в полу-европейской одежде. Детишки все были больны глазами, очень шумны, но все они довольно приветливо приняли меня как соседку, одалживали мне первое время примус или какую-нибудь другую вещь (щетку, тряпку), так что пока я не получила все из дома, я жила почти в пустой комнате.
Почта и телефон сделались главным центром моей жизни. Я ходила на почту два раза в день, звонить домой и отсылать письма. Жизнь моих соседок проходила на низеньких скамеечках — так они варили, шили на машинке, стирали белье. Они не знали стульев.
Русская матушка, которая работала и была хозяйкой монастыря, за мной очень хорошо ухаживала, варила мне русских «щец» без мяса, мы ели рыбу, яйца, картошку и вареники с козьим сыром. Она мне приносила из бояры свежие «португалы»[468] с листочками, салат и редиску и томаты из своего огорода. Как и все больные, я была чувствительна к каждой ласке и вниманию. Она набила мне свежий тюфяк, приносила каждый день свежую воду. День мой был распределен с неизменной регулярностью. Утром я шла к источнику Салтана (или Елисея)[469], дорога была чудесная, по обеим сторонам — бояры, банановые плантации, пальмы и оливки, кактусовые заборы, сикоморы, смоковница и стена пирамидальных тополей. Платаны, желтые мимозы с острым запахом, касторовое дерево, ароматный можжевельник и терновник.
Всю зиму не было дождей. Я ходила в летних платьях, а все зимнее, в чем я приехала, висело под простыней на стенке.
По дорогам встречались бедуинки, иногда страшные, с лицами орангутангов, иногда — смесь негритянок или абиссинок с нашими арабами, но большинство всех женщин красило волосы хиной в рыжий цвет, хотя по типу были брюнетками. Мы со всеми этими арабками обменивались приветом «нарком сайда»[470], и я часто покупала у них яйца, хотя боялась к ним прикоснуться, прежде чем помою дома водой, так как все женщины и дети болели трахомой.
У источника Салтана, особенно в ложбине, где текли по камням ручейки, ясно виден Карантен[471] и барельефы, высеченные в сороковой горе. По Евангелию, здесь сорок дней скрывался Иисус, и здесь его искушал дьявол, а он постился и отвечал, что «не хлебом единым жив человек»[472]. Греческие монастыри и отшельнические кельи издали были похожи на птичьи гнезда, а внизу расстилался весь Иерихон и был зелен, как оазис в пустыне. Издали была видна синяя полоса Мертвого моря, впадающий в него Иордан и сзади — Моавитские горы.
Эти места по обеим сторонам Иордана были связаны не только с Евангелием, но еще больше с историей Исхода Моисея из Египта, и здесь он завершил свой путь, начертанный ему Богом. На горе Нево он где-то похоронен[473], и здесь, в Иерихоне, его наследник, поставленный им вождь Иисус Навин, начал войну уже на территории Палестины.
По дороге обратно от источника Елисея, где я каждый день пила крепкое турецкое кофе, я проходила мимо строящегося «Палас Отеля». Там работали еврейские рабочие, особенно при инсталляции и бетоне. Иерихонские рабочие знали только один материал: глину, смешанную с соломенной сечкой, и, как и в библейские времена, эти дома могли бы упасть от звука труб Иерихонских[474]. Если бы не антисионистская пропаганда, евреи могли бы научить и помочь капиталом отстроить этот запущенный арабами оазис, превратить это место в рай земной.
Когда я ходила в отель «Иордан», я там познакомилась с некоторыми дамами, сефардками, гречанками и мусульманками, которые говорили по-французски. Они все занимались рукоделием, вязали свитера. Одна туберкулезная девушка рассеянно читала французские романы и была очень печальна. Ее мать советовалась со мной, не повезти ли ее в Давос, но, как и я, пока она лежала на шезлонге в отеле.
Первое время в теплом климате я как будто поправилась, гуляла, отдыхала, тоже начала рукодельничать, много читала. Но потом мое здоровье ухудшилось, может быть, от отсутствия развлечения и однотонной жизни или от отсутствия настоящего лечения. Я лихорадила неделю за неделей и месяц за месяцем. Часто я не могла подняться с постели, и у меня не было энергии вернуться домой и пугать своих близких. Если я не писала два дня подряд, я получала телеграмму, и Марк приезжал чаще, чем позволяла ему его работа. Иногда по субботам он привозил маму и детей, мне посылали продукты, книги, белье, и хотя я радовалась гостям, после каждого их визита я лежала измученная лишний день в постели.
К весне мне стало немножко лучше, но решили, что лето я не должна провести в жарком Тель-Авиве, и мне наняли комнату в Иерусалиме.
В то лето 27 года было землетрясение в Палестине, главным образом в Иерусалиме и Шхеме. Я была в своей комнате, когда духота и жара стали так невыносимы, что я подошла к окну, чтобы его открыть. В это время раздался шум, как от проезжающего колоссального грузовика, и гром, только не в небесах, а под землей. Так потом выглядели разрывающиеся шрапнели под домами. Но к шрапнелям мы всегда были подготовлены, а землетрясение, первое в моей жизни, было такой жуткой неожиданностью, что несколько секунд невозможно было осознать, что вообще случилось. Только когда я увидела на стене трещину, и стены зашатались, и вся комната как будто наклонилась сначала в одну сторону, а потому в другую, я крикнула: «Землетрясение!» Я выбежала в переднюю, и эта минута казалась вечностью. Все семьи, которые жили в этом доме, кроме глухой портнихи, выскочили на улицу, там же собрались все соседи. Я осмотрелась — старуха портниха не заметила за шумом швейной машинки, что землетрясение. Я побежала за ней, схватила ее за руку и начала тащить на двор. Она на меня посмотрела, как на сумасшедшую. Она думала, что кто-то постучал в дверь, и спокойно ответила: «Яво (войдите)», — и продолжала шить. В кухне свалилась посуда с полок, в остекленной передней горшки с цветами разбились вдребезги. Но еще больше, чем люди, волновались животные: собаки отчаянно лаяли, кошки бегали, как помешанные. Дети плакали, женщины падали в обморок. Хуже всего было чувство, что это еще не кончено и может повториться каждую минуту[475]. Все боялись заходить в дом, в ту ночь спали на матрацах на балконе, вернее вовсе не спали и видели очень красивый восход солнца. Весь город и Мертвое море, и Моавитские горы были в необыкновенных красках.
Я поехала со знакомыми посмотреть Шхем. Там были жертвы и большие убытки. Евреи пожертвовали хлеб для пострадавших. Часть населения была устроена в палатках за городом, так как дома развалились — где комната, где полквартиры, кровати и мебель висели в воздухе. Мы посетили самаритян[476], их главного когена, забирались на крыши их плоских домов, посетили школу, синагогу и бродили по улицам их гетто.
Вторую поездку в то лето я сделала с туристами по Эймек Изреэль. Мы поднялись до Метулы, в Дгании посетили кладбище, где были посажены свежие эвкалипты. Это кладбище разрослось, потому что немало людей потонуло в Иордане во время купания.
Среди туристов, с которыми я поехала, был еврейский писатель Гиршбейн[477] из Америки. Он был восхищен всем виденным в Палестине, рассказывал нам о впечатлениях, которые он вынес из Китая и Индии, откуда они с женой вернулись. Я скрывала от своих спутников свою сильную усталось и смеялась его юмористическим стихам:
Обед в Эйн-Хароде, Поцелуй товарища — поэта Аша, Морковка, украденная с полей Мерхавии, Ужин в ресторане в Цфате, Вид умирающего скорпиона на Кармеле, Вино в Ришоне, А все вместе — сильное слабительное.На идиш это звучало складнее, конечно.
Этот же писатель был большой знаток насекомых. Он нам прочел целую лекцию о пауках и пчелах, в духе Метерлинка[478]. У него в Америке осталась целая комната, затканная паутиной разных пауков по породам, и он наблюдал их жизнь и паучью психологию, и различал паутины всех сортов. Рассказал он это после того, как хозяйка отеля нам принесла скорпиона в закрытой банке. Она туда налила спирт и показала нам, как скорпион «покончил собой», ужалив себя раньше, чем спирт начал гореть. «Си ноне веро, бель тровато!»[479]
На обратном пути у нас было неприятное приключение с арабчонком. Арабчонок лет 14 вел небольшой караван, верблюды были нагружены камнями и перевязаны толстой веревочной сеткой, чтобы камни не свалились. В руках у него был самодельный лук. Он направил его на наше такси и выстрелил. Камушек, и очень острый, попал в щеку жене Гиршбейна. Наш шофер, недолго думая, остановил машину, побил арабчонка и пригрозил ему разрезать сетку, чтобы дома ему влетело еще больше от отца. Мальчишка умолял этого не делать, потому что побои дома были бы сильнее. Я упросила шофера оставить его в покое, и мы поехали дальше. Наша спутница чувствовала этот «выстрел» еще несколько дней.
В Нагалале писатель интервьюировал колонистов, и было интересно слышать их ответы. Колония Ган Шмуэль, где мы сделали следующий привал, превратилась в ган-эйден[480] — столько зелени в нем прибавилось. Гева[481] имела новые дома и школу, возле Метулы работали в новой розовой каменоломне, и все кибуцы разрослись — постройки, дети выросли, увеличились сады и обработанные поля.
Вторую зиму, 1928 года, я уже чувствовала себя значительно лучше, но все же на три недели поехала в Иерихон, главным образом чтобы сделать прогулку в Трансиорданье, в Амман, Джераж и на Иордан — 6 января по старому стилю, чтобы посмотреть на крещение на Иордане.
В феврале этого года я начала работать в больнице и даже вернулась к общественной работе: мы устраивали балы — благотворительные и врачебные. Мне разрешили наконец выезжать по вечерам. Марк был трогательно внимателен ко мне во время моей болезни. Он помог мне пройти через самое трудное. За мое отсутствие Марк пристрастился к танцам, и теперь, когда я могла выходить, он заставлял меня танцевать. В 36 лет было трудно начинать сначала и возобновлять жизнь, которая была прервана на несколько лет. Но мне приходилось реваншироваться тем людям, которые приглашали Марка, и вообще мы вошли в период, когда «Палестина танцевала». Удачнее всех вечеров были вечера инженеров «под сильным давлением».
* * *
Летом Рут заболела аппендицитом. Марк не решался сам ее оперировать, мы вызвали коллегу из Иерусалима. Я никогда не забуду тех сорока минут, когда я в саду ждала, чтобы ее привезли из операционной. Мне кажется, что Марк волновался не меньше, а больше меня, может быть, он лучше знал состояние нашей малютки.
Когда ее привезли и она пришла в себя, ее первый вопрос был: «Зачем вы мне соврали?» Ей действительно соврали: сказали, что ее везут на рентген и в тот же момент наложили <эфирную> маску. До операции она сильно похудела и ослабела, теперь ее откармливали вовсю, первый же обед она съела с аппетитом. И потом прекрасно поправилась. Но у меня показались первые седые волосы. Вначале Рут их вырывала, но потом нам всем надоело, и Марк утверждал, что седая жена лучше лысой. Мы перестали.
Моя работа в больнице и в общественности так усилилась, что я больше не имела свободных часов.
В июне приехал театр «Габима» из Москвы[482], и мы устроили прием[483].
* * *
Пациенты Марка пригласили нас на очень интересную свадьбу богатых купцов старого ишува[484]. Они уже много поколений в Палестине. Жених был сыном раввина из Иерусалима.
На свадьбе было не меньше 1000 человек. Пировали семь дней и было семь обедов, שבע סעודות, для бедных устроили особый обед — орме молцейт[485], но не в собственном помещении, а в какой-то столовой.
Женщины на такой свадьбе занимают второстепенное место: несколько дней они работают, варят, пекут, заготовляют, а на самой свадьбе, усталые и застенчивые, они сидят и смотрят, как мужчины веселятся. Девушкам разрешается танцевать, но не замужним женщинам. Невесте сняли перед венцом волосы и надели парик. Отец невесты, статный красивый мужчина, радовался тому, что взял для своей дочери «талмид хахама»[486] (ученого). «Из талмид хахама можно сделать купца, но наоборот трудно», — говорил он, выпив порядочный «лехаим»[487].
Молодых взяли на два года на «кест» (иждивение), чтобы жених мог продолжать свое учение и не должен был бы заботиться о заработках[488]. Все гости были в пестрых и черных халатах и штраймлах — меховых шапках, а когда, разгорячившись едой и танцами, уставали — снимали штраймл и оставались в ермолках из черного шелка. Одна из сестер невесты мне рассказала, что, когда они едут за границу за товаром, они переодеваются в европейское платье, женщин берут с собой и покупают им новые парики, бубиконф, накупают себе платья и туалеты в Вене и Берлине, и все женщины в делах совершенно равноправны с мужьями: работают наравне, ездят за покупками и даже имеют свое конто[489], «книшлах», иногда дома на свое имя.
Бадхан[490] здесь произносил свои юмористические речи на иврите с ашкеназийским произношением. Старая бабушка танцевала «брогез-танц» с платочком (женщина не должна держать мужчину за руку, даже если это ее собственный муж, она держит за один конец платка, а кавалер держит другой конец платка)[491]. Все подпевали и хлопали в ладоши и подбадривали стариков. Музыканты-клейзмеры играли все еврейские танцы и наряду с ними модные танцы, в которых принимала участие вся молодежь.
Под конец пели «Гатикву». Во время обеда, между переменой блюд, танцевали рондо по всему дому, главным образом на крыше, а когда убрали со стола посуду — даже и на столах и стульях. Моя мама была в восторге. Она никогда не видела такой настоящей еврейской <ашкеназийской> свадьбы. Я видела еврейские свадьбы в Вильне.
* * *
Осенью 28-го года я снова поехала в Вильну, чтобы окончательно ликвидировать «голус». Я боялась, что если этого не сделаю, «голус» ликвидирует меня. По дороге в Вильну я остановилась в Вене у Нины. Мы были на оперетте Гольдфадена «Колдунья» в [советской] постановке Грановского[492]. Мне не понравились бесконечные лестницы, кубистические и футуристические раскраски и бесконечные «конструкции». Сама оперетка имеет в себе восточные краски, и они достаточно ярки, чтобы не надо было их усиливать и подчеркивать.
Еще мы видели артиста Чехова в пьесе «Ди артистен»[493], где было русское море разливанное вина, слез, поцелуев и игра великолепная. Видели оперетку «Царевич» с Вольманом и оперу «Корехидор» с Шальком как дирижером[494].
В Вильне я не нашла ничего нового. Город законсервировался, люди обрюзгли и постарели. Иногда я встречала моих бывших соучениц и их мужей, которых я когда-то знала гимназистами и студентами. Все они обуржуазились, пополнели, играли в карты, любили выпить в клубе, и их интересы не выходили за пределы их профессии и городских сплетен. Город сильно ополячился, в еврейских школах ввели обязательный польский язык.
Мои друзья и родные мне обрадовались не столько лично, сколько как свежему человеку, из которого можно было вытянуть что-нибудь не будничное, а более интересное — о новостроящейся стране, с трудностями, идеалами и надеждами. Меня приглашали нарасхват, устраивали чаи и ужины, и заставили в женском кружке прочесть доклад.
В смысле польской культуры Вильна сильно прогрессировала. В театрах были польские пьесы, «Павел Первый»[495] с участием очень талантливого артиста Юноши-Стемповского, который когда-то отличался в ролях первых любовников, был обаятелен в пьесе «Синяя борода»[496] и в других ролях хищников.
На этот раз я почти не видела природу этой «литовской Швейцарии», потому что я приехала поздней осенью, и редкий день был красив, с желтыми шуршащими листьями с золотисто-розовым отливом, с красивым закатом солнца над Вильей. В тот день, когда я действительно в последний раз поехала на могилу папы, было сыро, холодно, мокрые желтые листья покрывали дороги и могилы и плиты и также надгробие моего отца. Даже кафе Штраля, где мне часто приходилось встречаться с деловыми людьми, как-то облез, полинял, красный бархат был потерт, в зеркалах как бы отражались призраки может быть уже мертвых людей, этих офицеров, их жен и подруг. Пирожные были с привкусом, а пирожки казались несвежими.
Вообще о людях Вильно один талантливый журналист тогда писал раз в фельетоне: «бардзо смутно място и бардзо смутны люди»[497]. Да, все было смутно в этой новой польской Вильне.
Русофобия прошла, и в кафе играли «Бублички» и другие русские частушки. Я приписываю это тяжелое настроение моего последнего пребывания в Вильне тому, что в процессе продажи моего последнего дома я встретилась со всем безобразием посреднической, торгашеской, мелочной и несчастной <еврейской> среды. Начиная с маклеров, которые три месяца тянули из меня душу, арендатор, управляющий, доверенные и даже адвокаты, не говоря уже о десятках жильцов, — все как будто сговорились помешать мне продать мое имущество. Они старались лишить меня последнего гроша, использовать каждый шанс, чтобы заработать на этой сделке, которая к ним не имела никакого отношения. И среди них были люди, которые знали, что все деньги идут на строительство в Палестине и что я теряю 80 % на цене. Не говоря уж о бесконечных подарках и посреднических гонорарах, без которых я вообще бы не вырвалась из этого омута, как из щупальцев какого-то ужасного паука. Иногда мне казалось, что я вижу скверный сон, от которого никак не проснусь.
Вампиры, пауки, морские чудовища обвивали мое тело и душу и готовы были меня задушить. Лаокоон, обвитый змеями, Медузы — все эти символы приходили ко мне во сне и наяву.
В конце концов я продала большой дом ценою в 120 тысяч рублей когда-то за две тысячи фунтов и была счастлива, что я вообще покончила со всем этим.
Простуженная, измученная, я снова поехала к моей свекрови, она меня, как всегда, уложила в постель, поила каждые два часа каким-то ей одной ведомым лекарством — смесь горячего молока со сливочным маслом, медом и уж не знаю, чем еще, — кажется, там были корица и имбирь или какие-то другие специи. Я накупила себе перед отъездом у антикваров книжки, читала их запоем, чтобы забыть Вильну, и дом, и продажу, и когда я отдохнула, я пустилась в обратный путь.
Старушка, кроткое и доброе существо, которая жила только своей религией, молитвенниками, хозяйством, коровой, курами, огородом летом, и еще письмами и фотографиями от своих американских и палестинских детей, со слезами простилась со мной. Я с нее взяла слово, что она скоро все ликвидирует и приедет. Были родственники, которые тоже собирались в Палестину и могли привезти ее к нам. Но это оказалось наше последнее свидание.
В Варшаве я сделала маленькую остановку там я видела в театре старых артистов (приблизительно времен моей мамы и Малого московского театра). Комедия Фредро — «Пан Иовяльский», с Френкелем, Сольским[498] и новая пьеса «Периферия» с новой кружащейся сценой. Друзья меня брали кататься в Лазенки и в новый загородный парк. Странное дело: несмотря на все страшное и тяжелое, что я пережила в новой, освободившейся от русского ига и царизма Польше, день десятилетнего освобождения — первый большой юбилей Польши[499] — меня радовал, как если бы это была действительно дружеская к нам нация. Как сионистка, я понимала достижения и радость освобождения нации из-под 300-летнего ига. Я ходила смотреть Старо Място, площадь, которую раскрасили в исторические польские цвета. Я восхищалась их вкусом и национальным подъемом, громкоговорителями, иллюминацией на всех улицах и всей праздничной атмосферой этого города.
Я купила себе кое-какие вещи, платья и пальто, детям и маме подарки и двинулась дальше в Вену. Я не хотела тратить ни одного лишнего гроша. Я могла бы поехать даже на Ривьеру отдохнуть, но я себе сказала: все для Палестины и все для того дела, которое мне стало дорого: санатория, клиника, дом.
Я так настрадалась от «собственности», что не хотела строить в Палестине ничего такого, что не осталось бы для <национального фонда> народа страны. Меньше всего я думала о наследниках, о том, чтобы скопить богатство для детей и для своей семьи. Выстроить образцовое учреждение, создать Марку возможность работать в самых лучших условиях, поставить дело так, чтобы можно было им гордиться.
Пока еще на больнице было много долгов, и у нас были большие планы на расширение — рентгеновский кабинет, строго диетическое отделение для больных с внутренними болезнями, много необходимых аппаратов для хирургического зала и для себя — образцовую кухню. Но, конечно, не с этими несчастными двумя тысячами могла я все это создать. Еще много лет предстояло мне работать и стремиться к лучшему. Тем не менее я возвращалась домой победительницей: я ликвидировала голус — так велел Герцль. И голус меня не успел ликвидировать. Я спрашивала себя: что дало мне эту энергию, эту выносливость? Могла ли бы я принести столько физических и моральных жертв, какие я перенесла за последние три месяца, если бы у меня не было этой цели? Или меня заставляла нужда? долги? или амбиция довести дело до конца? Я уже видела на крыше у нас солярий, зал для гидротерапии, этаж для рожениц, зал для обрезания и парадных «брисов», диетическую школу, полную учениц, и еще многое другое. Но от этой «программы максимум» мы были еще очень далеки.
В Венеции во время короткой остановки я успела посмотреть палаццо Дожей со всеми картинами, которые вернули из убежищ, Тициана, Веронезе, Тинторетто, видела камин, у которого по преданию сидела Дездемона и слушала рассказы Отелло, маленькие залы и залы огромные с фресками, внешние галереи, двор, галерею на Сан-Марко, тончайшие кружева из мрамора на Сан-Марко, и венецианское стекло, кружева «филе-вениз»[500], драгоценности, золотая мозаика — все это внутри храма. Я каталась по каналу Гранде, я снова видала отражающиеся в лагунах огни прекрасных хрустальных люстр, лампы в античных виллах и дворцы, окруженные южной растительностью. Я поняла все очарование венецианской ночи, с гондолами и пароходиками, иллюминацией сотен и тысяч огней. Все это играло в волнах каналов и моря, дрожало от каждого ветерка и движения гондол. Эта отраженность огней в зеркале воды, свет, повторенный много раз, давали феерическую картину.
Трудно сравнить Венецию с каким-либо другим городом. Вы спокойно гуляете по переполненным улицам, смотрите голубей на плаца Сан-Марко, сидите почти посреди площади за столиком и тянете лимонад или кофе или касатто, нет ни спешки, ни движения, ни опасности быть задавленным автомобилем или трамваем, автобусом. Движение скользит по спокойным лагунам.
В Генуе у нас была снова маленькая остановка. Вечером с одной итальянкой я ужинала в небольшом ресторане. Нам подвезли на резиновых колесиках большой аквариум со всякого рода рыбками, и мы выбрали себе рыбу. Через четверть часа эта рыбка (или ее сестра) была зажаренной подана нам на блюде со всякого рода гарниром. Потом мы с моей спутницей пошли в кино, и в первый раз я видела восходящую звезду в роли молоденькой девочки — «Мадонна Дивина», и имя этой звезды было Грета Гарбо. Коллонады, театры, площади в Генуе выглядели больше и шикарнее, чем в Венеции, там были все атрибуты большого города. В Неаполе мы осматривали город в туристском автобусе, мы были на самой верхушке горы, откуда дивный вид, панорама на весь город и на дымящийся Везувий. Мы когда-то в школе учили фразу: «Посмотри на Неаполь и умри»[501]. [Так ли это? Может быть, надо понимать: «Смотри на Неаполь со стороны моря!» Но со стороны моря или на море и вправду — ] Красота такая, что хочется умереть. Ничего лучшего, кажется, не увидишь. Впрочем, это чувство бывает не раз и не два в жизни. Я помню, что в Годесберге, на Рейне в Зибенгебирге и даже в хорошем музее, в прекрасном концерте, в опере и в драме, которая волнует душу, кажется, что ничего лучшего уже больше не увидеть. [Можно умереть!]
Когда я проезжала мимо прекрасных дворцов венецианских и неаполитанских, парков, вилл со статуями, крепостей и домов с садами, которые стоят уже столетия, я думала, что мы <палестинцы> еще не имеем права на красоту. [Только функциональное — не больше.] Мы можем позволить себе только необходимое и полезное. У нас нет средств для эстетики, для роскоши. Мы пришли в пустыню, в страну, где до нас хозяйствовали арабы и Абдул Гамид, страну, опустошенную тысячелетиями. Арабы умели только курить кальян в своих закопченных кофейнях и — как ни неаппетитно мое наблюдение — сидеть с ногами на стульях, они умели ковырять пальцы на ногах. Они запустили страну до состояния пустыни. Мы немало внесли в мировую сокровищницу, наши художники и скульпторы, музыканты и архитекторы, заведующие музеями и библиотеками работали на других. Мы не забыли мастерство, мы просто его отдавали другим, а теперь надо начать работать на себя, копить музей и художественные ценности для себя. Не всегда мы будем жить в бараках и «шхунат црифим» (квартале деревянных балаганов), наша страна тоже должна радовать глаза красивыми зданиями, театрами, площадями и садами. Мы начали уже возвращаться к себе в смысле стиля. Своя музыка, своя живопись и скульптура, своя архитектура и свой еврейский театр. Но мы еще в стадии ученичества.
Нашим мозгам уже пять тысяч лет и больше, но наша молодежь полна юношеской энергии и перещеголяет усталую Европу, которая находится в стадии декаданса.
* * *
На палубе нашего парохода, который готовился к отплытию, шла усиленная работа погрузки товаров, особенно скота. Бедное животное опоясывается двумя ремнями. Несмотря на свой огромный размер, оно выглядит беспомощным и жалким. Как мешок, элеватор подымает корову или быка на большую высоту и потом с быстрым шумом, к которому примешивается рев животного и звон цепей, его опускают в глубокий трюм. Там много дней в темноте, со слабым притоком свежего воздуха оно вежетирует в ожидании разгрузки, перегрузки в новом порту. Новая страна, более холодная или более жаркая, без привычного пастбища, лугов, и конец… на бойне. Не такова ли и судьба человека, этого bête humane[502] — рабство труда, не по призванию, а в силу нужды, цепи и трюм — слезы и крики пером и словом, эмиграция недобровольная, и наконец — смерть от рака или в концентрационных лагерях, в газах. Вол, корова многим народам в древности служили символом божества. Гибель Богов[503]. [Не символ ли это гибели человечества?]
* * *
Не успела я вернуться из заграницы, как на меня навалилась вся тяжесть работы по клинике, а также проведение в жизнь всех наших планов. Заседания с архитекторами, врачами, заведующей хозяйством, компаньонкой Ханой. Кроме того, дома меня поставили перед «фат акомили»[504]: Меиру в феврале должно было исполниться 13 лет, и ему обещали грандиозное «бармицве». Он вошел в самый трудный возраст — отрочество. Он даже сам меня часто успокаивал, если я ворчала из-за его лени и неаккуратности: «Мамочка, не огорчайся, это пройдет, это возраст такой». Этот юный психоаналитик нашел оправдание и своим плохим отметкам.
Как все палестинские дети, он твердо требовал выполнения своего праздника совершеннолетия — бармицве. Я не знаю, что этих мальчиков больше привлекает — их совершеннолетие или шкаф с книгами, который им дарят, или велосипед, чтобы важничать перед другими товарищами. Но раз обещано, нельзя не выполнить. Меир был прелестен в синагоге в своем новом костюмчике с длинными брюками, когда он, волнуясь и ломающимся голосом, читал свою «парашат хашавуа»[505] (тот отдел, который в данную неделю читают в Библии). Ему потом пришлось пожать не меньше трехсот рук, которые его поздравляли с именинами. Горе, если какая-нибудь дама, приятельница моя или мамы, хотела его поцеловать. Тут он краснел, вырывался и убегал в свою комнату. Бабушка подарила ему филактерии моего дедушки и тот серебряный бокал, который она привезла для «кидуша», праздничного благословения вина. Рут ему подарила фотографический аппарат, который я ей привезла из Европы. Из семи ручек, которые он получил, по крайней мере три достались ей. Этим она как бы была компенсирована за то, что не имела бармицве и даже «батмицве» (в 12 лет девочки в очень модерных домах тоже справляют свое совершеннолетие). Но так как я считала, что ни 12, ни 13 лет не может детям служить совершеннолетием, что было бы возвращением к доисторическим временам, то я была вообще против этих пережитков.
В день именин Меира я должна была смириться. Главной затейницей всего этого празднества была бабушка. Она следила за его занятиями и приготовлением со специальным учителем, она действительно была героиней дня. Ее все поздравляли, и на ее глазах, как дома, так и в синагоге, все время стояли слезы от того, что она удостоилась дожить до этого дня. Паломничество гостей тянулось целых три дня. После синагоги были накрытые столы со всеми традиционными закусками, холодными, как в доме у моих дедушки и бабушки. Вместо сандвичей, которые вошли в моду в Палестине, были блюда с разными соленьями и холодным мясом, и булочки, и вино, и сладости.
На второй день, к чаю, был прием для всех наших знакомых и пациентов, врачей и сестер, а на третий день «пришли доедать» весь класс Меира и кстати уж Рути — правда, пришлось все наново наварить и напечь, хотя считалось, что они «ликвидировали» угощение.
Для детей был приготовлен ужин с мороженым под конец, они играли в разные игры, танцевали, пели и, несмотря на то что для 14-летних девочек мальчики были еще «цуцики» (малыши), все прекрасно вместе провели этот вечер у нас.
От всей этой суеты я устала до смерти, большая часть вещей варилась и пеклась дома, помогали все, у кого были руки.
* * *
Итак, мы начали достраивать этаж. В этом доме должна была быть и квартира для нас. Прибавили несколько палат для больных. Постройка не должна была мешать больным, и было очень трудно регулировать шум от постройки с покоем для выздоравливающих или пациентов после операции. Все это усложняло мою работу хозяйки.
Пурим в том году был самый веселый и удачный, какой был до этого и после того в Палестине. Самый лучший бал был в кино «Эден»[506] (бал бывших солдат — Менора-клуб), были балы и в других залах. На улице дети и взрослые веселились и танцевали. Рут получила мой русский боярский костюм, который ей немного укоротили, и она впервые имела успех и сияла. Я была на трех балах: раз в костюме маркизы с седым париком, второй раз на частной вечеринке в костюме Пьеретты, и у наших друзей, куда я надела впервые свое черное платье, привезенное из Варшавы. На всех трех балах я имела такой успех, что меня уговорили поехать в Иерусалим[507] продолжать Пурим, и там я еще получила приз за свою маркизу. В свои 37 лет я не ожидала такого успеха.
Пуримом начался и туристский сезон в 1929 году. До Пасхи и после нее было масса гостей из разных стран и из всех городов и колоний Палестины. Кроме того у нас была предвыборная кампания в Собрание Выборных (asifat nivharim),[508] и мы, женщины, хотели пройти отдельным списком. В марте я поехала отдохнуть на Кармель. Я сняла флигелек в маленьком венском пансионе, где кроме прекрасной венской кухни был сосновый лесок, красивый вид, слабый шум моря, деревьев и ветра. Я привезла с собой несколько книг из новой библиотеки Меира и читала на иврите.
Весной на Кармеле было очень сыро, и часто все было заволокнуто туманом. Но если случайный луч пронизывал этот густой туман, был волшебный вид — все окрашено в розовый цвет, и туман тоже. Я обошла весь Кармель, была в Кармелитском монастыре[509], в Ахузе и у моря. На субботу приехал Марк в своей машине и привез всю нашу семью. Мы сделали несколько очень приятных прогулок, были в Акко, в садах абагистов[510] (секта персидских верующих имени их вождя, Аббас-эфенди), были в Бат-Галим, новом поселке на берегу моря, и в городе. По вечерам мы с Марком ходили танцевать в отели. Бабушка осталась со мной, а дети с отцом вернулись домой.
Весной дети без переэкзаменовок перешли: Рут — в пятый класс, а Меир — в четвертый. Летом все деятели Палестины уехали на сионистский конгресс в Цюрих. Там было торжественное открытие Еврейского Агентства — Jewish Agency, но не успели они выслушать все торжественные речи и приветствия, как начали приходить телеграммы из Палестины, что в Иерусалиме, Хевроне, Сафеде, Хулде, Экроне, Артуфе и Бертувии начались арабские беспорядки, которые стоили нам 150 жертв[511]. Пострадало много домов, из Хеврона было масса беженцев, были раненые и погорельцы.
Снова, как во время <Первой> войны, начали организовывать помощь, распределительные пункты, общественные кухни, дневные ясли для детей, приюты для стариков и проч. В Тель-Авиве было несколько жертв: рабочие, которые не успели вернуться из пардесим, пали жертвой. <Среди них был сын нашего виленца, мецената И. Л. Гольдберга[512].> Арабы обнаглели, и англичане им тайно и явно помогали. Изобрели, как всегда, навет, что евреи хотят забрать Омарову мечеть, на которую никто не собирался посягать. Затем арабов раздражал вид евреев, молящихся у своей Святыни — Стены Плача, и главным образом — новые приезжие евреи. Политически их разжигали «бальфурской декларацией», возможностью передать по закону незаселенную [пустынную] правительственную землю в Негеве, которая еще при турках была ничья, для колонизации и поселения новых иммигрантов. Арабы предпочитали оставить эту землю в запустении, чем дать ее нам. И, несмотря на решение Лиги Наций и 50-ти держав создать при английском мандате еврейский «национальный дом», нам угрожали «сбросить нас в море». Евреи наивно поверили англичанам во время <Первой> войны, когда англичане нуждались в нашей помощи. Они были с нами, но пришел час, когда политика «divide et impera» должна была наконец проявиться и в Палестине. Всех раздражала еврейская прыть, капиталы, которые сюда вносили, энергия и умение, темпо — национальный дом был бы осуществлен не в 25 лет, а в сто, если бы евреи были не так стремительны. На это никто не рассчитывал.
Старое правило, что если еврей слишком преуспевает (Der Jude hat es zu gut), надо что-то сделать, чтобы ему помешать, так как это недопустимо, вылилось на этот раз в погроме, который устроили арабы в 1929 году. Когда еврейский капитал помогал государствам строить империи, когда Дизраэли[513] и Ротшильд могли чем-нибудь помочь в приобретении Суэцкого канала — это было в порядке вещей. Но когда мы на свой капитал и своими трудами решили строить свою страну, это стало немыслимым. Арабов натравили, чтобы они требовали отмены продажи земли евреям (хотя для многих из них эта земля была не нужна, и еврейскими деньгами они могли бы сами строить и колонизировать то, что им принадлежало) и прекращения еврейской иммиграции.
Несмотря на политические события в стране и на то, что Марк был очень занят хирургической практикой, а я даже приняла участие в деле помощи беженцам из Яффы и ее окрестностей, нам удалось закончить постройку этажа в нашей больнице. Мы переехали из маленького домика в новую квартиру, она была невелика, но каждый имел свою комнату, и наша спальня с раздвижной дверью в столовую служила довольно приличной комнатой для приемов. Мы, как всегда при небольшом капитале, снова влезли в долги. Врачи требовали разных улучшений, хозяйство тоже, и приходилось ломать голову, как свести концы с концами.
В 1930 году, в октябре, была объявлена так называемая Белая книга Пасфильда, отвергающая почти целиком Декларацию Бальфура[514]. Первая реакция с нашей [еврейской] стороны была сильная: протесты, собрания, пресса и забастовки.
В 1931 году туристский сезон и все связанные с ним празднества — Пурим и Пасха — все было значительно тише, в стране была депрессия. Мы это почувствовали и в наших делах. Санаторий был выстроен, но пациентов было не достаточно, чтобы покрыть все наши затраты. Нам еще предстояло купить рентгеновский кабинет и электрические машины, без которых мы не могли работать.
Теперь, когда больница и квартира были соединены, и я не должна была разбрасываться между домом и делом, я занялась посадкой сада. Раньше всего мы посадили красную и лиловую бугенвилию возле дома. Акации были уже выше дома, вокруг дома мы разбили сад, дорожки, лужайки и клумбы. Лето было очень жаркое, после заката солнца мы сидели в саду под деревьями. Я с Рут начала заниматься иностранными языками — английским, немецким.
Евреи [Мы] продолжали строить и творить, несмотря на пониженное настроение в стране. Тель-Авив строился, театры и искусство процветали, колонии и кибуцы крепли и росли.
В «Габима» мы видели две новые премьеры — «Уриэль д’Акоста» и «Святое пламя». В обеих пьесах Ровина была прекрасна[515]. В «Уриэль д’Акоста» в своем красном бархатном платье, с жестами и манерами испанской аристократки. Фридлянд[516] был очень хорош как испанский гранд, придворный врач. В «Святом пламени» Ровина была английская леди, выдержанная до конца, даже после преступления, совершенного ею с полным сознанием своей правоты и жертвы, которую она принесла любимому сыну. Если бы Ровина выросла как артистка не в коллективе, а в те времена, когда Сара Бернар, Рашель и Элеонора Дузе[517] создавали свои театры, она была бы свободна подчинять театр своим вкусам и своему таланту. Были времена, когда таланты и гении царили и подчиняли себе царей. Для них строились специальные театры, и подбиралась труппа, писатели и [драматурги], которые для них создавали роли. И личные условия жизни были более легкие для развития таланта и для каприза гения. Я могу только пожалеть об этих временах.
Еще мы были на прекрасном концерте Александра Воровского — «Аппассионата» Бетховена, Шопен, «Прелюдии» Рахманинова, серенада Давида, и второй концерт — Бах, Лист, Моцарт. После концерта был маленький банкет для музыканта, и мы танцевали в частном доме.
Палестина еще не перестала танцевать. Танцевали на разных празднествах под открытым небом (garden party), в частных домах, в богатых салонах и даже в ночных кафе. Меня и Марка называли «пара Дориан Греев», которая не хочет стареть. Но танцами мы часто прикрывали свои заботы и тревогу: кредит в Палестине всегда был нездоровый, особенно кредит на строительство. Хищнические проценты нередко заставляли людей отдавать банкам дома, выстроенные неимоверным трудом и усилиями. Мы лично внесли в наше дело наш плац на Алленби, два дома в Вильне, все, что вложили наши два компаньона, и у нас еще были долги и не было оборотного капитала, все заработки шли в дело, но мы не жаловались. Мы предпочитали танцевать, реваншироваться вечерниками у себя дома, давали общественные взносы не по средствам, и люди думали, что мы утопаем в золоте.
Не знаю, было ли это влияние англичан или дух времени, преходящая мода, но палестинский «high life»[518] приблизительно давал такой типичный характер: отсутствие всяких сантиментов. Любовь обычно была поверхностная: если был роман между мужчиной и женщиной, которые не собирались пожениться, то, как цинично выражались: «на пространстве дивана», дальше уже шло охлаждение, а за пределами комнаты или дома или города роман кончался. Люди, у которых была длительная связь, переставали раскланиваться, если расходились, или же наоборот, продолжали встречаться в обществе, «как ни в чем не бывало». Никаких переписок и общения духовного не было даже между друзьями. Современный человек как бы себя забронировал от всех горестей и страданий равнодушием и легким отношением к вещам: «take it easy!»
Никто не читал стихов ни голгофного, ни любовного содержания. Молодость официально была продлена на 15 лет. Соответственно этому одевались и вели себя. Берегли свою «линию тела» и не интересовались линией души. Перестали интересничать и быть занимательными. Бридж, спорт, прогулки за город, weekend’ы в отелях, танцы однообразные, без эстетики, удовольствия не индивидуального, а скорее коллективного характера, не качественные, а количественные.
Люди стали скупы на слова, терпеть не могли споров (куда девались эти неистовые дискуссии о великих проблемах?), покуривали трубки или зажигали папиросу за папиросой (женщины, как и мужчины) — иначе говоря, были скучны и незанимательны до отвращения.
Платье облегало тело, обнажало формы, стены не были украшены ни картинами, ни обоями, ни коврами. Мебель — металлическая, неуютная. Идеал нового человека из «высших кругов» стал: меньше работы, меньше стремлений, никаких бурных переживаний, средний «good time», своя машина, иногда кино, cocktail party или чай с сэндвичами. Иллюстрированные журналы или всякие «Digest»[519] заменяли серьезные и волнующие книги. Моя мама, которая приглядывалась к нашему «обществу», возмущалась, называла всех просто неинтеллигентными: «Ведь слова не с кем выговорить. Что их интересует?»
Да, новые птицы, новые песни. Кто бы теперь волновался из-за театральной постановки, или книги, или партии, или исполнения музыкального произведения, или из-за вопроса о воспитании молодежи?
Но этот англизированный сплин и снобизм вскоре сняло как рукой. Евреи имели достаточно серьезных забот, которые снесли все наносное. В конце 31-го года я была еще занята «переменой закладных», так как мои компаньоны взвалили все заботы о финансировании нашего дела на мои женские плечи, и иногда это было свыше моих сил. Когда все дела снова были в порядке, я уехала в «свой Иерихон» отдыхать и греться на солнце. Мои приятельницы надо мной трунили: ну ты, монашка, поезжай уж снова в свой монастырь.
Я жалела, что у нас не было монастырей. И вправду, ничто не успокаивало так душу, как эта белая келья, высокая жесткая кровать, белые занавески, скатерка на столе с греческой вязью, небольшая керосиновая лампочка на столе, рукомойник при входе. Не было домашних забот (больницы, телефонов, персонала, гостей и главное — тысячи кризисов каждый день, и каждый день что-нибудь неожиданное: то кризис денежный, то продуктовый, то в персонале, то в инсталляции, а то в отоплении). Я отдыхала благодаря однообразию и отсутствию сюрпризов.
Иерихон красив зимой, природа спит, но солнце здесь никогда не спит. Всегда можно ходить в летнем платье. По дороге к источнику Салтана прибавилось несколько новых хорошеньких дачек, много новых деревьев: бананы, манго, много цветов в садах. Заборы кроме бугенвилии увиты люницерой. Я вывезла много отростков для нашего сада: олеандры двух цветов, белые и красные, вьюнки и др. Я сделала визит женщине-врачу, еврейке [д-р Файнберг] — первой, которая осмелилась в этом арабском царстве выстроить санаторий среди пардеса. Обедала я чаще у нее или в «Палас-Отеле», который тем временем тоже выстроился и наполнялся гостями каждую зиму.
В половине шестого наступала ночь, лай собак. Закаты солнца на фоне Моавитских гор были красивы: пурпурный, красный, оранжевый, палевый и, наконец, вечерний синий цвет сменяли друг друга, пока не переходили в ночь. Я привезла на этот раз много книг и как всегда — Библию. С матушкой мы часто разговаривали о религии. О Святом Писании, о грехе, о войне, о России и Палестине. Летом она всегда уходила на Иордан и звала меня как-нибудь присоединиться — «в проходку» — к ней. Она мечтала уйти на покой и перестать вести большое монастырское хозяйство, но я думала, что она, как и я, никогда не уйдет на покой.
Крик шакалов по ночам мне напоминал крик артистки Лилиной в Художественном московском театре в пьесе «Николай Ставрогин» Достоевского[520]. В Иерихоне шли раскопки, английский ученый[521] сидел вблизи источника Салтана, окруженный черепками, откладывал в сторону одни и бросал в кучу другие. Я не настолько знала английский язык, чтобы заговорить с ним и спросить, какая разница между «настоящими» и ненужными черепками. И в тишине своей кельи и под лай собак и вой шакалов я себя спрашивала: что осталось от старых ценностей — не черепков, а идей?
Религия выродилась в жадную церковность, торговлю святынями, в сухую формальность, <в политику>. Искусство и эстетика относительны: старое устарело, а новое вообще не искусство. Наука служит целям войны и уничтожения, разрушения. Пацифизм, на котором мы строили все наше мировоззрение, — маниловщина, не актуален, вместо него идет жестокая борьба за существование. Победит тот, кто переживет.
Индивидуальность, на которой строили свободу личности, свободу слова, пера, веры, взглядов, и оригинальность, право на исключительность личности, цепляется за коллектив — как отдельные группы, так и целые нации. Меньшинства, малые национальности, ищут поддержки в паневропеизме [или в сильных державах]. Социализму на смену идет диктатура, национальная и пролетарская. Вернее, диктатура сильной личности, которая говорит за всех, за нацию, и за народ, и за рабочий класс. Кибуц наш — это смесь монастыря с уставом и коммуны, где личность более сильная подавляет тех, кто, как овцы, снимают с себя ответственность и передают ее «голове».
Когда я немного отдохнула, этот нигилизм немного прошел, хотя я уверена, что где-то подсознательно он сидит у меня и до сегодняшнего дня.
* * *
В Иерихоне появилась новая раса бедуинок: женщины уже не крашеные в хну, а естественно черные, статные, как королевы, с выпяченной грудью, с правильными чертами лица и косами. Их руки и головы украшены серебряными запястьями и бусами из монет. Мы разговорились у ручья — настолько я уже знала арабский язык. Оказывается, мылом нельзя мыть черное, краска сходит. Но и камнем в воде можно отбить грязь с платьев.
Русская няня, которая работала у богатых арабов, рассказала, что ее хозяева получили свое поместье от турок, как и все прочие владельцы Иерихона. Землю получили даром с условием, что будут ее культивировать и обрабатывать, но, как при турках, так и теперь, они смотрят на Иерихон только как на летнюю дачную местность <резиденцию>, мало вкладывают в плантации, и поэтому все запущено.
По вечерам я иногда встречалась с людьми в доме, который леди Сэмюэл[522] когда-то предоставила чиновниками, как английским, так и еврейским. Этот нанятый ею домик носил имя Вилла Мирьям. Там мы танцевали под граммофон, играли в шахматы, пили чай, и иногда с ними я ездила по окрестностям в их собственных машинах. Я водила новоприезжих на <гору> Карантен, где у меня были знакомые греческие монахи, говорившие по-русски. Нас угощали прекрасным кофе, и мы жертвовали в кружку для бедных. Я вернулась домой очень освежившейся.
В 32-м году, после общего кризиса в Европе и Америке, у нас тоже настал кризис. Палестина держалась еще привозными капиталами и деньгами, общественными и частными, теми, что иммигранты привозили с собой, и теми, что собирались во всем мире. Каждое ухудшение вне Палестины и новые законы об иммиграции не могли не отразиться на нас. В Испании была революция[523], в Индии — кризис, так же в Германии и Австрии. На Дальнем Востоке шли войны. Наш фунт падал, дороговизна росла.
В нашем деле было несколько тысяч фунтов дефицита, и я сама, главным образом, несла все финансовые трудности. У детей в школе была забастовка на экономической почве. Учителям не платили, дети лодырничали, мешали всем, путались под ногами. Но так как в больнице стало тише (особенно роженицы отхлынули в больничные кассы и в более дешевые больницы), я могла немного больше заниматься домом и детьми. Так я их взяла смотреть снег в Иерусалим. Иудейские горы были в снежном покрывале и ледяных сосульках. Лески и деревья были покрыты снежной ваткой. Дети всю дорогу молились, чтобы до нашего приезда снег не растаял, что в Палестине всегда случалось при первом же солнечном луче. Они забыли европейский снег и были очень возбуждены, когда мы все же нашли в Иерусалиме снег вышиной в метр. В некоторых тенистых местах были даже сугробы. Но на солнце все превращалось в жидкие лужицы.
В театрах ставили пьесы с социалистическим содержанием: «Цепи» в «Габима» и «Гибель „Надежды“» в «Огель». Последнюю пьесу я видела в Московской студии[524], но и здесь она шла неплохо. Мескин[525] был очень хорош в «Цепях». Кроме обычных концертов и многих камерных, был праздник, когда приехал в первый раз Яша Хейфец[526]. Он стал еще более совершенен и холоден.
В 32-м году наш сад был уже богат цветами, кустами, вьюнками и полянами. Во всех вазах, как в нашей квартире, так и в больнице, стояли садовые цветы. Розы, сирень, пахучие акации, бугенвилии, левкои, фиалки и масса полевых цветов, которые дети собирали в полях. Миндальный цвет в высоких вазах был особенно красив и напоминал о близости Пурима и карнавала.
Дети были такие весенние, что им не было удержу. Я водила их на «Тартюф», на концерт Казадезюс[527], старинной французской музыки, на «Путевку в жизнь» (Совкино) и «Ничья земля»[528] — военный фильм. Но кроме «Путевки» им ничего не понравилось, у них уже развивался свой [собственный] вкус, они охотнее ходили на разные уголовные [детективные] фильмы и только просили карманные деньги, без сопровождения.
Когда нужда в стране увеличивается, увеличивается и число благотворительных балов. Я принимала участие в некоторых. На шитье платьев уходило у женщин гораздо больше денег, чем на пожертвование, но, как дамы говорили: «портнихи тоже хотят жить». И все продолжали танцевать.
30 апреля Рут устроила свой первый «выход в свет». Она надела мой очень красивый национальный костюм и была настоящей красавицей. Она пригласила своих подруг и кавалеров, а мы с Марком и мамой все тактично ушли в тот вечер из дома. Меир допускался, хотя он у них еще считался «цуциком».
В Пурим был грандиозный бал Агадати (танцовщика)[529], и Макабиада — спортивный съезд и праздник[530]. Масса туристов, богатая иллюминация на улице Алленби, и не было почти ни одной семьи без гостей из-за границы. У нас была целая семья из Вильно. Пришлось их повозить по стране, показывать все, что можно было, открытие Макабиады: знамена, марш всех заграничных и местных корпораций, музыка, бега, футбольные матчи — все это в присутствии Верховного Комиссара и важных гостей на трибуне. На евреев из голуса, которые привыкли к приниженности и только «купленным ценностям», когда в заграничных курортах их только терпели или, вернее, терпеть не могли, это действовало ошеломительно. Здесь они были почетными гостями и видели своими собственными глазами, какова Палестина — еврейская, новостроящаяся, радостная, веселая, — и у многих были слезы на глазах и на устах благословение:!שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה («…что дожили до сего дня!»)
Венгерское кафе, самое популярное в то время на улице Нахалат Биньямин[531], где были прекрасные пирожные, каких Палестина до того времени не знала, и настоящее венское кофе, было переполнено публикой. Незнакомые разговаривали между собой и с нами, все веселились, как одна семья. Разные сенаторы из Польши, спортсмены «Гакоах» из Вены[532], леди Эрли и семья Пельчетов и многие другие: нам приходилось в один вечер говорить на семи языках.
Когда все кончилось и все разъехались, я лежала без сил, как выжатый лимон, и спасалась только тем, что читала только что полученную книгу о Саре Бернар[533]. Это была не только гениальная артистка, но и кипучий темперамент, неисчерпаемая, бесконечная энергия, которая еще в 83 года к чему-то стремилась и чего-то достигала. Она работала всегда в самых тяжелых условиях: материальных, национальных (как еврейка во Франции времен Дрейфусовского процесса[534]) и при закулисных интригах. При скверной прессе, чахотке, недостаточной красоте, эти женщина победила даже вечность.
* * *
Через некоторое время наши дела начали поправляться. Как мама говорила: дотанцевались, слава Богу! (Она скептически относилась к нашим танцам.) Наш госпиталь наполнился пациентами. У Марка была большая практика и вне дома. Его часто вызывали в окрестности, в арабские деревни, у нас были пациенты из Египта, Ирака и Сирии, даже из Персии. Мы начали понемногу выплачивать те долги, которые раньше нас так мучали. Наши компаньоны платили аккуратно ипотеки, и мы все могли вздохнуть свободнее. Записи пациентов для родов и для операций делались за месяцы вперед. Забота о завтрашнем дне и о платежах и векселях сошла с моих плеч. Но в смысле светских обязанностей мы сильно переменили нашу жизнь. Мы перестали бывать на всех собраниях (кроме медицинских), мы ходили только туда и тогда, куда и когда хотели: в театры, концерты. Мы поддерживали отношения с очень небольшим кругом людей, и наша жизнь стала легче. Вместо домашних приглашений, я ввела среди своих приятельниц обычай встречаться в кафе, что нам всем экономило время и деньги.
Марк особенно рад был этим переменам, которые вошли в нашу жизнь не резко, а постепенно и почти незаметно, зато окончательно. Часто, когда мы оба усталые сидели по вечерам в нашей уютной столовой и читали или в саду, при стоячей лампе, а в викенды и праздники мы вдвоем уезжали куда-нибудь за город, где было мало людей и никаких обязательств, он говорил, что только теперь начал жить. Он стал больше заниматься наукой, писать для медицинских журналов, ездить на медицинские съезды за границу, на конгрессы. Я же принимала участие в общественных делах только постольку, поскольку у меня были время и силы. Мы стали старше.
В июле был юбилей поэта-врача Черниховского[535], и мы были приглашены. Его речь была приблизительно в таком духе: «Я врач среди поэтов и поэт среди врачей, я пишу стихи, прописываю рецепты, но от всего этого не стал богаче».
Бялик выступал на этом вечере и произнес очень теплую речь:
— Я люблю твою исключительную честность, Черниховский, ты не даешь слов без покрытия (чем является еврейская «мелица»[536], фраза). Я ценю и понимаю твою работу, как только сам ремесленник может ее понять и оценить.
Еще он говорил о том, как надо беречь и ценить поэтов вообще и их рукописи, в частности: «Стихи Иегуды Галеви погибли в рукописях, еврейский народ должен наконец научиться многому, что он забыл в скитаниях»[537].
* * *
Наша Рут стала взрослой барышней. Однажды мы взяли ее в Иерусалим на бал в нововыстроенный отель «Кинг Дэвид». Чудный вид на Старый город, лунная ночь и сад, иллюминация в отеле, на верандах, где сидели за столиками при маленьких интимных лампочках, и танцы во всех залах — все это было, как феерия. Каждый зал был раскрашен в другом стиле: Египет, Сирия, Иудея — при этом восточном люксе европейский комфорт, хороший оркестр, изысканный стол. В эту лунную ночь наша девочка была на десятом небе от восторга. У нее было несколько неплохих танцоров, и она была счастлива.
С той же компанией в двух такси мы после бала поехали к Мертвому морю, где мы танцевали при хриплом граммофоне, катались на лодках, купались в море, завтракали пикником. На рассвете вернулись обратно в Иерусалим. Дорога была ослепительно красива.
Это были последние спокойные денечки в нашей жизни. В августе того же года начали просачиваться тяжелые сообщения из Германии: гитлеровство начало поднимать голову. Там было 15 мильонов безработных, и эти «десперадос»[538] двинулись в гитлеровские когорты. Люди, которым нечего было терять.
В литературе начал появляться, я бы сказала, пророческий пессимизм. Нас ждет космическая катастрофа, универсальная, национальная, личная. Это писал Вассерман[539] и другие. Это было и в воздухе Палестины.
Наш старый столяр, который делал нам всю обстановку для дома и больницы, который был настоящий художник в своем мастерстве и которого я всегда сравнивала с Кола Брюньоном [Ромен Ролана], любил пофилософствовать. Он читал Спинозу и других философов и утверждал, что наша жизнь и смерть, горе и несчастья входят в какие-то пути и задачи Божьи, в цели бытия, от нас не зависящие. Они безразличны к нашим благам и горестям, поэтому бессмысленно менять пути божественные, а просить Бога о чем-нибудь — это язычество, варварство.
Бог — субстанция мировая и разумная, нет свободы воли, и поэтому Гитлер или не Гитлер, мы должны смириться и принимать вещи как они есть. Даже Гитлер, как Гаман[540] когда-то, послан Богом для каких-то Своих неведомых нам целей. Может быть, как наказание за грехи.
Но из Германии приходили все худшие и худшие известия. Времена Богдана Хмельницкого, изгнание из Испании, времена Торквемады и инквизиции были не хуже. Первого апреля был объявлен бойкот против евреев[541]. Велась систематическая травля, и радио — это очаровательное музыкальное и артистическое изобретение двадцатого века — передавало этот яд по всему миру.
10 мая устроили ауто-да-фэ всем еврейским книгам и книгам еврейских писателей[542]. К ним были прибавлены все те, кто писал в пацифистском духе. Шницлер, Вассерман, Фейхтвангер, Цвейги, Стефан и Арнольд, Томас Манн, Ремарк, не говоря уж о Марксе и Лассале (хотя Гитлер утверждал, что он — социалист).
Антисемитизм усилился в Польше и Румынии, двух странах, которые можно назвать «оригинал-юдофобами» [антисемитами]. На Дальнем Востоке готовились к регулярной войне. У Лиги Наций не было достаточно сил и престижа, чтобы сильной рукой утвердить демократию, мир, социальные реформы, накладывать санкции на тех, кто нарушал мир.
Экономический кризис в Европе и Америке затянулся, и мы были его жертвой. В Палестине цены на труд повысились на 70 %.
У меня прибавилось работы, приходилось сидеть за бухгалтерскими книгами до 11 часов вечера. И в кухне, и в доме надо было приложить руки. В январе исполнилось 13 лет (бар-мицве) нашего пребывания в Палестине, но мы его ничем не отметили.
Рут готовилась к выпускным экзаменам, у нас не было возможности взять ей учительницу в помощь, и я не раз помогала ей писать сочинения и решать задачи по математике — я тряхнула стариной и вспомнила все, чему когда-то училась.
Кроме того, я должна была энергичнее взяться за диететику, кулинарию. Я накупила все книги, которые могла достать в Тель-Авиве, по вопросам питания и диеты. В апреле у нас был такой холод, что мама простудилась и заболела сильным бронхитом. Она мало выходила из своей комнаты, и мне приходилось за ней ухаживать.
У Рут в комнате шли шумные подготовки к экзаменам. И среди всей этой домашней катавасии шли разговоры о будущем: о войне, которая надвигается, о Рут, которая не хочет ехать учиться за границу и вместо этого собирается пойти в кибуц, как и многие из ее подруг и товарищей, о Меире, который уже мальчиком таинственно и регулярно исчезает в «Гагана»[543] и нам ничего не рассказывает. Меир по окончании гимназии не собирался в кибуц, а хотел быть инженером, и было ясно, что он поедет в Хайфский Техникум[544]. Но у него еще был год учения в школе, так что это не было актуально.
Чтобы вырваться как-нибудь из всех домашних, профессиональных и особенно политических забот, мы организовали компанию «викэндлеров» (от weekend) человек в тридцать, которые по субботам иногда выезжали в автобусе или в такси, присоединенном к автобусу, по стране. Такие субботы были как бальзам, как гашиш, и я уж не знаю, как назвать то успокоительное средство, лекарство, с которым можно было бы их сравнить. Первая наша поездка с этой компанией была в Тиверию и вокруг Тивериадского озера.
Мы ночевали в новооткрывшемся отеле «Элизабет», <Элишева>. Оттуда был божественный вид на Генисаретское озеро, на Хермон и весь черный базальтовый город внизу. Мы заехали в Дганию, Цемах, Табху[545]. Мы пили чай у перса-абахиста с малюсенькими цитрусовыми — лимоно-апельсинчиками «тамара». Генисаретское озеро недаром называют «голубой розой» среди зелени и гор, с Хермоном вдали. Купались мы в источниках Эль-Хамия, серные источники, и пили бальзам — то, что на Кавказе называлось нарзаном. Особенно была красива прогулка к сталактитовым пещерам, по дороге масса олеандров, водопады.
Ужинали мы в Дгании. Женщины в колониях сильно постарели, пополнели, хотя по возрасту они еще не были старыми. Тяжелая физическая работа, пища, которая прибавляет вес, и нежелание следить за своей наружностью сделали то, что дамы, которые приехали с нами и которые были не моложе тех, выглядели в сравнении с кибуцницами — девочками.
Поездка на Мерон была с приключениями. По дороге мы «обросли» присоединившимися к нам путешественниками. За это нам сделали несколько «рапортов», полиция угрожала нам штрафами, но это только прибавляло веселья. Мы организовали несколько капелл на разных языках и состязались в хоровом и сольном пении. Была капелла русская, палестинская, на идише, немецкая, интернациональная. Пели по-испански, по-английски, по-французски и т. д. Венгры и поляки имели свои капеллы. Мы, русские, всех перекричали.
* * *
Мерон — это еврейский Лурд[546]. Импозантная дикость, воскресшее язычество. Больные и эпилептики, истерики, как во время Христа, приезжали со своими перинами, подушками, палками, костылями. Целыми семьями, с детьми, стариками валялись в проходах (чем ближе к святыням, тем лучше), на улице, и кроме того — тысячи любопытных туристов.
Торговцы питой, фалафией, салатом-тхиной, хумусом, шашлыком и пилавом, орехами в соли и в сахаре, сластями, напитками, апельсинами и бананами — и все это при криках, толкотне, запахах, танцах. Настоящие бесноватые кричали (кликуши), стоны тяжело больных — все это было похоже на Бедлам[547]. Наши автобусы и такси выглядели неуместными, сюда нужно было бы приходить пешком или на осле.
Когда мы утром вернулись домой и смогли войти в горячую ванну и потом лечь в чистую постель, мы вернулись из времен Ирода и Иоанна Крестителя в двадцатый век.
В Тель-Авиве была такая жара, которая осталась в анналах тель-авивской истории как «знаменитая пятница». В начале июня Юпитер и Марс были друг от друга на расстоянии четверти метра на невооруженный глаз — это пять миллиардов километров.
Имеют ли эти космические, планетарные события что-нибудь общее и с нашей жизнью на земле? А здесь, на земле, дуют непрекращающиеся ветры. В гитлеризме, по крайней мере, есть какой-то ужасный [стихийный] моральный сдвиг, какого, кажется, не было еще в истории. Война всегда была необходимостью или профессиональной амбицией, но идеология уничтожения других наций ради «Lebensraum»[548] в таком циничном выражении, может быть, еще имела какое-нибудь оправдание во времена Чингиз Хана или Атиллы, но теперь?..
* * *
Наш сад очень хорошо развился. Высокие вертикальные кипарисы, брахихитоны, кипарисы горизонтальные, несколько цитрусов, грейпфрут, мандарины и лимоны, перец со свисающими красными маленькими плодами. Весь дом и плоская крыша, на которой мы отдыхали по вечерам от жары дневной, увиты бугенвилиями. Все это должно и могло бы нас радовать, если бы в воздухе не висело какое-то космическое несчастье.
В то лето случился террористический акт, который положил начало целому ряду и даже годам неспокойной, тревожной жизни: был убит Арлозоров[549], ценный деятель и человек, лидер рабочей партии и политический представитель в Еврейском Агентстве. <Настоящих убийц не нашли.>
А жизнь шла дальше. Образовался кружок любителей театра «Габима» (חובבי הבימה), который поддерживал этот театр вместо государства, которое еще не было в состоянии уделять из своих фондов искусству. В опере давали «Паяцы»[550].
После окончания учебы Рут уехала в Галилею, в кибуц к друзьям. Мама не переносила жару, и ее послали прохладиться в горы. Меир был истощен экзаменами и последними месяцами занятий в эту жару и никуда не поехал. Мальчик был в том возрасте, когда он скептически относился ко всему, что он мог называть «бобемайсес», чепуха. Под это понятие подходило искусство, литература, театр, даже партийные розни. Правда, он собирался после окончания гимназии поступить на инженерные курсы, но даже в этом мы не видели пока большого увлечения. Я вдруг почувствовала, что наши дети пойдут своим путем, не считаясь ни с нашим мнением, ни с советом. Вообще, мы как-то им были больше не нужны. Мы были то поколение, по которому, как по мосту (полукруглому), одно поколение спускалось, а другое подымалось.
Дети искали своих путей, они не спрашивали нас и нашего мнения. Рут уехала, Меир запирался в своей комнате или уходил с товарищами. Вот и все. Я часто думала, кто поможет нам, когда мы будем с Марком старыми? В детстве у детей были «воздушные замки»: когда они вырастут, они купят маме то-то, а папе — то-то, будут нас кормить и о нас заботиться. Но пока единственная наша забота была о матери и о детях в настоящем. О наследниках как о таковых мы с Марком не думали — мы еще были по горло в долгах и вообще никакого наследства им оставить не могли. Да мы и не собирались: мы с ним сходились на том, что одно хорошее Советский Союз сделал наверное — отменил наследство.
Вообще, материальная незаинтересованность Марка была известна. Его называли «нашим доктором Пироговым»[551]. Он принадлежал к тому типу врачей, еще старой русской закваски, который принимает страдания пациентов и особенно исход болезней и смерть как свою личную трагедию. В этом, может быть, его успех. Пациенты это чувствуют и его очень ценят. Но сам он страдает от каждой неудачи, от невозможности спасти запоздалый случай рака, например, или если болезнь приняла хроническую форму и пребывание пациента в больнице сделалось бесцельным. Не раз мы отсылали больных за границу, если там операция или лечение могло дать более успешные результаты.
В конце лета, как всегда, надо было давать много отпусков персоналу, так как из-за жары все сильно раскисли, переутомились, и я должна была по вечерам выдавать ужин вместо добавочных сестер и даже сама мыла посуду. И снова до полуночи сидела над книгами и бухгалтерией. Когда однажды я пошла на «Оперу трех грошей»[552], в общем довольно мило поставленную, которую во второй раз я смотрела с удовольствием, но теперь, в первый раз, я просто заснула, чего со мной в жизни никогда не случалось. В антракте я вернулась домой.
Впрочем, все пациенты, которые только могли выписаться и уехать в более прохладный климат, оставили клинику и поехали отдыхать на Кармель или в Иерусалим, даже в Ливан.
В сентябре и мы с Марком начали готовиться за границу за покупками: больничные машины и инструменты, а я хотела поставить на высоту кухню. Перед отъездом у меня было столько работы, что я боялась свалиться. Ремонты, порядок в доме и в больнице, визы, шитье, починка, как в хозяйстве, так и в туалетах. Мама строго выполняла все праздничные предписания[553]: чехол для Торы новый, новый паройхес (занавес) для синагоги и проч. Перед отъездом Марк еще настаивал, чтобы я сделала себе разные анализы, и, как и можно было ожидать, у меня нашли целую бакалейную лавку: следы сахара, белка, кислот и солей. Слабое давление крови и дальнозоркость: «мартышка к старости слаба глазами стала»[554].
В октябре мы все еще не могли выбраться: ждали арабской забастовки против иммиграции. У нас возле телефона сидело двое английских полицейских. Ждали беспорядков, для раненых приготовили запасные кровати в коридоре. Но, к счастью, все сошло благополучно: мы угощали англичан бренди и сэндвичами.
* * *
Германия выступила из Лиги Наций и этим открыла себе путь ко второй войне. В конце октября у нас в Тель-Авиве были убитые и раненые[555]. Рут часто не ночевала дома, она тоже пошла в Гагана и дежурила в окрестных районах. У нас сидели парни и девушки, пили ночью чай, звонили по телефону, и нужно было следить, чтобы они не шумели. Второго ноября, как всегда, была забастовка протеста против Бальфурской декларации. Из-за арабского бойкота были трудности с зеленью, рыбой и другими продуктами, которые зависели от арабского рынка.
Англичане явно делали поблажки арабам.
У Марка было перед самым отъездом несколько тяжелых оперативных случаев, и хотя мы «сидели на чемоданах» и у меня все было готово, мы все еще не могли выехать. Наконец, чтобы не было пути к отступлению, мы до отхода парохода, который мы должны были взять в Египте, решили провести несколько дней в Каире, посмотреть музей и все то, чего мы не видели. Марка заменял снова иерусалимский врач, как и во время всех его поездок. Мама взяла этого врача на пансион, так что мы были спокойны и за нее.
Несмотря на смертельную усталость, мы перед отъездом устроили у нас и у наших друзей в один и тот же вечер две предотъездные вечеринки и танцевали до утра.
Мама и дети провожали нас на вокзале. Мы с Марком в первый раз поехали за границу не только по делам и не в спешке, а, как он говорил, — в наше запоздалое свадебное путешествие. 20 лет — не такое уж большое запоздание.
В Каире мы в первый раз за много месяцев хорошо выспались. Утром долго лежали в постели, и нам, «как в кино», принесли завтрак на таблетах[556] в постель. Марк вдруг решил, что его жена в свои 41 год все еще самая красивая и молодая женщина в мире. Мы давно так много не смеялись, как в этом путешествии, которое мы решили использовать «во всю!»
Пошли в Музей. Ничего подобного по красоте я не видела, хотя я посетила немало музеев в России и Европе. Раскопки Тутанхамона, гробы, саркофаги, мумии, разные предметы роскоши, которым уже несколько тысяч лет, чудеса археологии, бальзамирования в древности, сказочный мир. Я начала понимать, как люди могут посвятить всю свою жизнь этой старине, писать монографию об одной мумии, барельефе, иероглифе.
Синяя эмаль в золоте, которая сохранилась, как новая, как если бы она вышла теперь из-под резца художника, ювелира. В раскраске есть столько вкуса, культуры, рафинированного чувства красоты, гармонии, что нам остается только жалкое подражание древности. У древних не было перегруженности барокко, не было холодной прозы и утилитаризма и будничности нашего века, поэтому они остались классичны: Египет, Рим, Греция, Византия.
И борьба с тлением, борьба со смертью, со временем. Для того, чтобы воздух, и солнце, и сырость, и войны, и громилы не испортили всей этой роскоши и богатства, нужны были пирамиды, склепы и сокровищницы вдали от человеческих поселений и городов, вдали от восстаний рабов, тления и революций. Но теперь и убежища не помогают: как было с Рейнским собором.
Дорога к пирамидам была прекрасна: парки, масса воды, субтропической растительности. Нил, его притоки, дельта, зоологический сад и, наконец, Сфинкс. Сфинкс — это воплощение психофизических начал: тело животного и голова человека. Материя и дух (как потом в кентаврах). Пирамиды как остатки рабства интересны только своей грандиозностью, примитивностью конструкции — так дети строят. Но чтобы построить эти пирамиды, нужна была большая инженерная техника блоков и транспорта доставки материалов на место, этих монолитов, этих чудовищных камней, под которыми гибли поколения, и среди них — евреи времен Моисея.
Но и теперь, спустя тысячелетия после построек пирамид, Египет — страна экономического рабства, неравенства, отсталости. Достаточно посмотреть на экстенсивную систему орошения вертящимися колодцами, которые крутят верблюды и ослы с завязанными глазами. Пауперизация чувствуется на каждом шагу. Весь город, не исключая самых богатых и шикарных районов, полон нищих. Они, как мухи на сладком пироге, облепляют все кафе, трамвай, станции. Они навязывают вам никому не нужные выигрышные билеты, шнурки для ботинок, папиросы, спички. Они не дают прохода. Их одежда состоит из хлопчатобумажной длинной и грязной рубахи, без белья под ней. Старая свалянная феска на голове и стоптанные туфли на босу ногу. Дикое сочетание восточной роскоши и нищеты, кварталы, где полицейский в белых перчатках показывает вам дорогу и помогает перейти на другой тротуар, и недалеко от этих районов восточные базары, где лавчонки одна на другой, где, как у нас в Старом городе, продавцы сидят с ногами на прилавке и выкрикивают товары, а многотысячная толпа вертится вокруг с громким гортанным криком, с жестами, как если бы им угрожала непосредственная опасность. Магазины в так называемом европейском районе, где самые красивые дамские туалеты и парфюмерия из Парижа, и кафе, наполненные расфранченной публикой — такое неравенство «вопиет к небу»!
* * *
Мы выехали на итальянском пароходе «Эсперия», но поездка была зимняя, с качкой и морской болезнью. Еда итальянская с оливковым маслом, много риса, макарон была мне тяжела, приходилось все запивать кьянти, легким и прекрасным вином. До Неаполя была мертвая зыбь, от которой переворачивало все внутренности. Я 30 часов ничего не ела. Марк, который лучше переносил качку, меня уговаривал «закусить», но только в Сиракузах, где мы из-за бури стояли четыре часа, я позавтракала.
Запах прибрежной воды, полной нечистот, запах кухни и фритюра[557], напоминали мне времена моих беременностей, когда я страдала от запахов. Эта идиосинкразия у меня осталась на всю жизнь. Мы вздохнули легко в Цюрихе, в прекрасном отеле «Сан Петер». Вначале мы были неразлучны, Марк бегал за покупками и имел разные медицинские встречи, и я его сопровождала. Но потом я записалась в санаторий Бирхер-Беннер[558], чтобы изучить «ро-кост», приготовление сырой и вегетарианской пищи.
Мы сняли комнату на Дольдере, и я ежедневно полдня проводила в кухне Бирхер-Беннера. Я научилась приготовлять всякие соки, чистые и смешанные, разные освежающие напитки, кремы, пудинги и знаменитый Бирхер-мюсли, сырую овсянку, замоченную с вечера, с прибавлением всяких питательных ингредиентов: фруктов, меда или консервированного молока, орехов.
Марк посетил несколько профессоров и университетские клиники, и нам показали один частный и очень богато обставленный госпиталь — Гирсланден, где я увидела очень много интересных кухонных усовершенствований.
Мы также слушали лекции проф. Юнга[559] по психоанализу. Юнг был особенно популярен среди иностранной публики, дорогие автомобили и дамы в роскошных меховых манто окружали зал и наполняли его. Как я потом узнала, и Бирхер-Беннер, и проф. Юнг были поклонниками гитлеризма.
Среди цюрихских сионистов у нас нашлись новые и старые знакомые. После обеда в Субботу и воскресенье мы ходили в театры, в кунстхаузы, видели картины Хольдера, Сегантини, Беклина[560], ходили в Зоологический сад, в церкви, на праздник, посвященный Песталоцци, мы подымались на Цюрихберг, а чтобы изучить кухню, не только теоретически, а и практически, я тащила Марка во всевозможные рестораны, кнейпы, столовые и кафе, повсюду я заказывала новые блюда, что нас очень развлекало, и привело меня к антисократовскому заключению[561] (выводу), что в кулинарных вопросах чем больше я учусь, тем больше я убеждаюсь, что я не так уж мало знаю и что нет ничего нового под луной. Названия были французские и очень звучные, но под ними оказывались все те же блюда, которые я у нас дома варила и подавала своей семье и больным.
У швейцарцев можно было учиться тому, как жить легко и приятно. Как зарабатывать на туристах, как ставить бесконечные «экстра»[562] в счета: услуги, телефон, вызов такси, заказы, мальчик на посылках, экстренный стакан чая, горячая вода, ванна, экстренные блюда, цветы, покупки в городе (поручения) — все то, что мы даем бесплатно, здесь ставится в счет и с математической точностью увеличивает счет на столько процентов, сколько они считают нужным. Я у себя дома даю писчебумажные принадлежности и почтовые марки и «забываю» приписывать к счету — а здесь всякое лыко в строку.
Зато в работе у них столько спокойствия, уюта, что этому надо специально учиться.
Швейцария — это счастливый эгоистический островок. Нейтральный и милый, который выигрывает от каждой войны, потому что врагам нужно такое место, где они могут делать дела, торговать, скрываться, вести закулисную политику и делать передышку. Нужно только иметь деньги в кармане, чтобы за все заплатить, сытый благоустроенный мир, мещанский, среди роскошной природы, которую Бог им дал в приданое и с процентов от которой они живут. Вы можете в этой демократической стране слушать коммунистические и нацистские речи — как вам угодно. Отношение к беженцам смотря по обстоятельству, если общественные комитеты отвечают за все его нужды, беженца оставляют в покое: право на труд только для своих. Если же нет гарантий извне, выселяют, и даже в нацистскую Германию.
Здесь я не видела бедных кварталов, «слумс», старые кварталы берегут как музеи. Больше всего мы наслаждались природой. Еще проезжая Сан Готард мы не сводили глаз с гор, деревушек, долин и туннелей.
Здесь в Цюрихе мы выходили каждый день на Дольдер, любовались Альпами, мраморно-серо-голубого цвета с блестками, озером Цюрихским и лесами на горах. Мы решили после того, как мы закончим все наши дела и занятия, поехать в горы и кататься на лыжах.
Единственное, что нам обоим портило настроение, что наших больших детей не было с нами. Они бы имели столько удовольствия от всего. Я часто писала им письма и посылала красивые швейцарские открытки, но это, конечно, не могло им компенсировать. Мы купили Меиру полевой бинокль, Рути — спортивный костюм: брюки и свитер и перчатки под цвет.
В свою кухню я купила много экстрактов, пряностей, которых у нас нет: майоран, базилик, эстрагон, сеновий и проч.
Под конец мы отправили все купленные инструменты и машины, я получила маленький аттестат за пройденный курс, и мы попрощались с Цюрихом.
Февраль мы почти целиком провели в Арозе, лежали на балконе, который был обращен к Альпам, снег на горах был синий.
Сосны темно-зеленые, дома в швейцарском стиле — шале, церковки, улицы с магазинами разных сувениров — все с эдельвейсами и малиновкой, символом Арозы, сани, разукрашенные колокольчиками и пестрыми коврами, отели, плакаты, люди в штанах и разноцветных свитерах, лыжи, санки, лошади с нарядной упряжью, — все было ясно очерчено, разрисовано, как на лубочной картинке.
Мы мазались ароза-кремом для загорания, подымались на вершины — кульмы[563]. Марк меня учил кататься на лыжах, и если я падала, мы смеялись, и я старалась снова не ударить лицом в грязь, но это плохо удавалось.
Мы оба помолодели на двадцать лет. Мы спускались с гор в саночках и особенно любили любоваться состязаниями на коньках — красиво и захватывающе интересно, также гонки и бега, и игра в поло, хоккей на льду. Вообще, для чтения и для серьезных размышлений не оставалось ни времени, ни желания.
Аппетит и сон был у нас обоих замечательный. Я никогда так не отдыхала и не поправлялась. Днем было очень жарко, воздух был чист, как бальзам, люди принимали солнечные ванны в купальных костюмах. Вечером делалось холодно, мы оставались в отеле и танцевали.
Единственная книга, которую я купила и прочла — был «Цауберберг» — «Волшебная гора» — Томаса Манна.
Мы не ходили на все балы, которые устраивались в Арозе, но интересны были названия: «Японский праздник бутонов», «Кукольный бал», «Дон Жуан и веселая вдова», «Венецианская ночь в Севилье» и всякие балы апашей. Последние дни в Арозе были так хороши, что не хотелось уезжать, мы снова обошли все вышки, объехали все окрестности и даже были на еврейском вечере. Это было связано с интересной встречей: на улице подошла к нам дама, которая, по-видимому, слышала, как мы говорили на иврите, и спросила, не из Палестины ли мы и не евреи ли мы. «Если наши еврейские носы могут вам чем-нибудь быть полезны — то да», ответила я, и мы все рассмеялись. С французского она перешла на чистейший идиш. Она оказалась артисткой «виленской труппы»[564], мы чуть не обнялись, найдя землячку. В тот вечер она читала в одном еврейском лучшем отеле и попросила нас прийти. Мы с удовольствием приняли приглашение. Там было много евреев-швейцарцев и немецких евреев.
Артистка Блюменталь оказалась замечательной чтицей, она читала Бялика, Шолом-Алейхема, Переца и Аша, стихи Кади Молодовской[565] и многое другое. Немцы плохо понимали ее сочный идиш, это было заметно по тому, как они не смеялись там, где была юмористика, и не были тронуты там, где были сантименты. Словом, Марк предложил после каждого отрывка переводить в нескольких словах на немецкий язык. Он это сделал с легкостью и точностью. Публика воспрянула и даже попросила не после, а до чтения сделать маленькое введение. Это затянуло чтение, но создало контакт между залом и артисткой. Конферансье на немецком языке был необходим. Успех был полный, и артистка чуть ли не со слезами нас благодарила. Она просила непременно посетить ее в Давосе, где она, по-видимому, лечилась от туберкулеза. Давос входил в нашу программу, и мы ей обещали. Подымаясь в Давос, мы попали действительно в «Цауберберг» — сказочное царство. Сначала все было заволокнуто облаками, потом они вдруг рассеялись, и мы очутились в чистой горной высоте — Давос дорф и Давос плац[566]. Давос — это большая фабрика починки легких. Индустрия.
Мы заехали к представителю еврейской туберкулезной общины — Карасину, святому человеку, который, будучи сам в последней стадии болезни, не переставал заботиться о тех нуждающихся евреях, у которых не было достаточно средств для лечения. Он имел друзей во всем мире, они ему посылали средства, и так он работал до своего последнего дня.
Мы остановились в небольшом пансионе, где с нас взяли прибавочную плату «за дезинфекцию», что было очень правильно, потому что все отели и пансионы могли считаться инфекцированными. Наша хозяйка нам рассказала, что ее муж был парикмахером в Давосе. Заразился и погиб, она открыла этот маленький пансион. Горничная Мари нам рассказала, что мать ее служила в большом отеле и потом в санатории для туберкулезных. Рано начала прихварывать, но вышла замуж, родила шесть человек детей и умерла молодой от туберкулеза. Из детей двое умерли, одна сестра уже давно возится с ногой, два сына бросили дом и хозяйство и ушли в город, чтобы избежать ЕЕ (болезнь для них всегда с большой буквы). Она же, единственная кормилица отца, служит в отеле. Недавно она тоже начала терять в весе, и глаза болят. Доктор говорит, что, если она не примет мер (отдых и питание), через два года ее ждет ОНА.
Я спросила, что стало с хозяйством родителей. Землю продали, а дом стоит пустой, никто его не хочет, так что отец в нем живет, имеет корову и кое-как сам ведет свое маленькое хозяйство. Замуж Мари так и не вышла.
Местные жители обвиняют гостей, но это заколдованный круг, гости их кормят и гости их заражают. Впрочем, в последние годы научились беречься, дезинфицировать, и есть контроль над коровами, животными, так что стало лучше.
Мы осмотрели несколько санаторий и выехали обратно в Цюрих. Приближаясь к городу, на домах вы читаете такие надписи:
«Неси спокойно счастье и горе, все проходит, и ты тоже».
«В мире есть дом, в твоем доме — твой мир».
«Пусть снаружи сотрясаются миры, этот дом твой останется приютом и крепостью для тебя».
В этих надписях вся нейтральная Швейцария. Церкви строятся в новом, даже футуристическом стиле, модернизированный Цвингли[567], Христос, Мадонны. В этом раю безработные получают 10 швейцарских франков в день вспомоществования, это наши пол фунта.
Когда мы открывали радио, чтобы вечером слушать новости, сообщения о «путче» в Австрии, об убийстве Дольфуса[568], всегда какая-то осторожная рука подходила к радио и переводила на станцию, откуда раздавалась легкая музыка. Только одно сообщение взволновало швейцарских и интернациональных спортсменов: король Альберт Первый бельгийский погиб во время альпинизма[569].
Обратно в Палестину мы решили ехать на Париж-Марсель.
О Париже я столько слышала от мамы и столько о нем читала, что мне казалось, будто я вернулась домой. Мечта моей жизни осуществилась. Марк, который знал Париж, был моим гидом. Я себе представляю, что моя московская бабушка должна была по приезде в первый раз в Москву себя почувствовать так, как я себя почувствовала в Париже: во сне и в раю.
Я бегала по улицам, бульварам, музеям, магазинам, мы ездили в Буа[570], ходили в ночные «буат»[571], видели церкви, и я была в полном смысле слова — счастлива. В первый день нашего приезда была забастовка всех такси, мы добрались до отеля в камион[572], который нам удалось как-то получить.
Перед этим был здесь тоже «путч фашистский», который удалось подавить на плас де ла Конкорд[573].
Погода была сырая и холодная, но это не мешало жить Парижем.
Когда мы с Марком сидели в кафе «Колизей», где одна стена, как райский сад, не то аквариум, не то живая картина — южная флора и фауна, на голубом и розовом фоне птицы колибри, рыбки золотые и серебряные, мне хотелось плакать. Я напевала песенку Мориса Шевалье — «Пари же теме»[574], и Марк надо мной посмеивался.
— Марк, надо же было дожить нам с тобой до 40 и 45 лет, чтобы в первый раз как следует почувствовать, что такое жизнь. Почему мир так устроен, что люди не могут ежечасно радоваться сначала молодостью, потом средними годами и, наконец, старостью?
— Разве ты не была счастлива все годы?
— Нет, ты меня не понимаешь. Я не жалуюсь лично на свою жизнь — нам с тобой никогда не было скучно, и мы были всегда «парою Дориан Греев», но ведь вокруг такой ужас. Почему нам, евреям, не дают спокойно жить? Почему всем позволено радоваться, быть богатыми, путешествовать, заниматься спортом и теми занятиями, которые человек любит и которые ему нравятся, а мы всегда почему-то несем на себе это чувство вины, точно нам все это запрещено? Потому ли, что мы евреи? А мы лично? [Потому ли, что мы вышли из сравнительно состоятельной среды, и наши родные нам так или иначе помогли в начале нашей жизни?] Потому ли, что мы с тобой не согласились быть и остаться «неудачниками», что мы боролись за лучшую жизнь для себя и для детей? Но ведь мы этим только помогаем нашему народу, будущему нашей страны, мы что-то оставим после себя — детей, и хороших, большое, культурно поставленное дело, которое приносит пользу сотням больных. Почему же все это как-то было и есть и будет всегда запрещено, <грешно,> если мы с тобой счастливы? <Мы расплачиваемся за какие-то атавистические грехи наших предков или за их слабость?>
— Дитя мое, не философствуй, я закажу еще один коктейль! Гарсон!
— Коктейль! Даже это нам запрещено. Почитай американский роман, там не начинается ни одна страница без: «Э дринк!»[575] А если бы евреи начали пить, им приписали бы еще один смертный грех: «пьянство».
Мы выпили еще один коктейль и вернулись в наш отель, о котором был слух, что «ен Астор он дор»[576], хотя это и вблизи Маделен, в центре города.
Утром я училась здесь, как и везде: я ходила на хозяйственную выставку смотреть хозяйственные экспонаты. Там я себе купила все книги Кордон Бле (Cordon Bleu)[577] о варке, печении и проч. Затем я слушала лекции в Кордон Бле, научилась нескольким очень интересным кулинарным рецептам, хотя для Палестины они были малопригодны. Торт Сан Риваль, например, берет несколько часов ручной работы. Глазурь — фондан — и разноцветный марципан, из которого изготавливается художественная отделка: если это шоколадный торт, то в виде книжного кожаного перелета, перевязанный марципановыми лентами и с розами наверху. Или торт в виде нарядной бонбоньерки, с белыми сахарными кружевами и прочими артистическими премудростями. В Палестине, где время и материалы и труд дороги и где нет фабричных способов делать все эти чудеса, нет возможности готовить несколько часов торт, который съедается в пять минут. Но для меня это было не менее интересно, чем балет или изящная постановка, или другое художественное произведение. Я даже записала все эти рецепты — и рог изобилия, наполненный петифурами и конфетами, — сделался со временем моим «спесиалите де ла мезон»[578].
Кроме Кордон Бле я слушала некоторые лекции по диэтетик, вегетарианской пище (проф. Павиана) с демонстрациями, и там тоже я научилась некоторым новым блюдам (панированный шпинат, например, и др.).
У нас в Париже нашлось много старых друзей из России. Нас приглашали кататься в своих автомобилях, приглашали на обеды и ужины, а мы для реванша приглашали их в рестораны. Таким образом я могла продолжать свое «кулинарное образование» на практике.
Мы посетили еврейский район — Де Виетан, Розьер, было интересно, но похоже на Налевки в Варшаве.
В Галери де Лафает я себе купила несколько платьев, для дорогих салонов у меня не было денег, также подарки маме и Рути.
Мы ездили в Версаль и окрестности Парижа, но главное время я проводила в Лувре и других музеях: Китайский музей, Гернуши, выставки «независимых» (independent), Музей Клиньи, Пантеон, Сорбонна, выставка современных художников (contemporain), музей Гревен, восковых фигур, Люксембургский музей, Люксембургский сад, и, наконец, музей Родена. В этом музее и в Лувре я была несколько раз. Родена я знала только по репродукциям, снимкам. Рука — это фатум, перст Божий; материя неотделима от формы, духа, поэтому так неотчетливы переходы от массы к форме — идее.
В Версале я была очарована маленьким Трианоном, комнатками Марии Антуанетты[579]. [Эта женщина не должна была выходить из своего домашнего уюта, престол падающей французской монархии ей был не нужен, и ее смерть не оправдана — она не ведала, что творила.]
Вечером нас водили в театры или мы сами уходили в кино. Мы были на «Преступлении и наказании» Достоевского, в театре Мешидьер, видели пьесу современную — «Тяжелые времена», с Жюль Буше, мы были несколько раз в зале Плеел на концертах и еще в театре Фоли Бержер — где Мистангет и ее партнер Рандаль показывали, как возраст на сцене не играет роли, потому что артистка никогда не стареет[580].
После этого мы с компанией ужинали в китайском ресторане, где рис и чай были необходимы, хотя в первый момент казалось, что при всех прочих блюдах — совсем не интересно наполнять желудок вареным рисом и слабым чаем. На самом же деле — еда была такая острая, что ее разбавляли рисом и запивали чаем, и мы не оглянулись, как эти два предмета были съедены. В одном русском ночном локале к нам подсела цыганка с сильно удлиненными ресницами. Один юноша, который сидел за нашим столом, спросил ее, выходит ли она и имеет ли свободные вечера. Она очень печально ответила, что их берегут больше, чем институток в закрытой школе; отцы и мужья боятся, чтобы девушки и женщины не сошли «с пути истинного» (как будто цыганский бар — истинный путь), и разговаривать с мужчинами можно только в пределах ресторана и будучи консоматоршей[581]. Тут позволено и танцевать, и жить.
В другом бистро мы наткнулись на другую сцену: немолодая дама в мехах и бриллиантах, в сопровождении очень приличной компании, напилась, может быть, первый раз в своей жизни. По-видимому, «с горя». Она устроила дебош, играла на бильярде, и конечно очень плохо, компания уговаривала ее вернуться домой. Но она отвечала: «Jamas dans ma vie!» — Никогда в жизни! Она пробовала привязаться и к нам, спрашивала, почему я не седая, как она, и заигрывала с Марком. Кончилось тем, что ее компания ее уговорила ехать кататься в Буа, потом в другой ресторан, и она дала себя уговорить. Я себе представляю, что они ее отвезли домой к мужу.
В кино мы видели «Мадам Бовари» и «Секс Фэбль»[582] с Виктор Буше и Марено и в последний день нашего пребывания мы еще раз пошли «попрощаться» с Венерой Милосской, Ренуаром, Сезанном, Клодом Моне, с Джиакондой, на которую я перестала быть похожей (я отрезала волосы, и прическа совсем изменила мой тип). И когда я выходила из Лувра, у меня было суеверное чувство, как на могиле моего отца в Вильне, что это последний раз, что я хожу по улицам Парижа, где я была так счастлива.
Марк ежедневно, в то время когда я была в Кордон Бле и в магазинах, посещал больницы, санатории, клиники, и, если было возможно, я его сопровождала, особенно за городом. У нас было столько впечатлений, что мы не успевали рассказать друг другу обо всем виденном и сделанном за день.
В Марселе мы были недолго, а в Александрии, где имели небольшую остановку, видели красивый сад Антониадус с Венерой Милосской — и, как это ни странно звучит, — с двумя руками и даже обручем в руке. Там же красивый субтропический ботанический сад. Истинные сады Семирамиды и Клеопатры.
Когда я вернулась домой, все решили, что у меня чертовски «парижский» вид, что я похорошела и помолодела, и мой муж с гордостью соглашался. Но сам он был более счастлив оттого, что очутился дома, с ребятами, в своем хирургическом кабинете; мы уехали зимой и вернулись в начале апреля. Сад уже был в весенней красе, анемоны, цвет яблонь. Свежие зеленые листья на вьющемся винограде.
Предпасхальная работа и суета меня, как всегда, захватили, также запущенные дела — праздники с гостями, Сейдером и проч. Вся семья и персонал получили подарки, большие и маленькие.
Меир без устали вертел новые парижские граммофонные пластинки, много Люсьен Боас, и пробовал их насвистывать. У него начали пробиваться усики, к нам часто звонили девицы — «можно говорить с господином Натанзоном»? И я должна была подумать раньше, чем ответить, что господин Натанзон сейчас подойдет или его нет дома, <или спросить: «Доктора или Меира?»> Наш «цуцик» стал кавалером. Я вдруг заметила, что в мое отсутствие у меня появился взрослый сын.
У Рут тоже появились свои «переживания». Она стала очень замкнутой. Зимний спортивный костюм ей оказался немного не по сезону. Но она была рада штанам: теперь все девицы ходили в штанах.
Я распаковала кухонные машины, которые мы привезли с собой, и электротехник их вмонтировал. Пришлось научить нашу кухарку пользоваться этими машинами, которые должны были нам всем сэкономить много сил и рабочих часов. Вначале она будировала, но потом привыкла к механическому мытью зелени, чистке картофеля и моркови, свеклы и к небольшой машине для выжимания соков. Еще я привезла столик для Бен-марен — или Вассербад — иначе говоря, грелку на пару. Этот столик на колесах начали возить из палаты в палату, чтобы держать пищу горячей. К тому же несколько булльот, Bouillottes, или решо Reshóts — кастрюли и тарелки на пару, чтобы сервировать больным пищу в теплом виде, если еда у них затягивается. Новые занавески из парижского кретона и другие украшения для больницы и дома (репродукции из Люксембургского музея) — все это мне дало много работы и радости. Медицинские распаковки и монтировки я предоставила нашим врачам, [которые в этом понимали больше].
Работа в новой кухне и приготовление новых блюд тоже занимали меня и весь персонал.
На Пасхе, как всегда, были у нас туристы и даже такие, которых мы только что видели в Париже и Швейцарии. Здесь мы уже должны были реваншироваться за все их приглашения, сначала Сейдером и потом поездкой по стране. Мы были в Реховоте, в агрономическом институте; везде шло новое строительство[583]. Все пардесим были в цвету и пахло флердоранжем. А в воздухе был стук молотков.
В мае была очень удачная выставка в Тель-Авиве[584], и мы несколько раз обедали в ресторане «Галина» на берегу моря, где было прохладно и приятно. На этот раз на Выставке не было киосков СССР и Германии. Символ выставки был «Летящий верблюд», восточная выносливость в соединении с западным полетом вверх. Было много красивых экспонатов, новые устроенные лужайки и очень приятная музыка.
В ту весну были сильные дожди, чего весной никогда не бывает. В Тиверии было настоящее наводнение с 30 убитыми и 80-тью ранеными и 100 тысячью фунтов убытка.
Нашей дочке исполнилось 20 лет, но она отказалась от какого-либо приема или празднества — она стала халуцой и бредила кибуцом.
Меир на этот раз был сильно занят своими выпускными экзаменами. Тем временем Рут не знала, как ей поступить: поехать за границу учиться в университет или пойти в кибуц. Трудно было влиять на женщину в 20 лет. Мы, конечно, хотели, чтобы она продолжала свое образование, но старались не вмешиваться. Пусть она сама ищет своих путей в жизни. С Меиром в этом отношении не было трудностей, он сразу решил после окончания гимназии учиться на инженера. Его даже не привлекала «заграница». В музеях и искусстве он видел антиеврейское язычество, ассимиляцию. Статуи и картины были запрещены еврейской религией: «Не создавай себе кумира!»[585]
Впрочем, поездки для наших детей уже потому не могли осуществиться, что у нас благодаря новым затратам на больницу образовался порядочный дефицит в бюджете, и мы не настаивали на том, чего они вовсе не хотели. Во внутреннем отделении было несколько тяжелых диететических случаев, были больные, питавшиеся без соли и белков, были избалованные дамочки, как они сами себя называли, «мфунекет»[586], были больные, которым нужно было давать концентрированную, питательную и в то же время очень легкую пищу. Даже по ночам я думала о диете завтрашнего дня. Мне снились кашки, супы, соки и проч.
Марк считал, что я не должна делать черную работу в кухне, что это понижает мой престиж и утомляет меня. Но я с этим не хотела считаться. В июле наконец Рут уехала в кибуц, и Меир кончил экзамены.
Тем летом были грандиозные похороны нашего национального поэта Бялика[587]. Весь Тель-Авив вышел на улицу, заполнили все балконы, окна. Все школы, корпорации и учреждения были в процессии, делегации из городов и колоний. Рабочие и раввины оплакивали нашего гениального поэта. [Более трагические и также торжественные похороны были устроены Арлозорову, который был убит на берегу тельавивского пляжа. Его смерть могла вызвать гражданскую войну, которая, к счастью, кончилась оправданием обвиненных. Настоящих убийц так и не нашли.]
* * *
Я работала не по силам. Как если бы за каждый легкий и приятный день за границей я должна была заплатить тремя тяжелыми дома. Так в спешке я себе хлебной машиной отрубила кончик пальца, раз я вывихнула ногу, оступившись на лестнице, и пришлось полежать и работать в постели. Так же работали наши врачи, и главная сестра, и весь персонал. Мы имели столько заказов на роды и операции, что мы начали снова думать о пристройке флигеля для внутренних болезней и увеличить таким образом санаторий, и освободить дом для других пациентов.
Для этого флигеля нужно было прикупить землю, разбить специальный сад, выстроить большую веранду для лежания — Liegehalle, и главное — выписать рентгеновский кабинет. Тогда мы были бы независимы от других рентгенологов. Но все эти планы были связаны с новыми затратами, «циркулус вициозус»[588] — новые долги, новые обязательства и новая работа. Нам врач по внутренним будировал — его пациенты всегда были последними, предпочтение давалось роженицам и спешным операционным случаям.
Будировала, собственно, его жена, Хана, она же была заведующая хозяйством, вернее экономка, с которой мне приходилось работать в тесном контакте. На общем собрании мы поставили им на вид, что увеличение больницы лежит на этот раз целиком на их ответственности, наши частные ресурсы окончательно исчерпаны, и мы не собирались влезать в новые долги.
Вторая трудность состояла в том, что пациенты большею частью хотели лежать в отдельных комнатах (значит первоклассные), а наш дом был построен больше для палат с несколькими кроватями, что снижало также плату.
Август был очень жаркий. Мы, как всегда, отправили маму в Иерусалим, и я несколько раз ее там навещала.
Для меня это были приятные вылазки: на Скопусе в амфитеатре были прекрасные концерты. В лунную ночь, на фоне светлого неба вырисовывались колонны нового подиума, а издали блестело Мертвое море и виднелись Моавитские горы. Раз мы поехали к морю осматривать северную «Поташ Компани», на иврите — «Хеврат Эшлаг». Нас повели на крыши, которые были поставлены на колонны, оттуда был вид на соляные прииски, рассолы, резервуары с химическими составами, соляные озера и белые, как бы снежные поля соли. Мы потом купались в море и пили чай в отеле «Калия» и снова при луне возвращались домой.
Вся «Поташ Компани» была дело рук и неутомимой энергии и головы сибиряка-инженера Новомейского, который годами боролся за эту концессию, затратил на нее весь свой капитал и умение[589].
Жила я обычно в «Кинг Дэвид Отель», откуда фантастический вид на Старый город, на стены Иерусалимского кремля, Мигдаль Давид, оливковые рощи, монастыри и дороги. Иногда я гуляла по новым арабским районам — Катамон и Тальбия, по греческой и немецкой колонии. Там всюду были красивые виллы с садами, с гаражами и автомобилями у подъезда. Арабы эфенди разбогатели на земле, которую они нам продавали. Если бы эти люди поняли, что не запрещать продажу нам земли, а наоборот, поощрять ее и кооперировать с нами во всех наших предприятиях нужно, они бы от этого только выиграли, а не проиграли. Но зависть плохой советник. Они не могли переварить наши успехи, а англичане не способствовали нашему единению с арабами: это было невыгодно для администрации, которая хотела управлять и владеть. Лежа на терассе «Кинг Дэвида», я читала трилогию Вассермана «Морициус», «Андергаст» и «Керкауэн», та книга была предвидением того, что должно было случиться в Германии — политическое распадение Веймарской республики, моральное разложение и падение в пропасть.
Отдыхая в этом первоклассном пансионе, я снова училась тому, что могло мне послужить подспорьем в нашем деле: техника уборки (тут негры суданские и швейцарская прислуга убирали комнаты), образцы посуды, выписанной из Чехословакии, даже «решо»[590] как в Европе, чтобы пища была теплой, способ подавать масло, некоторые блюда, фрукты. В саду были столики под пестрыми зонтиками, цветы — красная герань и бугенвилия всех цветов, все это было красиво.
Салат подавался во льду, и к этому красное вино. Кофе турецкое, сладкое.
* * *
Когда я вернулась, дома Рут мне заявила о своем окончательном решении пойти в кибуц. Принципиально ни я, ни Марк ничего не имели против этого. У нас в доме она не раз слышала восхищение кибуцами и жизнью в коллективе. Мы хотели, чтобы в кибуц она вошла с готовой профессией как учительница или агроном, садовница или птичница, чтобы не быть пробкой на затычку или «Mädchen für alles»[591]. Но уже тогда у нее были личные причины, которые заставили ее не откладывать вступление в кибуц и не ехать учиться. И этой личной причиной был «бахур»[592], Эли, которого мы мало знали, потому что он редко появлялся на нашем горизонте.
Кибуц, в который вступила Рут, находился недалеко от Тель-Авива, и я утешала себя тем, что мы будем ее часто видеть. Для тяжелой физической работы она после операции аппендицита и всех детских болезней была, на наш взгляд, слаба, но мы ей этого не высказали.
В сомнениях и заботах моя девочка похудела. Перед отъездом мы с ней делали покупки: кожаная куртка для зимы, мустикер от комаров, одеяло, постельное белье, покрывало для дивана и вазочка для цветов. Это было все ее приданое. Про их кибуц рассказывали, что там безнадежные болота, которые еще годы нельзя будет осушить, потому что правительство об этом не заботится, а арабы, которым эта болотистая местность принадлежит, дики, не понимают вреда болот и причину смертности объясняют — мин Алла — «от Бога» <не анофелес[593]>. Мы, тем не менее, санировали почти всю Палестину, кроме тех мест, которые еще не в наших руках.
Меир готовился к Техникуму в Хайфе и тоже вскоре нас оставил. Мы нашли Меиру комнату с полупансионом у знакомых в Хайфе.
* * *
Чтобы заполнить пустоту, которая образовалась с отъездом детей, как если бы они уехали не на расстояние часа и двух от нас, а в Америку, я, как отравленная мышь, искала себе забвения в работе и в чем могла. Проблема внутреннего отделения[594] не сходила с очереди. Наши обсуждения все время велись на той почве, что, может быть, вообще стоит закрыть внутреннее отделение, потому что те деньги, которые мы зарабатывали на роженицах и операциях, мы тратили на сложных диетах для внутренних больных, на уходе за ними и на постелях, которые освобождались медленно и не по нашему усмотрению. Больные с 5000 каллорий были у нас не редкостью. Разнообразная пища и варка и санаторский режим осложняли дело. <Но тогда нам пришлось бы «выселить» наших компаньонов, а для этого не было денег.> В общем, подводя итоги всей своей работе, я не могла быть недовольной: дисциплина, товарищеские при этом отношения с персоналом; лиферанты, которые по традиции снабжали нас долгие годы первоклассным товаром, только еврейская продукция. Как моя бабушка, я все, что можно было хранить, покупала an gross[595], всегда имела порядочные запасы сухих продуктов, консервов и хозяйственных принадлежностей (как щетки, тряпки, мыло, бумага и проч.). Я не была мелочной, не скаредничала, не торговалась из-за гроша, и в этом отношении воспитала своих помощниц, мы работали всегда на доверии к поставщикам. Если пропадало доверие, что случалось очень редко, меняли и прислугу и лиферанта. Но без скандалов, без конфликтов. Как можно короче и радикальнее. Поэтому наше хозяйство было всегда солидно поставлено, девушки уходили только тогда, когда выходили замуж, садовник, прачка, дворник держались годами. Мы всегда пользовались теми же телефонами и адресами инсталляторов, столяров и других рабочих. Кто заходил в наш дом, его не оставлял.
Наша машина, раз заведенная, держится и тогда, когда мы с Марком в отсутствии, и я отказываюсь понимать тех хозяек, у которых вечно кризис, в маленьком или большом хозяйстве. Тем не менее эти кризисы приходят неизбежно, и не из-за плохого характера и плохой воли, а сами по себе, потому что, как человеческий организм, так и хозяйственный вечно требует смазки, починок и поправок.
Правда, я нарушила принцип «праздности», в обществе мне, верно, вменяется в вину «жадность», думают, что я из-за денег мало бываю в гостях, мало принимаю у себя: кафе у моря — мой отдых, поездка за город и путешествия за границу мне всегда были интереснее всей их мелкоместечковой светскости. Кроме того, мы скрывали, чего мне и моим товарищам по работе стоят постройки, улучшения, развитие нашего дела, с какими материальными трудностями и риском все это связано. Но я уже давно перестала считаться с «общественным мнением».
Моя филантропия, кроме регулярных взносов, свелась к тому, что мы от времени до времени принимаем бесплатных пациентов или за очень низкую плату, на операции и роды, и реконвалесценцию (поправку), если это случай, который не подходит под категорию больничной кассы и общественных бесплатных госпиталей.
* * *
Однажды мы выбрались с компанией наших «викендлеров» на катере вокруг Мертвого моря. Было темно, грязно, неудобно, но собралась очень теплая компания академиков, журналистов, певица оперы, и стало очень весело. В Эйн-Геди все полезли по крутой горе наверх, откуда замечательный вид, но когда надо было спускаться по той же крутизне, все завидовали нам, оставшимся внизу.
В Содоме мы осмотрели естественный туннель и «провал», похожий на пятигорский. Воронкообразная пещера высотой в 500 метров, солончаковая сказка. Нам сказали, что года через два здесь будет закончена солончаковая концессия Южного Поташа (приисков); везде в поселке чистота и порядок, комфорт, особенно в комнатах, в которые нас ввели. Вместо стекол — сетки от москитов, на всех кроватях тоже мустикеры. Женщин в то время на Юге совсем еще не было, все хозяйство было в руках мужчин, и в качестве поваров и лакеев — черные египтяне (Сомалия).
Нам предложили комнаты и ужин в кантине, но мы отказались, ночь была теплая, светлая, мы прекрасно могли спать на песке, укутавшись в одеяло, и ужинали своими сандвичами. Но в 10 часов вечера, отдохнув после тяжелой дороги, мы танцевали все вместе, гости и хозяева и арабские рабочие.
Все танцевали хору. Оттого ли, что местное население отвыкло от женщин, или климат Содома так действовал, но хора была более оживленной, чем в городе. В четыре утра мы оставили Содом. Мы поехали в «Нахлат Арнон». Арнон — это река в скалах, сталактитовые пещеры из таких пород, которых я еще не видела. В Скандинавии так, верно, выглядело в шхерах, как на картинах или в декорации «Пер Гюнта» Грига и в Художественном московском театре. Мы в купальных костюмах прошли пешком вброд всю реку вдоль, и по обеим сторонам были высокие стены — чувство нереальности.
Следующая остановка была «Калерое», или «Клей Рове», где купались когда-то римские воины, а вади Зерка — горячие источники — были приятнее всего. Только в Пистианах в Венгрии я когда-то купалась в естественном горячем бассейне. В Палестине есть такой же в Тиверии.
* * *
В Тель-Авиве появляются очень хорошие артисты, исполнители — скрипка Тибо[596] и Казадеус рояль. Также шопенист Уминский. Всё это музыкальные праздники, а фильм «Королева Христина»[597] с Гретой Гарбо был особенно приятен после нашей прогулки в арноновские шхеры.
Мы теперь больше не могли жаловаться на провинциальность нашей жизни. Каждая поездка давала что-нибудь новое, каждая гастроль приносила нам европейскую «культуру», по которой мы так тосковали первое время. В Хайфе, когда мы посещали нашего студента сына, мы осматривали новые фабрики, новостроившийся порт и Хайфу-бе — индустриальный район. К Рут в кибуц мы не ездили, потому что там негде было спать, товарищи спали по несколько человек в бараках. Когда она приезжала сама или с Эли, выглядела она похудевшей, одета была плохо, в сандалиях без чулок, вещи носила из коммуны, синие холстяные платья; у нас она перестала брать как вещи, так и деньги, чтобы не нарушать «равенства». Она с Эли не могли повенчаться, потому что в комнате у них спал всегда кто-нибудь третий, девушка или парень, и это называлось «примус». Почему примус? Потому что в семье есть муж, жена и примус, конечно. А так как она дежурила по ночам, то на ее постели спал еще кто-нибудь четвертый, а она спала днем. Таково было их пионерство. Мне было странно, что у меня такая большая дочь, которая не сегодня — завтра выйдет замуж и еще сделает меня бабушкой.
Чтобы не быть смешной в собственных глазах, я решила меньше танцевать, хотя мой минимум в «карне де баль» — 24 танцора в вечер — еще был в силе. Эли перестал с нами быть застенчивым, каким он был вначале, он привык к нам. Он был пионер в полном смысле слова, привез из-за границы целую группу товарищей, которых заставил пойти в болотистую малярийную местность, чтобы осушать болота. Он нес ответственность за бюджет кибуца, был «гизбар» (кассир) и «мазкир» (секретарь), потому что у них не было лишних людей для каждой такой должности. Конечно, ему приходилось физически работать тоже. Рут была на него не похожа; как и ее отец, она была прекрасная работница, но без амбиций и инициативы. Она не любила брать на себя ответственной работы и решения в вопросах кибуца. Иногда мы дискутировали про восьмичасовой день, они принципиально работали восемь часов, а мы без принципов — 16.
Принципы — одно, а действительность другое: их восьмичасовой день превратился в десятичасовой, а когда появились дети, и в гораздо больше, чем десять часов, потому что вечер посвящался детям, которых надо было занимать и потом укладывать спать.
В противоположность всякой «беззабочей жизни», как говорила наша старая нянька, я себе выбрала профессию с «12-го Мизере» (выражение одной моей швейцарской коллеги). Языки иностранные, гигиена, хозяйство, психология, вернее психопатология, бухгалтерия, декорация дома и сада, постройки и починки, покупки и товароведение, калькуляция, знание бюджета и разных финансовых оборотов, умение обращаться с персоналом, распределение рабочих часов — то, что у нас называется «сидур авода», светскость, сохранение внешности, собственной физиономии и фигуры и туалета, чтобы не было ни слишком много и ни слишком мало, общественные связи, правильный подход к больным и к коллегам, помощь мужу в его карьере, варка и работа в доме, в случае, если нет достаточного персонала, подача первой медицинской помощи и радикальное знание диеты.
Я даже научилась в нужде починить инсталляцию и открыть менхоль[598] в саду, если не было под рукой инсталлятора. Это уже не 12, а гораздо больше «Мизере» и не мизере.
В Палестине еще ко всему этому прибавляется слабый кредит, тяжелые проценты, которые иногда превышают заем, почти хроническое отсутствие оборотного капитала, хамсины, которые плохо влияют на здоровье и настроение, малярия, харара и амебы. Все это на почве пионерской неподготовленности, непривычки, отсутствия традиций, наследственных капиталов и недвижимости. Почти с начала, «с брейшит», «от ничего ко всему»[599]. Пусть нашим детям живется легче, какой бы путь они ни выбрали!
Я по вечерам снова начала себя чувствовать очень усталой, и меня на короткое время экспедировали в «мой» Иерихон.
Я снова жила у своей «матушки». Теперь я нашла много улучшений: маленький ручей был вправлен в бетонное русло, и оттого весь Иерихон выглядел гораздо чище. Правительственная субтропическая станция на этот раз управлялась еврейским агрономом и превратилась в настоящий рай. Терновые заборы во многих местах были заменены железной изгородью.
За обедом в отеле я сидела с гречанкой, которую знала из моих прежних приездов, теперь она тоже была выкрашена заново: в рыжий цвет. Ее друг исчез, и его заменила собачка. Она хотела у меня найти сочувствие к тому, что в страну приехало слишком много «немцев» (немецкая алия), и из-за них, мол, увеличивается дороговизна. Даже у арабов цены на труд повысились. Я ее успокоила, что мы ждем гораздо большую иммиграцию и что повышение «standard of life» неизбежно. Она надулась, и на этом наш разговор закончился.
Ариха, как здесь называют Иерихон, служит для мелкой арабской буржуазии курортом и местом отдыха. Те женщины, у кого много детей, если не могут себе позволить зимой ездить в Каир или за границу, приезжают в Иерихо, снимают дачу или комнату в отеле и устраиваются на всю зиму. Кроме того, их мужья приезжают на все праздники на своих машинах, также английские чиновники со своими дамами. В отелях идет довольно крупная игра в карты, питье виски и проч. Самые богатые эфенди имеют здесь свои виллы, которые они держат весь год, со слугой и его семьей, чтобы берегли дом и прислуживали при случае. Сюда на кебаб и шашлык они приглашают гостей и здесь устраивают политические съезды и конференции всей гуссейновской партии[600] с Муфтием во главе.
Женщины большей частью толсты и бесформенны, выкрашены и безвкусно одеты, если они не закрыты чарчафом[601]. Так и богатые, и средние, и бедные. Они ленятся ухаживать за своими детьми. У богатых есть несколько нянек, у бедных дети валяются на улице, и не раз бывало, что я почти из-под автомобиля вытаскивала ребенка, которого мать не уследив пустила на середину улицы. При этом она закатывает истерику, но через пять минут снова выпускает малютку из-под своего надзора.
Последняя мода у них была — вязать пестрые свитера, и на это и еще на болтовню уходит вся зима. Я думаю — годы. Те дамы-европейки, которые знают арабский язык, мне рассказывали, что главный интерес и тема, которая их захватывает — как научиться у европейских женщин употреблять превентивные средства, чтобы не рожать столько детей.
К счастью, я не настолько хорошо говорила по-арабски. Мужчины с женами при людях почти не разговаривают, играют в шашки, в дамки и шеш-беш[602] и шахматы, курят сигары, папиросы, кальян, пьют черный кофе.
С одной важной еврейской дамой мы сделали визит местному помещику, Измаилу Бею, который угощал нас чаем с ликером, сирийскими глазированными фруктами и папиросами. Он уверял меня, что во время беспорядков 1929 года он был за границей и был нейтрален по отношению к евреям. Он очень постарел, и я подумала, <как всегда,> что это будет наш последний визит к нему.
Среди русских имеются не только монахини, но и кое-какие эмигранты. У одного из них я покупала молочные продукты от коровы, так как козье и овечье молоко и сыр я не переносила. Также свежие яйца из-под курицы. У него и его жены была довольно приличная ферма, домик с садиком и курятник, коровник и огород. Я им иногда приносила русскую газету «Последние Новости», чем их очень «обязывала», как он выражался. Большая русская печь, в которой пекли булки и куличи и лепешки на сале, разные надстроечки, коридорчики и клети — все напоминало Россию. Часто во время зимнего сезона эти деникинцы забывали свой антисемитизм и поддерживали отношения с евреями. В разных домах можно было снять комнатку с услугой и самоваром или просто «откушать чайку».
В Иерихоне я научилась ценить любое развлечение, любое знакомство. В нашем городском, почти американском темпе жизни мы не знаем скуки, мы не имеем времени на пустопорожние разговоры, визиты, гуляние, отдых. Здесь же каждая встреча — событие. 24 часа к вашим услугам, и вы не знаете, как их убить. Чтобы пойти в гости, надо принести воды из колодца, налить в таз, помыться, выгладить себе угольным утюгом платье или блузку, которая мнется на стенке под простыней. Потом, сделав этот туалет, вы идете с визитом. В Новогодний прием у батюшки — я была приглашена одна, без его греческих гостей, и принесла ему чай Бостанжогло[603], английские папиросы и конфеты для матушки. Меня же угощали кофе с ликером, сладким хлебом и «португалами». Переводчицей была, как всегда, матушка. Ежедневно я ходила в ботанический сад, мне показывали разные сорта пальм, финиковых, рисовых, вашингтоний, разные бананы, цитрусы всех сортов, начиная от тех малюсеньких «тамар», которые мы ели когда-то у абагиста, до грейфрутов «памела» гигантских размеров. Кроме того, гуаявы, авокадо, папайя, манго — агроном и его жена принесли сюда культуру и работу высокой марки.
Встреча с иерусалимскими чиновниками или с арабками-христианками, которые говорят по-французски, или обед в еврейской санатории и чай вечером в Вилле Мирьям, не говоря уже о почте и телефоне, — всё это события. Только здесь я поняла, как богата всегда была моя жизнь: дом, работа, муж, дети, мать, здесь же надо было «исходить из ничего», из пустоты, гутировать[604] единственную книгу, единственное знакомство, единственный сад, единственную улицу и даже единственную плитку шоколада из дома. Если бы люди всегда исходили из бедности, а не из богатства — не было бы скуки, пресыщения.
И я пожалела тех одиноких людей, которых я встречала на своих путях. Я вспомнила свою бонну Марью Карловну, которая раз в два месяца стирала свои манжеты и воротничок на черном люстриновом платье, гладила ленты на своей кружевной наколке и выбиралась в гости. По дороге она на несколько грошей покупала «гостинцы» — леденцы или яблочко, и шла проведать какого-нибудь захудалого родственника в богадельне, или воспитанника в детском приюте, или, что было еще большим событием, она шла к своим прежним «господам», где она выняньчила детей. Из вежливости или из благодарности или из желания поскорее отвязаться ее, бывало, напоят чаем с вареньем, дадут какой-нибудь старый салоп или капор или юбку и еще двугривенный на извозчика, а девочка или мальчик, ее бывший воспитанник, даже, бывало, удостоит ее подойти «к ручке», так что она приезжала домой полна впечатлений и потом еще два месяца рассказывала со всеми подробностями об этом визите.
* * *
Дома на меня снова посыпались счета, планы построек, сложные диеты новоприбывших пациентов, диабетические таблицы, комбинации двух или трех болезней.
От Рути было письмо, что она работает в детском доме[605], Меир по обыкновению был ленив писать письма.
После Иерихона я была рада снова очутиться на симфоническом концерте, симфония[606] состояла тогда всего из 40 человек, но играли Пятую симфонию Бетховена, и концерт Браиловского[607]: Бах-Бузони, Скарлатти, Шуман, Шопен, Рахманинов, Дебюсси, Равель и Лист. Я из монастыря вернулась снова в мир. В больнице я нашла одну новую пациентку, американку. Говорила она только на идиш, так что мне иногда надо было ее занимать, она была на чужбине и не имела никого в Палестине, приехала с туристами, которые ее оставили и вернулись к себе. Она рассказывала о кризисе — это самый большой шок, которому подверглись американцы в последнее время.
— Вы, может быть, этого не можете понять, но у нас люди, которых оценивали в сто тысяч долларов, стали вдруг нищими. Их дом стоил 25 тысяч, они проживали в год пять тысяч, имели машину, а теперь при том же доме и машине и прислуге, ну хотя бы уборщице, — нет денег для всего этого.
— Но ведь можно сократиться, — отвечаю я по своей наивности.
— Сократиться! Ну, а что делать, если дочь, которой тоже нужен флет и кар и нерс[608], и муж со своей машиной тоже не имеет средств к существованию? Когда он женился на моей дочери, он женился на богатой девушке, он не согласится снизить свой стандарт оф лайф. Вот у вас дочь в киббуце, это другое дело, ей, конечно, ничего не нужно, но моей дочери нужна нерс, и нужен флет и кар!
Да, а я подумала, что Эли женится на Рут не из-за того, что у ее родителей есть флет и кар и много нерс, и я пожалела эту бедную женщину. На субботу приехали дети, я спекла им хороший торт, они остались на Макабиаду[609]. Нам прислали хорошие места на трибуне, а дети достали от своего кибуца места с молодежью. Огромный стадион в 5000 метров квадр., очень импонирующая общая гимнастика, дети-бойскауты, макабисты, оркестр, легкая атлетика, ритмика, иностранные спортсмены и пресса. Болгарские, чешские, польские «Соколы», венский «Гакоах», наши палестинские «Макаби» и «Гапоель», прыжки, метание дисков, гонка циклистов, упражнения на биссиклетах[610], затем заключительная сцена со знаменами, парад с Лордом Мелчетом[611] (бело-голубой стяг второй Макабиады, последний марш, факельцуг[612], раздача серебряных кубков, поздравление Верховного Комиссара (Вокупа[613]), заключительное пение «Гатиквы» — вся публика на ногах, вид на море и на речку Яркон, и радость при виде этой чудесной мускульной бело-голубой молодежи, о которой мечтали еще наши вожди — Герцль и Нордау. Все разошлись с праздничным и радостным чувством.
* * *
Как все это было не похоже на старое голусное, прибитое еврейство. В связи с Макабиадой и туристическим сезоном была масса разных приемов, была прекрасная гастролерша, в которую все влюбились, — певица Иза Кремер[614], одесситка, которая стала гражданкой мира после того, как оставила «занесенную снегом Россию».
К Сейдеру в тот год у нас было много людей. Мы пригласили не только наших врачей с женами и наших сестер, всех, кто был в этот вечер свободен от дежурства, но и Рут, молоденькая и счастливая со своим бахуром, и Меир, который приехал из Хайфы, — все были в приподнятом настроении. После Сейдера танцевали хору и черкессию. Сестрички и наша молодежь сымпровизировали целый бал. Особенно было приятно видеть сестер не в белых халатах, а хорошо одетых и причесанных и веселящихся.
В мае мы получили письмо из Москвы, что бедная тетя Фира умерла от разрыва сердца. Она долго болела сердцем. Она была еще не стара, и мы с мамой ее очень любили и оплакивали. Так тяжела была мысль, что из моих любимых тетушек уже трех не было в живых: Машенька, еще молодая, погибла от голода — попала под трамвай, так как у нее закружилась голова, когда она слезала с трамвая, Катя умерла от холеры вдали от семьи и любимой ею Москвы, и вот теперь не стало Эсфири, такой артистически даровитой, музыкантши с чудным голосом — сопрано, и со вкусом и талантом художницы. Она могла бы быть и на сцене, и живописицей. Жизнь всех этих женщин пропала заничто и рано оборвалась.
Я вспомнила, как эти дочки мильонера в последнее время до моего отъезда не имели хлеба, как я посылала им огурцы своей солки, варенье, варенное на патоке, маринованные грибы собственного изготовления, когда я на даче имела свой огород и занималась хозяйством. Они питались гнилой картошкой, жиром неизвестного происхождения, ходили с опухшими отмороженными пальцами, а дядя Саша, больной туберкулезом, выглядел больше оборванцем с Хитрова рынка, чем сыном первогильдийского купца. От его писательства и наук ничего не осталось. Он кончил свою жизнь на больничной койке. «Довольно, попили нашей кровушки» — под этот <антисемитский> рефрен все они сошли в могилу. Есть счастье и мудрость в преждевременной смерти, хорошо, что бабушка не пережила этих четырех своих детей. Я утешала маму тем, что их жизнь была тяжелой, а смерть — избавительницей. Письмо писала младшая сестра Нюта.
Я начала понимать много странных и чуждых нам обычаев: у китайцев говорят, горе выражается в улыбке. Я, чтобы продолжать работу, не смела плакать.
Я затребовала несколько сертификатов[615] для родственников моего отца, и мы гарантировали, сколько могли, своим имуществом, чтобы получить для них «капиталистические визы». Но у нас вовсе не было столько раз по 1000 фунтов, сколько это требовалось. Одну визу мы получили для матери Марка, но, как и прежде, она все еще откладывала и не торопилась приезжать: ликвидация имущества. Она приводила разные доводы, чтобы не оставлять насиженное гнездо, свою корову, птицу и вещи. В ее возрасте она не могла сама справиться со всеми трудностями <ликвидации и> переезда. В середине мая 1935-го года умер в Польше Пилсудский[616], и евреи ждали для себя всяких напастей: но все те, кто еще был устроен, зарабатывал и не был сионистически настроен, — не торопились двигаться с места. Кроме того, английский мандат не торопился давать визы и сертификаты. Мы получили от Рут письмо, что для нее и Эли наконец-то есть комната, и они собираются обвенчаться. Венчание будет коллективное, есть уже несколько пар, в кибуц приедет раввин из ближайшей колонии. Так что они нас не приглашают.
Единственная дочка и внучка у бабушки не приглашала нас на свою свадьбу. Впрочем, разве мы с Марком не сделали того же — не повенчались безо всякой помпы. Без родных и без свадьбы?
Им дали маленький «цриф», деревянный барак, где им пришлось немало повоевать с клопами, которых они наконец вывели. Им дали двойную кровать, с тюфяками из соломы, письменный столик, а из дома я ей послала еще одно покрывало на диван и кое-какие дозволенные вещи: только то, что по регламенту можно было иметь в комнате.
Их кибуц разросся, выстроили новый детский дом, также дом для несемейных, расширили кухню, завели электрическую прачечную, душ с горячей водой и несколько новых уборных. Но все это еще имело вид провизориума, временных построек. Девушки днем носили короткие шорты, а вечером переодевались в длинные брюки, так как были комары, и весь кибуц получал профилактически хинин от малярии. По вечерам детей запирали на ключ в их сеточных домах, чтобы не бегали без призору и не были укушены москитами «анофелес». Часть болот была высушена, но другая часть являлась источником этих комаров.
Питались в кибуце неважно: суп, солянка, картошка и жидкий кисель. На ужин, правда, полагалось мясо. Фрижитер имелся только в детской кухне. Когда я там была в последний раз до их венчания, я знала, что они живут в одной комнате, и я на прощание оставила им фунт: 25 пьястров на венчание раввину, 75 — на свадебное путешествие.
От наших помощников-компаньонов Рут получила «по заказу» картинку на стену не больше величины книги, вазочку для цветов и больше ничего.
Но дома, чтобы отпраздновать свадьбу нашей дочки, мы пригласили коллег и несколько близких друзей и выпили за здравие молодоженов.
* * *
Я обычно летом купалась не в самую жару, а рано на рассвете, часов в шесть. Тогда было мало народа, и еще до жары я успевала к завтраку вернуться домой.
После обеда тель-авивский пляж был похож на Лурд: больные калеки, сексуально голодные люди, толстые, худые, уродливые и красивые эксгибиционисты, паралитики, толстые бабы и дети, дети без конца. Корки бананов, апельсинов, бутылки от лимонада (на иврите — газоза), остатки вареной кукурузы, все это бросалось тут же и загрязняло песок, бросалось в море и выносилось волнами обратно на пляж. От всего этого тошнило.
Впрочем, я и в Европе, на Шире, в Верлзее, Ванзее вблизи Берлина, на Лимане вблизи Одессы видела подобное.
Малые дети тут же отправляли все свои большие и малые нужды, а по ночам, под банными простынями и абаями, взрослые превращали этот пляж в свою спальню. «Плачут, смеются, в любви клянутся…»[617]
В нескольких переполненных кафе на берегу моря было невозможно протиснуться, Алленби превратилась в биржу, в будни — труда и политики, а в субботу — было так много гуляющих и детских колясочек, как пчел в улье. Это была не та улица Алленби, когда дюны тянулись до самого моря на километры, и только одна кафля[618] была проложена от Бульвара Ротшильда до самого моря. [Это была провинциальная «главная улица».]
В июле Рут с мужем приехали к нам перед тем, как их послали в делегации рабочих за границу, сначала на сионистский конгресс[619], а потом дальше. Я отдала Рут много из моих платьев и белья. Я проводила детей до Хайфского порта.
Мы купили радио, и все увлекались «висением на радио». Особенно Меир, когда он бывал дома. И так как у нас было радио, мы слушали новости каждый день, и слышали, как Муссолини говорил о мире и призывал к войне с Абиссинией. Первого октября он говорил о грехах Абиссинии, о стране, в которой процветает рабство.
Слова «Маре нострум»[620], «аванти» (вперед), «витторио» (победа), «империо Романо», «Италиа Колониале» — все это звучало как призыв к войне, а шум и энтузиазм толпы на площади в Риме, бесконечные крики — подтверждали это опасение. Мурашки пробегали по коже от мысли, что завтра, может быть, снова будет литься кровь. Речь французского министра[621] в тот вечер наоборот была очень печальна. Он призывал к санкциям против Италии, обращался к Англии, и это был голос вопиющего в пустыне.
* * *
В нашем саду завелась болезнь фруктовых деревьев — капнодис, и мы с садовником решили вынуть все больные деревья, перекопать сад и посадить виноград по другому плану. Это немного отвлекло меня от внешних событий, кроме того, работы было много и по хозяйству.
Однажды нас с Марком пригласили на очень курьезную свадьбу, тоже к пациентам. Это была смесь еврейской традиции с европейской свадьбой. Подражание, конечно. Я еще никогда не видела такой безвкусицы и мешанины. Обычная еврейская хупе, свадебный балдахин, как в штетле[622], верчение жениха вокруг невесты три раза, чтение ктубе, свадебного договора, с перечислением всего приданого и драгоценностей невесты и проч. Куча ребятишек, которые у всех вертелись под ногами и переедались сладостями, и наряду с этим — ломали крендель над головой невесты и жениха, засыпали их рисом, ячменем и конфетти после венца. Английский белый свадебный пирог в три этажа, который молодая надрезала, шампанское, маленькие шаферицы в длинных белых платьях с венками на головах, букеты флердоранжа на только у невесты, но и у всех шафериц, как взрослых, так и детей, фотограф, кинофильм и под конец — специальная граммофонная пластинка, присланная из заграницы от родителей невесты, с целой поздравительной речью. Пластинка была выполнена с двух сторон, так что она была не короче свадебного договора, ктубе. Свадебный марш Мендельсона в начале и в конце и, наконец, бал.
Вся эта смесь говорила о различии среды, из которой вышли жених и невеста, о несоответствии обычаев, в которых каждый воспитывался и прожил всю жизнь. Все наводило на мысль, что такой брак не может кончиться хорошо, и, как потом выяснилось, он не был долговечным.
* * *
В октябре нас пригласили в Дганию, на празднование 25-летия Дгании-А.[623] Этот юбилей в деревне был чудесный: сад был прекрасно декорирован, были плакаты, угощение чисто деревенское, свежее и прекрасное, музыка собственного хора и оркестра, речи всех пионеров, которые за 25 лет принесли немало жертв силами, здоровьем и людьми, о чем свидетельствует кладбище в Дгании и морщины людей, постаревших без времени.
Было много гостей со всех концов Палестины, была интересная художественная программа с участием артистов и музыкантов. Было красивое шествие детей, гордости всего кибуца и надежды на будущее, начиная с малюток детского сада и кончая юношеством.
Мы ночевали в Тиверии, и на следующий день объехали все колонии и кибуцы в Иорданской долине: Дгания-Бет, Кинерет, где я имею товарищей из виленской группы «Жировцы», видели электрическую станцию в Нагараим, Мигдал, Капернаум и виллу леди Эрли возле Мигдала. Растительность повсюду богатая, и душа отдыхает на этой субтропической зелени.
* * *
Италия начала войну против безоружной Абиссинии, страх перед надвигающейся войной в Европе и во всем мире снова привел к экономическому кризису, банки были закрыты, наше «просперити», расцвет и строительство в коммерции и промышленности, тоже, по-видимому, приходит к концу. Мы лично перестали говорить и даже мечтать об увеличении нашей больницы, о покупке рентгеновского кабинета; работы стало меньше, и у меня оставалось больше свободного времени для чтения, размышления и опасений.
* * *
Мы с мамой пошли на русский фильм «Веселые ребята»[624]. Это такая же «клюква», как если бы фильм вертелся не в России, а в Америке. Для советских все, что «частное», — пережиток прошлого и карикатура.
Здесь были два прекрасных концерта Губермана[625] и Миши Эльмана[626], целое событие в нашей жизни. В «Габима» давали «Рахав»[627], пьеса из времен Иисуса Навина, действие происходит в Иерихоне. Им еврейский репертуар всегда больше удается, чем иностранный. В пьесах Шолом-Алейхема, например, нет ошибок в декорации, режиссуре, игре, даже в интонации и костюмах. Театр «Габима» будет увековечен «Дибуком», «Вечным жидом», пьесами Шолом-Алейхема: «Скрипка», «Твой народ», «Сокровище» и «Короткая пятница»[628]. В одном из концертов мы еще слышали новое произведение и очень хорошее «Доктор Дулитл» по детскому рассказу Кестнера[629], а в кино — «Сон в летнюю ночь» с Рейнгардтом[630].
От Рут было известие, что она готовится быть матерью, и в январе она вернулась из заграницы. Моя маленькая девочка сильно изменилась и возмужала. По строгим кибуцным законам она должна была рожать в больничной кассе, в районе ее кибуца. Но мы как-то выплакали ей право жить в предродовой период и рожать в нашей больнице. Ввиду того, что она все равно не могла пойти на работу на девятом месяце после такого большого перерыва, ей разрешили. Эли еще был за границей.
Я дала Рут прочесть ее дневник, вернее мой во время ее раннего детства. Как будущей матери ей это было интересно. Первые слова, шаги, зубки, сидение, стояние, даже детали о здоровье. Я ходила с Рут ежедневно гулять, мы были на выставке в северном Тель-Авиве, но когда приехал Эли, он снял с меня заботу о ее развлечениях.
Наконец появился долгожданный внук. Это был красивый здоровый мальчик. Все наше родильное отделение принимало участие в нашей радости. Рут держалась героем и не кричала. Цветов было масса, подарков тоже, сестры совместно связали покрывало для колясочки. ПРАБАБУШКА была главная персона на брисе[631]. Меир ради такого торжества прислал целую эпиталаму от дяди племяннику. Мальчика назвали Цви по имени моего отца Hirsch (Григория)[632].
Этот 1936 год нам лично принес радость, но в атмосфере была война. Саар по плебесциту перешел к Германии[633] против воли Франции, но при поддержке Англии, которая «боялась усиления Франции за счет Германии». В Германии обострился антисемитизм, Япония готовилась к регулярной войне с Китаем или, вернее, к экспансии на всю Азию. Италия показала пример, как можно подавлять слабых[634], и за это не накладывают никаких санкций.
* * *
У нас во время праздника Неби Муса[635] была арабская демонстрация, и после этого арабская делегация была вызвана в Англию. В апреле начались серьезные арабские беспорядки, которые назвали «פרעות» : убийства из-за угла, грабежи и налеты на колонии и деревни. Десятки убитых и раненых, все больницы начали наполняться.
Ввели военное положение, люди боялись по вечерам выходить на улицу, даже днем некоторые лавки не открывались. Во всех домах были постои «Гагана». Все это вносило беспокойство, беспорядок, грязь, инфекцию, особенно желудочные заболевания, по ночам телефон звонил беспрерывно, молодежь шумела, играли в карты, пили чай. Это принималось как должное, но хозяйки шушукались по углам, боясь громко критиковать. От детей были телефоны — никаких визитов или писем. И по телефону сообщали: «הכל בסדר» («Все в порядке»).
Меир с головой ушел в «Гагана» и запустил свои занятия. Когда нам с Марком выходило ездить по колониям и за город, мы переставали пользоваться своей машиной, а брали такси или поезд, потому что по дорогам арабские партизаны, вернее бандиты, разбрасывали гвозди, шины лопались, была опасность быть выброшенным из машины или быть убитым. Тем не менее в Иерусалиме был устроен медицинский конгресс, на который съехалось много гостей из-за границы.
Было паломничество на могилу д-ра Пинскера[636], Усышкин произнес хорошую речь, вечером был прием в клубе «Менора», но все речи были больше политического, чем медицинского характера. Говорилось о рождении Мессии и проч. Не знаю, не предпочли ли бы наши заграничные гости больше комфортабельного передвижения по стране и обычного «good time» всем нашим возвышенным мечтаниям. Николай I назвал бы это «напрасными мечтаниями», но для нас они были далеко не напрасны.
Рут нам писала, что из-за невозможности вывозить продукты из кибуца, из-за опасности по дорогам и разным керфью[637], у них много продуктов остается дома, кибуц экономически страдает, но питание из-за этого улучшилось. Они были настолько отрезаны от города, что их грузовик остался в Тель-Авиве и не мог вернуться. И хотя выставка в том году была открыта, все предсказывали материальное фиаско. Боялись, что из других городов никто не приедет, но евреи, объединенные одним желанием — показать врагам, что они не боятся опасности, как один человек откликнулись на приглашения и приехали. Это у нас называлось «давкизмом»[638]: наперекор всему — мы живем и строим! На открытии выставки — Levant Fair[639] — был Высший Комиссар[640], радио передавало речь мэра города Тель-Авива Дизенгофа, а также речь министра колоний Томаса[641]. Военный оркестр играл военные марши и «Гатикву».
Публика была одета гала как еще никогда; все, у кого только был цилиндр и фрак, а особенно черный костюм, появился в таком наряде. Военные музыканты даже были в красных фраках. Был весь дипломатический корпус, была масса хорошо одетых женщин, и Вайцман, и все представители учреждений, фондов и т. д. Люди, приехавшие из Иерусалима, потом рассказывали, что поездка была связана с опасностью, стража была расставлена только до того момента, как должен был проехать Верховный Комиссар, а потом дорога была пуста, без единого английского полицейского. Ни грузовики, ни автобусы не шли, и только одинокие такси каким-то чудом проскакивали. Арабы мчались по всем дорогам, стреляли, сжигали; такси и амбулансы метались по всей стране, подбирая раненых.
Среди евреев, как и во время Римского владычества, появились «ревнители», канаим, которые не молчали на арабский террор и отвечали также террором. Другие назывались сторонниками гавлага, «сдержанной политики», и между этими двумя группами тоже бывало немало столкновений. Сторонники «гавлага» считали, что если бы во время Тита у евреев было терпение выждать гибель Рима (которую трудно было предвидеть), то Иудея сохранилась бы, и Храм не был бы разрушен. Другие предпочитали погибнуть, как во время Масады[642], — с честью, чем терпеть Белую книгу, все связанные с ней препятствия для строительства Палестины и еврейского государства. Но общая линия была за сдержанность. Террористов не оправдывали.
В воздухе был хамсин и сирокко, пыльный ветер, который входил в окна, проникал в поры тела, в нос, горло и глаза. Надо было закрывать все форточки и двери. Но сирокко в политике и в стране были таковы, что от них никуда невозможно было скрыться. И все это нарастало. Несмотря на несколько сотен арестованных и предупреждения Нацива (Верховного Комиссара), что он примет меры против террора, откуда бы он ни шел, беспорядки разрастались.
Больнее всего были для нашей колонизации выкорчеванные деревья, целые рощи и леса. Пожары в деревнях и городах, особенно на полях и посадках. На убийства в Иерусалиме нескольких евреев ответили убийствами нескольких арабов[643]. Муфтий разъезжал со своей свитой по стране и вел анти-еврейскую пропаганду.
В Хайфе арабы нападали на «лифты» — коробки с вещами, прибывавшими на пароходах из Германии, остатки спасенного имущества. Евреев убивали при выходе из синема, женщин и детей. Арабская пресса развернула свою пропаганду, а английские власти, несмотря на обещания, которые давались нашим делегациям, ничего не предпринимали.
Верховный Комиссар, нацив, появлялся в наших театрах и концертах, приглашал к себе на ужин наших представителей и обещал содействие, но колониальная администрация была сильнее его, и инструкции из Лондона шли в разрез с мандатными обязательствами и с простой порядочностью.
Арабы пропагандировали непослушание правительству, неплатеж налогов, их городской голова стоял во главе бойкотного комитета, но на них не накладывали никаких санкций. Арестованных арабов выпускали за недостатком улик, а английские солдаты очень хладнокровно взирали на то, как арабы разбрасывают гвозди под еврейские автомобили. Когда еврей останавливал свое такси и подбирал эти гвозди, чтобы спасти свои шины, его же арестовывали за «разбрасывание гвоздей». Если еврей находил неразорвавшуюся бомбу и приносил ее в полицию, как было приказано свыше, его арестовывали за разбрасывание бомб. Один шофер сообщил полиции, что в Иерусалиме горит склад Шель-Компани[644], его арестовали за поджог. Если даже потом «недоразумение» выяснялось, никто не хотел влезать в историю, в неприятности и таким образом помогать правительству бороться с арабским террором.
И несмотря на все эти события, в мае была закладка тельавивского порта: приняли первый югославский пароход, который привез 150 иммигрантов. Мэра города Дизенгофа почти вытащили из постели больного, экспансивные евреи обнимались на улице, поздравляли друг друга, а Дизенгоф в своей речи сказал: «Здесь будет большой порт!»
Во всех окнах были выставлены картины, изображающие пароходы, также печеные пироги в виде лодок и пароходов, фруктовые корзины, как корабли. Все детишки в колясочках носили матросские костюмы и шапочки с ленточками, и даже дети из детских садов шли в процессии к морю.
Саботаж и убийства росли со дня на день, радио функционировало с перебоями, так что вообще не знали, что делается в стране. В Яффе объявили военное положение, антиеврейская пропаганда перебросилась и в Алжир, и в Египет.
* * *
В середине июня мы получили сообщение, что Меир заболел и лежит в госпитале. Он в своей работе для Гагана заразился и получил паратиф. Мы с Марком выехали с эшелоном солдат (שיירה), среди тридцати солдат мы были всего семь штатских, а я — единственная женщина.
Ехали мы пять часов. Мальчик выглядел ужасно, от всяких впрыскиваний он был почти без сознания, он еле нас узнал. Живот у него болел, как при воспалении брюшины. Он не давал Марку к себе прикоснуться. Мы созвали консилиум, я оставалась день и ночь при моем сыне, а когда на третий день ему стало лучше, Марк нас оставил и вернулся домой. Я переехала в отель поблизости от госпиталя и ухаживала за Меиром. Наконец я перевезла его в санаторий на Кармеле.
За это время арабы вырубили в Мишмар Гаэмек 20 тысяч деревьев. Говорили, что не меньше было вырублено и в других колониях. Меир меня утешал: «Не беспокойся, мама, мы посадим еще больше деревьев и будем защищать их своей кровью. Мы будем строить на развалинах. Эти враги наши не заставят нас прекратить нашу работу — мы будем продолжать борьбу с оседанием почвы и будем сажать и сажать деревья. Они жили среди оползней тысячелетия, в трахоме и малярии, но мы все это исправим, наперекор всем — давка! Эти варвары подрубают сами ветвь, на которой они сидят».
И так думала и чувствовала вся молодежь. Они оставили школы и университеты, они проводили бессонные ночи в охране страны, валялись, где попало, ели всухомятку, заражались в грязных уборных тифом и паратифом и дизентерией — как наш Меир, но не сдавались.
Все говорили, что наци и Муссолини имели руку в этом деле, что Муфтий был в теснейшей связи с Гитлером[645]. В поезда начали бросать бомбы, не говоря о минах, которые подкладывали под еврейские автомобили. Снимали рельсы, телефонные сети, взрывали радио и водопроводы. Английские конвои нам не помогали, из Бари шла по радио анти-еврейская пропаганда. В туристском и отельном деле появился застой, также в торговле. В Хайфе нашли целый склад динамита итальянского и немецкого производства. В Иерусалиме пробовали подложить мину под детский дом, где было несколько десятков еврейских младенцев.
После речи Ллойд Джорджа в парламенте, очень благожелательной для нас[646], начали понемногу бороться с террором. Организовывали карательные экспедиции в арабские деревни, втянули в дело аэропланы и слезоточивые бомбы. Сделали обыск в одном монастыре вблизи Вифлеема, и там нашли целый арсенал.
* * *
Когда Меир поправился, но был еще достаточно слаб, я взяла его в аэроплане домой. Вся поездка продолжалась меньше получаса, погода была очень тихая, вся маленькая Палестина была видна как на ладони — с одной стороны пустынная арабская часть, с другой — цветущее еврейское побережье. Все выглядело как на рельефной карте. Для нас с Меиром это было значительное переживание, мы оба в первый раз летели на аэроплане.
Дома его начали усиленно баловать, все, начиная от бабушки, и кончая больничным сестричками.
В августе я выбралась проведать Рут и моего внука. Мальчик стал прелестный, упитанный розовенький, [как поросеночек], с перевязочками на ручонках. У него были серые глазенки, и он улыбался в ответ на каждый свист и звук и пение. Он радовался, когда им занимались, и обижался, когда на него не обращали внимания. Тогда он кривил ротик для плача. Кашей его кормили не чайной, а десертной ложкой, потому что у него был прекрасный аппетит.
Мы с ним снимались, гуляли по всему кибуцу. Дети показали мне все новое, что было выстроено за время моего отсутствия, несмотря на беспорядки и почти войну в стране. В смысле хозяйства и быта у них все еще было довольно примитивно, на столе неизменная чашка для отбросов («кольбоа»), чай наливался суповой ложкой и был негорячий, вся пища была парная, так что не только я, избалованная, но и многие товарищи оставляли половину тарелки несъеденной и сливали ее в «кольбоа».
В комнатах тоже была бедность: щетки и тряпки коллективные, надо было ждать, пока кто-нибудь кончит уборку своей комнаты, чтобы воспользоваться этими орудиями производства. Когда я предложила купить и прислать ведро, и тряпку, и «спонджер»[647], и щетку, дети с ужасом отказались. Нельзя получать помощь извне, даже почтовые марки были в пределах дозволенного. Не допускалось, чтобы кто-нибудь писал больше писем, чем другие товарищи.
После обеда я воспользовалась подвернувшимся такси и поехала домой. По дороге я думала, что я бы уже вряд ли была способна на их жертвенность, на их зависимость от коллектива, на их скудные бытовые условия. Впрочем, это дело возраста и привычки. [Раньше я думала иначе.]
Когда я в Москве жила в микроскопически малой квартирке, все мои родные и знакомые пожимали плечами; когда я впервые устроилась в Тель-Авиве с беженской мебелью, сколоченной из досок апельсиновых ящиков, это было не лучше, чем у моей дочери в кибуце, но я лично и моя семья принимали это как должное и радовались каждой пестрой картинке и тряпке, которая украшала наше гнездо. [Мария Антуанетт в своем маленьком Трианоне чувствовала себя более счастливой, чем во всех Версалях и парижских дворцах.]
* * *
Палестина ждала приезда комиссии для решения местных дел, арабские беспорядки занимали не только нас, но и европейцев; Суэцкий канал и Средний Восток — Middle East — были вопросами международного значения и интересов. В Испании нарастало фашистское движение, Республике угрожал новый фюрер — Франко. Мы живем в период Кондоттьере[648], но в Италии это были маленькие вожди разрозненных государств, теперь это все в мильонном масштабе.
Во всей Европе нарастал экономический и политический кризис, забастовки. Антисемитизм, как пожар, перебрасывался с места на место. В Англии был страх потерять Индию, в которой было непрекращающееся брожение, и как конкурентка Англии разрасталась, или, вернее, как лягушка, надувалась Империа Романа.
Германия ориентировалась на дружбу с Японией. Политика Турции была неясна, а союз Англии с Россией был опасен для Англии как поощрение коммунизму. Нейтралитет почти ни для кого не был возможен, вопрос вступления в войну больших держав, как и малых, был вопросом времени. Англия и Франция были плохо вооружены в сравнении с Германией. При такой мировой ситуации мы были щепкой на волне. Арабы нам угрожали сбросить нас в море.
В середине августа произошло в Яффе зверство, которое возмутило и взбудоражило всю Палестину, особенно больничный мирок. Были убиты арабом две сестры милосердия на пороге своего госпиталя, когда они пришли на работу. Сестры эти учились с нашими сестрами вместе и имели много знакомых среди врачей. Кроме того, начали сыпаться бомбы на детские дома, детские сады; на улице Герцля — из окна поезда железной дороги, где десятки прохожих в то время ждали, чтобы поезд прошел; бомба в Сафеде, где старики и дети спали, и много подобных бессмысленных террористических жестоких актов. Число жертв дошло до 75.
Материально делалось все тяжелее, я начала сама ходить на рынок, чего ни я, ни моя компаньонка Хана никогда не делали. А в кухне и палатах мы с ней поделили работу, чтобы сократить персонал. Для починок и построек невозможно было достать рабочих, то же самое — для починки белья, многое приходилось делать самим в свободное время. Из-за переутомления у меня сильно разболелись ноги, пришлось себе заказать вкладки. После очков это был второй признак старости.
Большой расход тем летом был — покупка большого фрижитера, так как хамсины и жара при большом хозяйстве требовали большого фрижитера.
* * *
Однажды мне из Москвы написали, что дедушкин дом собираются снести и на его месте выстроить небоскреб. Этим как бы вычеркивалось место моего рождения и прошлое всей семьи.
Мне на следующую ночь приснилось, что я в каком-то большом и неуютном отеле. На берегу моря погибает на моих глазах пароход. Пассажиры каким-то чудом спасаются. Я хочу найти свой дом, может быть, это московский, или отчий виленский, или наш палестинский — я не знаю. Но я его не нахожу, ни переулка, ни номера дома, ни даже адреса. Дом сожжен и корабль сожжен. Я хочу отдохнуть в своей квартире, но вспоминаю, что в ней живут чужие люди. И этот кошмар повторяется много раз.
Я проснулась вся в слезах. Когда я осмотрелась и увидела, что я в своем доме, я решила, что это — символический сон еврейского народа, который потерял свой национальный дом, всегда просыпался на чужбине, и только теперь мы с невероятными трудностями заново строим свой дом.
В Тель-Авиве нашли адскую машину немецкого производства. На кибуц, где жили наши дети, были попытки нападения, но наши отбили. Нашему полугодовалому внучку приходится начинать свою жизнь в период войны.
В Испании разыгралась война, на которую были способны только потомки Торквемады и любители боя быков. В Германии изобрели законы специально для евреев под названием Нюрнбергские, а арабы организовались в Панарабию. Расовая ненависть разгорелась во всем мире. В Палестине под влиянием беспорядков все еврейские партии объединились, и прекратилась обычная между ними грызня. Колонисты начали давать работу еврейским рабочим, хотя они обходились дороже, но были вернее в смысле безопасности. <До сих пор они пользовались арабскими рабочими.> У нас организовалась новая милиция под названием «Гафирим»[649] — для самообороны. Англичане под предлогом беспорядков ввезли много войск, так как им нужны были базы близи Суэца и Египта. Евреям и арабам это стоило несколько сотен жертв. Мы знали, что со времен губернаторов Больса и Сторса всегда была тенденция проводить политику «divide et impero», поддерживать иногда евреев, чаще арабов, и под шумок привозить войска в подмандатную страну, где по закону им быть не полагалось. Порядочные Верховные Комиссары не могли бороться с этими империалистическими тенденциями и должны были резигнировать[650], другие же проводили колониальную политику, принятую всей британской империей.
К концу лета «Таймс» вдруг принял направление за евреев, писал, что мандат не выполняет принятых на себя обязательств, что евреи имеют исторические права на Палестину и что требования на покупку евреями земель и иммиграцию вполне законны. Увидели, что террористические арабские банды слишком далеко зашли, так как среди англичан тоже были жертвы.
* * *
В сентябре умер первый мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф[651], и для всех это был сильный удар. 16 лет тому назад, когда Тель-Авив еще не был городом, а маленьким городком, этот мэр и его жена Цинна умели обогреть каждого новоприехавшего и помочь устроиться. Все еще помнили, как на белом коне Дизенгоф, наш Городничий, гарцевал в пуримном карнавале, и весь Тель-Авив приветствовал его криками «Хейдад!» («Ура!»).
Траур был очень большой, и на улицы высыпало 120 тысяч человек. После Бялика он был самый популярный в городе человек.
Лето 36-го года было очень жаркое. И так как не было возможности платить двойному персоналу: тому, кто в отпуске, и тому, который их заменяет, я сама варила и заменяла то кухарку, то компаньонку, то экономку, то сестер.
От детей из кибуца было письмо, что Эли стоит на страже, что у Рути окончательно пропало молоко, и что они сомневаются, смогут ли в этом году провести свой годичный отпуск у нас, так как дороги опасны и с ребенком трудно ехать. Зелень из колоний не привозили, арабскую зелень мы бойкотировали, так же как они — наши товары, и нам пришлось вынуть все цветочные посадки в саду и заменить их грядками моркови, томатов, петрушки и свеклы.
К концу октября началось временное успокоение в стране, правительство начало принимать более строгие меры против террора, особенно после того, как было убито несколько англичан.
Когда наша кухарка и главная заведующая сестра и другие работники вернулись из отпуска, мы с Марком начали подумывать, как бы нам лучше использовать наш отпуск. Мы решили снова на некоторое время поехать в Европу, чтобы поработать в клиниках. Марк хотел снова специализироваться — на этот раз по операциям туморов[652] и раковых заболеваний, я — изучать диету. Несмотря на нашу третью молодость, мы снова ехали студентами, и средства у нас тоже были студенческие.
Я даже не поехала в Иерусалим за визами, передала все туристскому бюро, а с туалетами решила не возиться, а ехать в том, что имела. Рут, после того как она отлучила ребенка, приехала к нам попрощаться. Она выглядела похудевшей и истощенной душевно. Меира мы должны были повидать в Хайфе.
Мы ехали пароходом «Адрия», вторым классом. Страх за нашу оставшуюся семью, усталость после непосильной работы сделали эту поездку значительно скромнее в бюджете, но мы все же решили взять для отдыха и усовершенствования все, что возможно и позволительно нам с такими малыми деньгами. На пароходе вокруг нас образовалась приятная палестинская компания. По вечерам мы смотрели итальянские фильмы, и на этот раз это были мои любимые герои молодости: Мария Башкирцева и Пер Гюнт.
Мы часами лежали на палубе в шезлонгах, закутанные в пледы, говорили обо всем, о чем дома нам некогда было поговорить, мы действительно нуждались в этом тет-а-тет, которого не имели с нашей последней поездки в Европу. В Триесте мы обедали в маленьком приятном ресторанчике — прекрасная жареная рыба-филе и наш любимый кьянти. Мы отдыхали в старом отеле Савой, где залы и коридоры имели расписанные цветные стекла, огромные мраморные колонны и мягкие, хотя и потертые, большие ковры.
Ночью мы стояли у окна вагона, который нес нас мимо Тироля, Земмеринга в Вену [как во время нашей первой поездки в Палестину 16 лет тому назад].
Моя подруга Нина, которая была мне всегда сестрой, помогла нам устроиться вблизи ее дома, в меблированной комнате, где я имела право варить на спиртовке завтрак и ужин. Обедали мы в госпитале, в котором оба работали. Я себе купила теплое пальто, и Нина нашла мне дешевую портниху, которая переделала все мои платья, чтобы придать более нарядный и репрезентативный вид всем моим туалетам. Фешь! — как они говорили.
Вена, как всегда, была культурна, изящна и весела. Ее фашизм был спрятан еще где-то далеко, глубоко и проявился значительно позже. Впрочем, под обшлагом костюмов и даже пальто можно было иногда видеть Hakenkreuz[653]. Улицы приятные, спокойные, элегантные, театры с Прессардом, Рейнгардом и др. были для меня, как вода для рыбы, также и музеи, в которых я снова видела Тинторетто, Ван Дейка, Рубенса. Мы в свободные дни ходили куда возможно: в Бург, бывшие апартаменты Франца Иосифа, Марии Терезии, Марии Антуанетты, Елизаветы Австрийской. Гобелены во всю стену, реликвии Венского конгресса, комната, в которой принимали императора Александра Первого, портреты и сувениры всех австрийских принцесс, Рудольфа и портреты Марии Вечери, Наполеона и его жены Марии Луизы. Мы заблудились в истории, которая ушла и никогда уже не вернется — вместе с Габсбургами. Парламент был закрыт, и улицы Вены пусты. Я вспомнила, как профессор Геддес предсказал смерть некоторых столиц Европы: Петербурга, Вены…
Мы начали работать в госпитале, где было большое отделение раковых болезней. Марк присутствовал при операциях, я работала в кухне и прислуживала в палатах. По вечерам мы делились нашими впечатлениями. У нас была голландская печурка, которую мы сами топили брикетами угля и дровами и в которой я пекла картошку. Венский шницель (покупается готовым и только поджаривается) и готовый салат был нам ежедневный ужин. Я решила поправить Марка, который в этом сильно нуждался. Венские пирожные и пиво он получал на десерт. Марк говорил, что всегда, когда мы вдвоем, он счастлив. <Париж в «сокращенном виде»!>
Мы работали так усиленно, что у нас едва хватало времени на обеденную паузу; я прошла программу диететической кухни как теоретически, так и практически, и кухонная бригада из восьми человек мне в этом помогала. Также сестры-монахини ценили мое прилежание и давали мне работу в палатах. Я научилась многим новым венским блюдам, особенно печению. У Брихер-Беннера алкоголь и яйца были запрещены, здесь я делала разные «лодо», на желтках и вине. Я специализировалась на диете диабета и др. внутренних болезней. Техника работы в большом госпитале на 120 кроватей тоже была мне интересна, выдача пищи по палатам, записи на досках, квитанции и бухгалтерия, инвентарь и проскрипции[654] врачей и проч. правила ведения больничного дела.
В театре мы были на «Св. Иоанне» Бернард Шоу с Весели, на «Призраках» Ибсена с Дюрье и Эрнестом Дейтшем; Весели в <роли> Жанны Дарк мне не очень понравилась, но Дюрье была прекрасна, она дала новый тип женщины-матери, еще молодой, не изжившей себя и стоящей выше среды. Зато Дейч был не тот Освальд, какого я видела в России в исполнении Самойлова, Орленева и Карамазова. Новое время, новые птицы и новые песни. Еще мы видели комедии: «Матура», «Жан», «Жареный цыпленок» и тому подобное. Воскресенье мы бывали в церквах на разных «месса Солемнис»[655] в Стефанскирхе и других. В музее Барокко — Бельведер, прекрасный музей-дворец, с садом и картинной галереей, мраморными залами с огромными окнами в сад. Роскошь ушедшей Империи.
Кроме классического музея там была выставка модерного искусства, Сезанн, Дега, Ван Гог, Кокошка, Либерман, Ренуар, Роден и сотни менее знакомых мне художников австрийской, французской и голландской школы. По субботам мы заглядывали в Палестинский локал, где встречали сионистов и палестинцев.
Мы были в обсерватории Урания, смотрели луну, потухший вулкан, с массою кратеров, Сатурн с его обручем, и хотя я в первый раз видела мир через телескоп, я всегда, смотря на небо, испытываю чувство нашей незначительности, необъятности мира и суетности всех наших тревог и волнений. Однажды мы были приглашены в дом одного знатока герцлизма Ниссенбаума[656], и в тот вечер был интересный доклад об эпохе герцлевского движения, были еще несколько приглашенных из-за границы, нам показывали герцлевский музей, его портреты, старые издания рукописей, разные реликвии нашего великого вождя, так что вечер прошел в атмосфере оригинального венского сионизма. В симфоническом концерте мы слышали Пятую бетховенскую симфонию с Бушем[657], а в опере «Травиату». На этот раз голоса были прекрасные, но как Травиата, так и ее партнер Альфредо были стопудовые. (Может быть, это был Лео Слезак?[658]) Их папаша выглядел седым мальчиком в сравнении с главными героями.
Если бы не хор и оркестр и солисты и прекрасные декорации, я бы вообще перестала ходить в оперу, в ней сохранилось что-то примитивное от «зрелищ», без которых люди не в состоянии воспринимать музыку Мы были в натуралистическом музее и в Сокровищницах.
Однажды мы даже раскутились и пошли в Диана-бад — который мне напомнил наши московские центральные бани. Удовольствие было большое. Сначала купание под горячим душем, потом еще более горячий душ — лежачий, как водяной массаж, потом бассейн и плавание в теплой воде, наконец в теплом банном халате — маникюр и прическа.
Встретились мы с Марком в кафе при тех же Диана-бад, и было чувство, что мы как-то обновились, освежились и помолодели на десять лет. Все это удовольствие стоило на наши деньги — пустяки.
Какое-то тяжелое предчувствие говорило мне, что если это не наша последняя вылазка из Палестины, то пройдет еще много-много лет, пока я снова выберусь из дома. И поэтому, когда был вопрос, быть или не быть, идти или не идти (из-за денег, погоды или даже работы), я всегда настаивала, чтобы мы брали билеты даже на галерке, но ходили бы куда-нибудь по вечерам и в свободные дни. Марк с его податливым характером мне никогда не делал трудностей.
Из Палестины мы получали часто письма. Нам писали, что комиссия Пиля[659] работает во всю, что ждут Тосканини для дирижирования нашим симфоническим оркестром, а мама справляла свой 70-летний юбилей, и дети приехали ее поздравлять, все ее друзья и дамы прислали ей цветы и принесли подарки. Она получила нашу телеграмму и уже с нетерпением ждала нашего возвращения.
Мы на рождественские каникулы 1937 года сделали маленькую вылазку в Чехию: дешевым манером, с туристическим обществом поехали в Прагу. Мы в самой Праге тоже взяли круговой билет на автобусе и объехали все достопримечательности. Мы видели старый город, синагогу и статую Реб Лейбела[660], Градчаны, много церквей, слушали Мессы в церквях, благо праздниками повсюду были торжественные богослужения, и как ни странно — в пятницу вечером в синагоге играл орган и пел мужской и женский хор. Я была поражена, когда у дверей синагоги стояли нищие и просили милостыню. Я спросила еврея-чеха: «Ведь теперь суббота и нельзя держать деньги в руках?» На это он мне ответил: «Мицва — милостыня всегда дозволена». <Пражские евреи считали, что «история Праги — длинная история евреев в Праге».>
Самое сильное впечатление мы получили от старого Гетто и тех цепей, которые сохранились в Мерии[661], в музее, как воспоминание о старом Гетто. И еще надпись на мосту, по-еврейски: «кодош, кодош, кодош»[662], при распятом Христе. Какое унижение и издевательство должно было быть для набожных правоверных евреев, если они должны были проходить по мосту и поклоняться чужой святыне против своего убеждения!
По вечерам мы и в Праге ходили в театр — видели оперу «Проданная невеста» Сметаны и были на фильме с Мартой Эггерт.
Мы вернулись в Вену усталые, с некоторой дыркой в кармане, но очень довольные.
* * *
Мы решили энергично закончить наш курс и план занятий, и по вечерам мы уже оставались дома, чтобы готовиться — мне к экзаменам, Марку к той научной работе, которую он собирался опубликовать.
Перед самым отъездом нам еще удалось побывать на концерте Шаляпина, последнем, который я слышала до его смерти, и он пел арии из «Бориса Годунова», и «Фауста», «Демона», все, что я в юности слышала в Петербурге. Настроение в Европе и в самой Вене перед нашим отъездом было уже довольно сгущенное. В Испании, в Абиссинии и на Дальнем Востоке шли подготовления и военные действия, как в начале пожара — то тут, то там искра, которая вскоре охватит пламенем все здание.
В нашу честь друзья устроили предотъездный чай; Нина собрала своих знакомых венцев, были также врачи из того госпиталя, где мы работали. Мы пробовали их уговаривать запаковать чемоданы и поехать в Палестину. Австрия стояла перед «аншлуссом», и было ясно каждому ребенку, что Гитлер не оставит свою родину в покое. Но они отвечали все в один голос: «Вы не знаете венцев, это не немцы, у нас этого не может быть!» Мы сделали несколько прощальных визитов, к профессорам и врачам. Все они жили в прекрасных виллах, с вышколенной горничной в белом переднике и чепчике, которая нам открывала дверь и прислуживала за столом, со своим выездом, с необычайной обстановкой Bidermajer, с разными украшениями в стиле «Alt Wien»[663]. Все они были музыкальны, имели огромные рояли Бехштейн или Блютнер или Стенвей, все они говорили о будущем, как если бы оно было таким прочным и непоколебимым, как и их прошлое.
Роскошное угощение и веселая музыкальная атмосфера делали свое: хотелось хотя бы на этот один вечер забыть о той туче, которая нависла над человечеством и над еврейским народом, перестать быть Кассандрой и пессимистом. Эти ужины и вечера я не раз вспоминала, когда потом мне приходилось хлопотать о визах в Палестину для этих самых врачей-евреев, которые смеялись над нашими опасениями. Человек слеп и успокаивает и убаюкивает себя и своих близких, пока гром не разразится над его головой. Всех этих коллег разнесло ветром по всему миру: от Шанхая до Нью-Йорка, от Палестины и до Кипра. Большинство погибло в самой Вене. В Цюрихе мы остановились на несколько дней, и там наши пути с Марком разошлись на несколько недель.
* * *
Он поехал работать в Женеву, в университетскую клинику, я остановилась в санатории близ Лозанны, где был хороший вегетарианский стол и где мне было чему поучиться.
Несколько дней я проболела инфлуэнцией, которую схватила еще в дороге. Но меня скоро поставили на ноги: в этом санатории не признавали лекарств, только разные чаи из трав, ингаляции и горячие ванны.
Когда я поправилась, я начала работать в кухне под руководством французского шефа. Я научилась варить блюда, заменяющие мясо и рыбу, я купила несколько французских кулинарных книг, таблицы вычисления и проч. Интересны были диеты на понижение веса.
Этот санаторий La Loriers принадлежал адвентистской общине, прекрасно поставлен, с очень вышколенным и спокойным персоналом. Особенно в кухне было приятно работать в такой уютной атмосфере, которая была непохожа на нашу вечную спешку, с нервами, перебоями, с которыми мне всегда приходилось так тяжело бороться. Я всегда до этого и после этого боролась за снижение горячки, градуса спешки. У них казалось, что все делается само собой, шутя. Там была традиция, строго выработанный план, который мало меняется из года в год — и только сезон требует перемен. Иногда вводятся новые системы и новые методы, которые только слегка кое-что меняют или улучшают. Я это приписывала влиянию религии. Субботние богослужения были скорее похожи на клуб, в котором было чтение священных книг, и эти заседания происходили не в церкви, а в общем зале. Речи произносились главным врачом, не пастором, а врачом, одетым в обычное партикулярное платье, эти речи были большей частью на светские темы, не лишены культуры и модернизма, хотя и проникнуты глубоким христианским духом.
Все сестры были молоденькие и хорошенькие, готовились в миссии к поездке на дальний Восток, заграницу, все глубоко убежденные и радостные. В них не было католической мрачности и строгой дисциплины, послушания, жертвы, они выглядели все добровольцами.
В санатории была прекрасная библиотека, и я нашла хорошие книги, прочла Геррио — о Бетховене, Давид Неель — о Тибете[664] и др. Прочла Жан Жака Руссо, которого я не держала в руках со времени Лозанского университета.
Адвентисты и к политике имели свое философское отношение: они говорили, что пришел «конец света», что есть «знаки» (жестокая Испанская гражданская война, сильное наводнение в Америке, Антихрист в Европе — Гитлер). Они верят в Мессию. Многое звучало как суеверие. И из опыта мы видим, что только личные страдания кончаются смертью, мировым же нет конца: поэтому нет и надежды на конец злу и страданиям.
Наш Меир писал в письме: «хорошо, что в Испании нет евреев, иначе у нас было бы одной заботой больше».
Природа в этой части Швейцарии была захватывающе красива, я гуляла по снегу, выходила к озеру Леман, смотрела на Альпы, ездила в Нион Глан (Nion Gland).
В одно из воскресений приехал Марк меня навестить. Мы с ним гуляли по окрестностям: свернули с главной дороги и пошли мимо богатых вилл. Поместья на берегу Женевского озера принадлежали иностранным богачам: американцам, англичанам, французам. На всех воротах почти были надписи: «Приве»[665] — частная, мол, собственность. Вход запрещается или остерегайтесь собак.
Несмотря на это или, может быть, именно поэтому в Швейцарии была борьба партий, развивались нацизм и коммунизм, как и в других странах. В санатории на стенах был приказ: «Запрещено говорить о болезнях и политике», потому что политика тоже болезнь и волнует.
Перед отъездом из кантона «Де во» (De Veau), я успела осмотреть фабрики и все хозяйство. Холодники, комнаты в которых хранятся легко-портящиеся товары, продукты, коридоры с запасами зелени — в шкафах из плафонов, сухие запасы и проч. Фабрика «Фаг» снабжала эту санаторию, как и другие больницы, диететическими товарами: хлебом, бисквитами, макаронами, питательными медикаментами для диабета и других болезней.
Протозы — вегетарианской «клопе», или «фальшер Хазе», как его там называли. Интересно производство картофельной муки, лишенной углеводов (сахара), овощной экстракт «Сеновис», который заменяет по вкусу и питательности мясной «Маги», кроме того — молочное хозяйство, птица, яйца, огороды. Всякая зелень — фрукты, ягоды, напитки, разные сидры, морсы, компоты, и варения, грибы, спаржа, всякие желе — все это продукты, которые вырабатываются дома, в собственном хозяйстве, на близлежащих фабриках или привозят из окрестных мест и получают по оптовым ценам. Только мясо в количестве 250 грамм на человека в неделю санаторий покупал в магазинах.
При таком ведении хозяйства цены на продукты вне конкуренции. Мы, например, платили за полный пенсион половину того, что наши пациенты платили нам дома. Персонал у них сравнительно небольшой, не только с нашим, но и с венским, но толк и преданность делу, и количество и качество работы были несравнимо лучше.
* * *
Несколько раз я ездила в Лозанну. Я бы могла назвать эти дни в Лозанне — как Пруст, в поисках потерянных лет, но иначе — в поисках «Шале Сувенир» и старых воспоминаний. С Лозанной у меня было связано самое раннее детство и потом первые студенческие годы. 27 лет я не была в этом городе. Я спустилась в трамвае в Уши. «Отель де Шато», в котором мы с мамой и няней жили, стоял заколоченным, может быть из-за зимы. Как это ни странно — церковь Сан-Франсуа мне показалась очень маленькой, может быть потому, что вблизи от нее выстроился небоскреб. «Отель де Шато» как бы вырос, старые камни, старый зачарованный замок. «Отель Д’Англетер», где жил Байрон, «Бо Риваж», «Парк Отель», чайки на озере, ничего не изменилось.
Только пляж на берегу озера немного модернизирован, и поставлены две статуи: одна «попранная Бельгия»[666], благодарность Швейцарии за помощь во время войны, и вторая, скульптурная группа мартышек, с философской надписью о бренности нашей человеческой жизни. «Смотри одним глазом, умей молчать, слушай одним ухом. Не опаздывай!»
Дорога из Уши в Жордиль тоже как будто не изменилась, те же магазины, где в юности я покупала швейцарский шоколад, писчебумажные принадлежности, где я разорялась на открытки с видами. Живы ли хозяева этих магазинов? Я сомневалась. Я блуждала по самому Жордилю, где стоял мой маленький пенсион, в котором я жила 17-летней студенткой, — «Шале Сувенир», с комнатой, обитой кретоном с красными цветами, с обоями в том же цвете, с окном, выходящим на Женевское озеро, с маленьким калорифером и пузатым комодом со старомодным зеркалом.
Я искала этот дом и соседний с ним пенсион для благородных девиц, которые играли в теннис и зимой занимались спортом, гуляли по саду с розовыми щечками. Говорили на французском языке со всеми акцентами: русским, турецким, немецким, английским и польским.
Все исчезло, как сон, как забытая некогда сказка или легенда, давно прочитанная книга, 27 лет тому назад. Я себя спрашивала: «Ты ли это, Маргарита?»[667]
Вместо всех тех кривых романтических улочек, какие-то ровные, распланированные дороги, высокие модерные дома. Вместо садов — ряд магазинов, вместо деревьев айвы, фиговых и яблонь — новые кварталы с новыми названиями. Я искала прошлое, я искала ту девочку с косами вокруг головы, и я не находила. Я разочарованная вернулась к фуникулеру, который поднял меня обратно в город.
В этом же фуникулере девочка с косами, но во «взрослой» шляпе из бежевого велюра с лиловой лентой (мода того времени), в кофточке с высоким воротником, в длинной юбке до щиколоток, с головой, полной стихов Альфреда де Мюссе, Виктора Гюго и лекциями по истории и философии, литературе, всегда увлеченная чем-нибудь или кем-нибудь, ездила каждый день в Ситэ и в университет.
Теперь из зеркала — стекла окна на фоне туннеля — на меня смотрела дама 44 лет с проседью, в дорожном коротком тайере, в небольшой шапочке с вуалью, с усталыми глазами. «Ты ли это, Маргарита?»
Когда я вернулась в город, я искала тех итальянцев, музыкантов, которые нам устраивали серенады при выходе из университета, и еще продавцов горячих каштанов. Но и их не было. А те чертовски красивые студенты, которые ездили со мной и моей подругой Ядей в фуникулере и потом сидели с нами же и слушали лекции, и между лекциями заходили в маленькую кафетьер, верно тоже превратились в таких же обрюзгших буржуа, как и мои виленские товарищи. Ту пасс, ту касс, ту ласс![668] Я вспомнила такого толстого швейцарского мещанина: когда мы, я и мои подруги в фуникулере, возвращались с концерта: он говорил своей жене: «Концерт был прекрасный, и в 11 часов мы в постели!» Мы с подругами переглянулись с возмущением — это был концерт Яна Кубелика, который нам казался божественным. Небоскреб вырос на Гранд Понд, американского размера, дорога к Пале де Рюмин изменилась тоже до неузнаваемости.
Лозанна когда-то была маленьким университетским городом, с русскими эмигрантами-революционерами, сосланными за границу или бежавшими из Сибири, со студентами из Бельгии, Америки, Франции и Англии, не говоря уже о немногих швейцарских студентах.
Улицы были маленькие и грязноватые, во время дождя и тающего снега, площадь перед университетом тогда служила базаром с сотнею киосков, всеми сортами зелени, кресс-салатов, брюссельской капустой, каштанами, орехами, дичью и др. продуктами.
Теперь университет перенесли в Шайи (Chailly), и там наверху образовался особый город ученых. А Пале де Рюмин перестроили, прибавили какие-то колонны с чашами наверху, для рефлекторов, для иллюминаций в праздничные дни. В вестибюле Пале де Рюмин — была выставка картин и статуй. Такие же перемены были в Ситэ, месте старого университета.
Кроме старой церкви и прекрасного вида на всю Лозанну с Альпами и Озером, ничего не осталось. И город внизу, с огромными зданиями был не похож на мою старую Лозанну. Когда я пешком спускалась вниз, я прошла мимо площади Паллады; фигура облупившейся старой девы, в костюме Жанны Дарк, приблизительно, с завязанными глазами и весами в руках. Слепая, выцветшая, старомодная девица — богиня права, законности, справедливости! Она, как и справедливость и честность, постарела.
Я вернулась в центр города к кафе «Ольд Индия», к магазину Боннара и к церкви Сан-Франсуа. Вечером я пошла на концерт Корто[669]: «Карнавал» Шумана, я не могла удержаться от слез: меня волновали воспоминания детства, юности, перемены в жизни и во мне самой.
Я рада была, когда через несколько дней я через Симплонский туннель и Лаго де Маджиоро вернулась в Италию, где меня ждал Марк. Он прибыл в Рим аэропланом и встретил меня на вокзале. Мы оставались в Риме несколько дней. Как и в Праге, здесь мы могли себе позволить только короткий осмотр в автобусе с компанией туристов. Мы видели все то, что показывают туристам, но и этого было достаточно, чтобы быть благодарной судьбе, что я дожила до этого дня. Многие картины и статуи я знала по описаниям и по репродукциям, по копиям в галереях других европейских и русских музеев.
«Моисей» Микель Анджело, Вилла Боргезе, статуи Кановы[670], Рафаель, Давид, работы Бернини, Колизеум, Капитолий. Общий вид на Рим вблизи статуи Гарибальди, Тибр, церкви Св. Стефания, Св. Лоренцо, Св. Павла. Скала Санта, лестница, якобы привезенная святой Еленой из Иерусалима, по которой подымаются на коленях до самого верха, и многое другое. В Риме мы были поражены тем, как часто мы находили остатки древнего Иерусалима, нашей древней столицы, надписи на еврейском языке, еврейское Гетто, Арка Тита и много других еврейских реликвий, также модель древнего Иерусалима. В церкви св. Петра нам показали даже колонны из храма Соломона. Необыкновенное богатство католических церквей, церковь Латерана с необыкновенными мозаиками, картинами, фресками, мраморными колоннами и огромными статуями апостолов.
Круглая Батистерия, выстроенная на развалинах бывшей ванной комнаты какого-то патриция, с музыкальной дверью и очень красивой колоннадой. Все это не в духе Христа, не Сант-Франциска, не в духе христианской церкви.
Мы ездили по Вия Аппия мимо древних вилл и гробниц к катакомбам. Там монах нас водил по подземному лабиринту с маленькими свечками, хотя я заметила, что в подземелье было проведено электричество, и там, как и везде, говорили о мартирах[671], о Савле и Симоне, которые потом превратились в Павла и Петра, которых те же римляне распинали, как и Христа.
Игнатий Лиаола[672] удостоился самой богатой и нарядной церкви. Но красивы в Риме Палатин, сады Фарнезе, дорога мимо бань Каракаллы, фонтаны и все, что было вывезено из Греции.
Меньше всего мне понравилась Венецианская площадь и монумент Виктора Эммануила.
Муратов говорит о Риме: «Барокко преобладает в Риме. Построенные в этом стиле дворцы и церкви составляют неизменную и типичнейшую черту города. Надо искать в Риме Рим античный, христианский, средневековый, Рим Возрождения. Но Рим Барокко искать нечего — это до сих пор тот Рим, который прежде всего узнает каждый из нас»[673].
Гайд, который сопровождал нас, был крещеный еврей, который получил свое образование в Иезуитском колледже. Он говорил на всех языках, работал не за страх, а за совесть, и, несмотря на то что кроме туристики он еще давал уроки иностранных языков, был обтрепан, брал на чай и выглядел довольно жалко. Он ревностный католик и говорил о Святых с восторгом и благоговением. Когда узнал, что мы из Палестины, просил нас передать поклон какому-то родственнику в Тель-Авиве.
Прекрасно сохранен Пантеон, не верится, что этому зданию две тысячи лет. Биржа со стеной времени языческого бога Нептуна изумительна. И кошки, которые фигурируют у всех романистов и путешественников, действительно блуждают вокруг этого храма.
И хотя мы видели все красоты Рима только с птичьего полета, но Ватикан, Сикстинская капелла, Микель Анджело, старый Капитолий со статуей Марка Аврелия, части Колосса, Колизеум, Квиринал и новостроющийся Рим, все это дало столько сильных впечатлений, что захватывало дыхание: столько богатства было накоплено государством и церковью за тысячелетия, столько силы и красоты, и столько жертв приносили люди, те, которые работали в поте лица своего и силою талантов, <и пожертвованиями верующих, и приношениями>.
Суббота в Риме Муссолини считалась военным днем: все дети освобождались от школьных занятий и, как аракчеевские потешные[674], как советские октябрята, упражнялись в военной муштре. Вблизи форума Муссолини, в военной форме с маленькими ружьями, эти солдатики шагали, упражнялись, отдавали честь с застывшими, как маски, лицами, как если бы им завтра идти на войну. И так начинали воевать дети чуть ли не семилетнего возраста.
Сам форум из краснозема с зеленью и белыми статуями дискометателей и других спортсменов был довольно эффектен, но далеко не так красив, как древние остатки форумов Траяна, Цезаря, Августа и др.
Триумфальные арки напоминают о триумфах агрессоров, форум Муссолини теперь напомнит об их поражении.
Термы Диоклециана, археологическая дорога, фонтаны, и снова галереи и сад Боргезе, и лежащая статуя <красавицы> Паулины Бонапарте, и снова много Рафаеля и вид с Яникула, статуи Гарибальди и его жены, дворец Фарнезе, храм Весты, храм Венеры Римской, старинный театр Марцелла, и снова Ватикан. Мы поняли, что нельзя расстаться с этим вечным городом без сожаления, что недаром туристы бросают в фонтан Треви монету, чтобы всегда хотелось вернуться и изучить его не мимоходом, а основательно, и дышать долго его красотой.
Но еще больше меня потянуло в Грецию, потому что все красивое в Риме привезено или создано под влиянием Эллады.
Всегда, когда я вижу это увековечение пап и кардиналов и королей и царей, все эти тщеславные стремления к вечности великих мира сего, которые неизбежно поощряли гений художников, скульпторов, архитекторов, я себя спрашиваю: могут ли современные государства позволить себе ту же роскошь? Техника современная утилитарна, функциональна, направлена больше на использование пространства, времени, экономии силы человеческой и меньше на эстетику. И эстетика переменилась. Время барокко с бесконечными украшениями прошло, прямая или кривая линия заменили все завитушки и украшения прошлого. Даже прочность зданий и размеры должны быть другие. [Погреба наподобие катакомб и пирамид теперь не лишни, но нет тех рабов, которые смогли бы на своих плечах, раздавленные тяжестью камней и монолитов, выдержать эту нагрузку.] Теперешние войны куда ужаснее, чем те, которые были во время цезарей, так что машины и бульдозеры и все новые способы постройки направлены не в сторону «красивости», а грандиозности.
Вечером нам посчастливилось попасть на «Дон Жуана» в исполнении миланских артистов «Ла Скала». Впрочем, мы еще посетили «Ла Скала»: «Тоска» и балет «Коппелия» Делиба. В Милан меня тянуло главным образом, чтобы посмотреть Миланский собор и «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи в церкви Санта Мария дела Грация. Сама церковь очень старая и скромная, и тем большее впечатление производит «Вечеря». Были, конечно, в музее Брера[675], картины Рафаеля, Тициана, Веронезе, Гвидо Рени, Перуджино и много того, по чему годами тосковало мое сердце.
Очень интересен был белый карнавал на Плаца де Дома, снежный и веселый; в маленьких ресторанах, в галереях и на миланских улицах забывалось обо всех угрозах будущего.
Но наши капиталы приходили к концу, и надо было торопиться домой.
* * *
Мы вернулись в марте. Дети приехали с нами поздороваться. Наш сад был уже в своей весенней красе. Его перекапывали, а анемоны я ставила в плоские вазы.
Наш врач по женским болезням, гинеколог, преподнес нам приятную новость: старый холостяк, он решил наконец жениться и только ждал нашего приезда, чтобы взять отпуск. Он женился на нашей главной сестре, немолодой, но прекрасной хозяйке, очаровательной девушке. Ее судьба давно мне не давала покоя.
Мы были унтерфирерами (посаженными) на их скромной свадьбе, я помогла сестре Эстер устроить ее новое гнездо.
Но мою бедную маму я нашла не в хорошем состоянии, у нее появились симптомы грудной жабы и склероза, она выглядела постаревшей, полубольной, но не переставала, как белка в колесе, целый день бегать по квартире с пыльной тряпкой. Она утверждала, что движение ей полезно, что это панацея против старости и болезней. Мы с ней начали каждый день выезжать к морю, и там, в кресле в кафе, она отдыхала с рукоделием или книгой.
* * *
В 37-м году были первые опыты, «алия ал гакарка»[676], основания кибуцев в ударном порядке. Ночью приезжали грузовики, нагруженные 250-тью людьми, с материалами, с готовыми домами из дерева, с вещами, утварью, мебелью, продуктами, посудой, с ружьями для охраны и всем необходимым.
В течение ночи все это разгружали, ставили водокачку, сторожевую будку, обносили двор изгородью из дерева, причем стены были двойные, внутрь насыпались камни, песок и щебень, иногда даже заливалось все бетоном: это была готовая крепость с водокачкой, которая служила наблюдательным пунктом. Сооружали бараки, кухню, и когда арабы на следующее утро просыпались, они не верили своим глазам: за ночь на пустыре вырос целый поселок, из кухонной трубы валил дым, пекли хлеб, нагревали воду, варили суп, в стенах были отверстия для стрельбы, и во дворе копошились люди. На всех четырех <угловых> башнях стояли солдаты.
Однажды мы с Марком и Меиром поехали посмотреть такой новоиспеченный кибуц на берегу Тивериадского озера, со стороны Сирии, — Эйн Гев[677]. Мы взяли с собой туриста, журналиста из Дании. Он был потрясен темпом и геройством нашей молодежи, он не хотел верить, что два дня тому назад здесь еще была пустыня, волны из озера омывали скалистый берег.
Вторая поездка была к детям в кибуц, нам писали, что наш зять Эли заболел малярией, которую он схватил при осушке болот. Мы привезли его к нам в своей машине, уложили и ухаживали за ним.
В сентябре мы получили известие из Давоса, что наш друг Карасин скончался: наше последнее письмо, посланное из Швейцарии, он получил, но не имел сил ответить на него. Давосские больные лишились отца. Я видела его в жизни два часа, и мы оставались друзьями до его смерти, четыре года.
* * *
Сентябрь был очень жарким. На сирени распустились почки, чего никогда не бывало; у соседей тоже сирень зацвела во второй раз. Все вставляли ее в вазы и показывали друг другу, как чудо. В октябре случилось второе чудо: Иерусалимский муфтий был смещен со своей должности и успел куда-то скрыться, а весь арабский комитет был арестован и сослан в Африку. Это случилось потому, что на этот раз жертвою их террора был английский офицер Андреус[678], который был очень порядочный человек.
У арабов нашли компрометирующие документы при обыске.
По вечерам мы не хотели выходить, было жутко. Мы сидели при радио, слушали концерты Шнабеля[679], увертюры из Розамунды[680], Генделя и Бетховена. [Я прочла книгу о театре, воспоминания артиста Малого театра Ленского[681].]
Однажды в жаркий октябрьский вечер я наблюдала интересное явление на нашем балконе. Вокруг лампы вились стаи бабочек, мотыльков и других всяких насекомых. Среди них были и ящерицы и хамелеоны. Мотыльки были очень большие — те, которых Иза Кремер называет в своих песенках «мертвой головой», и совсем малюсенькие, как мушки.
Мухи простые, мухи шпанские с зеленым отливом, москиты, которые только своим жужжанием напоминали о своем существовании, бабочки, белые, легкие, как паутинки, черные и уродливые, пестрые и красивые, нарядные с золотыми крапинками, с коричневым телом и красными бликами. На балконе завелся хамелеон, который менял свой цвет от бело-крем, как покраска стены, до светло беж, и кончая темно-коричневым, как дерево косяков и дверей. Этот хищник с некрасивой, почти обезьяньей рожей и четырьмя лапами, со своими 20 пальцами, или щупальцами, с движущимся эластичным телом, почти прозрачным желудком, справлялся удивительно со своей задачей: охранять нам балкон от всякой живой твари. Сломанный кусок абажура портил всю его стратегию. Было слишком светло и жарко, чтобы приблизиться к горячей зоне, куда особенно влекло этих глупых бабочек.
Его движения были математически точны, почти стопроцентно верны. У бабочек было то преимущество, что они умели летать, а хамелеон только бегал и ползал на животе, как змейка. Он подымался на своих четырех лапках, вытягивал голову с круглыми глазами не выше сантиметра; и если бабочке или мотыльку удавалось в первый раз улететь и ускользнуть почти из его открытой пасти, то по какой-то противоестественной причине та же бабочка снова летела на огонь, не чувствуя притаившегося хищника, или, может быть, она замирала в параличе под влиянием гипноза его взора и попадала в его рот.
Стратегия хамелеона была так разнообразна и хитра, точно он обучался в военной академии. Чаще всего он ждал, чтобы насекомое вспорхнуло, и тогда он его проглатывал на лету. При этом хамелеон облизывался как обезьянка, своим красным язычком. И кишки под прозрачной кожей начинали энергично перестальтировать. Он пережевывал свою жертву. Некоторый сорт бабочек проглатывался бесшумно, но мухи, например, благодаря своим хрустящим крылышкам, давали целую симфонию звуков, и не совсем приятную. Иногда хамелеон притаится, как бы заснув, насытившись, даже не собирается схватить мотылька, и вдруг, в мгновение ока, он уже почувствовал порхание бабочки или заметил ее тень на стене, обернулся на 50 градусов, или на столько, на сколько требует его прыть, и… фьють! бабочка пропала. Иногда он искал насекомых вовсе не при свете лампы, а наоборот, в темных углах балкона, в косяках окна или за решеткой, и потом невероятно быстрым темпом, наскоком, возвращался на поле брани. Иногда бабочка была слишком велика, чтобы ее слопать, но достаточно слаба, чтобы быть контуженной, и она падала замертво на пол. Такие сильные жертвы его мало интересовали, и хамелеон не искал своих жертв, если они были мертвыми и павшими. Он ждал живых, мелких молодых и глупых, которые вились вокруг тепла и огня. Иногда он производил впечатление хищного охотника, спортсмена, равнодушного к своей жертве, он проглатывал мелкую сошку, как бы делая ей этим одолжение.
Благодаря своей очень удачной окраске, хамелеон выглядел как отлупившийся кусочек штукатурки, или как тень вьющегося вокруг балкона листа растения.
Когда-то была мода сажать такие ящерицы из зеленого металла или целлулоида на мраморные пудреницы, или коробочки для драгоценностей, и нельзя было отказать в красоте такой бонбоньерке или коробочке, статуэтка хамелеона была художественно жива и красива.
Но живой хамелеон в своей жадности, хитрости, хищности отличается от искусственного, как живой Дон Жуан от того, которого мы встречаем в литературе — у Пушкина, Мольера, Байрона и Тирсо де Молино[682]. Мне это зрелище больше напоминало тех агрессоров, которые делают целью своей жизни губить чужие жизни, народы более слабые, которыми они питаются и насыщают свои амбиции и аппетиты.
* * *
Мы время от времени ездили в кибуц навещать детей. Часто я находила Рут или Эли или маленького Цви в постели. Рут говорила, что моя материнская телепатия приводила меня в такие минуты к ней. Все наши дети выглядели плохо, питание было недостаточным, работа вовне — аводат хуц[683] — на чужих полях и в чужих садах им, по-видимому, была не по силам, а маленький мой внук то простужался, то заражался, то страдал желудком. Кроме того, Рут была неудовлетворена своей работой, хотя нам в этом не хотела сознаться, она была по-прежнему «пробкой», которой затыкали все дыры. И при этом умелая, прилежная, терпеливая, не жалующаяся ни на что, она тихо несла все трудности.
В середине октября на их дороге были брошены две бомбы, девять евреев ранены, а бомбометатель араб убит. Муфтий сбежал за границу, и говорили, что вся история с бомбами была затеяна для того, чтобы закамуфлировать этот побег. Соседняя деревня откликнулась на оба события «фантазией»: арабской свадьбой со стрельбой, завыванием и танцами дервишей.
Страна спала при зареве пожаров и под аккомпанемент выстрелов.
По дороге к своему бюро был убит высокий чиновник, еврей, Авиноам Елин[684], из известной, почетной и ученой семьи пионеров. Он был знаток арабского языка и письменности, каких было мало в стране не только среди евреев, но и среди арабов. Рассказывали, что когда он требовал от властей английских, чтобы его бюро было переведено из Старого города в Иерусалиме в новый, так как в его бюро работало много евреев, женщин и мужчин, ему отвечали: «Вы ведь еще живы!» И вот случилось непоправимое. Евреи его очень торжественно и с большой печалью похоронили. Он был одной из первых жертв с положением и именем в нашей борьбе за самостоятельную еврейскую Палестину. <Несколькими неделями> раньше застрелили через окно в темноте ночи его друга, профессора Билига[685], тоже друга арабов и знатока их культуры. Он был преподавателем арабского языка в нашем университете.
Убивали людей, которые ехали в университет, и даже одного, который вез жену на роды в госпиталь на гору Скопус.
Все были заняты комиссией Пиля. У всех было отрицательное отношение к делению Палестины, и предпочитали сговориться с арабами для совместного строительства. Некоторые были согласны принять даже маленькую Палестину, но независимую. Одно было ясно, что без Негева мы не примем никакого деления, потому что мы строим страну не для себя, кучки уже приехавших евреев, а для всего народа, рассеянного, лишенного убежища. Газеты все больше приносили известий о войнах: в Абиссинии, Китае, Испании, без объявления войны, без всяких прелиминарных вежливостей: «Иду на вы», как говорил Святослав.
Эти события в Азии и Европе все тяжелее отражались на нашей экономике. Были банкроты, банки закрывались, дела переходили из рук в руки, каждый день приносил все новые неприятные сюрпризы. Лига Наций, которая должна была спасти человечество от войн и агрессии, умирала, не могла справиться со всеми конфликтами, не имела физической (военной) силы и не имела абсолютной морали, потому что из-за всевозможных политических констелляций[686] и влияний той или иной страны (главным образом Англии) не была объективной и независимой. Это было наше очередное разочарование. Я говорю наше — моего поколения.
Чтобы создать интернациональную полицию или войска — людей нужно было, по крайней мере, оплачивать, как во времена римских иностранных когорт. Кто хотел класть свою голову за чужую беду?
* * *
В Кирьят Анавим убили пять рабочих, когда они вышли пахать в поле. Впоследствии на этом месте выросла новая колония, кибуц — «Вышка пятерых», или Маале Гахамиша. Так евреи всегда реагируют на свои жертвы: строительством и увековечиванием памяти павших новой колонией.
В Иерусалиме было объявлено керфью, которое впоследствии продержалось… несколько лет. Италия влила в арабские арсеналы новую долю амуниций, и война вспыхивала с новой силой.
Наш театр «Габима», за невозможностью разъезжать по дорогам в своей стране, поехал на гастроли за границу. В Париже все газеты были полны ими. Ровину называли «единственной трагической артисткой нашего времени». Ее сравнивали с Рашелью, Сарой Бернар.
Хорошие фильмы с Паулем Муни «Хорошая Земля», «Эмиль Золя», «Доктор Пастер», «Дрейфус»[687] внесли много развлечения в мамину и мою жизнь.
Сестра Эстер, теперь молодая дама, единственная, может быть, из главных сестер, которая не страдает «матрономанией», как мы это называем, была для меня большим подспорьем. Благодаря ей я могла чаще отлучаться и посвящать себя моей матери.
Я взялась за составление диететической картотеки по швейцарской системе. Над этой работой я провела несколько месяцев. Я перечла все диететические кулинарные рецепты, книги, перевела все это на иврит и вставила в железную кассу. Каждый день вынимались карточки, которые были в меню, вставлялись в целлулоидные конверты или переписывались на грифельной доске, и кухня имела большое подспорье в работе. Кроме того, мы купили добавочную электрическую плиту с духовкой.
Наша кухарка посещала вместе со мной уроки варки на электричестве, нас обеих очень интересовала техника и быстрота варки, перед нашими глазами варились блюда, и мы тут же угощали учениц сваренным ужином.
Дома сестрам я давала уроки приготовления разных соков, освежающих напитков, блюд, когда ночью не кухня, а сестра приготавливает наскоро больным с высокой температурой все эти прохладительные.
В январе наши дети прислали нам впервые из кибуца свои первинки плодов: памелы, корольки, мандарины, лимоны, грейфруты, всех цветов и размеров. Мы варили варенье, конфеты, глазированные фрукты — оранжад и цитронад для украшения пирогов, и этроги, из которых мы варили прекрасные померанцы.
Меиру исполнилось 22 года, и он хотел приехать домой, но мы его упросили остаться на месте и не рисковать жизнью. Мы часто разговаривали по телефону. Тем не менее иногда он «заскакивал» на день или два. Однажды даже приехала Рут с Цви. Им нужно было к врачу в Тель-Авив.
На сквере Цинны Дизенгоф[688] устроили очень красивый фонтан с иллюминацией. Мы с Цви часто сидели на этом сквере, и он играл с другими детьми. На море было уже прохладно, и такой сквер служил нянькам и бабушкам местом отдыха и игры для детей.
Рут со мной имела откровенный разговор, что на нее совсем не было похоже. Она наконец убедилась, что без профессии она не сможет оставаться в кибуце, и хотела поступить в семинарию для учителей, чтобы сделаться садоводкой. Ей придется жить у нас, конечно, и только на субботы она будет ездить домой. Этот план мне очень понравился — я только жалела, что Рут еще до свадьбы и рождения ребенка не послушалась наших с Марком советов и не кончила своего образования. Но это было дело прошлого. Теперь была другая трудность: поездки. Каждый раз, когда она будет приезжать и уезжать — у нас будут мильон терзаний. Тем не менее я ее не отговаривала.
Приезд Рут и Цви был маленькой передышкой в моей тяжелой работе.
* * *
В больнице было несколько очень тяжелых случаев, которые невольно действовали на настроение всего персонала, от врачей до сестер. У нас лежала молодая пациентка с болезнью почек. Ей вырезали одну почку, потом оперировали другую. Она лежала несколько месяцев. Эта пациентка была нам всем особенно симпатична. Когда у нее были светлые дни, она пела, занимала всю палату, всегда была очень терпелива, мила с сестрами, и все ее любили. Когда она умерла от уремии, сестрички плакали, как если бы они потеряли не пациентку, а подругу. Но родственники этой пациентки приняли ее смерть легче, чем Марк и мы все. Они материально устали от ее затянувшейся болезни.
Может быть потому, что оперироваться в тяжелые экономические кризисы идут только самые тяжелые случаи, а рожать вообще предпочитают в городских госпиталях, у нас было еще несколько случаев, кончившихся смертью. Одна пациентка лежала с тумором, она все время поминала французского композитора, который умер от этой же болезни[689], и недолго пришлось ей страдать. [Вскоре ее вынесли на носилках туда, откуда нет возврата.]
При всей налаженности нашего аппарата в таком большом деле теперь бывали и неизбежные перебои. То продукты не пришли вовремя, то в персонале кто-то плохо настроен, то среди пациентов жалобы, то среди компаньонов ни сладу ни ладу. Хотя последнее у нас бывало реже всего.
Иногда кто-то под кого-то подкапывался, интриговал, обижался. Не так сказал, не так посмотрел, забыл поклониться или поблагодарить за что-нибудь. Ревность между членами персонала и даже романические истории, ссоры между молодыми сестрами, «несчастные любови» между врачами и женским персоналом, особенно при новых молодых практикантах и дежурных внутренних врачах, все это служило поводом разных неувязок.
В самом хозяйстве тоже не проходило ни одного дня без каких-нибудь неприятностей: то электрические аппараты портились, то курцилюс (короткое замыкание тока), то краны текут, то инсталляция заткнулась, то ванны, а то уборные. Нужно было стопроцентное терпение, и такт, и юмор, умение быть слепой и глухой, и особенно немой, чтобы обходить все эти трудности.
Я часто чинила инсталляцию сама, не прибегая к рабочим, открывая в саду менхоль и вырубая корни деревьев, которые препятствовали впитыванию воды; в хамсинные дни я целый день бегала из палаты в палату, закрывала днем окна и открывала их вечером или при появлении первого холодного западного ветерка; я возилась с цветами, меняя воду в вазах и выбрасывая увядшие, заменяя их свежими — все это брало полных 12 часов работы и больше.
Отпуска в персонале были особенно тяжелой моей обязанностью. Редко когда девушки без ропота принимали свои отпускные часы и дни. Праздники и подарки были особой дипломатической областью, не слишком богато одарить и не слишком бедно, так, чтобы не было ревности и зависти между работницами и сестрами.
Если доходило дело до конфликта и расчета, надо было быть очень твердой и неумолимой. Если надо было избавиться от неподходящей работницы, я не жалела никаких отступных и компенсаций, здесь мелочность была наихудшим советником. [Угрозы обращения в Гистадрут[690]должны были без исходить всегда с нашей стороны. Партийность, жалобы врачей, все это должно было пугать не администрацию, а другую сторону, и для этого нужно было быть особенно справедливой и осторожной.]
Но, к счастью, такие случаи у нас были очень редки.
Часто мы страдали от того, что какая-нибудь сестра любила «висеть на телефоне», разговаривать с поклонниками, или ее слишком часто вызывали. В таких случаях — общее правило было — двухминутный разговор. Если я должна была дольше говорить по телефону, даже делать хозяйственные заказы, я шла в нашу частную квартиру и оттуда звонила. То же самое делали врачи и мои компаньонки.
С лавочниками тоже нужно было вести политику и точный расчет. Нужно было перевешивать все продукты, без того, чтобы оскорблять лиферантов недоверием. Нас редко обманывали. Мы платили безукоризненно по счетам, даже если для этого нужно было делать долги в банках и платить большие проценты.
Инвентарь и бухгалтерские книги были в порядке, и можно было в любой момент сделать контроль как запасам, так и наличности и долгам. Но все это стоило бесконечного труда и самовоспитания. Не поддаваться настроениям, не портить настроение другим, не устраивать скандалов, не подымать голоса, не искать понапрасну вещей, которые куда-то закатились, запропастились и когда-нибудь найдутся. В таких случаях я все старалась скрыть и от мужа, и от семьи, и от компаньонок, и от всех, кто мне попадался по пути.
Редко, когда на другой день все не обходилось, не приходило в порядок, не устраивалось. Переспать каждую склоку и неувязку[691] и на утро посмотреть на все другими глазами, не быть импульсивной, не допускать истерик ни в себе, ни в других, — это были принципы каждой работы.
А если в больнице заводилась истерия, кто бы ни был ею одержим, врач, экономка, больные, персонал, устранять без пощады. Иногда резкость с такими людьми делала чудеса. Ставить их перед ультиматумом: или спокойная работа, или оставить больницу. Персоналу еще грозила плохая рекомендация — «врачебное свидетельство». За годы моей работы я таким образом вылечила немало сумасшедших работниц, они становились шелковыми, продолжали работу как ни в чем не бывало и были мне благодарны.
Весь этот жизненный опыт мне дался трудной работой, мелкими ежедневными заботами, бессонными ночами, слезами, которые я скрывала от всех. Иногда головная боль и даже повышенная температура меня выручали. И страннее всего, что после такой бури в стакане воды — сестра грубиянка приходила на завтра с извинениями, компаньонка встречала меня с улыбкой, больная, проспавшись, хвалила блюдо, которое ей вчера казалось несъедобным, кухарка, после «гет ин поним» (развод, брошенный в лицо), приходила в хорошем настроении, рассказывала содержание фильма, который она видела накануне. И я начинала себя спрашивать: почему люди так неуравновешенны, почему у нас нет такой прекрасной атмосферы — хотя бы внешне, — которая есть в Швейцарии и в заграничных санаториях? Почему вместо любви, ласки, удовольствия в работе люди как волки друг с другом? 2000 лет голуса, и все несчастья в прошлом и настоящем в нашем народе не могли не сказаться на наших нервах. Но относительно — наша работа еще шла [как по маслу] хорошо при создавшихся внешних условиях в стране и мире.
* * *
В феврале 38 года было наконец открытие тель-авивского порта. На улицах было необыкновенное движение. Все автобусы были переполнены до отказу: и стар и млад, с детьми на руках и в колясочках, почти как в Пурим, теймонцы со своими разряженными женами и ребятами, всё тянулось в одном направлении — к порту.
Улицы и дома и магазины были украшены флагами. Как и при закладке порта, все дети были одеты матросиками, и все пироги в окнах были в виде пароходов с трубами из шоколада и с дымом из цветной ваты. Была проложена новая улица к порту. Мы прошли через ворота: Шаарей Цион. Высшему Комиссару, Вокупу, который помог нам выстроить этот порт, сделали очень теплый прием. Речи, к счастью, были очень коротки.
Говорили High Commissioner Вокуп, Усышкин, Черток[692], Хофиен[693], раввин Герцог[694], Ремез[695], Бен Цви[696] (представитель всех фондов Сохнут и Ваад Галеуми, народное собрание). И только Дизенгофа, к сожалению, уже не было.
Оркестр духовой все время играл в перерывах между речами. Особенно красива была встреча матросов с парохода «Хар Цион». Наконец был гость, с которого буквально не сводили глаз: Пауль Муни. Ему сделали особую овацию.
После этого празднества многие поехали с нами в машине обедать.
* * *
В марте приехал новый В<ерховный> Комиссар[697], который не был популярен у евреев и от которого не ожидали и не получили ничего хорошего.
Мы утешались симфоническими концертами: русский дирижер Добровейн[698]; в программе был в первый раз Шостакович, затем пианист Орлов[699], и многие другие. Но часто мы с Марком были такие усталые, что дарили наши два абонемента и оставались дома.
Когда Цви исполнилось два года, мы не могли поехать на именины, говорили по телефону с его родителями и послали подарки.
И только в апреле мы выбрались в кибуц. Весна была прекрасная, мы пошли в поля, и Цви нам помогал рвать белые и желтые ромашки всех размеров, от маленьких цветочков, похожих на «куриную слепоту», до больших цветов.
От них мы поехали в Западную Галилею. У всех на устах была Ханита, которая стоила столько жертв[700]. Кибуц лежит на высокой горе, есть трудности с водой, ее привозят на ослах, на грузовиках, но место изумительной и суровой красоты.
Вернулись мы домой освежившимися и могли снова приняться за работу. Самым большим музыкальным событием и праздником были концерты под управлением Тосканини. Приняли его тепло, даже горячо, и за его искусство и за его отношение к нам, евреям, и за его гордый протест во время власти Муссолини.
Следующий очередной концерт был под управлением Малькольма Сержента[701], тоже очень хороший.
С мамой мы, как всегда, ходили в кино и видели интересный фильм: «Карне де баль»[702]. Содержание такое: одна дама вздумала после двадцатилетнего перерыва разыскать в своем маленьком городке, где она теперь не жила, тех кавалеров, с которыми она танцевала еще молодой девушкой. У нее сохранился карне де баль, и она помнит все имена кавалеров. Этот бал она вспоминает как прекрасный сон: прекрасный зал с мраморными колоннами. Все дамы одеты почти в балетные платья, кавалеры во фраках, сама она царица бала и выглядит королевой. Она приезжает в этот городок и ищет этих танцоров.
И что же она находит? Пошлость, мещанство, провинциализм, смехотворность или наоборот — трагедии, ужас, смерть, болезни и отчаяние. Даже преступления.
Один из ее бывших героев, который тем временем стал парикмахером, видит этот бал совсем в ином виде, не ее идеализированными глазами: провинциальный маленький зал, почти барак, молодежь безвкусно одета, женщины плохо причесаны (об этом он больше всего может судить), все плохо танцуют, наступают в тесноте друг другу на ноги, и сама героиня, хотя и была на двадцать лет моложе, далеко не королева, не красавица и не царица бала.
Так выглядит наше прошлое, если снять розовые очки <воспоминаний>. Так мне кажется теперь Москва, я даже не могу себе ее представить в новом виде: Воскресенская площадь перед городской Думой, Февральская благодатная революция, когда в многотысячной толпе было не жутко, а радостно и светло.
Были уютные старые квартиры, с теплыми переднями, коридорчиками, вешалкой с шубами и ботиками на полу, натертыми до блеска паркетными полами. Были большие окна, покрытые инеем зимой, с двойными рамами, и между этими рамами белая вата, а иногда еще с разными игрушками из воска и искусственными цветами. Были большие гостиные с роялем Беккера или Шредера, на рояли или пианино обязательно две свечи в бронзовых подсвечниках, и вечерний колокольный звон, под праздники, и блины на масленицу со сметаной и растопленным маслом и икрой, и хрустящий снег под ногами, когда идешь по Дмитровке на Кузнецкий Мост или в Пассаж, за покупками. И Художественный театр на Камергерском переулке. И курсистки и студенты в очереди за билетом, с бутербродами в руках или во рту; и была энтузиастическая галерка, с руками, которые не ленились аплодировать до боли в суставах и кричать «бис» до одурения.
И был Хмара в «Сверчке на печи» Диккенса, в студии Художественного театра, и неждановский «Соловей», и танцы Гельцер[703], и Свободы! И няня-ворчунья в широком сером переднике, в старых маминых английских кофточках, и тем еще более симпатичных, и горничные Маши или Душяни и Палаши, которые при всей своей лени в барских домах приносили в 12 часов ночи самовар кипящий и заваривали свежий чай, ставили на конфорку чайник не слишком долго, чтобы не натягивался до того, что господа скажут: «Пахнет веником». Все это было и прошло и уже никогда не вернется, и вряд ли есть там без нас в России.
Я чувствую, что от моих записей начинает отдавать «сенилией»[704] в духе Тургенева, «и все они умерли, умерли»[705]… но это те воспоминания, которые заставляли поколение в Синайской пустыне тосковать о мясных горшках и туке в Египте.
И я сама, та, прежняя, как бы умерла. Когда-то меня интересовали люди, «интересные», «оригиналы», а типичные назывались «мелкими буржуями», мещанами. Теперь я принимаю типичных, не индивидуальных людей, как если бы они были не субъекты, а объекты. Даже личные имена я плохо запоминаю и часто себе говорю: «Что мне в имени твоем?»
На болезнях и больных мы учимся, что нет ничего исключительного. Еще болезни могут быть неизвестные, особенные, на которых учатся молодые студенты и врачи и сестры, а старые стараются сделать какое-нибудь «открытие», важное для науки. Но пациент всегда тот же, в начале, в середине и в конце болезни. Его вкусы, аппетит, настроение, страдания, просветы радости, все — в зависимости от развития болезни или ее исчезновения, а особенно перед смертью.
И всякий человек, который имеет дело с человеческим материалом, будут ли это соработники, врачи, сестры, персонал, посетители, родные больных — у нас, и в других профессиях, клиенты и проч. — всех их можно подвести под какой-нибудь шаблон, свести в рубрику. Недаром моя мама говорит и сердится: «Ты все любишь обобщать!» Но разве возраст, национальность, страна, из которой приезжают все эти люди (здесь евреи), не накладывает характерные черты на человека? Даже одессит — не виленец, и последний — не москвич. Благодаря такому подходу, я теперь чаще прощаю людям, чего я не могла простить в молодости.
Мы встречаем истинно религиозных и набожных, а чаще тартюфов[706], которые используют религию для своих карьеристических или политических целей. А женщины? Есть энергичная, толковая, с трудоспособностью и инициативой, и есть птичьи головы, флегматики, сплетницы, ничтожества. И разве нельзя предсказать заранее, кто и как будет реагировать на события? Для этого не нужно быть особенным психологом.
Это профессиональное чутье есть у учителей в школе, у отельщиков[707], у каждого адвоката, особенно у прислуги и маникюрш и всех тех, кто сталкивается с людьми в интимной обстановке. Даже наша старая няня говаривала: «Знаем мы, видели такие образцы!»
И даже среди так называемых чудаков есть свои типичные представители. И даже индивидуалисты и эгоцентрики типичны. Недаром в Америке образовалось общество, так называемое «консультация», для облегчения проблем среднего человека, юношества, семейств, преступников, настоящих и потенциальных, педагогически «трудных» детей, сексуальных проблем в особенности, и т. д. Я думаю, что недалеко то время, когда психология из теоретической превратится в практическую науку, с законами и правилами, как методика преподавания, как арифметика и грамматика, и логика. Будут словари, которые дадут ответы на всякие психологические загадки. И каждая этнологическая единица, каждый народ будет иметь свой «Шулхан арух»[708], правила поведения, пока они не превратятся во всемирные и для всех приемлемые законы.
Говорят, что среди женщин и лакеев нет великих людей, но для великих людей закон не писан, они сами пишут законы, и я не отрицаю их исключительности как в смысле количества их энергии, так и в смысле созидательной особенности. Но тут не о них речь.
* * *
В мае, когда сняли первую жатву, арабы вернулись к террору. Мы сделали в мае наш обычный весенний ремонт, и я бывала по целый дням занята в хозяйстве. Наш сад никогда еще не был так красив. Мы посадили новые цветы в грядках, ползучие растения вдоль заборов, розы и желтый жасмин на кустах, сирень и пальмы, все это поднялось, разрослось, а герань всех цветов и оттенков придавала саду богатый южный вид. Мы перекрасили всю мебель, покрыли белым лаком, все выглядело как новое. У Меира были его очередные экзамены. Он мог бы в этом 38-м году кончить Техникум, если бы он не был занят в Пальмахе[709] (Гагана) в защите страны. Надо было преодолеть эгоистический страх за единственного сына. Арабы и все заинтересованные в Среднем Востоке хотели сломить нашу строительную энергию и наш «национальный дом», и нам, женщинам, не осталось ничего, как жертвовать своими сыновьями и даже собой: все сделались амазонками, принимали участие в обороне или, по крайней мере, давали это делать своим мужьям и сыновьям. Молодые девушки все были партизанками; наш пацифизм, на котором мы воспитались, прошел: не было уклоняющихся от войны и не было сопротивляющихся войне. Когда одного юношу из Гагана приговорили к повешению, весь еврейский мир волновался.
Из-за границы мы слышали, что в Вене было 700 самоубийств среди евреев в связи с нацистскими преследованиями.
Мы убедились, что первая Великая война, которую мы хотели считать последней, была иллюзия, она была первой в ряду бесконечных войн. И вторая иллюзия была у нас, сионистов, что репрессии в других странах могут послужить сионизму: евреев ничего не может научить. Пока их лично не коснется несчастье, они всегда будут надеяться, «что у нас это невозможно», «с нами этого не может случиться». Русский пример царской России не послужил польским и немецким евреям, и пример последних не послужит для англосакских евреев.
Лига Наций настолько ослабела, что не могла наложить никаких санкций, и то, что происходило в отдельных государствах, считалось «внутренней» политикой, в которую никто не смеет вмешиваться.
У нас и у многих других была вера в западничество, в западную культуру, в страну Канта и Гете, но гунн и варвар тевтон победили Канта и Гете. Геббельс сказал, что у евреев есть одно право — умереть, — и с ним соглашались все мослисты[710] всех стран и Ку-Клукс-Клан в Америке.
В Германии разорили всех состоятельных евреев и выбрасывали их из страны. А у нас выбрасывали бомбы из поездов посреди улицы, и никому не пришло в голову остановить этот поезд, обыскать и наказать виноватых. Наших же защитников вешали за ношение оружия.
Наши друзья в английском парламенте предлагали евреям на террор отвечать тем же, устраивать нелегальные собрания, демонстрации, голодовки, ввозить нелегальных иммигрантов, бороться с местной администрацией не на живот, а на смерть. Но мы еще придерживались политики «гавлага», сдержанности и дефензивы[711].
Мы строили под пулями врагов, у нас уже было 300 жертв. Вопреки всем стихиям, бойкоту, экономическому кризису, науськиванию немцев и помощи арабам снабжением оружия со стороны немцев и итальянцев, несмотря на политику Белой книги и на халатность наших собственных капиталистов за границей, несмотря на безработицу, мы все продолжали работать, жить, рожать детей, устраивать свадьбы, разъезжать по опасным дорогам, пускать детей в школу, выходить с плугом далеко в поле, под обстрел пуль, и катать малышей в колясочке к морю. Мы несли ночную стражу и выходили по вечерам в театры и концерты.
В июле мы были приглашены на свадьбу нашей работницы Мирьям. Она у нас проработала много лет, и мы были рады помочь ей устроить ее новое хозяйство. Она привезла телегу, на которую нагрузили все, что могло бы ей пригодиться из мебели и вещей и без чего мы могли обойтись. Ледник, кровать с матрацем, стол, стулья, небольшая плитка и др. вещи. Мать ее, прачка и поденщица Делисия, продолжала у нас работать. Жених торговал зеленью с лотка, и, как она мне рассказала, он потратил на свадьбу и на туалеты и на устройство комнаты — 70 фунтов. Комната была даже с ванной и удобствами. После свадьбы они должны были открыть киоск, в котором она бы продавала зелень, а он будет продолжать развозить товар по домам.
И эта свадьба была европейская в лучшем смысле слова: невеста и жених были одеты с иголочки, вуаль и корона из «жемчугов», флер д'оранж и белый букет. Гости были большею частью клиенты жениха и работодатели ее матери. Кроме того, она пригласила всех, кто не был занят в больнице, как сестер, так и врачей с женами. Танцы были как в наилучшем локале, кавалеры и дамы одеты прекрасно и танцевали как айнтенцеры. Джаз и белый высокий торт, ликер и разноцветные лимонады, сендвичи и разные марципаны, и самодельные пирожки и конфеты, на которые сефардки большие мастерицы. Балдахин, под которым стояли молодые, два кресла, в которых они принимали поздравления, цветы и фотографы — все было, как в иллюстрированных журналах или в кино. Мне приходилось бывать на свадьбах наших ашкеназийских работниц, и мне каждый раз бывало жаль несчастных девушек: им снимали волосы и этим обезображивали молодых и хорошеньких девочек, венчание всегда происходило на каком-нибудь грязном дворе, скорее на задворках, с разного рода запахами, вся улица и куча грязных детей вертелась под ногами и нарушала торжественность момента, угощение — «лекех», простой торт, вынимал какой-нибудь неаппетитный «шамес» из белой наволочки и раздавал своей рукой, невесту в голоде держали целые сутки и вдали от жениха, и все почему-то рыдали, как на похоронах, а не на свадьбе.
Здесь же наша Мирьям была очень красива, как молодая принцесса, жених под балдахин привел ее сам под руку, и после венца принимали поздравления сдержанно, без поцелуев и рыдания. Даже братья жениха, два нарядных мальчика, были за шаферов с белыми свечками с бантами. Со старшим шурином невеста открыла бал, и все танцевали парами. Нам они потом преподнесли свои фото в подвенечных туалетах, и я действительно радовалась, что у нее этот день останется как нечто красивое и незабываемое.
Так различны обычаи в том же самом народе и даже в той же социальной среде. Недаром эти выходцы из Испании себя считают аристократами среди евреев.
* * *
Для матери Марка мы выхлопотали визу, вели с ней переписку и умоляли ее бросить все на произвол судьбы и приехать к нам. Но ей трудно было решиться, а родственники, с которыми она должна была поехать, так и не выбрались.
Мы обещали ей спокойную старость, и внуков, и правнука, и все, что можно желать на старости лет, но мы видели, что все эти письма бесцельны. То она откладывала до Пасхи, а то до Йомим Нероим (осенних праздников), то она была больна и хотела раньше поправиться, а то она должна была раньше все продать, и ей не давали подходящей суммы, или она вообще сомневалась, стоит ли ей продавать имущество.
От Нины из Вены я получила отчаянное письмо: ее мужу устроили «расен шанде процесс»[712], и ей пришлось поехать в Германию его вызволять и доказывать, что она этому не верит. Когда увидели его красавицу жену и сравнили со старой уродливой «свидетельницей», обвинявшей его в преследованиях, его отпустили. В одном письме она мне сообщила, что ее дочь уже у ее сестры в гостях, это значит, что ей удалось переправить ее в Америку.
От другой моей венской приятельницы, доктор Вальтер, было письмо, что она умоляет прислать ей визу в Палестину, потому что она как еврейка «абгебаут»[713], лишается должности врача в госпитале. Их госпиталь «ариизировали». Я начала бегать по учреждениям, чтобы выхлопотать визу для доктор Вальтер.
Италия шла по стопам Германии, хотя население еврейское там насчитывалось не мильонами и даже не сотнями тысяч, всего 30 тысяч евреев. Но их «засилие» не давало покоя Муссолини и его фашистам.
В России шла мобилизация войск для войны с Японией, войска уже шли к Манджуко[714]. Так быстро делалась история.
Про Вену рассказывали приехавшие то, чего не писали наши друзья в письмах и что газеты скрывали до поры до времени: евреев заставляли пить из плевательниц, не продавали хлеб даже за деньги, посылали чистить общественные клозеты, мыть автомобили (без щеток и тряпок — руками), и все это с издевательствами. Это в «гемютлихе Вин», «бей унс канн эсс нихт пассирен!»[715]
В Иерусалиме уже три месяца тянулось керфью, город был как вымерший, там люди забыли, как выглядит театр и кино.
9-го аба по радио Ровина читала Эйхе, Псалтырь и отрывок из «Вечного Жида», что соответствовало настроению.
Моя бедная мама тоже сидела над Псалтырем с жаргонным переводом[716] и плакала: предчувствуя войну, она понимала, что редкие письма из Москвы и от сестры совсем прекратятся, и она окончательно будет отрезана от своих. От моей сестры из Днепростроя уже не получались письма в течение многих месяцев.
От нашей Рут письма тоже приходили редко. Наконец она нам написала, что поступает в Семинарий, просила приготовить ей комнату.
В тот же день мы слышали о бомбах на дорогах, мы страшно переполошились, было сказано о жертвах среди женщин, мы успокоились только тогда, когда увидели ее живой. Потом начались ее еженедельные поездки в кибуц. Ребенок без нее скучал, худел, по телефону с мужем она только о том и говорила, как мальчик, и в ответ получала мало утешительного. В конце концов телефонная линия была вообще прервана, и Рут больше не могла говорить с кибуцем.
В кибуце наблюдается одно странное явление: дети получают социальное воспитание, спят отдельно от родителей, не принимают пищи из руки матери, видят мать и отца всего несколько часов в день, но если родители или один из них в эти вечерние часы отсутствуют, даже самые малые дети так болезненно реагируют и так страдают от этого отсутствия, что нередко приходится вызывать мать домой. В городе я никогда не наблюдала этого явления, мои дети довольно равнодушны были к нашим отлучкам. Наша бедная дочка разрывалась между семинарием и своими занятиями и между кибуцем и семьей.
Арабские террористы начали подкладывать мины и бомбы под поезда железной дороги; нападения на автомобильные транспорты, на банки, нападения на полицейские участки, где экспроприировали оружие и крали (может быть, просто покупали у арабских полицейских), так участились, что сообщение между городами и жизнь в самих городах стали невыносимы. Арабские вожди позднее осмотрелись, что эта маленькая страна, запущенная тысячелетиями, пустынная, бесплодная, вдруг оказалась и плодородной, и удобной для жизни; в них заговорили зависть и раздражение.
* * *
В сентябре мы слышали по радио речь Бенеша[717], на пяти языках. Чехи резигнировали по всем пунктам. Англия и Франция их предали, оставили в пасти Германии, как они оставили и нас в нашей борьбе с арабами. Чехов заставили отказаться от всех завоеваний первой Великой войны, и в первую очередь — от Судетского края.
12-го сентября слушали речь этой бешеной собаки Гитлера, он ругал площадными словами евреев, жалел арабов, жалел судетских немцев, ругал чехов, и все это в стиле Вара[718].
По дороге из Иерусалима в Моцу пал наш друг, врач, которого застрелили арабы, когда он ехал на работу. Марк не раз советовал ему бросить эти междугородние и загородные поездки, но он с юмором и фатализмом всегда чем-то оправдывал свое пренебрежение опасностями. В конце концов, если не он, другой был бы на его месте и в той же опасности.
Газеты были полны поездкой Чемберлена в Германию к Гитлеру. В Мюнхене была конференция, вопрос войны был отодвинут на несколько месяцев.
<Мои воспоминания переходят в дневник: нет терпения обрабатывать прошлое, настоящее захватило нас>
30.9.38
Миновала нас чаша сия, война отодвинута на несколько месяцев. Гитлеру уступили Судеты, но он готовится к войне: «Вино налито, его надо пить». Над миром висит Дамоклов меч, евреев он коснулся и уже у шеи и у головы. Преследуют беженцев, лодка на Дунае с беженцами потоплена, также в Саарбрюкене и на других границах Германии, а при разных случайных погромах — добивают спасающихся.
Албания принимает расовую теорию по примеру других стран. Мы были на бесконечно печальной пьесе «Братья Ашкенази»[719] в театре «Огель». Если люди не успели голыми и нищими удрать за границу, их уничтожают в концентрационных лагерях. Теперь уже больше нет капиталистических виз и «лифтов» (вывоза имущества), теперь убегают, чтобы спасти жизнь.
4.10.38
В Тиверии сгорели живьем 19 евреев и семь тяжело ранены. Если бы не несколько еврейских героев, которые пришли на помощь, было бы еще больше жертв. Я как одержимая, не могу думать ни о чем, только об ужасах совершающегося. Мое единственное счастье — тяжелая работа и те часы, когда мне некогда читать газеты и слушать радио. В больнице я строго запретила все посторонние разговоры, потому что не я одна, а у всех есть тенденция рассказывать «новости».
Вчера у нас были гости. Я осмелилась сделать прогноз, что через пару месяцев вопрос войны будет снова поставлен на очередь. Меня называли Кассандрой, особенно на меня накинулись, когда я сказала, что мы еще будем рады всякому делению Палестины и ухватимся за каждое решение, благодаря которому спасутся хотя бы некоторые евреи. И если кончится мандат, и с ним Бальфурская декларация, как замена нам необходимо будет получить хотя бы частично, но независимую еврейскую Палестину. Когда все разошлись, я была рада лечь в постель.
6.10.38
В Йом Кипурим[720] в синагоге были такие рыдания, каких мы уже давно не слышали. Сделали панихиду по всем погибшим здесь в стране, по тем, кого терзают в Европе и кого замучили до смерти. Таких событий не было со времени разрушения Еврейского Храма.
Бенеш отказался от своего президентского поста.
8. 10.38
Теперь решается наша судьба в Лондоне, туда вызвали Нацива[721], Вайцмана. Иракское правительство тоже принимает участие в переговорах.
Нам грозит закрытие иммиграции, запрет покупки земель, и если будет раздел, то в таком масштабе, что мы задохнемся и не сможем привозить сюда тех, кто спасается из Европы.
Я получила письмо от Нины, они получили эфидевид[722] в Америку, и она прощается со всем прошлым в Вене. Я бы уже хотела получить ее письмо из-за границы, вне пределов Австрии.
19.10.38
Евреи Старого города как в осаде, так было 1800 лет тому назад. Люди остались без пищи, им разрешают получать продукты только под пулями. Водопровод в Иерусалиме поврежден, люди не готовят обеда даже на субботу, не моют полов, не принимают душа. Так рассказывают все, кто вернулся из Иерусалима. Арабы в пятницу бастовали и превратили этот день в «фантазию»: разгуливали по городу, все в кефиях (сняли фески), разъезжали в автомобилях и гуляли по окрестностям.
Эфенди и богатое арабское население ведет пропаганду, многих снова выпустили из тюрем, банды не разоружили, а в мечетях имеются полные арсеналы оружия.
Английские газеты, как флюгера: то обещают держаться Бальфурской декларации, а то — Белой книги.
25.10.38
Осень прекрасна. Воздух прозрачен, прохладно, сад полон хризантем, птицы и стрекозы днем, звезды и кваканье лягушек ночью, а иногда абсолютная тишина, которая не дает спать.
Паутинки в воздухе, пахнет еще не созревшими апельсинами, и на томатных кустах — зеленые плоды. В саду весенние цикламены, бледно-лиловые, и дождей нет. [Здесь] <У нас> осень всегда сливается с началом весны.
Все красят дома снаружи масляной краской, готовятся к зиме. Дамы себе шьют демисезонные и зимние платья и костюмы.
Английская пресса начала замалчивать палестинскую проблему, но часто слышится мнение, что вообще надо покончить с еврейской Палестиной, что она «уже выстроилась», и дальнейшее развитие ее не нужно.
В Вене почти все евреи уже «абгебаут», лишились заработка и хлеба.
В Праге устроили погром по примеру немецких.
[В Китае взят Гонконг.]
Когда я слышу о еврейских жертвах, которые исчисляются сотнями тысяч, я перестаю быть пацифисткой, и здесь мы, матери, должны себе сказать: будь что будет, наше право на существование и на человеческое достоинство стоит любых жертв.
После соглашательства в красивом Годесберге и в «художественном» Мюнхене[723] приходится переоценить ценности.
Наш Меир усиленно работает в Гагана.
30.10.38
Дождей нет, и стоят жаркие хамсинные дни. Много растений в саду засохло. Поливка не помогает, перекапываем сад, пришлось вынуть еще много фруктовых деревьев.
Я читаю снова «Историю евреев» Дубнова[724]. Как это трагично, что наша страна всегда была коридором, мы всегда были козлом отпущениея или сучком в чьем-то глазу. Но мы всегда были упорны, «кшей ореф» (жестоковыйны, упрямы), и это нас спасло. Наша слабость и наша сила, наша бедность и наше богатство, наш консерватизм и наша революционность, все нам ставилось на вид, и за все нас заставляли платить, страдать. Нас уничтожали за богатство Ротшильда и за коммунизм Троцкого. И если уж вовсе не было причины, нам вменялось в вину то, что мы захватили чужой «лебенсраум»[725], что мы заселили «солнечную сторону Маршалковской», что мы слишком быстро или слишком медленно ассимилируемся, что мы имеем «две родины», что мы сионисты или «патриоты той страны, в которой мы живем».
Наши длинные носы, и пейсы, и синагога, наши праздники, наши выкресты, что только нам не вменяется в вину?
И если нам боятся дать нашу прежнюю родину, то только потому, что тогда мы распрямим нашу согнутую спину, перестанем быть униженными и гонимыми. Арабы вдруг проснулись от стука наших пил и тракторов и молотков. Так тихо и сонно было в этой стране, и вдруг — что за шум? Не грозит ли он вывести из вечной лени, дремоты, дешевого труда [и низкого уровня жизни]? Не будет ли этот прогресс наш связан с необходимостью просвещать бедуинов и феллахов, платить им больше за их труд, не лишит ли это эфенди их устарелых привилегий?
Но мы работаем дальше, ружьем и лопатой, и, по-видимому, наступило время перековать орала в мечи![726]
1 ноября 1938 года
Арабы готовятся завтра протестовать, у нас были митинги, женщины давали приношения (деньгами и драгоценностями) для Гагана.
Ненависть религиозная и расовая сливаются вместе у всех наших врагов; фактически это всегда была ненависть чисто политическая: религия и раса — только повод.
Теперь в Иерусалим ездят не через Рамле, а какими-то проселочными дорогами, что не менее опасно.
Наконец-то первый чудный дождичек, которого мы так давно ждем. В воздухе непередаваемая свежесть, запах растений, травы, цветов, хотя земля не пропитана, а только вспрыснута дождем. Я нарвала астры, георгины и хризантемы всех цветов. Наполняю ими вазы в доме и в палатах.
3.11.38
Сегодня настоящий зимний день, дождливый, грязный.
Германия хочет злом попрать зло: исправить «несправедливость», нанесенную им Версалем, как будто не они и их юнкеры и не их Вильгельм II начали первую Великую войну.
То же самое делают арабы: вместо того чтобы взяться за работу и поднять благосостояние своего народа просвещением и трудом, они разрушают нами созданное, выкорчевывают посаженные нами деревья, жгут и режут где можно, грабят и убивают. Арабам придется смириться: признать доброе соседство вместо разрушительной войны. А диктаторы смертны.
9.11.38
После случая с мальчиком Гриншпаном, который убил фон Рата[727], в Германии стало еще хуже. Теперь польские евреи начали мытарствовать по дорогам между Берлином и Варшавой.
Здесь были тяжелые четыре дня: дожди, гроза, наводнения.
Читаю дневник полковника Киша[728], честная книга джентльмена и идеалиста. [Если бы он был у власти, может быть, не было бы 36–38 года.]
Все люди в Тель-Авиве сидят в кафе и ищут себе подобных: даже наводнение и ужасная погода не мешают этому.
Пришлось купить себе дождевик и всей семье — теплое белье.
12.11.38
Был тяжелый погром в Германии, а Италия издала закон, что все итальянские евреи за пределами Италии теряют итальянское подданство.
12 итальянских профессоров, которые посмели выступить против преследования евреев и расовой теории, были строго наказаны ссылкой и лишением пенсии.
Разрывают смешанные браки, изгоняют евреев из коммерческих предприятий, из прессы и театров.
В Германии была «Варфоломеевская неделя», наказания миллиардами марок, изгнание всех евреев из Мюнхена и новый концентрационный лагерь, который называется Дахау[729].
Немцы себя называют служителями Вотана, языческого Бога.
Наш еврейский Бог и его «Сын» не признаются: все, что еврейское, — бойкотируется. Преследуют и служителей христианской церкви.
Здесь многие берут на воспитание еврейских сирот из Германии.
Уже неделя прекрасная погода, только почки не распустились. На айве они набухают, гранатовое дерево полно красных листочков, которые потом начнут зеленеть. Бугенвилия в этом году особенно богато распустилась. Под ногами шелестят желтые листья и в воздухе летают паутинки.
Была «алиа ал гакарка» — в районе Ханиты, в Хербат Цемах[730].
Я завела себе специального адвоката для виз, чтобы мне не ездить каждый раз в Иерусалим: он хлопочет для разных австрийских и польских наших друзей.
25.11.38
Наконец-то я получила письмо от Нины, что они оставляют Австрию, это значит, что они потеряли все свое состояние, которое в свое время они имели право вывезти и спасти. Еврейский оптимизм их погубил. Где все «демократические» гуманисты? Где Черчилль, наш друг, который себя считал сионистом? Почему они не спасают евреев, почему они закрыли единственную страну, куда еще можно было бы спастись, — Палестину?
В Хайфе сегодня было девять жертв арабского террора, я говорила с сыном по телефону, все стоят под ружьем и не получают отпусков. В Германии идет уже 18 дней погром, выбрасывают на мороз стариков и детей голыми, издеваются над женщинами.
Иногда слышится голос католических и протестантских пасторов [и Россия высказывается в нашу защиту]. Мы благодарны за каждое доброе слово, но это не достаточно: надо что-нибудь сделать!
30.11.38
Погоня за сертификатами превратилась в эпидемию, все хлопочут о ком-нибудь. Вся наша больница, врачи, прислуги, знакомые только и делают, что просят нас использовать связи, чтобы спасти своих родных, родителей, детей. Удастся спасти один процент.
Дают денежные гарантии, <здешние> дома переводят на имя родных за границей, стараются принять на службу разного рода специалистов, ремесленников, но в большинстве случаев иммиграционное бюро отказывает.
Многие женщины бросились в работу помощи детям и приехавшим уже беженцам.
Одной нашей сестре милосердия удалось вытребовать родителей, и она счастлива. Мы бы хотели, чтобы мать Марка уже была здесь.
Появилась новая отрасль заработка — «трансфер»: вместо денег привозят немецкие товары, чтобы таким образом спасти деньги евреев-немцев, но этим также дают валюту Германии, и люди, которые этим занимаются, богатеют на чужом горе — мародерствуют.
В «Габима» давали актуальную пьесу «Отцы и дети» из жизни под нацистской властью.
В Германии сожжены все синагоги и, по последним данным, убито 2000 евреев, а в концентрационных лагерях сидят уже 70 тысяч.
9.12.38
Я говорила с Меиром по телефону, он кашляет, простудился на ночной страже.
Во время Вавилонского пленения пророк Иеремия велел строить в голусе жизнь и не унывать. Теперь бы его политика была не ко двору, теперь надо спасаться из голуса.
Есть люди, которые это называют Рождением Миссии[731]. Но первые жертвы этого рождения — еще не родившиеся дети; женщины освобождаются от зародышей, беременность там стала катастрофой.
Румыния приняла решение выбросить 50 тысяч евреев. В Париже на стенах плакаты: «Mort au Juives!» — «Смерть евреям!» <Как во время процесса Дрейфуса.> Антисемитизм как пожар перебрасывается с места на место.
К нам приехала девушка из Австрии, нелегально и без вещей. Мы пока взяли ее к себе, я думала, что она сможет работать в больнице. Мы ее одели и несколько дней дали ей отдохнуть. Но для физической работы она не подходит, языка она не знает, ищем для нее подходящее место.
От доктор Вальтер я получила телеграмму, что она уже по дороге в Шанхай. Мы для нее выхлопотали визу на том основании, что нам нужна еще одна женщина-врач для женского отделения, но иммиграционное бюро отказало ей во второй визе для ее старика-отца, так что она поехала в Шанхай[732].
26.12.38
Приближается конец этого ужасного года. Неужели следующий будет хуже? Люди, приехавшие из Польши, рассказывают, что на границе Германии и Польши скопилось столько беженцев, что они все производят впечатление вышедших из Бедлама: голодные, холодные, безнадежные.
Америка прервала дипломатические отношения с Германией, а на Дальнем Востоке начались военные действия между СССР и Японией.
Антисемитизм не минул и англосаксонские страны.
Я снова, как на наркотики, бросилась на книги: Нордау — «Философия истории», Иозефус Флавиус — «Еврейская война», Вельгаузен — «Экзегетика Библии». Чтобы не сойти с ума — читаешь, сидишь у радио, слушаешь шумановский «Карнавал», Пятую <симфонию> Бетховена и ноктюрны Шопена.
31.12.38
Сегодня ночью под Новый Год ветер гонит дым обратно из печки.
От Нины было снова письмо, что ее муж «болен», он сидит в Дахау, как я поняла, его избили до полусмерти. И еще она называет несколько наших общих друзей, которые уже «по ту сторону добра и зла»[733] — кончили самоубийством. Я хожу собирать деньги для немецких детей и продолжаю бегать по делам сертификатов.
Когда я вышла сегодня утром в сад, я увидела, что расцвели красные цветы-свечки на кактусах, которые мы называем алое, или столетник, но это неверно, они имеют другое латинское название. Иногда, как во время польского погрома в Вильне, мне хочется сорвать и выбросить все цветы.
21.2.39
Испания стоит перед полной капитуляцией республиканского правительства. Все демократические страны признали или скоро признают Франко, этого фашистского кондоттьере. А законному правительству они все отказались помочь. Муссолини послал 30 тысяч войск в Ливию.
Здесь уже все готовят запасы, как если бы мы стояли накануне войны и голода. Если бы не больница, я бы стеснялась делать запасы, но не закрывать же госпиталь из-за пустых шкафов. Так что последние дни я в погоне за консервами, сухими продуктами, медикаментами и бельем. Стаканы и чашки и другая посуда будут моей следующей покупкой. Все это связано с большими расходами и кредитами, товар не дают больше в кредит, и в банках еще труднее получить под векселя. Наши компаньоны больше заняты запасами для себя, чем для больницы, и я на них за это сержусь.
Мы забыли, как можно смеяться, такая озабоченность и страх за будущее.
1 марта 1939
Мы когда-то учили, что «личность не играет роли в истории», по крайней мере, с материалистической точки зрения, что все движется «исторической необходимостью», и др. мудрости. Приходится пересмотреть и эти предрассудки. Кондоттьере, фюреры, диктаторы и гаулейтеры[734], и даже Муфтий — делают историю.
Англия выдвинула своего фюрера, фюрера слабости и уступчивости, Чемберлена, и ее престиж падает. Это знают и арабы и не боятся. Авторитет Лиги Наций падает вместе с ее покровительницей — Англией.
Мы, евреи, храбры только по одной причине: нам нечего терять, это наш последний и решительный бой с антисемитизмом.
В Реховоте арабы вырезали еврейскую семью, а в наш амбуланс стреляли, когда мы с Марком поехали в колонию вывезти несколько раненых.
И теперь, когда наша машина выкрашена в белый цвет и имеет красный моген Давид[735], — это не только не охраняет, но, наоборот, притягивает внимание врагов. Где международное соглашение о неприкосновенности Красного креста?
4.3.39
На Пурим дети приезжают к нам в гости с Цвикеле, и Меир тоже выпросил себе отпуск. [Читаю Томаса Манна, «Иосиф в пустыне»[736].]
Наконец-то письмо от Нины из Парижа: я плакала, его читая. Ее мужу выкрутили руки и ноги, он лежит в гипсе, что задерживает их отъезд в Америку. Материально они до того разорены, что она пишет мне: «Если хочешь письма от меня, пришли мне интернациональную почтовую марку».
Лондон мало озабочен нашей трагедией, а для нас каждое промедление «смерти подобно». Даже в нейтральных странах беженцы размещены в концентрационных лагерях, <в Швейцарии, например>.
Я часто думаю, что издали отделенные местом и временем события двигаются медленно и постепенно. Фактически процесс разрушения народа идет в галоппирующем порядке. Я сама это видела во время ковенского выселения: достаточно семью с малыми детьми, со стариками и больными выбросить из дома на вокзал, в теплушку, в лес, на берег реки и оставить без пищи и одежды, без санитарных и человеческих условий, и такая семья в несколько часов идет к черту. Делается неузнаваемой.
Как же должен выглядеть целый народ, сотни и тысячи, когда их вырвали из налаженной, трудовой, комфортабельной жизни в зимний холод, под пытки и оскорбления, в лагеря. И если они даже переживут все это, сколько нужно будет сил и средств, материальных и моральных затрат и энергии, чтобы вернуть их к нормальной жизни, чтобы восстановить таких раздавленных, разрушенных, чтобы поднять их физическое самочувствие и душевное равновесие, вылечить и выпрямить члены и дух в «гипсе»?
16.3.39
Сегодня знаменательный день в нашей истории: английское правительство объявило, что через пять лет оно отказывается от Мандата на Палестину, и власть передадут населению, причем евреи должны остаться в пропорции 30 к 70 по отношению к арабам. И законодательное представительство (гамоаца гамхукекет) будет в той же пропорции. Иначе говоря, от арабского большинства будет зависеть и наша иммиграция, и покупка земель, вернее — запрет нашей колонизации.
Пока же нам «жалуют» всего 15 тысяч иммигрантов в год, включая прибывающих детей из Германии. Но на этот последний пункт человеколюбивые арабы тоже не соглашаются.
Вторая катастрофа — торжественное вступление Гитлера в Прагу: это значит, что чешское еврейство обречено на судьбу немецкого.
Последнее время сами богатые арабы торопят заключать сделки по продаже земли, пока еще не вышел закон о земельных трансакциях, и мы идем строить семь новых пунктов на этой земле.
22.3.39
Сегодня я слушала радио; если Гитлер не испугается европейско-американской коалиции, войны не миновать.
Погода, как наше настроение: была холодная ночь и дождливый день. Тем не менее мы готовимся к Пасхе, мама чистит серебро, а я занята тем, что перевожу больницу на «пасхальные рельсы».
<Я пишу этот дневник «на кончике стула», записываю несколько слов и снова бегу к работе — для обработки и размышлений нет ни времени, ни терпения.>
4 апреля 39 года
У нас, как всегда, был многолюдный Сейдер; из-за общего положения в еврействе мне все это было тяжело. Рут, которая с небольшими перерывами всю зиму провела у нас, на Сейдер уехала к своей семье в кибуц.
От доктора Вальтер было письмо, писанное по дороге в Шанхай: красоты природы, Красное море, Суэцкий канал. Как-то будет там?
Марк настоял, чтобы мы пошли в «Габиму» на «Вишневый сад» и на «Мараны»[737]. Но я перестала увлекаться театром, я хожу по привычке и чтобы не портить моим близким удовольствие, которое они могут иметь от кино или театра.
Муссолини вошел в Албанию, есть оптимисты, которые говорят, что захватчики подавятся своими победами. Но немало человеческой крови прольется, и нашей еврейской в особенности, раньше, чем мы увидим их в могиле. Теперь в Европе, в ожидании войны, закрыли все границы, им нужно пушечное мясо и рабы для тяжелых земляных работ.
Эмигранты редко спасаются, чаще погибают при выезде, в дороге или даже при высадке. Министры всего мира мечутся как угорелые, пресса мечет громы и молнии, парламенты и совещания созываются и снова распускаются, обрываются в середине. Мир очумел, это видно по всему.
А евреи, как потерянные овцы среди всего этого мирового кавардака, хватаются за соломинки и тонут. Наших «штадлоним», хадатаев, уже перестали принимать, не до них.
Я видела в кино, как еврейские беженцы, которые высаживаются в Англии из аэропланов, попадают прямо в тюрьму, и делается это очень грубо. А ведь это демократическая Англия, которая всегда оказывала помощь и давала убежище иммигрантам — начиная с Французской революции, и русским, еще времен Герцена, да и теперь в Англии немало иммигрантов отовсюду.
Нелегальные пароходы качаются по сорок дней по морям, люди болеют, рожают, умирают и бросаются через борт.
21.4.39
«Ось»[738] смеется над предложением Рузвельта о международном трибунале. Называют это вильсонизмом[739], который, мол, уже давно надоел, прогорел.
Гитлер справляет свое 50-летие.
В хайфской гавани качаются 435 человек, которым закрыли ворота в страну. Сегодня на улице меня остановила какая-то женщина, говорящая по-немецки. Я думала, что она спросит адрес или о работе, но она просто попросила меня перевести ее на другой тротуар: боязнь пространства, хотя улица была тихая и не было ни одного автомобиля. Я думала, что она плохо видит, и хотела ее взять за руку, но она грубо вырвалась: «Не смейте ко мне прикасаться, я не просила вас меня трогать, я сама могу ходить!» Я с удивлением на нее посмотрела и спросила: «В чем дело?» Она спохватилась, начала извиняться, благодарить, когда наконец мы были на другом тротуаре. Такими они к нам приезжают!
И тем не менее в Палестине выздоравливают даже самые больные и несчастные, особенно молодежь быстро выпрямляется.
В один прекрасный день наша проблема станет мировой проблемой (так говорил еще Герцль), над которой все будут ломать голову, потому что, когда отчаяние доходит до последней грани, тогда нет компромиссов, нет выжидательных решений, тогда что-нибудь должно быть сделано: «Something must be done».
Все захотят избавиться от нас, и враги и друзья будут работать для создания еврейской страны, каждый из своих соображений. А сами евреи, которые не переставали откладывать свои личные решения, решатся наконец на Палестину, положение станет невыносимым. Нас пока еще 17 мильонов, это пятая часть той самой Германии, которая подняла меч на нас. Если мы, матери, не пойдем на самые большие жертвы, наши дети погибнут в концентрационных лагерях.
24.4.39
Сегодня тяжелый хамсин, очень жарко, мы держим все ставни закрытыми. Наш сад за последние дни необыкновенно расцвел: распустились бегонии и грандифлоры, зацвела лиловая сирень, а наш маленький пардес обещает в этом году хороший урожай. Но зато на яблонях и сливах из-за сильных ветров этой зимой погибли все цветы и завязи, и вряд ли будут плоды. Миндаль уже цветет, и есть завязь на винограде.
В этом году виноград красиво вьется вокруг новых пергола, беседок, которые мы поставили прошлой осенью. Каждый вечер я сама поливаю цветы на грядках и на огородах, и это очень успокаивает мои нервы.
Вчера наконец я получила первое письмо от Нины из Нью-Йорка. От поражений, которые он получил в Дахау, ее муж лечится в общественном госпитале. Ему так переломали руки и ноги, что она боится, что он никогда не сможет работать и ходить, как прежде. Даже одеваться и есть он еще не может без ее помощи. Слизистая оболочка его рта обожжена чем-то ядовитым, и он получил тяжелую желудочную болезнь. Эти звери с хакенкрейцером его так топтали сапогами, что переломали крестец, кости таза, и в свои 45 лет он инвалид. Три недели в Париже она не отходила от его постели, и то же самое на пароходе. Его сняли на носилках прямо в амбуланс.
Ее дочь, к счастью, имеет работу, также родные ей помогают. После этого письма я себя чувствую, как после тяжелой болезни.
Все последние дни мы живем под знаком той трагедии, которая происходит с 700 эмигрантами, которых не спускают на берег в Хайфе. Часть, половину, отправили обратно: сцены, которые происходят на борту парохода, не поддаются описанию, как в дантовском Аду. Люди сходили с ума, выливали питьевую воду, бросали туда же в море свое платье, пытались покончить с собой. Родственники многих иммигрантов не могли ничем помочь.
Здесь есть много семей, где жена осталась в Германии, муж здесь, а дети еще где-нибудь в нейтральных странах или в монастырях.
Иногда трагедия бывает на почве старой матери, или отца, или в смешанных браках, христианская половина не могла и не хотела последовать за евреем или еврейкой.
Германский народ, как давно говорил Гейне, еще в состоянии средневековья.
Я читаю последнюю книгу Фрейда — «Моисей и Единобожие»[740] — и думаю, что и великий Фрейд не имел достаточно исторических первоисточников для того, чтобы утверждать, что Моисей египетского происхождения. Даже неевреи этого никогда не утверждали. Даже если Моисей был ассимилированный египетский еврей, он был патриот своего народа, первый сионист, законодатель. Он запрещал все нееврейские религиозные культы и дал то законодательство, которое народ хранит много тысячелетий и которое держит этот народ. Нельзя жертвовать исторической правдой ради психоанализа, как бы ценен он ни был.
Для меня никогда не были убедительны библейско-исторические книги или, вернее, романизированная история, как Верфель, например, Фейхтвангер, Арнольд Цвейг и даже Томас Манн. Библия дает слишком мало настоящего исторического материала — скорее мифология, приходится пользоваться египетскими, вавилонскими и прочими источниками, которые с Библией [имеют мало общего] <не всегда согласуются>. Невольно приходится вносить больше фантазии, чем исторической правды. Даже сам язык модернизированный звучит неправдоподобно. «Рабби» — не герр доктор, Иосеф Прекрасный — не «фуд контроллер»[741], но, как у нас говорили: «ведь знаешь, что врет, а слушать забавно».
Даже Иозефус Флавиус[742] не считается строгим историком, слишком субъективен. Но профессор Фрейд как медик и психоаналитик должен был бы держаться своей чисто научной области и не вторгаться в историю. Тем более что опасно развенчивать народные идеалы.
Теперь я снова читаю Талмуд в переводе Переферковича на русский язык[743].
* * *
Мы были вчера с Марком и Цви в Зоологическом саду, дедушка, кажется имел не меньшее удовольствие, чем внук, от всех этих обезьянок, львов и птиц разноцветных. Тяжелая работа и тревога за его мать сильно извели Марка в последнее время.
1-ое мая.
Половина персонала сегодня свято исполняет праздник, и у меня масса работы, так как больница не может оставаться без рабочих рук.
Материальное положение всех, и наше в частности, очень тяжело. Не только в банках, но и у частных лиц не достанешь кредита, предвоенная паника! Лавочники вообще больше ничего не дают в кредит, я в первый раз не заплатила страховки.
Англичане устали терять своих людей из-за каких-то обещаний евреям, они готовы пойти на любое соглашение с арабами, и со дня на день ждут новой Белой Книги. Для нас она будет «черная».
Войну ждут после жатвы, когда снимут хлеб с полей.
Я снова несколько раз взяла маму в кино: «Катя», развесистая клюква, но из русской истории, «Мария Антуанет» и «Парнель»[744]. Во всех трех фильмах хороши были первые роли: Даниэль Дарье, Кларк Гебл и Норма Ширер.
Под нашей виноградной беседкой можно уже лежать, есть тень. Мы посадили в этом году лиловые анемоны, дикие тюльпаны, которые мы привезли с собой из Западной Галилеи. Странно, когда я так спокойно сижу в саду и радуюсь красоте сада, у меня тяжелое предчувствие, что скоро как-то все это исчезнет и останется одно воспоминание — как сон. Сон изгнанных Адама и Эвы из рая. И мое имя Эва.
Но это потому, что я привыкла терять: потеряла Москву, Вильну, Вену, но если Гитлер придет в Палестину, мы потеряем не Палестину, а Палестина нас — все себе заготовят яд, чтобы покончить с собой. Еврейские палестинцы не потерпят Гитлера и муфтия.
Мы узнали из Хайфы по телефону, что один наш родственник был спущен с того самого парохода нелегального, который отослали обратно в море. У него была гангрена, его взяли в больницу при Аккской тюрьме. Мы хлопочем, чтобы взять его на поруки.
Первая Белая книга была Пассфильда, вторая Макдональда[745], ровно десять лет между этими двумя черными книгами, которые систематически уничтожают все взятые на себя обязательства Англии перед еврейским народом. Нелегальные пароходы — они нелегальны только потому, что спасение не легализировано, а преследование — законно. И Гвиана, место назначения, куда посылают этих несчастных беженцев, — самое ужасное, что может себе представить человеческое воображение: нет питьевой воды, нет хлеба, преступники и проститутки спят в одной кабине с роженицами и детьми, где вши, как во время Первой войны.
Есть книги очень «гуманных» писателей, которые <в наше время> звучат как цинизм: «Искусство жить» Моруа[746], например. Нам, евреям с лодками по Дунаю, с Дахау и сломанными костями и крестцом, с Акко, куда сажают людей с гангреной, и с пароходами, которые отсылают в Гвиану, — нам не важно знать, КАК ЖИТЬ, дайте нам жить, мы уж будем сами знать — как.
16.5.39
Жизнь тянется медленно и тяжело. Мой сын Меир весь кипит, когда говорит об английской политике и «черной книге», и так вся молодежь.
19.5.39
На днях по радио наконец прочли текст макдональдовской книги. Евреи готовят протесты, митинги и забастовки: молодежь возбуждена до крайности. Раввины и женщины в Иерусалиме протестуют, там даже переломали окна в английских лавках и были нападения на полицейских. Телефонные будки, электрические часы на улицах и фонари пострадали от камней. Было до 120 раненых среди евреев и неевреев и один убитый солдат.
20.5.39
Если бы не сад и цветы все оттенков: герань — от белой, бледно-розовой, красной, пунцовой до бордовой и почти черной, и пахучая акация, лиловый и нежно пахнущий гелиатроп, расцветающие гранаты, и если бы от времени до времени не посылали нам нашего дорогого Цвикеле, который растет и развивается и лепечет на своем детском языке, было бы невыносимо жить. Уже два года мы с Марком не брали отпуска, устали до смерти. Было несколько тяжелых случаев, рак, тумор, даже у знакомых и друзей, к тому же денежные трудности, которые не могут не портить отношения между компаньонами, и всегда мне кажется, что не они, а только мы несем все трудности. Тяжело и то, что развитие дела приостановилось, не увеличивать и развивать его, а сокращать персонал, расходы и усовершенствования нужно теперь, и даже нередко я думаю, что правильнее всего было бы закрыть больницу, взять нам обоим должности в большом госпитале, в больничной кассе или «Адассе».
Марку не раз предлагали это, но он отказывался. Может, теперь был бы настоящий момент для этого.
22.5.39
10 тысяч женщин ходило в процессии протеста к Нациву (Верховный Комиссар), подали петицию. Я лично никогда не любила уличных демонстраций, как бы необходимы и важны они ни были. Для меня в каждой демонстрации есть что-то от средневековья — от портретов царей и икон угодников и знамен крестоносцев. Есть что-то театральное и вульгарное. Может быть, я недостаточно социальное животное.
Английский премьер и радио дали двойное толкование Бальфурской декларации, и нет самого Бальфура, чтобы ответить и возразить. «У счастливого недруги мрут, у несчастного друг умирает»[747]. Я даже начала сомневаться, стоит ли нашим мальчикам записываться в английскую армию в качестве добровольцев.
В Иерусалиме появились какие-то подозрительные англичане в штатской одежде, которые разъезжают в машинах и в темных углах по вечерам избивают еврейских мальчиков. Они смываются при первом приближении «Гагана». Это мослисты — так говорят.
В Данциге было много пограничных инцидентов, которые могут послужить причиной войны — казус белли[748].
23.5.39
Я старалась скрасить нашу жизнь празднованием Шовуот, праздника первинок. Вегетарианский обед, дрожжевые булочки с сыром, кофе, и все дети были за столом. Вечером были в кино и ели мороженое в кондитерской.
26.5.39
Несколько дней стоял такой хамсин, что я не выпускала Цви, который у нас гостит, на улицу, в комнатах развешивала мокрые простыни, чтобы понизить температуру, и то же самое я делала в госпитале. Электрические вентиляторы работали день и ночь.
Сегодня первый сносный день. Теперь запретили все демонстрации, наступили будни английской политики.
Я читаю Гольдина — «Еврейская проблема», и Гейдина — «Один человек против всей Европы» (Гитлер), Лорана — «Я был в гитлеровском заключении». Хочется осмыслить происходящее, но это трудно. <Время — понятие относительное.> Иногда я думаю, что самые сильные события в нашей жизни продолжаются минуты. Менее важные — дни, недели, месяцы. Два года — колоссальный период, если это горе, и минута, если это счастье.
Десятилетия безысходных будней. Можно учиться на больных: операция и послеоперационный период — всегда праздники в болезни, всё вертится вокруг больного. Когда же он с костылями или без одной руки и без одного глаза выходит из больницы, начинается самый тяжелый период его жизни.
Рут занята экзаменами и письменными зачетами, мы с Цви ходим к морю. Он купается в прибрежной воде, возится в песке, и мы строим башни. Я научила его делать грешники (не от слова грех, а от слов гречневая мука. Здесь это называется фалафия), и он «торгует фалафией». Мы с ним оба загорели, как цыгане.
Нашего родственника выпустили наконец из Акко, его гангрена руки прошла, и мы ждем его сюда в гости.
30.5.39
После того как было нападение на арабское кино «Рекс» в Иерусалиме[749], в наказание закрыли все еврейские кино и кафе. Никто не доказал, что бомба в кино «Рекс» была брошена не немцами, итальянцами или даже англичанами.
Мадам Табуи пророчит и нам, и палестинцам нападение со стороны «Оси». Политика Америки очень неопределенна. Здесь, в среде так называемых «гитлеровских беженцев», тоже не все «слава Богу», как говорила наша нянька. Они были бы более рады поехать в Америку или Англию, у них нет сионистского понимания наших стремлений, они все критикуют, они забывают, что 20 лет тому назад эта «колония» вообще еще не существовала, что мы до Первой войны начали несколькими «бароновскими колониями», что здесь еще недавно не было ни дорог, ни воды, ни электричества, ни городов, ни порядочной школы для детей, ни больницы, ни театра или концерта, ни музеев.
Квартиры были примитивны, варили на угольях. Есть дамы, которые утверждают, что в Штудтгарте или Штетине было лучше: была горячая текучая вода, бифштексы из филе приносили готовыми по первому телефонному звонку, и Марихен работала с утра до ночи, даже не требуя воскресного отдыха. Как будто вообще для нас есть Штудтгарт или Штетин?
Женщины из Германии в этом смысле тяжелее приспособляются к новым условиям. Они не любят физической работы, не изучают иврита, будируют. Мужчины имеют другие претензии: что организации наши не на высоте, что ост-юден все захватили в свои руки и не дают новоприезжим, которые «kennen was» (знают больше и умеют лучше), взять администрацию в свои руки. Где они все были двадцать и тридцать лет тому назад?
Я не уверена, что через несколько лет все это изменится, что они все научатся языку, привыкнут к нашим методам работы или введут свои новые: но их дети будут настоящими сабрами, будут трудиться и жить, как наши дети. Часто читаешь, как негостеприимно Америка и Париж принимают немецко-еврейских беженцев. Сколько из них кончает самоубийством! Мне пишет Нина: наци с гиканием и криками тащили ее по улицам Вены, и если бы не ее самообладание, гордость или, вернее, красота, как выразился один СА: «Ире кониглих кайзерлихе ершайнунг»[750] — Ваш королевский и императорский вид, — ее бы тоже избили до полусмерти. «Но теперь мы вырвались из ада для того, чтобы умереть в раю! Антисемитизм и невозможность устроиться и получить работу мучительны!»
Цви долго сидел на ковре возле меня и играл в кубики, но теперь ему хочется писать на машинке, и на этой почве у нас с ним недоразумения, я иду с ним в сад, так как ему подарили лопату и грабли.
1 июня 1939
Я снова бегала по сертификатным делам. И на этот раз — для моей старой знакомой из Бонна Марты, ее родственники хотят ее выписать, и я старалась помочь им.
У арабов единственный клич: евреев сбросить в море!
Англия жестоко проводит законы Белой книги и наказывает всякого рода запретами: керфью, запрет движения и проч. Чемберлен провалился вторым Мюнхеном, и Англии не удалось подписать пакт с СССР.
16.6.39
Дети должны были уехать в кибуц, но из-за керфью по дорогам, застряли у нас.
Теперь все сертификаты уже <не из Германии, а> из Польши. Но из-за Белой книги это стало почти невозможно. Промедление в приезде моей свекрови делает нас всех очень нервными, Марк готов был бы поехать за ней сам. Один мой родственник написал мне с парохода по дороге в Южную Африку — он собирается там устроиться и выписать семью. По-видимому, в Польше начался «исход».
1.7.39
Доктор Вальтер в Китае хорошо устроилась, получила работу и квартиру при университете. Я жалею, что столько сил и времени потратила на ее сертификат, который теперь мог бы послужить кому-нибудь другому.
Последний раз, когда мы ездили по делам сертификатов в Иерусалим, мы с Марком уж кстати посетили новый Адассовский госпиталь на горе Скопус. Нам показали все отделения, сверху донизу, построено с большой роскошью (есть огромное антре, зал, в котором можно устраивать приемы для американских туристов), но, к сожалению, публика ждет приемных часов на улице под солнцем, и зимой это будет — под дождем.
Медицинская сторона, как Марк утверждает, поставлена прекрасно. Хирургические залы, рентгеновский кабинет и медицинский состав на высоте. В хозяйственном отношении будут еще сделаны разные поправки.
Школа сестер имени мисс Сольд поставлена с особой роскошью. Вид и веранды на Мертвое море и Иорданию, как и в швейцарских санаториях, служат для успокоения нервов и отдыха больных.
Иерусалимское население, особенно из Старого города и Меа Шеарим, по-видимому, имеет особое развлечение посещать больных, родных и соседей, в приемные часы сотни людей толпятся в коридорах.
10.7.39
Вчера снова были бомбы в еврейских районах. К нам привезли раненого в два часа ночи. Теперь ясно, что мы боремся за нашу Палестину, как боролись во времена Тита, и мы еще в самом начале.
Мы закладываем только краеугольные камни в Университете, в университетской клинике, в кибуцах и колониях и в защите родных тоже.
Каждый грош, который приходит в эту страну, дается нам кровью и потом, десятки «шлихим» (посланцев) вытягивают их из народа, который «жестоковыен», который консервативно цепляется за старое бродяжническое существование — за голус, а здесь наши дети стоят под ружьем, и если бы не Гагана, и если бы арабы не боялись нашей Гаганы, нас бы давно перерезали, как в других странах.
Мы когда-то строили все наше мировоззрение на пацифизме, это еще со времен пророков был высший идеал — перековать мечи в орала. И не будучи христианами, мы были за непротивление злу, давали Богу богово и Царю царево, нам Толстой <Эразм Ротердамский> и Ганди и Христос были ближе, чем тем христианам, которые сжигали во имя веры на кострах инаковерующих. Но все остальные народы, от которых зависит наша судьба, приняли нашу высокую мораль за слабость и трусость, за негероический и низкий национальный характер. И хотя во всех странах евреи были лояльными солдатами и боролись даже друг против друга, брат против брата, если этого требовал его патриотизм (русский, немецкий, французский и проч.), теперь нам придется доказать, что мы умеем бороться и за свой собственный патриотизм и быть «как все народы», не хуже и не лучше. С волками жить — по-волчьи выть! Забыть нашу самую святую заповедь — Не убий! — и бороться за свое существование.
Мне больно, что я больше не могу иметь иллюзий, для меня иконы превратились в покрашенные дощечки, а Мадонны — в мещанок с соседней улицы, с которых знакомый художник писал портреты. И еще хуже, когда страны, которые дали Канта, Гете и Бетховена, Данте и Петрарку, дают теперь Гитлера, Муссолини и Геббельса!
20.7.39
По газетам судя, «продают Данциг»[751]. Есть новая еврейская шутка: «дайн циг — нит майн циг»[752], никто не хочет бороться за польский коридор, последний пойдет по пути Судетов, Чехии, Абиссинии, Албании. Германия крепнет за счет слабых государств, в Японии англичане подписали еще более позорный договор о неподдержке Китая и падении китайского доллара, и Америка продает оружие своему врагу — Японии. Это современная политическая мораль, но в общем — безумие!
29.7.39
Я так была занята в больнице и в кухне последнее время, что лежу уже несколько дней в постели. Персонала недостаточно для нашего большого хозяйства: много рождений, обрезаний, операций и внутренних больных со сложными диетами. И как это всегда бывает, все наши друзья вдруг переживают какие-то кризисы: материальные, семейные, физические. Неудивительно: всем уже не по 20 лет, у всех дети в том возрасте, когда надо их венчать или разводить, надо устраиваться материально, лечить, посылать в армию, и я почему-то должна служить бесплатным адвокатом своих подруг.
2.9.39
Но все эти личные трагедии кончились в тот момент, когда все внимание было отвлечено трагедией мировой: началась война между Германией и Польшей, а объявления войны со стороны Франции и Англии ждут со дня на день. Договор между Сталиным и Гитлером был той бомбой, которая ускорила события.
Сионистский конгресс, который нам стоил состояние, оказался совсем лишним, не нужным. Сотни палестинцев застряли за границей, также дачники на Кипре, на Леваноне. Наши сыновья уже готовятся пойти на войну.
3.9.39 — тридцать девять, тридцать девять!
Этой даты я не забуду никогда, как не забыла 14 июля (мобилизация в России) или первое августа 1914 года.
Сегодня Англия вступает в войну с Гитлером. Слышали по радио речь короля, читали речь Чемберлена, также речь Мостицкого, маршала Рыдзь Смыглы и еще на днях — речь Гитлера, грубую, истерическую, лживую, крикливо-угрожающую. Если бы в Мюнхен вместо разговоров и питья шампанского с этим маляром джентльмены взяли с собой хорошую гранату, которая стоила бы жизни десятку людей, человечество теперь не стояло бы перед мильонами жертв.
Наш Меир готовится идти в инженерную бригаду (Royal Engineer Corps), я еще не могу думать об этом. Мысли возвращаются к тем дням, когда пахло новой кожей сапог, биноклей, чемоданов и разных футляров. Ночь, которая предшествовала нашему беженскому пути, тогда была жуткой по своей трагической прозорливости, точно все предстоящие ужасы открылись в каком-то откровении, как если бы нам на экране показали, что нас ждет.
Теперь почему-то ни у нас в семье, ни в окружающих семьях не ощущаем этого потрясения. Или мы к нему привыкли? Или потому, что мы знаем, что война — это не всегда смерть. Каждый человек уверяет себя, что обойдет его чаша сия, и что не будут непременно есть крыс и собак во время осады или блокады, что не попадут непременно в плен, и что бомбы не обязательно попадут прямым попаданием с аэроплана в наш дом.
4.9.39.
Война уже в самом разгаре, есть тысячи убитых, особенно много среди гражданского населения. В кабинет вошли Черчилль и Иден. Сегодня по радио будет речь Верховного комиссара, и даже уже началась чистка среди палестинских немцев, которые объявлены врагами[753].
Атмосфера вообще прочищается, евреи все вдруг сделались англофилами, записываются в войска, кто куда. Арабы пока не торопятся.
Рынок сильно вздорожал, а больничные и отельные цены и проч. нельзя подымать в соответствии с дороговизной. Особенно в больнице невозможно снижать качество и количество еды, также уход за больными не может стать хуже, чем был раньше. Многим чиновникам уже снизили жалование, идут разговоры о сокращениях, а в Хайфе принимают все меры для обороны порта.
Многие делегаты с Сионистского конгресса уже вернулись, рассказывают, что дорога пароходами была ужасная, спали не по классам, а где попало, еда была плохая, и был недостаток в пресной воде.
11.9.39
Рут пока что «кончила свое образование» в семинарии и вернулась к себе в кибуц. У них тоже идет мобилизация товарищей, и женские руки нужны дома. Она теперь «наставница юношества», а Меир завтра идет мобилизоваться в оборону страны. Он идет волонтером, конечно, но это внутренняя еврейская мобилизация, которую англичане не поощряют.
Варшава занята немцами.
Продукты пропали с рынка, еще хорошо, что я своевременно сделала кое-какие запасы для госпиталя. Мы перекапываем последние цветочные грядки в огороды, наш красивый сад теряет свой цветущий вид.
Почта за границу уже проходит цензуру, и не во все страны можно писать.
Новый год 5700 — Рош Гашана 13.9.39.
Корреспондентское агентство многое скрывает от публики. Еврейские гонения гораздо серьезнее: три с половиной мильона польских евреев в смертельной опасности.
Я, как отравленная мышь, ищу себе противоядия в работе и перекапывании сада, посадках и проч., чтобы не думать о войне и Меире. Оттого ли, что это мой сын идет на войну, оттого ли, что мы все хорошо знаем, что Палестина — одна из ближайших мишеней «Оси» (они хотят отнять Суэцкий канал у англичан и колонии и знают, что найдут поддержку в арабах).
Теперь уже русские войска вошли в Польшу и делят ее, а наша Вильна кроме того является яблоком раздора между поляками, литовцами и воюющими державами. Над Вильной было 400 аэропланов, этого достаточно, чтобы уничтожить весь город.
Еще недавно <город> Тешин был на очереди, чтобы перейти к Польше, а теперь Варшава уже немецкая, и Данциг тоже. Я еще помню, как когда Польша пришла к самостоятельности, начала с того, что зарывала живьем евреев и била женщин. Но и теперь вся трагедия — на головы еврейского населения там.
И мать Марка отделена от нас, нет почты, и она уже не вырвется сюда!
Для Чехии и Словакии и Польши всегда еще есть надежда после окончания войны вернуться к нормальной жизни на своей земле. Но что будет с евреями? Европа мне напоминает сани, на которые напала стая волков: сначала им бросают куски мяса, провизии, потом собак, потом больных и слабых, которые не могут сопротивляться, и наконец, сами попадают в пасть хищников. Евреи были этими первыми кусками мяса, которыми думали откупиться от Гитлера. Франция, которая предала свою союзницу Чехию, — теперь на очереди.
28.9.39.
От беготни и переутомления у меня болят ноги, приходится носить вкладки, чего я терпеть не могу: вкладки и очки — первые признаки старости.
Несмотря на мои волнения, у нас праздники проходят нормально: гости, приемы, чаи, визиты и парадные обеды. Мы все это делаем, чтобы поддерживать в народе «мораль»[754]. Странно, что слово «мораль» перестало быть понятием этическим и стало понятием эмоциональным: «настроение», веселье, какого бы качества оно ни было.
Наша настоящая трагедия начнется тогда, когда из Польши начнут приходить известия и письма и сообщения о потерях. Сертификаты для поляков вообще еще не начали требовать, они войной были все застигнуты врасплох. Есть много таких, которые приехали сюда как туристы, оставили там жен с малыми детьми, и теперь сходят с ума, потому что оторваны от своих. Наша бывшая Литва — в русских руках, остальное взяли себе немцы. Кто успел спастись за русскую границу, и особенно те, кто знает русский язык, еще, может быть, спасутся. В самой Польше будет единение между поляками и немцами, евреям не будет пощады. То же самое на Украине, если ее завоюют.
Раньше говорили о войне как о войне, теперь говорят только о войне на уничтожение: победит тот, кто переживет эту войну.
Профессор Фрейд умер в Англии, куда он убежал от Гитлера[755].
30.9.39.
Завтра уже первое октября, стоят прекрасные осенние дни. Весь сад золотится опавшими листьями.
Англия вступает в войну. Америка будет пока помогать только снабжением, за наличный расчет и без всякого транспорта — сам приходи и бери. Впрочем, все дают и в кредит. То же самое делают и другие нейтральные страны. Я вспоминаю выражение московского профессора: «материя подошла к горлу». Под материей надо понимать силу физическую и ненависть, а мораль, дух, принципы порядочности, пацифизм, идеалы любви и все библейские законы надо на время забыть.
4.10.39.
В Варшаве расстреляли раввина Шора. Вся четвертая алия, которая в 1924 году отсюда бежала в Польшу[756], и все те, кто колебался и противился сионизму и приезду сюда, — остались там. Многим послали сертификаты в Италию, поможет ли это?
Здесь, благодаря тому, что власти прекратили беспорядки и наша молодежь «рвется в бой», настроение немного приподнялось. В Суккот многие выезжали с пикниками за город, танцевали и забыли на время прошлое и будущее.
Из-за дороговизны мы в больнице туалетное мыло заменили простым, и на субботу вместо рыбы даем зелень и вместо птицы — простое мясо.
16.10.39.
Мы с Марком взяли себе маленький отпуск, поехали проведать наших детей. Раньше мы поехали в Иерусалим, на могилу нашего друга, врача, убитого в прошлом году арабами. Поставили ему памятник. Был жаркий хамсинный день, яркие краски и красота иерусалимского кладбища на Масличной горе шли в разрез с кладбищенской меланхолией и надгробными речами. Вид на весь Иерусалим, на Старый город, мечеть и синагоги, церкви и монастыри, оливковая зелень на самой горе — все было ослепительно красиво.
Мы ехали мимо американской колонии, [мимо дома, где когда-то жила мисс Сольд,] мимо нового Рокфеллеровского музея[757], мимо старых храмов, гроба Захария, Яд Авшалом (Перст Авессалома[758]), все те места, где туристы когда-то могли спокойно разгуливать и осматривать достопримечательности. Теперь посещение Старого города стало почти невозможным.
На следующий день мы выехали в кибуц к Рут. Цви уже большой мальчик, дети нам обрадовались, показали все новое, что настроили за последние годы, несмотря на <террор в стране> [беспорядки]: новые фабрики, мастерские, новые обработанные земли, фруктовые сады и проч. Наш внук от нас не отходил, радовался подаркам и сладостям, и мы с ним снимались.
Вечером мы были уже в Хайфе, на Кармеле. Остановились в маленьком пансионе, где можно было бы спокойно отдохнуть. Меир приезжал к нам каждый день в свои свободные часы after duty[759], обедал с нами, и мы с ним ездили в Кирьот[760] — новые кварталы на берегу моря, бухты. Меир раз представил нам свою «бахуру» — довольно недурненькая девушка, но мы не спрашивали, и он не рассказывал: он еще так молод. Впрочем, во мне говорит будущая свекровь!
К сожалению, для чтения я взяла с собой только «Майн Кампф» Гитлера, и эта ненормальная экстравертированная крикливость, злость, которая говорит о плохом детстве и плохой семье, мне не дала приятного отдохновения. Но все евреи должны читать эту книгу. Нельзя в наше время жить с завязанными глазами. Если в этой книге вместо слова еврей поставить слово черт, будет казаться, что она писана во время средневековья, что это пасквиль того времени. Какая разница в языке Вельгаузена, Гете с языком этого маляра, под редакцией его друга Гесса.
Теперь идет поход на Мажино[761], на скандинавские страны; потопили пароход и 800 человек и попались на воровстве: вывезли ценности за границу на частные имена всех гангстеров: Геринга и др.
2 ноября 39
Уже зима, земля пропиталась дождями, и посеянные нами в саду овощи начинают давать побеги. Вчера удобряли виноградники и фруктовые деревья, которых у нас осталось очень мало из-за капнодиса (болезнь деревьев).
В газетах много пишут о Люблине, где будто бы скопилось много беженцев или ссыльных (трудно разобрать), но это символ ужаса.
Из Польши уже давно нет писем и даже просьб о сертификатах.
10.11.39.
Гитлер объявил ультиматум Голландии и Бельгии. В Польше два мильона людей валяются под открытым небом в эти морозы без пищи и одежды. Тифозные валяются на полу тех учреждений, которые называются больницами, без медикаментов, постелей, пищи и даже матрацев. Те, которые рассказывают о Польше, сами выглядят как тени. Врачи там не успевают констатировать смерть.
Остальные два мильона работают как парии, их убивают без суда, грабят и бросают в реки, расстреливают на месте, заставляют копать свои собственные могилы, детей убивают на глазах матерей.
Если Гитлера не убьют в ближайшие месяцы, в Европе не останется ни одного еврея. Почему евреи, как овцы, дают себя убивать? Почему нет сопротивления?
Одна женщина оттуда мне объяснила: для сопротивления нашлись бы герои, но в том-то жестокость наших мучителей, что раньше, чем убить вас, они шантажируют вас вашей матерью, сестрой, ребенком или женой, и вы, ради спасения ближних, не сопротивляетесь. Но потом кончают и с вами, и с ними.
Здесь же за последние тревожные три года выстроили 56 новых пунктов.
Вчера мы справляли день рождения бабушки, было человек 25, и было, как всегда: угощения, цветы, подарки. Малым детям и старикам не отказывают в этом удовольствии. Я даже выписала детей: кто знает, сколько раз мы еще будем справлять бабушкины именины.
Я обошла наш сад после того, как вырвали деревья, стало как-то просторнее, светлее, я не жалею. Виноградная аллея без листьев выглядит, как прозрачное кружево. Свечки на алое еще не распустились, но алеют. Гелиатроп и алое будут заменять нам цветы в вазах, так как все остальные вырвали. Красные олеандры на больших кустах, которые я когда-то отростками привезла из Иерихона, расцвели и лезут в окна. Бегонии и бугенвилии в цвету и вьются до самой крыши.
21.12.39.
Чтобы забыться, я читаю без разбора: Ницше — идеолога нацизма, Станиславского, а в бессонные ночи — Апокалипсис.
Приехало сюда несколько семей из Польши через Италию. Рассказывают, как чудом спаслись, и о тех, кто еще скрывается в монастырях, в деревнях. Есть еще порядочные люди и христиане, которые скрывают у себя евреев с опасностью для собственной жизни. Евреи живут в землянках, куда крестьянка без ведома ее семьи приносит по ночам им пищу и вести из города. Живут в подполье, в замурованных комнатах с закамуфлированным отверстием, через которое они по ночам выносят парашу и получают пищу и письма.
Живут под чужими паспортами, особенно если девушка блондинка и хорошо говорит по-польски и работает среди христиан, как работница. Некоторые даже выходят замуж и продолжают так жить.
Для малярийных нет хинина, для сердечных больных нет нитроглицерина. Перевязочный материал и другие лекарства не для евреев, даже отравиться нечем — бросаются с верхних этажей или в реки. Нет газа в печках, нет ядов. Яд получают «по протекции» от сердобольных христиан. Веревка — третья возможность покончить собой.
Счастливая Турция выкрутилась из войны благодаря повторным землетрясениям, говорят о 50 тысячах жертв только в Анатолии.
Я перечитываю биографию Герцля.
Здесь часто умирают от ангины пекторис[762], от первого припадка в возрасте 45–55. Вчера один знакомый удачно сказал: я боюсь, что, когда утром возьму в руки газету, найду там свое имя в черной рамке!
9.1.40.
Новый год прошел больше чем незаметно. Ничем и никак мы его не праздновали. Мы варим цитрусовое варенье (корки от апельсинов), джемы, грейпфруты, этрогим и мелкие мандаринки: это уже на весь год, благо есть еще сахар.
13.1.40.
Мама больна воспалением легких. Мы ее перенесли в больницу, и я не выхожу по целым дням из ее комнаты. Погоды стоят холодные, и нетрудно простудиться.
16.2.40.
Я не писала целый месяц из-за болезни мамы, но теперь она поправляется. Холод часто сменяется теплым весенним днем. В саду распустилось миндальное дерево, и желтые маргаритки на кусте расцвели. Все это ставим в вазы.
Начали приезжать из Варшавы люди. <Рассказывают, что> одна наша знакомая была изнасилована на глазах своего 11-летнего мальчика и потом бросилась с пятого этажа. Ее родители и семья мужа узнали все это здесь.
Я еще узнала, что мой родственник, который спасся в Южной Африке, потерял семью в Польше: его сын имел невесту, она не могла оставить старых родителей, чтобы удрать вместе с ним в Россию, так что все они погибли. Также его жена, которая была в другом городе.
Здесь англичане, а не арабы строго следят за законом о непродаже земель евреям. Что они-то так заинтересованы? Чтобы евреи не укрепились за счет арабов, как французы за счет немцев? Это все тот же страх о потере «равновесия», которое может чем-то повредить англичанам. И это теперь, когда наши сыновья жертвуют своей жизнью для них? В стране объявлено керфью на три дня.
7.3.40
Беспорядки разрастаются, на этот раз с нашей стороны. В английском парламенте было принято решение против нас с небольшой оппозицией. Нам нужен новый Моисей, чтобы вывел нас из всех Египтов.
13.3.40
Из-за физического отвращения я не могу здесь повторять то, что мы узнаем об издевательствах над евреями в Европе. Этот позор никогда не сотрется со страниц истории Германии, евреи должны проклясть эту страну, как они в свое время прокляли Испанию! Неужели потом найдутся евреи, которые «простят» — вернутся в эту страну?
22.3.40
Марка вызвали в Западную Галилею на консилиум, и я поехала с ним. Кибуцим там новые, еще не устроенные, почва каменистая, глинистая, краснозем, две тысячи лет не обработанная, а может быть, и никогда не была обработана. Даже нет остатков террас, как это видно на горах по дороге к Иерусалиму, например. Воды там нет, ее на ослах привозят в мехах или цинковых банках, подымают из вади, где течет небольшой источник. Теперь строят водопровод, но арабы часто крадут трубы и портят то, что уже выстроено. Тогда дети и молодежь остаются даже без питьевой воды. Самому старшему ребенку шесть лет. Весь кибуц — сабры — палестинская молодежь. Заработок они получают извне, работают в городе в слесарных или других мастерских. Своего хозяйства еще нет. Коров мало, молоко только для детей, есть также бараны и козы для сыра.
Вместо воловьего мяса едят кроликов, которых разводят. Кролики — не кошерное мясо, но служат как замена покупного. [Это необходимо.] Птицы очень мало, только для яиц собственного употребления, все еще «вначале». В комнатах живут по трое, семьи и не семьи.
Почва набухает от малейшего дождя и так прилипает к обуви, что галоши спадают и подошвы отклеиваются. Нам потом «ад хок»[763] пришлось в Хайфе на улице чинить ботинки и чистить за двойную плату.
Те короткие часы, когда можно было гулять на солнце по окрестностям, мы ходили по очень красивым горам, среди скал и камней, по берегу вади, под древними дубами, мы собирали цветы. Я привезла целый букет разных полевых цветов и растений, названий которых я даже не знаю: полевые ромашки, всех цветов анемоны, дикие тюльпаны — красные и оранжевые, лиловые, белый чеснок, очень нежно-розовые цикламены, также лиловые и белые, похожи на альпийские фиалки, лиловый пятилистник, вроде махровой сирени, очень крупная куриная слепота, розовые цветы, похожие на садовую герань, иммортель — мелкие красные цветочки под названием «кровь Маккавеев», фисташковые листочки и бутоны, маленькие полевые ирисы, красные и голубые колокольчики. Для эффекта я еще вставила в букет разные вьюнки и колючки. После этой прогулки мы вернулись в кибуц такими проголодавшимися, что наши мужчины готовы были съесть вола, но его не было. Но были другие вещи: салат, лебен[764], картофель и проч. Закат над Средиземным морем, над горами и кремневыми породами был пурпурно-красный, во всех оттенках.
Вернулись мы усталые, но очень довольные. Но молодежь, которая там работает, будет иметь много тяжелых лет, пока они обзаведутся всем необходимым, особенно водой.
28.3.40
Теперь у нас прекрасная весна, гранат и смоква покрыты красными листочками, миндальное деревцо отцвело, завязь миндаля крепнет, мы сделали свежий слой чернозема над песчаной почвой, и есть приказ от садовника не ходить даже по дорожкам, пока все не утрамбуется. Еще не перекопанная часть сада покрыта целым ковром полевых цветов. Я сняла почти всю редиску и салат, остались еще морковь, свекла, лук и петрушка. Все это сниму только к Пасхе. Несколько головок цветной и кочанной капусты свиваются и крепнут.
Ирисы и нарциссы с прошлого года цветут и наполняют все вазы. Комбинация красного алоэ с белыми ирисами в высоких вазах — очень эффектна, и на балконах я развожу аспарагус специально для украшения букетов. Цветы и музыка, книга и дети, поездка по стране, хороший театр и иногда фильм — и вид с нашей плоской крыши на море и горы вдали[765] и на наш садик внизу. Мы еще живем, мы дышим и строим, мы работаем и если умираем, то в своих постелях, и нам ставят памятные надгробия и пишут некрологи. Несмотря на все беспорядки в стране за эти последние четыре года и несмотря на все трудности, которые создают нам в нашем строительстве, мы еще живем как в оазисе, на островке, и мы не дадим уничтожить этот дом. А вчера мы слышали доклад о Польше: там погибают три мильона евреев, 50 тысяч уже умерли от расстрела, войны, болезней, от самоубийства. В одной Вильне сто тысяч под страхом смерти.
2.4.40
Сегодня был странный день. Дождь, может быть, последний после сильного хамсина, теплый, летний, приятный. Он льет уже вторые сутки и напитал землю, успевшую высохнуть за последнее время. На апельсинных деревьях появились цветы, и сильно пахнет флердоранжем. Почки на виноградных лозах и зацвела груша, листва граната из красной превращается в зеленую. Туя зазеленела, как новая, на лаврах белые цветочки, и «ночь пахнет лаврами», как в пушкинском «Дон Жуане».
Сегодня мы закончили последние приготовления к Пасхе, повесили чистые занавески, и домашняя портниха заканчивает нам всем обновки. Я, как всегда, работаю вместе с портнихой, отчасти из экономии, но отчасти потому, что есть много личного шитья, которое без импульса извне не соберешься сделать. Мы с мамой переделали себе прошлогодние шляпки — это уж из чистой экономии.
Были на концерте с Вейнгартнером[766] и в «Габима» с Ровиной.
27.4.40
Стоит прекрасная, чудная весна. Все цитрусы в цвету, голова болит от их запаха. Фруктовые деревья начали осыпаться, гранат цветет последним, виноградная пергола (сквозная беседка) покрывается свежими зелеными листочками, и мы перекопали последнюю часть сада. Лук перерос и дал не только зеленый лук к столу, но и семена для рассады. То же самое редиска: я люблю наш огород, потому что он напоминает мне мой подмосковный огород, мою молодость, когда на заре я работала с няней Лизой в огороде и в курятнике. Я медленно читаю дневники Герцля в оригинале.
2.5.40
Политические горизонты очень затемняются, в Норвегии не видно успехов, Италия угрожает вступить в войну активно, на этот раз, конечно, на стороне Германии.
11.5.40
Я ездила в Хайфу к Меиру. По дороге видела, что апельсины уже сняты. Хамсины и москиты не давали спать, всю ночь горела в комнате японская свечка, но это мало помогало от москитов, только мешало спать. Жара, мошкара, мелкие «зандфлиге»[767], как их здесь называют, сделали то, что вместо отдыха я получила «папатачу» (специальная хайфская инфлюэнца). Когда я поправилась, я посетила несколько больниц и санаторий, мне показали кухни, и я говорила с хозяйками о бюджете и о новых условиях работы во время войны и нехватки.
Меир был так занят в Гагана, что на этот раз он очень мало мог меня сопровождать, он иногда обедал со мной.
Я видела также новый рынок — Шук Тальпиот, грандиозное здание, которое стоило 68 тысяч фунтов, и еще строят новое здание для госпиталя «Адассы» на Кармеле. Несколько часов я провела в Нагарии на балконе, на берегу моря. Что очень красиво в Хайфе, это время сумерек, когда еще достаточно светло, чтобы видеть горы, море, дома, каждое деревцо и каждый забор вдали, и бухту и город, и в то же время весь город иллюминирован огнями внутри домов. Потом, когда делается совсем темно, это феерия, иллюминация, но не так красиво, как в сумерках. Мне всегда это напоминает зажженную елку в еще не совсем стемневшей комнате, когда не зажгли ламп, но зажгли свечки на дереве. <Или менору в Хануку и свечи в пятницу вечером.>
<Лежа в кресле на берегу моря,> я читала Анатоля Франса, и в Нагарии мечтала о небольшом бунгало на берегу на старости лет. Возможно, что на старости лет мы действительно себе заведем бунгало на берегу, хотя бы в Тель-Авиве, хотя я себе не представляю нас с Марком старыми и особенно богатыми и бездеятельными, отдыхающими. Это не в нашей натуре; каждая наша поездка была с целью чему-нибудь научиться и посмотреть что-то новое и интересное. Но эта тяга к морю у меня еще с детства — на балтийском побережье я видела такие сады, которые спускались к самой воде, и на горе стояли дома с колоннами. Или, может быть, я все это видела во сне?
На обратном пути я заехала к ребятам в кибуц, но торопилась домой, успела только выпить стакан чаю и поцеловать моего Цвикеле.
Фильм, который мы с Меиром видели в Хайфе, был музыкальный. Первый раз в фильме участвует Яша Хейфец[768], и даже говорит <без скрипки>. Я знала этого златокудрого мальчика со светлыми глазами, в белом воротничке на синем костюмчике, когда Яша Хейфец шел в музыкальную школу Трескуна в Вильне и нес игрушечную скрипку под мышкой. Потом мальчик лет 14–15 в Луге, он ежедневно упражнялся, уже как вундеркинд, со своим учителем Киссельгофом. Он, кажется, тогда был учеником Петербургской консерватории по классу Ауэра. Мы попросили его родителей позволить ему принять участие в концерте для пострадавших от войны. Этот кудрявый мальчик был красив, как [Бог] <Феб>. Следующие концерты были в Москве, в зале Филармонии или Консерватории, во время Первой войны, и наконец, здесь, в Палестине, куда он приезжал уже законченным музыкантом.
В кино этот совершенный артист показал себя с новой стороны — чисто человеческой, он помогает мальчикам поддержать своим участием музыкальную школу, которая служит бедным, но способным юным музыкантам.
* * *
За неделю моего отсутствия наш сад распустился прекрасно, на всех деревьях маленькие завязи, и этот год обещает много фруктов.
Когда я читала Герцля и Нордау, я думала: почему люди не прислушивались к их пророчеству? Почему в Палестине нет двух и трех мильонов евреев, слабая инфильтрация — вещь опасная, а массовая иммиграция бы рассосалась, и евреи не дошли бы до такой мизере[769], до которой они дошли теперь в Европе, и в той Германии и Австрии, откуда наши вожди вышли.
Германия уже вторглась в Голландию, с нидерландскими евреями, среди которых у нас лично есть друзья, будет то же, что и со всеми другими. Америка до сих пор держится изоляционистской политики, Черчилль предупреждал, что нейтралитет теперь вещь опасная, глупая, неблагородная, но слушали не его, а Чемберлена и тех, кто был за «апезмент»[770].
25.5.40
У нас в госпитале было немало брисов (обрезаний), дети получают красивые лакированные колясочки, белые или черные, иногда плетеные корзиночки. Эти новомодные колясочки очень глубокие и шикарные, мои дети таких еще не имели. Здесь люди привыкли делать подарки по разным случаям, посылают торты собственного печения, бонбоньерки, цветы, на обед можно еще получить в ресторане и в частных домах утку, гуся, индюшку и курицу сколько угодно. Салаты, майонезы, рыба, фрукты самые дорогие и разнообразные, мороженое, вино местное и привозное. Кормление, отлучение от груди, детский сад, свадьба и снова рождение внуков — все идет, как если бы в мире не было агрессоров и войны. Но в один ужасный день эти сыновья и дочери и внуки во всем мире подвергаются налетам аэропланов, нарядные няни с лакированными белыми и черными колясочками и корзиночками в панике бегут куда и как попало, в убежище, под ворота, в чужие дома, невесты остаются с протянутыми руками, когда поезд или пароход увозит их женихов, а матери, несчастные матери, сдерживая свои рыдания, чтобы не волновать и не огорчать сына и даже дочь, остаются стоять на перроне, и все это случилось уже теперь — в Норвегии, Голландии и Дании, в тех странах, которые не хотели, боялись войны и были застигнуты врасплох.
Смерть вырывает тех, кто еще может что-нибудь вспомнить, и в еврейских семьях вряд ли останутся те, кто бы мог оплакивать и вспоминать. Когда Герцль писал «Альтнойланд», еще не было нелегальных пароходов, которые ночью тайно приближаются к берегу и высаживают, или вернее, выбрасывают в море иммигрантов; счастливые спасаются, несчастные тонут или их отсылают обратно в море. Тогда еще не было в Тель-Авиве беспризорных детей, которые в 12 часов ночи возле кино и кафе продают шнурки для ботинок и папиросы и спички. Еще не было иммигрантов — не сионистов, для которых Палестина не мечта и стремление, а печальная необходимость. Тогда еще не было законов о запрете вывоза капиталов из разных стран, валютных ограничений и поголовного грабежа целого народа. Старики еще были в большом уважении, почти как у китайцев, и не должны были молить о смерти-избавительнице, чтобы не попасть в лагерь и не быть уничтоженными «за ненадобностью». И если бы Герцль теперь писал свою книгу, он бы ее писал, может быть, совсем иначе. Он бы писал о палестинских солдатах, защитниках родины. И гуманность и политическая мораль с тех пор сильно изменились. Но в одном Герцль был абсолютно прав: без Еврейского Государства нам не обойтись!
1.6.40
Прошла еще одна ужасная неделя для мира и для нас: король Леопольд Бельгийский изменил союзникам[771], прорвали линию защиты под Дюккирхенем, отпала армия в полмильона, и положение в Европе очень обострилось. Италия прервала дипломатические отношения со всеми своими бывшими союзниками.
Сюда приехали наши лучшие друзья из Варшавы, они девять месяцев скрывались в деревнях, в имениях, на дачах, где когда-то живали богатыми дачниками. Они скрывались даже в самой Варшаве в шикарном пансионе одной любовницы члена Гестапо, где жили высшие чиновники наци. Такие бывают чудеса на белом свете. Они питались гнилой картошкой, гнилой кашей, жили в погребах, платили последними грошами за еду, которую им хозяева с опасностью для них и для себя приносили по ночам. У них не было необходимых лекарств, они потеряли в весе до неузнаваемости и все же выжили.
Когда все бумаги и заграничные визы были в порядке, под чужим именем, конечно, потому что их искали в Польше, жена решительно подошла к кассе первого класса, попросила билеты в спальном вагоне, и они проехали до Триеста, как важные иностранцы. Их даже не беспокоили на границах во время контроля, так как за взятку вагоновожатый держал их бумаги у себя. В Италии муж заболел от всего пережитого, у него и так была ангина пекторис, и лежал некоторое время, пока не подошел пароход, который их привез сюда. Их бумаги на въезд в Палестину были в Триесте.
Пока они рассказывали всю эту эпопею, не хотелось верить, и все же верилось, что есть чудеса, что есть какая-то десница Божья, будь это личная энергия, умение жить, «савуар фэр»[772], или счастье. Они гостили у нас несколько дней и потом переехали на собственную квартиру. В Варшаве они жили в роскошной квартире с оригинальными картинами, коврами, стильной мебелью и проч. Все это, конечно, там и осталось.
7.6.40
Пришлось сделать «блекаут» в квартире и во всей больнице. Это стоило дорого, и специальная портниха работала несколько дней. Заклеили все стекла материей и бумагой, стало темнее повсюду. Чтобы по вечерам не было слишком мрачно, я под все цветные кретоны дала темно-красный материал, и вечером его не видно. Если по вечерам жарко закрывать окна и спускать занавески, сидим в темноте с открытыми балконными дверями, не читаем и проводим весь вечер в саду. Ужинаем большей частью в потемках, я приготовляю сандвичи и лимонад. Если есть щелочка в ставнях или в занавесках, приходят дежурные из гражданской милиции и делают рапорт. В больнице на все абажуры мы поставили синие колпаки, вставили синие лампочки и проч. Так мы привыкаем к новому военному режиму. На улицах так темно, что хоть глаз выколи! Все ходят с синими лампочками-батарейками и наталкиваются на столбы и на людей. На днях одна сестричка рассказывает: она впотьмах наткнулась на кого-то, и этот кто-то добродушно ей сказал: «Ну-ну, барышня, не смущайтесь, вы мягко попали», — он был толстяк.
Хайфа, которая всегда была сказочно красива, иллюминирована, стала темной и мрачной больше других городов из-за налетов на порт.
В кино показывают длинные и страшные новости: разрушенные дома, стрельба, танки, аэропланы, беженцы с детьми на руках, проволочные заграждения, интернированные, трупы, пожары. Земля, воздух и море — все насыщено войной.
12.6.40
Сегодня Шовуот. Отменены все процессии праздника первинок. Я дома вставила во все вазы красные олеандры, напекла ватрушек с творогом[773] — вот и все. Мы здесь еще не готовы к войне, недостаточно убежищ, и если есть, то не в погребах, а на лестницах со слабыми подпорками. Нет противогазовых масок. Особенная забота у нас о больных: что делать с лежачими после родов, операций и проч. Мы уже имели по этому поводу общее собрание врачей и административного персонала, но разошлись ни с чем. Я получила первое письмо от Нины из Америки, что ее муж принес… первое жалование. Ну, разве и это не чудо после всего пережитого? Мы с мамой взяли в банке сейф для важных документов и той капельки драгоценностей, которая у нас есть, потому что когда начинается аларм[774], не до ценностей: достаточно накинуть халат, взять батарейку, первую помощь (аптечку) и фляжку с водой. Такие пакетики мы кладем возле своих постелей.
19.6.40
Франция сдалась, Англия осталась одна против сильного врага. Я снова купила продукты, на этот раз по ценам черного рынка. Нельзя оставить больных без пищи. Пришлось влезть в долги. Пришлось также повысить жалование служащим, чтобы и они могли себе купить кое-какие запасы. Мы даже ездим в колонии за покупками тех продуктов, которые пропали с рынка. <Снова мешочничество?>
Сирия признала новое правительство Петена, результат национальной слабости и измены. Это значит, что наш враг стоит на пороге нашего дома. Немцы в своей антиеврейской пропаганде обещают послать нас «пешком» в Абиссинию. Почему в Абиссинию?
23.7. 40
Мы прошли первую стадию ожидания худшего и снова живем нормальной жизнью. Были даже на днях на концерте с летней программой, вроде как бы в Павловске под Петербургом: «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, Шопен, «Испанское каприччо» Римского-Корсакова и увертюра Россини. Солисткой была Пнина Зальцман[775], молодая еще пианистка.
25.7.40
В Хайфе был второй налет аэропланов, больше 130 жертв, 20 евреев убитых и масса раненых. Были и пожары. Там большой недостаток в убежищах.
12.9.40
Мы в Тель-Авиве получили «священное крещение» огнем, налет итальянских аэропланов. Были разрушенные дома, похороны жертв, и каждый рассказывал, каким чудом он спасся.
28.9.40
Я так занята, что некогда писать дневник. Мы часто спускаемся в убежище, которое мы вырыли в саду, вблизи дома. В первый этаж мы перевели всех лежачих больных, а также детскую комнату. Наверху остались только те больные, которые могут ходить, и, конечно, в палаты пришлось класть по двое, по трое, лишь бы не лежать под крышей. Маму тоже устроили внизу, хотя она будировала, хотела остаться в своей комнате, но подчинилась решению врачей. Все больные, которые на ногах, и весь персонал обязан бежать в «миклат» (убежище) при первой же сирене. Я остаюсь последняя в кухне, выключаю все электрические токи и газ, тушу огонь. Сестра Эстер делает то же самое в палатах. Из-за этих обязанностей я не могу ночью брать снотворных таблеток и утром чувствую тяжесть в голове и вечную невыспанность.
Америка и Япония втягиваются в войну, Россия тоже.
23.10.40
Здесь был устроен «питательный съезд» в связи с проблемами питания, которое обеспечить стало очень сложно, и в связи с войной. Я бывала часто на этих заседаниях в доме Штраус[776]. Съехалось много людей нашей профессии. Иногда знакомые из других городов приходили ко мне на обед или чай и высмеивали меня за то, что я не специалистка по суррогатам питания.
Кроме всех кризисов, военных, денежных и продуктовых, есть еще одно явление, связанное с войной: вся полоса вблизи моря, от улицы Алленби до Яркона, превратилась в солдатские трактиры, которые называются «пундаки», также притоны и публичные дома; вечером туда небезопасно ходить: пьяные проститутки, даже драки и крики. Я избегаю ходить в эти районы, потому что даже днем встречи с английскими и польскими пьяными солдатами неприятны.
27.11.40
Мне удалось детей, Рут и Эли, уговорить взять кое-какую мебель для их комнаты. Каждый раз, когда я к ним приезжала, я бывала подавлена их халатностью в вопросах быта. Их комната выглядела более чем неуютной, и в такой обстановке растет ребенок. Какую любовь к своему углу можно ему привить? Они всегда отказывались принять от нас что-нибудь под тем предлогом, что это создает неравенство в кибуце. На этот раз они поставили вопрос на общее собрание или на заседание квартирной комиссии (которая называется «справедливость и честность» — «цедек ви-йошер»), и было решено принципиально, так как время тяжелое, и у кибуца нет возможности улучшать бытовые условия жизни, брать у родных мебель, радио, все, что дают. Правда, что все это в пределах одной и очень маленькой комнаты: кровать, шкаф, покрывало на кровать, стол со скатертью, пара стульев. Приехал Эли, погрузил их в повозку, вещи не роскошные, бывшая комната Рут, — и повез все в кибуц. Я дала для Цви еще келим, столик и стульчик, пару детских картинок на стенку в его «уголке» и небольшой шкафчик для игрушек. Все это, и электрическая лампа на стол с бумажным абажуром, должно немного скрасить их жизнь.
Я читаю книги старого московского профессора Минора о диете умственных работников, о лечении нервных болезней и проч.
В больнице у нас лежат два тяжелых диетическиских случая, оба на моем попечении: одна социальная работница с улькусом[777] и второй — после операции. Наши молодые сестры теперь все стремятся идти в Этиес <ATS> — женскую бригаду[778], и я боюсь, что в один прекрасный день мы останемся без сестер. Новые сестры, которыми мы заменяем старых, дают три типа:
Одни страдают слишком большой скромностью и неуверенностью в себе, эти с «миндервертигкейтскомплексами»[779] делают часто ошибки, потом обижаются, если их учат и делают замечания, и всегда жалуются, что их «преследуют», к ним «придираются».
Другой тип — наоборот — все знает и умеет лучше других, не хотят подчиняться нашему «уставу», потому что где-то было иначе и лучше. Они очень утомительны, и не раз были разборы с врачами и кухней, и даже с «гистадрут»[780]. Но как первые, так и вторые в конце концов приноравливаются и входят в колею.
Есть еще третий тип, который вообще меньше всего интересуется работой. Им бы побегать, висят полдня на телефоне в устройстве вечерних и субботних рандеву. Они заняты своей наружностью, туалетами и прической. По недостатку сестер приходится и ими пользоваться.
На наше счастье, у нас есть еще несколько старых сестер, тех, которых я называю «сестрами Божьей милостью»! <И Эстер, о которой говорю, что она не страдает матрономанией.>
10.12.40.
Сегодня отправили всех пассажиров парохода «Патрия» обратно в море. На пароходе вспыхнули беспорядки, люди бросались в воду, были убитые и раненые, и некоторые сходили с ума. Психоз охватил всю эту отчаявшуюся группу эмигрантов, их отослали на британские острова[781]. Евреи в ответ на это объявили всеобщую забастовку.
26.12.40
Теперь Ханука, и мы устроили для сестер и врачей вечеринку. Программу выполняли все приглашенные, кроме того были артист театра, скрипач, пианист, и все сошло очень хорошо. Марк зажигал свечки и сказал несколько слов о празднике [новых] Маккавеев, которые снова отдают свою жизнь за родину. Мы пекли картофельные оладьи, которые всем очень понравились.
Было два очередных концерта симфонии[782]: Чайковский. Концерт был в новом зале театра «Огель», зал имени Арлозорова. Солист-скрипач Бергман. Второй концерт — Четвертая бетховенская, Дворжак, Вайнбергер[783].
30.12.40
Сегодня случилась тяжелая катастрофа: Дов Хоз[784] погиб во время поездки по стране, почти со всей своей семьей. Он должен был уехать в Лондон в делегации, но фатально отложил поездку на неделю из-за конференции рабочих здесь. Вся Палестина в трауре.
14.1.41
Сегодня была «воробьиная ночь». Гром, молния, дождь льет уже целые сутки, а в два часа ночи нас разбудил аларм. Пришлось одеться, спуститься в нижний коридор, где скопились в халатах все «ходячие» больные. Сцена эта напоминала сцену из пьесы «Потоп», прибавилась только призрачность от всех этих белых кителей врачей и сестер и пижам и халатов больных.
Сидели на ступеньках, на коврах и матрацах, вынесенных на лестницу, и ждали конца аларма. Я принесла вниз шахматы, шашки и карты, чтобы занять не спавшую публику. Когда все вернулись в постели, был уже рассвет.
18.1.41
Сегодня были две сирены, одна во время послеобеденного концерта в частном доме. Прервали на середине музыку и спустились вниз. По ошибке решили, что уже был отбой, и начали двигаться возле стен по направлению к дому, но милиция нас снова загнала в какое-то кафе, где мы пробыли до конца аларма. Движение автобусов не сразу восстановилось, и я пошла провожать одну старушку домой.
19.1.41
Снова была дикая ночь, гроза, сирены, и на этот раз я оделась потеплее и не вылезала из кровати: кто-то другой исполнил мои обязанности, я была измучена предыдущими двумя ночами. Теперь каждую ночь приготовляем больным пальто, туфли и все необходимое. Назначили строгое дежурство, чтобы не всегда те же самые люди не спали ночь.
21.1.41
Из-за алармов и бессонных ночей я получила прострел и работаю согнутая в три погибели, есть много тяжелых диетических больных.
23.1.41
Наконец-то первый солнечный луч. Тепло, мы с мамой в первый раз вышли погулять на солнышко в пардесим. Апельсины тяжело свисают с деревьев и золотятся на солнце, также лимоны и мандарины, грейпфруты: «кеннст ду дас ланд, во ди цитронен блюмен?» Знаешь ли ту страну, где померанцы зреют? Мы знаем, теперь эти прадесим приносят своим владельцам такие дефициты, что когда говорят бояровладелец, люди качают головой и «жалеют» его: бедняга, у него 110 дунамов пардеса, до чего он дойдет?
Среди персонала появилась эпидемия гриппы с осложнением на бронхи и легкие. Всегда кого-нибудь недостает — то акушерки, то главной уборщицы, то ее помощницы. Надо работать и в кухне, и в палатах, и в бюро.
4.2.41
Сестры с пневмонией медленно поправляются, чуть ли не в каждой палате есть одна из нашего персонала, мы даже хотели их поместить в отдельную комнату, придется это сделать, когда можно будет их двигать с места. Несколько уже вышло и получило отпуск на поправку.
18.2.41
По вечерам читаю книги об обмене веществ. Привезли пациента — араба из Газы, и вокруг него все танцуют. В его комнате с ним спит слуга, негр. Возможно, что хозяин дает ему пробовать пищу, чтобы евреи «не отравили». Но в общем он лежит в прекрасном настроении.
1 марта 1941
Нашему Цвикеле исполнилось пять лет, мы ездили на его именины. Его рождение справляли в детском доме, на парадный ужин были приглашены родители и дедушка с бабушкой. Мальчик получил от нас подарки и для его гана (детского садика) тоже. Эли смастерил ему собственноручно огромный автомобиль и кубики. Рут сшила куклу и все приданое. Все это, конечно, идет в общую детскую.
Часто, как Рут говорит, если нет времени и желания строить и работать над игрушками, берут старые, перекрашивают их, чинят, и они сходят за новые. Я всегда посылаю пестрые тряпки, и дети обожают переодеваться и давать спектакли, причем любимая игра всех детей, без разбора пола и возраста, — в солдаты. Один араб, другие евреи или англичане. Цви на поздравление отвечал речью: «тода раба[785], — спасибо за подарки и сладости».
Но самый лучший подарок был от детского сада — бетонный курятник, в который торжественно посадили наседку. Это событие занимало детей целый день. Эли был строителем курятника.
15.3.41
Вчера мы устроили пуримский бал, я дала свою квартиру. Все сестры оделись в костюмы: наша кухарка оделась старым ребе, одна из сестричек — его шамесом (служкой), мальчиком с пейсами, в белых носках, в цицес, выглядывающим из-под черного шелкового кафтана. Молодой врач был ребецн, в старомодном длинном платье, в парике с кружевной наколкой, в серьгах и брошке. И где они только это все раздобыли? Были апаши, японки, боярышни, матросы, пилот, тиролец, цыганки и проч. Я опорожнила все свои и бабушкины сундуки.
Над буфетом была надпись:
<!דל מלח, דל סוכר, דל שומן — מזון רזון? אבל לא זה העיקר>
(«Диета на истощение: без соли, без сахара, без жиров, но не в этом дело!») <Лишь бы весело было!> Над нашим радио была надпись: «Мсье, мадам, я немного охрип, я слишком часто даю аларм».
В углу для скучающих было всегда пусто, потому что все танцевали. Особенно старшие врачи с молоденькими сестричками отличались. Под конец нам, инициаторшам, мне и Эстер, пропели туш: «Хава хаверманит, бахура каарозим!»[786], «Эстер хаверманит, бахура каарозим!» — словом, мы, мол, молодцы. (Меня кроме всего заставили дать специальный урок танцев 19-го [столетия] <века>.)
Две сестрички у нас были поварихами в белых цилиндрах и в хирургических брюках — с ложками, сковородками и лопатками для парки. Была, как водится, Черная Кошка и к ней Кот в Сапогах. Словом, несмотря на тяжелые времена или благодаря им, все старались внести все, что могли, от веселья, талантов и хорошего настроения. Молодые и старые старались вовсю. Не так ли было и в Вильне во время Первой войны?
В последний момент перед балом приехал Меир со своей «хайфской бахурой». Мы их наскоро одели в Пьеро и Пьеретту как наиболее легкий костюм, и в молодежи недостатка не было, потому что все сестрицы тоже приходили со своими кавалерами.
24.3.41
Сегодня я отдыхала у нас в саду. Мимозы уже отцвели, но запах апельсин еще не пропал. Птицы окрашены в цвет мимоз, желтые с зеленоватым отливом — мимикрия или же появился новый сорт колибри в нашем саду? Каждый день они прилетают на кухонное окно подбирать крошки.
Вчера мы узнали, что были взяты Салоники (60 тысяч евреев), а в Луве <Ливии> есть неудачи и наши палестинские пленные.
12.4.41
К Сейдеру у нас были гости, приехавшие из-за границы, беженцы. Агаду читали каждый по-своему, кто по-ашкеназийски, кто по-сефардски. Все они спаслись из гитлеровского ада и были растроганы первой Пасхой в Палестине. Были и солдаты, товарищи Меира. Я радовалась, что мама еще могла принимать участие в кошеровании и приготовлениях к Пасхе и что наш сын был с нами. Кибуцники праздновали Пасху у себя. Вместо Цви, которого мы ожидали и который не приехал, «четыре вопроса» (арба кушьот) задавал мальчик из Польши на ашкеназийском наречии.
2 мая 1941
Сегодня мобилизация всех [мальчиков] <юношей> от 20 до 30 лет.
Мы живем в страшное время. Но мы не поддаемся панике, так же светло и весело на улицах Тель-Авива, так же в субботу гуляют парочки, детки в колясочках, так же переполнены кафе, парикмахерские, маникюрши и кино. Так же переполнен до отказу тель-авивский пляж, и не найти места ни в театрах, ни в концертах, ни в кино. Магазины и продуктовые лавки торгуют, приходится стоять в очереди, пока тебе отвесят нужное; гости у нас приходят к чаю и ужину, люди ездят по стране, как будто враг не стоит почти на границе нашей страны. В еще не оконченном здании театра «Габима» устраивают художественные выставки, и все ходят смотреть новые картины. Завтра наш сын идет на медицинское освидетельствование, и так как мы уже внутри, своими врачами проделали его испытание, мы уверены, что его «возьмут».
Нет семьи, где не было бы новобранца: муж, сын, брат, жених.
На днях в больнице было обрезание ребенка из очень ортодоксальной семьи. Обычно гости и родные приходят в очень приподнятом настроении — первый сын всегда радостное событие. На этот раз все сидели как в воду опущенные: молодой отец уже в хаки.
Наконец кто-то затянул песню. Сначала никто не поддержал. Потом подтянули, один, другой, наконец перешли в хор и кончили залихватской палестинской песнью. Все — от врача-хирурга, и старого моела[787], и старого дядюшки и кончая молодежью и детьми — пели громким хором. Настроение праздника перешло и в палаты, и на веранды, где дремали до обеда выздоравливающие, и все повеселели и подпевали. Молодая бабушка угощала, кого можно было, лекех и бранфен (вино с тортом), и это еврейское умение в последнюю минуту стряхнуть с себя горе-тоску и забыться в пении, в музыке, в хорошей шутке — это то, что держит нас две тысячи лет во всех наших испытаниях.
Сестры, которые утром пришли с заплаканными глазами из-за мобилизации, развеселились и начали рассказывать анекдоты. Самый популярный теперь такой: две лягушки нечаянно попали вместо воды в банку с молоком. Одна была пессимистка: побрыкалась, побрыкалась и пошла ко дну. Другая так долго боролась в молочных водах, что взбила масло, взобралась наверх и вылезла из банки. Эта была оптимистка. Мы, сионисты, не плаваем в молоке, но мы боремся даже в соленых волнах морских и в конце концов выплываем на берег. <Это называют 'עליה ב aliya bet[788]>
Мы ездили с приехавшими врачами и их женами в Иерусалим, показывать им «Адассу» и другие госпитали. Были даже в Старом городе в маленькой больнице Мисгав Аадах. Были в Шаарей Цедек у доктора Валаха[789]; он — самая интересная фигура старого Иерусалима. Он много сделал для медицинского дела полстолетия тому назад. Он еще и теперь шармантен, а главная сестра Зельма — настоящая сестра милосердия, наподобие католических монахинь. Там царит еще до сих пор прусская дисциплина и набожность, которая иногда идет <даже> вразрез с медициной.
Наши гости остались в восторге от «Адассы» <госпитале на Скопусе>. С тех пор как мы там были в первый раз, там было внесено много новшеств, и никто не хотел верить, что у нас имеется такой госпиталь. Вечером мы все усталые вернулись домой.
11.5.41
Рут привезла на операцию гландов Цвикеле к нам. Завтра его будут оперировать, пригласили специалиста из больничной кассы. Ему [Цви] обещано мороженое, сливочное, шоколадное и малиновое.
Наши две сестрички, которые имеют женихов на войне, пригласили нас на венчание; они счастливы и несчастны: обоих женихов отсылают на фронт.
17.5.41
Меир получил отсрочку на четыре месяца, он должен готовиться по какой-то инженерной части, о чем он не распространяется. Дети уже уехали и увезли Цви после операции.
10.6.41
Я получила приглашение в «Адассу» в Иерусалим на экзамен учениц при школе сестер, экзамен варки[790]: было очень интересно, парадно и в смысле хозяйственном хорошо обставлено. Диета, практика и теория варки. Потом мы были приглашены на чай <к главной сестре>.
Сирия занята войсками Де Голля, то есть союзниками. Это сняло много камней с нашей души. Но в Хайфе снова были бомбы <бомбежки>. Мы часто говорим с Меиром по телефону, в особенности после сирен здесь и аэропланов — там.
На днях здесь была сирена, которая продолжалась от половины третьего ночи до пяти утра. Мы все время провели в убежище и на лестнице. Шум трех бомб был сильно слышен, а четвертая бомба была как землетрясение. Мы потом узнали, что эта бомба попала в дом инвалидов, 14 убитых и масса раненых. К нам привезли несколько раненых, и все утро мы были ими заняты. Было много работы и в хозяйстве, и на следующую ночь снова сирена и бомбы.
Теперь есть новая инфлуэнца, желудочная, и часто фурункулезы — все это вследствие недостаточного и плохого питания. И так идет почти без перерыва.
Мы видели фильм с Чарли Чаплиным: «Диктатор», карикатура на Гитлера. Но Гитлера нельзя убить карикатурой, ему только пулю в лоб. <По-моему, самый неудачный фильм Чаплина.>
23.6.41
Война России с Германией внесла немного надежды в наше отчаяние последних дней. Я читаю Стефана Цвейга — «Лечение духом» — о месмеризме, Мери Беккер и Кристиан Сайнс. Сама Мери Беккер — интересный феномен: истерически больная, она прожила 90 лет, на страх своим врагам, на благо себе и своим сторонникам. Оставила мильоны, храмы, дома, дворцы, прессу, целое государство. Ее принцип очень примитивен: «врачу — исцелися сам», ауто сюжестия[791] и желание выздороветь. Это импульсы, которые помогают выздоровлению. Я лично верю в хирургию, асептику и еще профилактику.
23.8.41
На этот раз Рош Гашана — Новый год еврейский — у меня проходит в тяжелой работе, много работниц ушло в Этиэс <ATS>, трудно найти подходящий персонал. Также сестры получают лучшие оклады в частных домах, чем в больницах. Чтобы получить в центральном кооперативе Тнува продукты, нужно в пять утра быть на рынке.
30.9.41
На днях мы слышали по радио русское обращение к нашим братьям-евреям: говорили Ровина, Черниховский, Смелянский и Усышкин (последние двое через спикеров)[792]. Слышали ли наши братья в Москве и России голос новой Палестины, или из-за враждебного отношения к сионизму им было запрещено слушать? И почему эта вражда? Каждому народу разрешается иметь свои национальные стремления, только нам в этом отказано? И что в сионизме контрреволюционного? В Палестине есть достаточно коммунистов[793].
5.10.41
Умер Усышкин. Большая фигура в сионизме, большой и прекрасный оратор. Первая речь, которую я слышала, была на 11-м Конгрессе в 1913 году. О будущем университете. Он был большой патриот Иерусалима и закончил: «Знание придет из Иерусалима!» («Ха-тора теце мий-Иерушалим»[794]). Все, что было связано с Иерусалимом, было ему дорого. Последняя его речь была написана для радио, когда он уже был болен и не мог лично ее произнести. <Читал спикер.> Мы с Марком бросили все дела и поехали на его похороны. Был хамсин и тяжелая дорога, но мы еще поспели к погребению — не на кладбище, а в новом Пантеоне, рядом с доктором Пинскером[795]. Мы встретили там всю Палестину и должны были в нашу машину взять обратно несколько человек.
7.10.41
С продуктами большие трудности, картофель стоит 180 миль ротель (три с половиной шиллинга три кило). В Тнуве была такая толкучка, что носильщик сильно ударил меня по голове ящиком зелени, еще счастье, что я была в большой шляпе, и удар пришелся больше по шляпе.
30.11.41
Я была занята ремонтом, в больнице и дома. Здесь, если год-два не ремонтируешь дом, он кажется запущенным. Сад тоже медленно приводим в порядок. Белошвейка чинит больничное белье и шьет всем новые халаты — начиная с врачей и до уборщиц. Так что работы масса.
Я не имею времени ни для чтения, ни для кино. Меир был в отпуску, на этот раз без своей барышни.
Бои идут под Москвой, Ростов переходит из рук в руки, и теперь воюют под Севастополем.
11.12.41
Несколько дней уже, как началась американо-японская война. Уже не осталось нейтральных стран, кроме Швеции, Турции и, как всегда, Швейцарии. Здесь цены поднялись вдвое, рис исчез с рынка. Также яйца, зелень вздорожала втрое. Чашки самые простые вздорожали в пять раз.
Мы готовимся к маминому 75-летнему юбилею, пригласили человек 50. И так как нет ни яиц, ни масла, придется покупать все готовое, хотя покупное печение нехорошо. С подарками для бабушки тоже еще ничего не решили, мне некогда ни вязать, ни рукодельничать для нее.
18.12.41
Юбилей тоже позади, и, как все такие приемы у нас, прошел благополучно. Вместо блинов я пекла пирожки с капустой и грибами, и это имело не меньший успех, их давали теплыми в больничных «решо» (грелках для еды). За неимением яиц тесто сделали слоеное, что дало массу работы, но было принято с аплодисментами. Мама выглядела вдовствующей императрицей.
25.12.41
[Я прочла Моруа «Полковник Брамль» — очень-хорошо; Цвейга «Встречи и люди» и, кроме того, читаю о питании: «война и подвоз» и проч.]
9.1.42
Умер Рутенберг. Я вижу, что мой дневник мало-помалу превращается в сборник некрологов.
Память о Рутенберге связана со снегом. Здесь он в 1920-м году был главой бригады по борьбе со снегом. Подача первой помощи пострадавшим от снега. И в день его смерти Иерусалим был покрыт снегом, к которому Палестина не привыкла. В Москве он был во главе «Союза евреев воинов» вместе с писателем Андреем Соболем, Ан-ским и др. Все они старались организовать помощь еврейскому легиону в Дарданеллах. Но из этого ничего не вышло. Несмотря на его революционно-конспиративную работу в прошлом, здесь он весь ушел в чисто конструктивную работу электрификации Палестины и создал дело первой важности для нас.
Он не был ортодоксальным евреем, но последнее время стал религиозным. У него были гипнотизирующие глаза, и может быть, из-за этого, а может быть, из-за его гапоновского прошлого его многие избегали, но вся его жизнь была подвигом труда, идеи. Его завещание — все состояние для воспитания молодежи — его увековечило. Он запретил после смерти оказывать последнюю честь — называть его именем города, улицы и деревни, и говорят, его снежные похороны были спокойные и достойные.
Марк в нем потерял старого товарища по войне.
12.1.41
У нас снова несчастье с мамой: она споткнулась на полу своей комнаты, упала, сломала бедро и лежит в гипсе в больнице. Специальная сестра сидит возле нее день и ночь, и, когда я могу, я при ней. Гипс ее сильно мучает, и бедный Марк выносит все ее нарекания и жалобы.
18.1.41
У бабушки болят раны от гипса, чувствует себя несчастной, тоскует по своей комнате, недовольна сестрами и капризничает. Иногда она делается суеверной и обещает раздать все свое добро, если выздоровеет, и поможет строить синагогу, если сможет ходить, и тому подобные обеты… <утопические>
Сижу возле постели мамы и читаю книги проф. Клаузнера «От Иисуса до Павла»[796], а когда устаю — 30 рассказов Бальзака из Средних веков[797]. Это так же забавно, как Боккаччо.
25.2.41
Мамина болезнь делается затяжной, ей сняли гипс, и мы начинаем жить привычной жизнью.
Вчера были на симфоническом концерте в пользу «Черчилль-фонда». Молодая пианистка Элла Гольдштейн божественно играла Чайковского. Пятая симфония Бетховена прошла особенно хорошо. Но сегодня узнали о пароходе «Струма» с 700 беженцами, которые погибли, их не хотели впустить в Палестину[798]. Эти пароходы — «Патрия», «Струма» — все будут на совести английского народа и его правительства. Мало того, что оно не спасает евреев из когтей Гитлера, откладывая это на «потом», когда выиграют войну, они еще не впускают сюда тех, кто спасся и кого мы могли бы взять на себя, дать им родину, работу, дом. И все это из-за арабов, которые даже не записываются в английскую армию, которые не устраивают им концерты для «фонда Черчилля» и которые вообще идут вместе с Гитлером и Муссолини.
Также мы узнали сегодня о самоубийстве моего любимого писателя Стефана Цвейга. Он в Бразилии искал себе вторую родину и не нашел. Почему он не приехал к своему народу, в эту страну, где его любили и носили бы на руках?
14.3.42
У мамы было шестое кровоизлияние склерозного характера. Ей сделали переливание крови, она сильно ослабела и страдает анемией. Но это мало помогло, и через три дня ей стало хуже.
2 апреля.
Мне исполнилось 50 лет. Моя семья и больничные товарищи хотели как-нибудь справить мой юбилей, но я их просила ничего не делать: мамина болезнь и призыв Меира достаточные причины, чтобы не праздновать. Тем не менее мне прислали красивые подарки: альбом Родена, альбом Донателло, и дети приехали из кибуца. Меир мне принес цветы, похожие на орхидеи, которые я так люблю <культивированные ирисы>.
Цена на продукты сильно вздорожала: рыба 150 миль онса[799] (четверть кило), мясо почти так же, никогда этого еще не было здесь. Яблоки покупаем только для бабушки, клубнику тоже. Кондитерские товары — три шиллинга онса. Это — пасхальные цены, пришлось сильно поднять цены и в больнице.
Мой внук прислал мне рукоделие свое — альбом с рисунками «Беляночка[800] и гномы».
16.4.42
Моя бедная мама ослепла на один глаз. Врачи говорят, что это склероз, но она себя уверила, что от усиленного чтения. Она молит Бога, чтобы он сохранил ей второй глаз, так как ее единственное развлечение — чтение. Последнее время она перечла всего Чехова, Достоевского, Герцена и Толстого. <Она говорит, что читает все как в первый раз, но понимает лучше, чем в молодости, — тогда чтение было поверхностное.>
Мы ждем чудес на военном фронте, чтобы уничтожили Гитлера и его банду. Чтобы рассеять меня от моих горестей, пришли друзья и потащили меня на фильм с Вивиан Ли «Мост Ватерлоо», но я ревела все время.
24.4.42
Читаю книгу Элеонор Рузвельт о ее муже[801]. Сильная и большая женщина. Она не только перенсела стойко напасть — болезнь этого замечательного мужа, — она сумела еще вернуть его к работе и к его великой карьере.
3.5.42
Мама ходит на костылях и собирается домой, то есть в свою комнату.
У нас провел несколько дней Саул Черниховский, отчасти как пациент, отчасти как коллега мужа[802]. Он отдыхал в саду и читал Чехова. Вечером мы с ним сидели всей компанией в саду, и он нам рассказывал свои воспоминания «по земскому тракту»; память у него удивительная, он отчетливо и художественно рассказывал свои случаи из медицинской практики. Самый интересный случай, над которым мы все хохотали, о «свояченице батюшки». Компания земских деятелей раздражала батюшку <вдовца>: они приходили поздно вечером, подымали с постели молодую и красивую свояченицу, к которой батюшка был неравнодушен, и просили угощения. Ей приходилось спускаться в погреб то за кислой капустой, то за маринадами, за грибами и огурцами. И каждый раз кто-нибудь из компании должен был ей «светить». Батюшка сгорал от злости и ревности, но на следующий день повторялась та же история.
Затем он нам рассказал, как здоровая и молодая баба заболела маститом. Он, Черниховский, сам без наркоза сделал ей операцию, и за это она ему обещала зайца. И еще много рассказов, которые были напечатаны, но не со всеми пикантными подробностями, все эти истории в духе Боккаччо — о монахах, монахинях, архимандритах, попах и их женах, земских учителях и врачах. Много чисто медицинских случаев, далеко не смешных, но очень ярких и талантливо рассказанных. Много озорства и хулиганства было тогда в русской провинции; потом мы все вперемежку начали вспоминать разные случаи из гимназических лет до экзаменов включительно. Черниховский считает, что эти годы его <земской> медицинской практики, а также военно-медицинской службы были наиболее полезными для его дальнейшей практики и даже для его художественного творчества.
Моя мама была так увлечена его рассказами на хорошем русском языке, что забыла о всех своих болях в ноге и проч.
20.5.42
Сегодня мы гуляли по новому Лондон-сквер на берегу моря, я встретила доктора Злоцисти[803], он обещал нам подарить свою новую книгу о палестинских болезнях, но, кажется, скуп и вряд ли подарит! Очень занимательный старик, интересуется психопатологией возраста секса, климакса и проч.
30.5.42
Мы были приглашены на русский вечер, как я их называю «бывших людей». Были там те, кому не исполнилось еще 50 лет, но которые потеряли свои капиталы и «лицо» (профессию, общественное положение), а о стариках и говорить нечего: развалины, потеряли память, зрение, слух. Сидели они в первом ряду, с трубками, напряженно слушали ораторов, и многие из них вовсе не понимали иврит. Было жутко видеть этих «ционим ватиким», древних сионистов, которые живут на пенсии или доживают свой век у детей. Я бы не делала таких «сгущенных собраний», на которых люди могут демонстрировать свою старость и бессилие. Еще когда я наблюдала свою бедную маму, я себе сказала: я не хочу дожить до такого возраста и состояния, когда человек теряет свою самостоятельность, свою трудоспособность. На этом вечере я себе это повторила; прошли те патриархальные времена, когда люди желали себе и другим дожить до 120 лет и умереть с почетом.
3.6.42
Вчера мы, москвичи и тель-авивцы, хоронили нашего дорогого музыканта, профессора и сиониста Давида Соломоновича Шора.
У него была очаровательная улыбка, ласковое отношение к людям и то прекраснодушие, какого уже не осталось на этом свете. Я в Москве посещала его концерты: трио — Шор, Крейн и Эрлих, в зале Синодального училища, всегда камерная классическая музыка, преимущественно Бетховен. И как он играл Лунную сонату! Потом его лекции с музыкальными иллюстрациями — о Мендельсоне-Бартольди, о Мейербере, Рубинштейне и о еврейской музыке.
У него был оптимизм и вера во все прекрасное, он на все мог сказать «гам зу летова», и это к лучшему, даже в тяжелых событиях. Он еще успел принять участие в своем юбилейном концерте, и вся русская колония и много его учеников и поклонников было на похоронах. В его комнате на стене висят портреты работы русских писателей, музыкантов и исполнителей, с их автографами, самые ценные портреты, которые когда-нибудь попадут в музей.
29.6.42
Несмотря на отсрочку, Меир идет снова мобилизоваться, он себя плохо чувствует в партикулярном платье.
Тобрук[804] сдали, сдают и Севастополь. Мильоны евреев погибли и погибают, и никто не хочет или не может нас спасти. Наоборот, «Патрия» и «Струма» говорят о «джентльменском договоре» дать нам погибнуть. Я на это смотрю как на начало гибели всего цивилизованного мира. На жестокости и несправедливости нельзя строить новый мир и нельзя поддержать старый. Когда теряется мораль, теряется и сила сопротивления. Нельзя за наш счет спасти человечество.
У нас экономически, как во время инфляции: цены берем высокие, платим долги, тратим огромные суммы на расходы по делу, и в конце концов ничего не остается, нет заработков. Людям бросаются в глаза эти большие суммы, а стол должен быть первоклассным, но мы богаче от этого не стали.
Мама снова вернулась к себе в комнату со своей частной сестрой, и к ней приходят по целым дням посетители. Ее комната выглядит как будуар примадонны в момент, когда ей приносят цветы. Она радуется своей популярности, но когда гости уходят, она зовет меня или сестру и велит вынести цветы: «Я разлюбила цветы, все равно помирать!»
Мы начинаем по карточкам получать белый хлеб для больных, по триста грамм на человека. Печем дома добавочный хлеб, как это было во время первой войны.
28.7.42
Немцы идут на Царицын (Сталинград) и на Кавказ.
[Читаю Морли «Историю Англии».]
29.8.42
Уже девять дней, как Меир в Сарафенде, там тренируют новобранцев. Было два письма от него, он переносит, по-видимому, большие трудности, но храбрится и пишет, что «хакол беседер» — все в порядке.
4.9.42
Вчера я много плакала над письмом моего сына. Он был болен, имел высокую температуру, лежал в военном госпитале, и в письме как бы прощается с нами. Этот несентиментальный сабра благодарит нас за все, что мы ему дали. Одно из двух: или он очень болен, или его посылают на фронт, и он думает, что не вернется. Трудно понять. Он пишет, что только теперь оценил, что значит дом и родители, поминает Рут и всю ее семью. Для матери сын всегда — несовершеннолетний ребенок, никогда не мужчина, а тот же малыш и школьник, каким его помнишь с прежних лет. И хотя у него уже пробились усы или скоро он может жениться, для меня он остался таким, каким был в детстве.
15.9.42
Мы с Марком были приглашены в один кибуц вблизи Хайфы, провели там несколько спокойных часов. Спустились в вади, в котором много фиговых деревьев, клены, боксеры (стручковое дерево[805]), красные и белые олеандры и много дубков. Все это на берегу небольшой речки.
Многолетние деревья эти стоят с библейских времен, рука человека к ним не прикасалась. Корни вросли в скалы, и благодаря землетрясениям и подпочевенной воде отвалились слои земли и корни видны до самого основания. Эти корни, в поисках орошения, живой воды, столетия и, может быть, тысячелетия шли вглубь, встречали по дороге камни, скалы, кремневые породы, но они как бы с отчаянием разбивали все преграды и шли дальше. Наконец они нашли этот родник воды и не погибли. Деревья растут, живут и каждый год дают новые побеги. Разве не так же наш народ? Какие гонения, препятствия, жестокости, враждебные и чуждые нам народы не раз попадались нам на пути, но наш исторический путь не останавливался, мы шли вглубь в нашу национальную сущность. Ни ассимиляция, ни смешанные браки, ни временные поблажки великих сих, разные эмансипации, ничто не помешало нам остаться теми же семитами, с черными и печальными глазами, с длинными носами, с темной кожей, а главное — с еврейским сердцем. Страна, язык, религия, культура — все наше.
Внизу, у устья источника поставили дизель-мотор и проложили трубы, чтобы поднять воду наверх, в кибуц, где молодая палестинская молодежь строит и сажает, выкорчевывает камни своими непривычными слабыми руками, растит детей, устраивает праздники — новые традиции, основанные на старых легендах: «омер» — весенний праздник первой жатвы, «суккот» — украшение веранд наподобие «кущ», «Ханука» — восемь свечей и спектакли детей на тему «менора после возвращения в Иерусалим из Вавилона», Пурим, праздник освобождения от гонений Амана и, наконец, — Пасха, праздник весны и Исхода, борьбы за свою землю и восстановление еврейского государства.
Мы рвали фиги, цветы на берегу этого ручья, а арабки везли в жестяных банках воду в свои окрестные деревни. «Нарком Сайда», — говорили они, и мы отвечали тем же.
1.10.42
Мы ездили в Иерусалим. Марк имел консилиум, и мы остались на день, чтобы посетить наших друзей. Были в Рокфеллеровском музее. Красивое место, старая крепостная стена вокруг, фон старинный, а сад вокруг музея распланирован очень модерно <современно>. Стиль дома готический, сами древности немногочисленны, но содержатся очень заботливо, есть каталоги на всех языках. Двор внутренний с фонтаном в середине, напоминает одну из базилик в Риме, вокруг фонтана — каменные колонны и каменные скамьи для отдыха.
Читаю снова Шлецера о Скрябине[806]. Как далеко все это от нашей действительности, мы являемся свидетелями не Божественной симфонии, а дьявольского вандализма — жестокости, зла, концентрационных лагерей, поездов, в которых с помощью газов уничтожают детей и стариков и женщин. (Это крематории для живых — на колесах.) В мире, где наука, врачи и больницы служат не лечению и спасению от смерти, а служат уничтожению человечества, где переливают кровь <живых еще> младенцев в банк крови для арийских солдат, где делают эксперименты над здоровыми, как если бы они были кроликами, крысами, — в этом мире, где врач — синоним палача, звучит Дьявольская какафония <а не Божественная симфония>.
В школах преподают расовую ненависть, перед целым классом демонстрируют еврейских детей, как если бы они были обезьянами в анатомическом музее, женщин заставляют совокупляться из «евгенических соображений»[807] и проч., и проч.
Детей переезжают танками и бросают об стенку, потому что так «дешевле», не надо тратить снарядов, и людей сжигают живьем с той же целью. Что сказали бы Толстой, Короленко, Бриан[808], Христос? Не сопротивляйся злу? Подставляй другую щеку, когда тебя бьют по первой? когда на твоих глазах бьют по щекам твою мать и ребенка?
Марк тащит меня по разным кибуцами и в Иерусалим, и в разные поездки с собой, чтобы рассеять мою меланхолию <депрессию>, но я читаю газеты, слушаю радио, слышу рассказы новоприехавших, и я хочу умереть…
20.10.42
Идет осада Сталинграда.
Сегодня я послала Меиру через товарища несколько фунтов, так как не знаю его адреса — «эй шам баарец»[809]. Не могла много писать.
4.11.42
Ждем на один день на побывку Меира, он на этот день заказал не более и не менее, как ванну, дантиста, гостей, билет в кино и еще всякие дела. Я не знаю, увидим ли мы его вообще.
Мы слышали, что Черниховский очень болен. Он где-то в Иерусалиме. Так кончает свою жизнь лучший поэт-классик, который возродил язык и поэзию, который приобщил свой народ к мировой поэзии и эпосу. <И создал модерную медицинскую терминологию.> Через три недели его 50-летний литературный юбилей. Он даже не удостоился порядочного санатория!
7.11.42
Сталинград геройски защищается. Сталин требует второго фронта, против него стоят три мильона немцев.
Гитлеровские речи по радио гангстерского характера, о евреях он говорит, как взломщик, что их надо «кальт леген»[810], и мир и немецкий народ все это терпят, антисемиты ему сочувствуют.
Маме снова сделали впрыскивание против сердечной слабости, мы от нее скрываем о Черниховском, она его очень любит.
Я читаю метерлинковскую книгу о муравьях.
13.11.42
В Африке немцы терпят сильные потери, русские отобрали Шлиссельбург. Дарлен перекинулся на сторону союзников, а французский флот сконцентрирован в Тулоне и наконец-то есть ВТОРОЙ ФРОНТ!
15.11.42
Союзники празднуют победу, из Лондона радио-передача с колокольным звоном, Биг-Бен, оркестр, хоры, а у нас тяжелый траур по еврейским жертвам в Европе, сюда наконец дошли все сведения[811], которые до сих пор скрывались Палькором[812].
Осень переходит в весну, все зелено и тепло, апельсины желтеют. Маму вывезли сегодня на балкон, но она не могла долго сидеть.
28.11.42
Меир был дома, бегал, торопился, накупил себе книги и разные дорожные вещи и туалетные принадлежности, пообедал и снова уехал.
29.11.42
Стоят последние ноябрьские дни, бабье лето, а у нас вчера был консилиум. Мама очень плоха, делают ей массу вспрыскиваний, и она большею частью дремлет. Завтра начинается трехдневный траур по погибшим — с постом и всеобщей забастовкой. Разве все это их поднимет из гробов?
Во Франции потопили 60 французских пароходов[813], такого самоубийства флота, кажется, еще никогда не было.
Я получила письмо от доктора Вальтер из Шанхая, оно шло ровно полтора года, с тех пор она могла попасть в плен к японцам, и вообще неизвестно, что с ней стало.
10.12.42
Дети были здесь на Хануку, взяли Цви на Совкино «Конек-Горбунок». Меира собираются отослать. Нельзя спрашивать, куда и когда. Когда он с нами попрощался, махнул рукой, «как казак», и скрылся за калиткой, просил его не провожать дальше.
Мальчик крепился, но у нас всех были мокрые глаза. Вышли даже наша кухарка, и сестры дежурные, и все, кто мог.
Даже плитки шоколада не хотел взять с собой: в кантине, мол, дешевле!
Марка не было дома. Цви был в восторге от своего дяди-солдата, и когда он ушел, Цви говорит: «Гу хавер годол!» (Он большой товарищ!) У них в детском саду знают такие чины: тинок — малютка, гомлин — переходный возраст, ганон — маленький детский сад, ган — детский сад, талмид — ученик, ноар — молодняк, ноар овед — молодой рабочий и, наконец, хавер годол — большой товарищ. И Цви произвел Меира в этот самый высокий чин.
21.12.42
Маму снова нужно было перевести в больницу, где за ней более правильный уход.
82-летняя мисс Сольд занялась теперь новым делом: спасением еврейского ребенка из рук наци. Для этого создан фонд ее имени, она активна и деятельна, как молодая. Я всегда думаю, какое горе, что мама всю жизнь была занята только собой и своей семьей и не занималась ни профессией, ни общественностью. Ей теперь было бы легче умирать. Впрочем, ей как будто религия заменяет общественность. В ее 76-летний день рождения мы ничего не устроили, только приходили ее поздравлять. Она даже просила не приносить цветы в ее комнату. Я купила ей искусственный шелк для вязания, и она вяжет сумочки и шарфы, которые раздает своим друзьям «на память».
Рут пишет, что арабы у них выкорчевали 120 деревьев, которые уже давали плоды. Это несколько лет работы. Теперь нужно с ружьями охранять границы их пардеса и садов.
30.12.42
Меир завтра встречает Новый год как солдат, имеет билет на симфонический концерт и рыщет в погоне за девицей. Он сердится, что наши девушки предпочитают англичан. Я не спрашиваю у него, почему у него плохое настроение. Он приехал из пустыни Рафия[814], мы только стараемся его развлекать. Марк дает ему свою машину, чтобы катать барышень, но он не хочет справлять дома свой день рождения. Я теперь жалею, что он не женился перед войной, как это сделали многие из его товарищей. Дело с хайфской «бахурой», по-видимому, разладилось.
Наш бедный мальчик не знает, что «несчастная любовь» — не такое уж большое несчастье, что через двадцать лет, или десять, или даже через десять месяцев он будет доволен, что эта любовь была «несчастной». Мы с Марком в роли старых Базаровых из «Отцы и дети», когда их сын приезжает на побывку.
Мы проводили снова Меира в дальний путь, в Египет, и оттуда, может быть, его пошлют в Италию, по крайней мере, этого ему хочется.
4.1.43
Были похороны Артура Руппина, одного из тех, кто заложил первые камни в палестинской колонизации. Его похоронили в Дгании, месте, которое он очень любил. Под эвкалиптовыми деревьями, почти без речей и помпы, это были самые красивые похороны, какие я видела в жизни.
Процессия шла через всю Изреэльскую долину, по дороге стояли делегации из колоний и кибуцим, которые присоединялись к процессии и провожали ее до места погребения. Женщины с детьми на руках были заплаканы, его любила вся рабочая Палестина. И стар, и млад выходил из своих домов и с благодарностью кричали вслед: «тода раба!», «спасибо тебе!» [И если благодарили, значит, было за что.]
Последние годы взяли у нас в Палестине, не считая Европы, самых ценных людей, чистейших сионистов, и стало невмоготу хоронить тех, кто незаменим. Но счастье этих больших палестинцев в том, что они умерли в своих домах и постелях, окруженные семьей и товарищами, и все они получили торжественные национальные похороны. В это время в Европе величайшие ученые и деятели умерли так, что даже могилы их нет, и самой ужасной смертью. Здесь нужно и жить, и умереть.
30.1.43
Мы ездили в Хайфу повидать еще раз Меира. Рут и Эли были в нашей машине. Мы провели там полтора дня и очень устали, таскались по ресторанам и скрывали друг от друга наши мысли. Рут снова беременна, и мы завезли ее на обратном пути в кибуц. Я от усталости даже слегла.
Из Тегерана прибыли еврейские дети, которые проделали длинный путь. Из России и Персии, а главное — Польши[815]. Почти все они сироты или потеряли своих родителей. Иногда братик держит крепко за руку сестренку, чтобы их не разлучили. Он был ее кормилец, он ответственный за ее дальнейшее воспитание. Эти дети три года бродили по миру.
Наши ребята в школах собирают для них игрушки, книги с картинками и деньги: для этого устраивают спектакли, назначают входную плату или собственноручно делают куклы под наблюдением садовницы. Я собрала всю имеющуюся у меня в доме вату и заказала для них дюжину одеял на зиму.
14.2.43
Еще одни похороны: наш старый столяр, художник, которого я всегда называла «еврейский Кола Брюньон» и которого мы все очень уважали и любили. Он родился в маленьком еврейском городке, работал с детства у своего отца, столяра. Спал на стружках. Вечером, когда кончали работу и все шли спать, он зажигал свечку и принимался за чтение. Отец задувал свечку, и еще давал подзатыльник: стружки не место для свечек, можно еще наделать пожар. Но мальчик был уверен, что он не заснет над книжкой, и когда родители засыпали, он снова принимался за чтение. Всю жизнь он любил читать философские книги: Спинозу, Гегеля, интересовался Марксом. Когда мы подружились, он просил меня достать ему Эйнштейна в популярном изложении. У всех своих клиентов он одалживал книги, бережно заворачивал их в газету, и когда возвращал, любил потолковать и пофилософствовать о прочитанном. Он был прекрасный работник, сам любил полюбоваться делами рук своих и бывал польщен, если его хвалили. Деньги для него не играли роли, хотя у него была большая семья, и жили очень бедно. Он делал шкафы, столики, подносы — из дуба, махагони, ореха — и заканчивал с художественным совершенством: любил инкрустации из разного цвета дерева.
Несмотря на традиционную набожность, была в нем большая доля эпикурейства. Он женился на бедной, но красивой и очень чистоплотной девушке по любви, счастливо прожил с ней всю жизнь, дал хорошее образование всем детям и радовался каждой свадьбе, брису и бармицве в своей семье и у других. Приглашал к себе на «кидуш» в субботу всех земляков и сородичей, любил дать «машке» (выпить), а когда приходил к нам, например, и я угощала его чаем с тортом, восхищался: «В этом есть тысяча вкусов!» («Тойзенд таамен!»)
По субботам, подстриженный, в субботнем костюме, он выглядел очень празднично. Любил вспоминать своих старых клиентов, которые у него заказывали сложные «секретеры» с инкрустацией из разного цвета дерева, металла и даже серебра. Письменные столы с доской из шахматных квадратиков тоже в двух или нескольких цветах. Коробки для драгоценностей, подносы, книжные шкафы и проч. мебель. Эти клиенты могли быть русские чиновники или еврейские богачи, а иногда особые любители, которые выплачивали заказ в течение нескольких месяцев.
Он был индивидуалист, кустарник, не признавал помощников, подмастерьев. Работал собственноручно, не машинами, и поэтому его мебель имела такой особенный, немного старомодный, даже антикварный вид.
На днях я встретила его дочь. Она мне рассказала, как в последней стадии склероза, который захватил мозг, он вдруг собрался к нам в гости. И сколько его ни уговаривали, что мы, верно, в отъезде, а бабушка в больнице, ничего не помогло: он вышел на улицу, по дороге упал, и его привезли домой уже в амбулансе «скорой помощи».
Вторая группа детей приехала из Венгрии, бродила, как цыгане, по Восточной Европе. Все они были беспризорные, попадали иногда в детские дома, убегали оттуда, валялись в вагонах, под скамейками, на буферах, питались тем, что крали, рылись в мусорных ящиках, получали подаяния, изучили по дороге все языки, выдавали себя за неевреев, стали на 15 лет раньше взрослыми и уже слишком опытными людьми.
Один такой мальчик был у нас в больнице, заболел по дороге, и мы предложили взять его к себе на поправку. Говорит хорошо по-русски. Спрашивает сестру: «Вы будете девицей или дамочкой?» Она засмеялась: «Я дамочка». — «Ну, вот и хорошо, и в картишки можно сразиться. А то какой толк в девицах?»
5.3.43
Мою бедную маму так истыкали шприцами, что нет ни одного места в теле живого, тем не менее ей сделали интравенез[816] шприцем.
Ровина читала по радио стихотворение Сельвинского, в еврейском переводе, «Я это видел сам!»[817], невозможно слушать без содрогания: уничтожение матерей, детей, людей в завоеванной Гитлером России.
Читаю биографию Черчилля, ни слова о евреях. Когда-то была мода защищать угнетенные расы: Марк Твен писал о неграх, Элиот — о евреях[818], Байрон боролся за Грецию, Бакунин сражался на парижских баррикадах. Теперь пошла мода на уничтожение слабых. Полисо версо![819]
Я думаю, что теперь нужны не мелкие реформаторы с пенсионными фондами и проч. паллиативами, а великий учитель, который дал бы план, как действительно вылечить заболевший мир, как спасти мир от модерных Чингисханов и людоедов, одержимых расофобиями, и как экономически консолидировать не одну или две, а многие капиталистические страны, которые помешались на <страхе> коммунизма и боятся потерять свои капиталы, чтобы действительно накормить голодных, помочь таким многолюдным или отсталым странам, как Китай, Индия, Европа и Ближний Восток.
Толстой писал когда-то, что Левин, его герой и фактически — он сам, был против железных дорог. Это звучало по-левински глупо и наивно, и все цивилизованные его товарищи над ним смеялись. Но теперь, когда мир окутан сетями не только железных дорог, но когда быстроходные пароходы и стремительные аэропланы вообще уничтожили расстояние между континентами, теперь только мы видим, что мир не соединен, а разъединен, как он никогда не был. Теперь Мессия должен быть в мировом масштабе, локальные диктаторы и спасители не в состоянии вылечить этот мир, потому что всегда найдется полмира — сотни и сотни мильонов людей, которые не примут их доктрины, как бы сильны они ни были, чтобы навязать другим свои истины. Они могут завоевать или уничтожить тот или иной слабый народец, или два и три — но не весь мир. И в этом есть большая безнадежность.
Когда-то мы верили в Лигу Наций как такой орган, который, может, и имеет всю власть (кроме физической), чтобы предписывать общие законы, но и это интернациональное учреждение оказалось бессильным. Всегда есть кто-то Сильный, кто влияет на такую Лигу, кто диктует ей свою волю. А в худшем случае — выступает[820] из Лиги Наций.
21.3.43
Никогда в нашей семье не было такого печального Пурима.
От Меира было письмо из Египта.
Мы переживаем апокалиптические времена, четверть нашего народа (а другие говорят — треть) уничтожена, и не хочется этому верить. Но когда я смотрю на нашу молодежь, на Меира и его товарищей, на их веру, что у нас будет сила все перенести и пережить, и возродиться, назло всем врагам, и будет сила выстроить свое государство, тогда я начинаю верить в то, что мы не погибнем, что мы не как все те мелкие древние восточные государства, которые стерты с лица земли. И если другие государства помогут нам восстановить это наше маленькое государство, то не из любви к нам (ее нет), а скорее из желания избавиться от этой проклятой еврейской нации с их неразрешимыми проблемами. И, может быть, наоборот: если нам удастся выстроить и создать свое государство, то потому, что нам надоел этот пресловутый «цивилизованный мир», потому что мы разочаровались в их <сомнительном> прогрессе, в их христианской любви и морали, в их благородстве, джентльменстве, человечности. Всякий еврей, в котором есть еще искра чести и порядочности, должен оставить чужбину, которая его не хочет, презирает, и вернуться к себе, строить свой дом, по своему вкусу, идеологии, понятиям и привычкам.
Через несколько поколений не будет англосаксонских, ашкеназийских и сефардских, восточных и западных евреев, все будут сабры, с одним языком, с одной религией или без оной, но будет амальгама, единый целый народ. Наше поколение не увидит этого, потому что сказано: «И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему. Но жив Я, и Славы Господней полна вся земля, все, которые видели Славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте, и в пустыне, и искушали Меня уже 10 раз, и не слушали голоса Моего, не увидят Земли, которую Я с клятвой обещал отцам их. Все раздражавшие Меня — не увидят ее».
И еще: «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 и выше лет, которые роптали на Меня, не войдете в Землю, на которой Я, подъемля руку Мою, клялся поселить вас. Детей ваших, о которых вы говорили, что они останутся в добычу врагам, Я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне 40 лет…» (Числа)[821].
Может быть, наш Цви увидит страну такой, какой она должна быть.
29.5.43
Рут наконец приехала на роды. Я рада, что она отдохнет у нас, буду с ней гулять и развлекать ее, как я это делала перед рождением Цви.
8.6.43
За последний месяц на разных фронтах были победы: был взят Тунис, Визерта. Было 150.000 пленных, в Европе взорвали шлюзы в районе Рейна, и наши враги извиваются ужами. В Варшаве наконец-то евреи пробуют сопротивляться немцам. Их расстреливают с аэропланов, но лучше умереть так, чем идти, как овцы на заклание. Мы здесь все гордимся Варшавским гетто, <но сколько и как погибло среди них?>
12.6.43
Наконец-то Рут родила девочку, и назвали ее Рина, и хороша она, как солнце. Это не значит, что она не похожа на сморщенное печеное яблочко и что у нее нет желтухи, но она весит три с четвертью кило. Имеет все, что полагается, — волосенки, ноготки, смешные пальчики, ротик, который ищет соска, — и вообще прелесть.
Маме стало немного лучше, и мы берем ее снова домой. Мы рады, что родилась девочка, во-первых, потому, что мальчик уже есть, и родители очень ждали девочку, а я еще и потому, что не надо делать брит, для которого теперь нет ни терпения, ни продуктов. Но я, конечно, держу про себя эти незначительные соображения.
Эли приехал с сыном. Цви в первый момент был очень смущен, покраснел, не знаю, от радости или от огорчения. Потом его уговорили, что он теперь «большой» и должен заботиться о маленькой сестричке.
12.7.43
У нас все эти дни была огромная семья, мама со своей сестрой милосердия, Рут с ребенком, и объявился еще Меир из Египта. У меня не было времени и сил для больницы, я даже взяла на помощь одну из сестер, чтобы купать маленькую и помогать в доме. Но теперь все разъехались, и я могу снова писать.
Когда после трех недель мы отвезли Рут в кибуц, я увидела, что ее ждет торжественный прием: странный обычай устраивать «кумзиц»[822], даже если привозят на пятый день роженицу из больницы. Все рассаживаются на постели, на стульях и на чем попало, угощаются, устраивают «мазел тов» и сидят и разговаривают, как будто роженице это вовсе не мешает. Правда, что комнату приготавливают ей с трогательной заботливостью, украшают подарками и цветами, но я считаю этот обычай гостеприимства в высшей степени утомительным и негигиеничным. К счастью, Рут приехала на три недели позже, так что лично я не была озабочена. Мы ее высадили, передали ребенка в детский дом и уехали обратно в Тель-Авив.
17.8.43
Гитлер теперь дарит книги Ницше своим лучшим друзьям. [Если бы Ницше встал из гроба и посмотрел на тех «сверхчеловеков», для которых он осмыслил и подготовил и оправдал идеологию, он бы ужаснулся.] Одно дело разрушать предрассудки, сентиментальную глупость, традиции, затасканную мораль, обывательщину и слабость, и другое дело посылать в газовые камеры детей, женщин, стариков.
* * *
Странно то, все те евреи, которые погибли в этой шестимильонной[823] братской могиле, без разницы, были ли они ассимиляторы или ортодоксы, носили лапсердак и пейсы или были женаты на немках и австриячках, были пресмыкающиеся польские националисты или плохие сионисты и патриоты своего народа, все они погибли, не зная, за что они погибают. Мы теперь оплакиваем наших братьев в настоящем и переносном смысле этого слова: все погибшие — дети и братья из моей родни и родни моих подруг, все эти студенты, ассистенты университетов, артисты, офицеры, инженеры и музыканты, среди них талантливые и даже гениальные, и просто тетки и дяди, все они полегли, как это ни странно, в длинных, ими же вырытых ямах за нашу идею, за Палестину и сионизм. Потому что если нам теперь, после этих шести мильонов залитых негашеной известью, не вернут нашей страны, отнятой у нас вот уже 1800 лет, из которых у нас не было почти ни одного спокойного, неокровавленного года, если почитать еврейскую историю, тогда нет ни истины, ни правды, ни справедливости на этой земле, и тогда уже действительно не важно, будем мы дальше существовать или нет. На такой земле и жить не стоит.
* * *
15.9.43.
Прошли тяжелые две недели в моей жизни: моя бедная мама умерла в начале сентября. Готовилась со страхом к этому событию, и налетело оно, как шквал.
После смерти матери стоишь, как перед началом своего собственного конца. Последние три дня мама часто теряла сознание, имела высокую температуру, но иногда она приходила в себя и разговаривала: она переспрашивала: «Значит, от Меирки было хорошее письмо? Поклон бабушке? Ну, хорошо». Раз проснулась, взяла чашку кофе, которое я ей подала, и сказала: «Дочка, как ты сварила это кофе, такого вкусного я еще никогда не пила». Раз я ей передала поклон от Черниховского, она была очень рада и с улыбкой заснула. Раз я ей рассказала, что мы заплатили один долг, который, как она знала, нас сильно мучил. Она сказала: «Как я счастлива, как я счастлива», — и заснула.
Ночью она бредила, что хочет операцию, чтобы сам Марк ее оперировал, но она никак не могла вспомнить, какая у нее болезнь. Марк ее успокоил, что ей только грыжу вправят и оденут пояс, не нужно никакой операции. Это ее очень успокоило, и она заснула. А когда ее перевезли в другую комнату, чтобы дать ей кислороду, она сквозь сон переспросила: «Так оденут пояс?»
Когда сестра в последний раз ее переменила и переодела во все чистое, она ей улыбнулась и пожала руку, очень она любила чистоту и аккуратность. В тот вечер я не имела духу с ней проститься, я ушла к себе. Я в последний момент надеялась, что так как она страдает уже два года, это будет тянуться еще неопределенное время.
На рассвете Марк меня разбудил, все было кончено.
Я не могла себе простить, что я — как Петр — проспала ее последние часы, но хотя я себя считала Бог весть каким диагностом, в личном случае делаешься [верующей] <слепой>, надеешься, что это еще не конец. Я верила, что она еще поправится, будет читать, сидеть на балконе, принимать гостей, жаловаться на боли в ногах и на свою судьбу. Эта моя уверенность передавалась ей, и мы всегда планировали, как будем справлять ее 80-летний юбилей. И так она умерла, уверенная, что Марк ее спасет. Она даже верила, что будет снова ходить хорошо, велела ортопедическому сапожнику не делать вшитых вкладок, а такие, чтобы можно было их вынуть и не употреблять без надобности. Она не любила брать снотворные, чтобы «не привыкать» к ним, и до последних трех дней своей жизни она делала холодные обтирания, чтобы «не простужаться», чтобы «закаляться», так она говорила. Счастье, что человек, как малый ребенок, может себя уговорить.
Похороны были очень спокойные, на новом кладбище «Нахалат Ицхак», несколько старых друзей, москвичи, которых в Палестине не много, и еще наши друзья. Потом началась мучительная неделя посетителей, сидение «Шиве», и это тянется не семь дней, а до сегодняшнего дня.
Согласно ее воле, я разделила все, что осталось от нее, ее друзьям и бедным, себе я оставила только то, что для других не представляло интереса, ее фотографии, вещи, которыми она дорожила всю жизнь, мелочи.
Рут не могла приехать на похороны из-за кормления, а Меир на войне.
22.10.43
Был сионистский съезд, на котором выступали все наши лидеры, и в том числе 82-летняя мисс Сольд. Ее речь отличалась особенной четкостью мысли и выражения, это был деловой отчет о юношеской иммиграции, с цифрами, с данными, без фраз и старческого самолюбования. Потом говорили представители новых пунктов в Негеве, в Цофоне (наши Юг и Север), молодые девочки с косичками и молодые парни в синих рубашках, которые охраняют границы нашей страны. В их акценте слышались языки тех стран, откуда они приехали: Германия, Польша, Венгрия, и наши сабры.
Эти маленькие группы, разбросанные среди бедуинов, без знания еще арабского языка, всегда с ружьем, с киркой, лопатой или на лошади верхом, на тракторе, иногда с книжкой в кармане, со словарем еврейским или арабским, их называют «давкаистами», от слова «давка» — наперекор всему, всем стихиям.
Были похороны Черниховского[824]: он недолго прожил после того привета, который я от него передала бедной маме. Рассказывают, что перед смертью он сказал: «Ну что ж, умирать, так умирать!» Как врач он сам знал свое состояние: лейкемия.
14.12.43
Мне предлагают для перемены обстановки поехать в Египет работать среди ЭТИЭС <ATS>, в женском солдатском клубе, или даже взять там работу по своей профессии в госпитале. Марк меня особенно уговаривал, потому что я буду ближе к сыну, выйду из нашей траурной обстановки. Но я не хочу оставлять его и дом, хочу быть ближе к Рут и ее детям. Рут всегда во время кормления худеет и чувствует себя хуже, а главное — у меня нет энергии подняться и начать что-нибудь новое.
13.1.44
Меир приехал в отпуск из Египта. Мы были на кладбище у бабушки. <Прошли уже четыре месяца и больше.> В России победы, хотя борьба жестокая, на других фронтах тоже бьют Гитлера.
25.1.44
Теперь у нас новое дело, которое берет время и заботы и труд. Это «фууд контроль» — надзор за питанием. Приходится получать разрешение на продукты из больницы, весь запас взяли на учет. Надо давать точный «сток»[825], инвентарь всего, что приходит и расходуется, все остатки. Сахар, муку и др. продукты выдают нам из организаций больничных и отельных союзов. Надо заполнять анкеты, требовать продукты и подвергаться контролю. Это теперь берет больше времени, чем работа в хозяйстве.
18.2.44
Я хворала гриппой и по старой памяти поехала в Иерихон поправляться. Но на этот раз Иерихон был не тот. В Греческом монастыре не нашлось места, я жила в другой греческой гостинице, но такой неблагоустроенной, и стол такой восточно-острый, что мне пришлось уехать. Вообще впечатление, что Иерихон — Юденрейн[826], там не сдают больше евреям дачи. Две еврейские гостиницы закрыты, разрушены и сданы арабам.
Весь городок сильно запущен, как источники, так и раскопки, а агрономическая станция уже в других руках и имеет совсем не тот цветущий вид. Женщина врач, еврейка, <Ольга Фейнберг,> которой сожгли отель-санаторию, должна была оставить Иерихон и уехать в качестве врача в Индию. Нет даже сестры милосердия, которая могла бы сделать впрыскивание.
10.4.44
Первая Пасха была без бабушки и без приготовлений к празднику. Мы с Марком поселились в Гедере, в маленькой «луфтхютте»[827] — домике при пенсионе, и провели там всю Пасхальную неделю. У нас был отдельный садик и веранда, завтрак нам приносили в комнату, [а когда он уехал, я переселилась в главное здание пенсиона].
Я прочла целую библиотеку книг, английских и французских, меняю ежедневно и иногда по ночам читаю. Мы гуляли по колонии и лежали в шезлонгах. Последние две недели Марк приезжал только на субботу, так как должен был всю неделю работать.
Здесь тихо и зелено, большие лужайки, злаки на полях уже созрели и сняты, и часто видишь библейские картины, как арабские Рут-моавитянки собирают остатки на полях[828]. По ночам аэропланы, которые находятся вблизи, в Реховоте, мешают спать, и тогда я снова беру книгу. Начали болеть глаза от чтения.
12.5.44
Я уже вернулась из Гедеры, где я провела три недели, и я снова бегаю по продуктовым учреждениям и магазинам.
22.6.44
После многих лет я получила первое письмо от сестры по адресу мамы: она не знает, что мамы уже нет в живых, сообщает маме, что ее муж, инженер из Днепропетровска, погиб на войне, пишет о других погибших героях, кто на войне, кого расстреляли немцы, вообще письмо полно ненависти к тевтонам. Кузина с 16-летней дочкой погибла в Украине.
Второй фронт работает в Италии, затем в Пасифик[829] (американские войска), а русские заняли Карелию и Выборг.
Самое сенсационное сообщение последнего времени: это аэроплан-«робот» без экипажа, чтобы можно было убивать и не быть убитым. Направлено это пока против Англии.
1 июля 44
Союзники приближаются к Парижу, Флоренции, Минску, Гелсингфорсу.
5.8.44
Мисс Сольд больна воспалением легких.
28.9.44
Меир был в отпуску 17 дней, праздниками[830], но мало с нами, больше в Хайфе и в кибуцах, и ездил по разным своим делам. Все же я радовалась нашему мальчику. Когда Меир уехал, мы случайно узнали, что его хайфская подруга в его отсутствие вышла замуж, но он сам нам об этом ничего не сказал.
2 декабря 44
Прочла интересный репортаж Эв Кюри[831] о дальнем Востоке и других фронтах этой войны, прочла еще много других книг и теперь штудирую дантовский ад, который я не держала в руках со времен моих студенческих лет. Сейчас сижу на балконе, красивые листья акаций и каштана свисают над головой. Эта зима для меня была тяжелой, меня посылают в Тиверию лечиться, так как за время болезни мамы я сильно запустила свое здоровье.
19.12.44
Я в Тиверии. Сижу в кафе «Панорама», вдали видны горы, внизу синее Тивериадское озеро. На другом берегу Табха, Мигдал, все горы — свежезеленые. Сады террасами спускаются к озеру, зеленые улицы, отели, новая Тиверия, квартал, который называется Кирьят Шмуэль.
Облака закрывают гору Хермон и снег на горах.
Утром я хожу купаться в теплых источниках, иногда даже спускаюсь пешком, не в автобусе, который я избегаю. Потом я завтракаю в новом парке на берегу, читаю или рукодельничаю, после обеда отдыхаю, иду пить кофе в кафе, где играет джаз и где можно встретить знакомых. Я еще никогда так не лентяйничала и не лечилась. Большею частью я ездила учиться или работать, а теперь я настоящая курортная дама. На субботу приезжает иногда Марк. Если есть вечером концерт или приличное кино, я хожу, но тогда мне кажется, что я сижу в арабском синема [кино-театре], потому что вся молодежь местная говорит по-арабски, это еще доиммиграционное население и его дети — те, кого называют «старый ишув».
2 января 1945 года
Сегодня 25 летний юбилей нашего палестинского пребывания. Марк заехал за мной на машине, и мы поехали кататься по колониям. Были и в некоторых кибуцах в Иорданской долине. В Кинерете[832]. В Дгании. Нам показали все новое, что было выстроено за последние годы. Очень красивый детский сад в швейцарском вкусе, с видом на озеро. Затем ботанический, зоологический и агрономический музей, сад имени Руппина с тропическими и субтропическими растениями, новая читальня, площадки роз (тридцать разных сортов), центральная школа для всего округа, огромная новая столовая, много бетонных дорожек и специальные краны для мытья галош, чтобы не ступать на дорожки с грязными ногами. А эти галоши оставляются тут же у крана, так что в домах должно быть чисто. Школа рассчитана на 300 детей, мы присутствовали перед их обедом. Учителя читают вслух отрывки из Библии, что заменяет традиционную молитву (браха).
Мы с Марком остались очень довольны этой поездкой и радовались встрече с теми знакомыми, которые нас помнили еще из России.
В Кинерет детский сад обставлен не с меньшей роскошью, чем в Дгании. Я думаю, что можно начать говорить о «счастливой Палестине», как русские до войны говорили о «счастливой России», и не для пропаганды, а потому что достаточно посмотреть на лица наших детишек, чтобы утверждать, что мы счастливы.
В Кинерет мы были на могиле моей старой приятельницы, Рахель <Блювштейн> — поэтессы. Вечером мы вернулись усталые в Тиверию. Наш юбилей мы провели так, как хотели, но про бутылку вина, запечатанную 25 лет тому назад, — забыли.
17.1.45
Читаю и увлекаюсь Прустом.
Мы с Марком видели ужасные фильм, который называется «Гитлеровские дети». Это те насильственные браки и навязанная любовь и роды, которые теперь проводятся в Германии. Этого еще никогда не было в мире. Даже не во время «похищения сабинянок»[833] их делали законными женами. И когда родители заставляли по сватовству выходить замуж, тогда была возможность жить и привыкнуть и полюбить человека. Теперь же это простое спаривание, как в конных заводах или в коровниках. Я как-то читала, что, когда арабы спаривают лошадей хороших арабских пород, они стараются кобыле найти соответственного коня, той же расы, считаясь со вкусом животного. Для этого иногда возят лошадь в отдаленную деревню или на ее родину, чтобы акт был не насильственный, а добровольный. В Германии же возвращаются к «закону первой ночи», как это было в Средние века.
Мы ездили в кибуц Эйн-Гев в моторной лодке. Затем были в Геносаре, Мигдале, Табхе, в кибуцах Ашдот Яков и Афиким. Эти поездки бесконечно интересны. Все эти кибуцы строились главным образом во время беспорядков и войны в ударном порядке. Тем не менее уже есть прекрасные сады, лужайки, цветы на продажу, оранжереи, леса и рощи.
Детские сады строятся по новой системе, в каждой группе всего пять детей: чтобы садовница могла с ними легко справиться, без лишнего персонала, и чтобы дети чувствовали себя, как в семье, а не как в интернате. Они имеют отдельный домик с маленькими ванными, душами, уборными. Комната для игр с кукольным домиком, массою пособий и игрушек, и спальни [как в сказке про Беляночку и семь гномов]. Столовая и кухня своя — это такая роскошь, которой себе не могут позволить не только рабочие в городе, но и люди со средним [заработком] <достатком>.
Столовые и кухни в Иорданской долине построены и оборудованы по последнему слову гигиены, экономии сил и продуктов. Все варится на электричестве и на пару. Газовые плиты как пособие[834] для диетической кухни. Есть целые дома-холодильники, что очень важно в жарком иорданском климате. Столовая в кибуце Афиким, например, имеет новую мебель, столики рассчитаны только на шесть человек, чтобы легко было сесть и встать, не мешая соседям, и чтобы создать интимность при еде. Пища горячая, самовары развозятся на тележках или впаяны в стены. Прежние полутеплые чайники с водой уже нигде не видны. Вся пища развозится в паровых ваннах (Wasserbad) или на подносах, нагреваемых электричеством. Словом, когда я, хозяйка, все это увидела, у меня загорелись глаза, и я захотела у нас в больнице устроить все не хуже, чем в кибуцах.
Мы видели еще несколько фабрик: фанеры, бочек, ящиков для апельсин, и центральную молочную станцию «Тнува» в Дгании, и маленькую, но благоустроенную больницу в Ашдот Яков, где женщины могут рожать, не прибегая к иногородним больницам (что важно при повторных родах, когда роды наступают преждевременно и нет возможности вести роженицу в город). Городские больницы стоили кибуцам всегда много денег и забот, поскольку женщины иногда неделями жили в городе, ожидая родов.
Швальни[835] с электрическими машинами, и профессиональные школы, и столярни, и слесарни — все поставлено на очень широкую ногу. И если подумать, что еще шесть лет тому назад здесь была незаселенная невыносимо жаркая пустыня, а теперь в каждом кибуце имеется до 1000 человек!
В Гиносаре и Эйн-Геве имеются две моторные лодки, сети для рыболовов своего изготовления, искусственное разведение карпов, банановые плантации. Температура здесь доходит до 60 градусов летом в тени, тем не менее эта молодежь, выходцы из северных стран, работает и приспосабливается ко всем тяжестям климата.
Английское правительство, которое делает затруднения во всем нашем строительстве, здесь тоже запрещает рыбную ловлю (особенно, те трюки, которые выдумали евреи, чтобы приманить рыбу), так как арабам, которые не знают этих способов ловли рыбы, останется меньше рыбы. <Пусть учатся у нас.>
Есть и новая отрасль хозяйства — виноделие, и как ни молоды эти кибуцы на том берегу Иордана, они развиваются очень быстро. Чтобы поддержать хорошие отношения с соседями, с Трансиорданьем, Сирией, для каймакамов[836] выстроены маленькие домики-отели со всеми удобствами.
Мы проехали на этот раз и Мигдал, одно из самых красивых мест в Палестине. С горы вид на все Генисаретское озеро, на город Тиверию, на старую крепость, на скалы, которые связаны легендой с именем Бар-Кохбы, и другие скалы, где воевали Сулейман и крестоносцы, а также вид на все окрестные деревья. Но сама колония в очень запущенном и заброшенном состоянии, там живут всего 60 семейств, все новые приезжие. Они заняли развалину старого недостроенного отеля, остатки бесхозяйственной администрации прежних лет.
Когда я смотрю на скалы, где якобы воевали турки, я вспоминаю стихотворение, которое я декламировала еще в школе:
Сули пала, Кьяфа пала, Всюду флаг турецкий вьется… Только Деспо в черной башне Заперлась и не сдается. «Положи оружье, Деспо! Вам ли спорить, глупым женам? Выходи к паше рабою, Выходи к нему с поклоном!» «Не была рабою Деспо И не будет вам рабою!» И, схватив зажженный факел, «Дети, — крикнула, — за мною!» Факел брошен в темный погреб… Дрогнул дол, удар раздался — И на месте черной башни Дымный столб заколебался[837].Кто была эта Деспо со странным именем? Гречанка? [Или еврейка?] И на каком месте стояла ее башня и крепость? Я не знаю, но так выглядят скалы-крепости возле Мигдала.
Еще мы были на прекрасной вилле маркизы Рединг[838], которая построена по английскому плану и стилю и где никто не живет, кроме смотрителя. В саду этой виллы много субтропических растений, которых уже не увидишь в других частях Палестины.
В Табхе мы снова видели древние источники. Базилика третьего века после p. X. Мозаика на полу очень хорошо сохранилась — звери, райские птицы, растения, греческая вязь, колонны.
Все сады спускаются к самому морю[839]. По дороге нам показали «муравьиный камень», который, как островок, находится довольно далеко от берега, и тем не менее на нем имеются муравьи, по-видимому сообщающиеся с сушей через подземный туннель, который они себе прорыли. Легенда говорит, что есть невидимый мостик, который Магомет построил для муравьев!
Дорога до Табхи и обратно сказочно красива, также дорога от Тиверии до Хайфы, мимо Каны Галилейской, Назарета и через Изреэльскую долину. По вечерам в Тиверии я захожу в кафе, где играют разные новые «шлягеры». Среди них популярная песенка-танго: «Эйн давар, хабиби, хакол овер, хабиби…» — «Ничего, дорогой мой, все проходит, дорогой мой, приходят воды на круги своя, и все проходит, не плачь, дорогой мой» и т. д.
В Хайфе сняли блекаут[840], и она снова красавица. Я проводила Марка до Хайфы и вернулась вечером опять в Тиверию.
25.2.45
Мы ездили на похороны мисс Сольд. Была очень дождливая погода. Нам даже не удалось добраться до кладбища, мы попали только на вынос тела из школы сестер ее имени и вернулись в Иерусалим в отель, чтобы отдохнуть и обсохнуть.
Это были народные похороны, с тысячью делегаций из кибуцим, из ячеек детской и юношеской иммиграции, были сестры и врачи «Адассы», которые обязаны ей созданием этой институции, и вообще вся Палестина.
Я помню мисс Сольд столько лет, сколько я в Палестине. [Она была близка к медицинским кругам.] Она не менялась, не старела, как внешне, так и внутренне. Она оставалась неизменно молодой, энергичной, полной инициативы, ответственной, настойчивой в своих взглядах, как политических, так и религиозных, так и в вопросах тех учреждений, которыми она заведовала. Она не любила возражений и нелегко переносила противные ей взгляды, но если она знала, что человек искренно верит в то, что он проповедует, она принимала и соглашалась, и уважала чужие взгляды.
Однажды перед поездкой в Польшу, предполагая читать там доклады о женской работе в Палестине, я получила интервью от мисс Сольд. Тогда она мне рассказала, как создалась первая женская группа «Адассы» в Америке, которая потом разрослась и превратилась в то, что называется Министерством охранения народного здравия (вся медицинская помощь в нашей стране).
Она получила хорошее еврейское образование сначала у своего отца-раввина, а потом в Раввинской семинарии в Филадельфии и потом двадцать лет работала в еврейской энциклопедии. Она была одной из первых американских туристок в Палестину, приехала со своей матерью, чтобы собственными глазами увидеть, что такое Страна Наших Отцов. Совсем случайно мисс Сольд напала на мысль посвятить себя оздоровлению страны. Она посещала школу, и среди них также женскую народную школу в Яффе, построенную на средства Одесского комитета[841]. В противоположность всем другим школам, все дети имели здоровые глаза, и она спросила причину этого явления: трахома была обычной болезнью в Палестине. Ей ответили, что дважды в неделю детей осматривает врач-глазник, и есть специальная сестра милосердия, которая ежедневно выполняет его предписания. Трахома излечима. Когда мисс Сольд с матерью вышли из школы, мать ей сказала: «Это твоя цель! Заняться здоровьем детей в Палестине».
По возвращении в Америку Генриетта Сольд созвала маленькую группу женщин, человек 15, рассказала им свои впечатления о поездке в Святую Землю, потом она привлекла местных филантропов, среди них Натана Штрауса с женой и знатоков гигиены, санации, питания, и так создалось общество «Адасса». Теперь оно насчитывает десятки тысяч сотрудниц в Америке и имеет мильонный бюджет.
По ее понятиям, Америка должна была заняться <в Палестине> гигиеной и санацией, потому что в этой стране эти области стоят на высоте. Пусть другие евреи, из других стран, возьмут на себя другие задачи: из Польши придет иудаизм, еврейская культура; немецкие евреи принесут европейскую культуру; английские евреи — политику, воспитание, характер; русские — свой идеализм, жертвенность в работе и пионерство. Америка даст технику, особенно в медицине, уход за больными и оздоровление страны.
Она в это верила и это проводила в жизнь. Она говорила, что организация — это ключик в руке сильной личности, которая может повернуть в любую сторону этот ключ — открыть или закрыть дверь к благу человечества. Она десятилетиями держала этот ключ в своих руках. Когда же «Адасса» окрепла настолько, что во всех областях были специалисты, врачи, профессора, педагоги, специалисты по осушению болот, оздоровлению климата и почвы, тогда Генриетта Сольд отдалась новой еврейской нужде, не менее важной: юношеская иммиграция из родины ее предков — Германии, Венгрии и т. д.
Она отдалась новому делу, стала матерью сотням и тысячам детей, которые остались сиротами или которые были оторваны от родителей и которых удалось спасти для Палестины.
Ее последняя речь на собрании произвела на меня большее впечатление, чем все остальные речи. «Она нас загоняет работой», — жаловались ее сотрудники, но работали очень охотно и преданно под ее началом. Она знала почти каждого ребенка, которого она устроила в кибуце. Без ее согласия и совета не принимались решения. Она знала всех руководителей в стране, посещала кибуцим, и с ней советовались в самых интимных вопросах, касающихся воспитания и судьбы этих бездомных и нашедших дом детей.
16.3.45
Читаю последнюю книгу Черчилля «К победе»[842], я прочла уже почти все его книги. Мы стоим перед концом войны. Предсказывают, что еще этим летом.
У нас, евреев, не будет той радости, которая охватит весь мир. Мы потеряли трагическую треть нашего народа. Англия процентуально потеряла меньше всех.
Если бы евреи не были такими патриотами своих отечеств — Германии и прочих, и если бы они не были такими оптимистами (иногда и пессимизм благотворен), и если бы они читали «Майн Кампф» и верили всему, что там сказано, они бы своевременно могли спастись.
Англичане ответственны за Мадагаскар, Маурициус, за тысячи погибших в путях и дорогах[843]. Англия не протянула им руку помощи, как она должна была, считаясь с тем, что мы дали солдат на всех фронтах и что мы были лояльными гражданами как в Англии и в колониях, так и в Палестине под мандатом. Наоборот, Англия приняла сторону наших врагов-арабов, закрыла двери в нашу страну, дарованную нам Богом и Лигой Наций. Нас хотят здесь оставить в меньшинстве (30 %), статистика в этой стране фальсифицирована — это чичиковские мертвые души. Мы являемся жертвами Суэцкого канала (дело еврея Дизраэли)[844] и жертвами нефтяных источников в Саудии и в Ираке, <в Персии и в Кувейте>.
Я прочла Лаудермилька[845], и над этой сухой книгой о том, как оплодотворить Иорданскую долину, я плакала, как над чувствительным романом. Есть еще друзья у нас на белом свете, еще ценят наши жертвы и труд.
Снова была трагедия со школьными прогулками, и не в первый раз. Мы еще не научились гулять по этой стране и все еще верим соседям. Дети пошли в Масаду, арабы напали на безоружных школьников, одного убили и двух ранили. Это были новоприехавшие, неопытные дети. Я надеюсь, что воспитатели теперь примут решение не пускать детей одних с молодыми учителями (мадрихим) в опасные и неблагополучные места.
2.4.45
Сегодня мне исполнилось 53 года. Моя бабушка, которая умерла 50-ти лет, мне казалась глубокой старухой.
Я взяла Цви на фильм «Бамби»[846], утомительный для моих глаз, но мальчик был в восторге. Поздравление от Меира я получила из госпиталя, где он лежит с фурункулами.
11.4.45
Евреев, конечно, не пригласят на конференцию в Сан-Франциско[847]. Мы, евреи, еще годились для пушечного мяса, но не нужны для создания прочного мира. И что это будет за новый мир? Война на Дальнем Востоке, в Японии, еще не кончена.
[Я очень занята в кухне, мы купили новую газовую плиту и духовку.]
4.5.45[848]
В Сан-Франциско занимались маниловскими разговорами, но одно установлено твердо: евреев погибло — кроме солдат на разных фронтах — шесть с половиной мильонов. Это уже не «грейель пропаганда», и никто этого не отрицает.
29.4.45
Повесили Муссолини[849] и еще 14 его приспешников. На той же самой площади в Милане, откуда он двинул свой знаменитый марш на Рим.
30.4.45
Сегодня последний апрельский день, и завтра праздник «мира и побед», V-day[850].
Говорят, что Гитлер покончил с собой[851]. Но два народа проиграли войну: немцы и евреи. Мы не подымали меча, но у нас был другой непростительный грех: мы были слабы и погибали, как во время инквизиций. Тогда хоть «ал кидуш Га-шем», за Имя Твое Святое, на это раз даже не сознательно — не за религию, не за национальность.
Теперь только начали приходить списки убитых и спасшихся, и я с ужасом думаю о том дне, когда мы прочтем имя матери Марка, последней бабушки в нашей семье. Толпы людей читают на улице эти списки, и не раз уже были истерики и обмороки.
Третье мая 45
Вчера мы были на «Федре» с Ровиной. Она была грандиозна, внешне и внутренне. Красива, как греческая богиня, она дала нюансы страсти, надежды, отчаяния, стыда, мольбы, унижения, гордости и презрения. Переходы всех этих чувств, сцены с дуэньей, с мужем, с Ипполитом были просто гениальны. Каждый раз она дает новые ноты, новые переживания. В «Вечном жиде» она Матер Долороза, в «Дибуке» она влюбленная (бессознательно) девушка, в «Уриэль Акоста» — испанская аристократка, в «Миреле Эфрос»[852] — эйшес хаил[853], королева Лир, побежденная своими слабыми недостойными сыновьями, в «Матери» Чапека — она жертва того сумасшедшего времени, в котором мы живем, когда матери не остается ничего другого, как сойти с ума.
Но лучше всего кажется она в «Федре». Она — как скульптурное изваяние, и в то же время женщина, больная любовью, стареющая, но еще прекрасная, страстная, полная страха и стыда.
Лаваль[854] будто бы арестован, и его выдали французам. Настоящего мира, заключения мира — вообще не будет, будет только резолюция и капитуляция. Главное, чтобы не перессорились при дележе добычи и чтобы не было третьей войны.
7.5.45
Теперь никак не могут столковаться из-за Польши. Немцы с немецкой аккуратностью сдаются мильонами. Сегодня было объявлено по радио, что завтра будут праздновать окончание войны. А мы не перестаем думать только о тех, кого нет.
У союзников одна забота: как восстановить «хорошую Германию» и как завладеть арабской нефтью за счет еврейской Палестины. Впрочем, верно есть и много других забот, но мне, субъективной, эти две виднее всего.
Семен Дубнов, глубокий старик, ученый, историк, чистейшая душа во Израиле, погиб со своим народом в Риге, не желая с ним расставаться. У него давно была виза в Палестину, но он, сторонник автономизма — еврейских прав в диаспоре, — считал своим долгом жить, трудиться и умереть со своей паствой[855].
Я узнала, что все мои подруги по школе в Вильне погибли со своими детьми и внуками. Еще кое-кто бродит по Бухаре, Казахстану, Персии и Сибири. Но об этом мы еще ничего не знаем. Также никаких сведений о моей свекрови. О своей подруге Леле, доктору по детским болезням, я узнала, что она покончила с собой в меланхолии раньше, чем ее послали на Понар в братскую могилу. Как врач, она отравилась морфием. Это лучше, чем Понар.
8.5.45
Сегодня праздновали день Победы.
<Все, кроме евреев, потерявших 6 мильонов.>
В Иерусалиме были речи, процессии рабочих, молодежи, то же в Тель-Авиве и в других городах. Молодежь в синих рубашках и в белых, смотря по партиям и группировкам, маршировала по улицам с флагами.
Сегодня будто бы арестованы Геринг и Кессельринг[856], но Гитлер и Гимлер и Муфтий скрылись. Последнего держат про черный день, когда нужно будет наказать евреев. Евреи боролись в армиях СССР, Англии, Америки и всех союзных стран. Много еврейских солдат пало в этой войне, в Египте, Греции, Сев. Африке и в Европе, и если у нас есть сегодня радость, то только потому, что нам удалось помочь свалить Гитлера и его банду!
22.5.45
В Праздник первинок, Шовуот, я была в кибуце у детей.
Мы с детьми ездили в лори[857] в поля собирать первинки, злаки, овощи и фрукты. Потом было празднование, речи, пение, выставка продуктов, как с полей, садов и виноградников, так и консервы фабрики, птица, молодой теленок и самые лучшие первинки: много малых детей.
Дети танцевали с венками на головках, наша Рина в тот день была именинница и выглядела очаровательно, а Цви уже был среди школьников.
24.5.45
После большого перерыва наконец получилось пять писем сразу от сына из Бенгази. Его несколько раз оперировали (абсцессы фурункулеза), там не было пенициллина, и поэтому нельзя продолжить лечение. Так он пишет. Он не получает ни отпуска, ни демобилизации, его время еще не пришло. Он пишет, что за ним ухаживают английские сестры милосердия, очень преданные и внимательные, и он полон благодарности к ним.
Я прочла «Песню о Бернадетт»[858] — мы, евреи, умеем быть благодарными за каждую помощь нам и за спасение. <Даже слишком! Так сделал Верфель. Так писал и Шолом Аш (о Христе, Павле, Марии)[859].>
16.6.45
Меир уже дома и поправляется. Он теперь будет искать работу по своей специальности или будет еще учиться дальше. Три с половиной года войны и два года в Гагана его не продвинули в успехах ни в архитектуре, ни в механике.
11.8.45[860]
Война на Дальнем Востоке приближается к концу. Пустили в ход атомные бомбы. Если этими бомбами можно кончить войну, хорошо, но если они послужат началом третьей войны, то очень плохо. Если их пустят в ход в следующих войнах, исчезнут те поколения, которые будут рассказывать о великих изобретениях: бомбах, роботах, атомах и проч. Может быть, так будет лучше. [Но японцам в наказание за разбой в Китае и насилие над женщинами — ничего другого и не полагалось.]
25.8.45
Рут приехала в свой годичный отпуск, и мы с ней выходим почти каждый вечер. Слышали концерт Темели — французская музыка.
5.10.45
Меир ездил в Эритрею и, слава Богу, окончательно вернулся в страну.
На днях у нас был красивый национальный праздник: открытие нового театра «Габима». Отделанный махагони, уложенный красными коврами, первый изящный комфортабельный театр — с фойе, с буфетом, вешалкой для платья, уборными для артистов, кулисами, сделанными по последнему слову техники. Все почти мужчины были в смокингах, дамы в вечерних туалетах. Теперь мода на длинные черные юбки с белыми блузами, с длинными рукавами и высоким воротником, из местного материала — креп, — и выглядело все это очень нарядно. Артистки все были в вечерних туалетах (из того же крепа). Оркестр играл Бетховена, Энгеля, Ратхауза[861], были речи артистов и благодарственная молитва: Шехехейону, вкемону лзман хазе[862], были речи городского головы, представителей Еврейского Агентства, писателей. Дали отрывок из «Дибука» и из новой палестинской пьесы «Эта земля»[863]. Вместо «Шалом» все приветствовали друг друга словами «Мазл тов!», поздравление, как на свадьбе или на обрезании или на «бар мицва» (13-летие сына). Потом был большой прием в верхнем фойе с участием всей труппы, с прекрасным угощением, вином. Были гости из всех городов и кибуцим, и даже из Египта приехали ценители нашего театра «Габима».
Только Верховный комиссар МакМайкель не удостоил своим посещением этот вечер и прислал вместо себя мелкого чиновника из Яффы или Луда.
Я читаю последнюю книгу Стефана Цвейга «Вчерашний мир». Если бы Цвейг нам принес свой талант и культуру и красивую душу — шенгейст, — он бы не погиб[864].
15.11.45
Мы с Марком снова поехали в Тиверию, и на этот раз решили поехать в Верхнюю Галилею в кибуцим, которые мы еще не видели: Дан и Дафна, это у истоков Иордана, и снова в Аелет Гашахар и Кфар Гилади и в Метулу. Видели Хермон и водопад Танур[865] («печь») издали.
Статуя «Рычащий лев»[866] на братской могиле в Тель-Хай мне понравилась. Идея и замысел скульптора выступает ясно. Лев — это еврейский народ, народ вопиющий, рычащий в пустыне, раненый, жаждущий и голодный. Это пророк, вопиющий в пустыне.
Дан и Дафна построены уже на новых началах. Теперь стараются не повторять ошибок первого строительства: строят солидно, удобно, красиво и благоустроенно. Когда я сравниваю все виденные мною за последние годы колонии с теми, в которых жили и живут мои дети, я думаю, что много энергии, и сил, и здоровья у наших детей истрачено понапрасну. У моих детей еще теперь кухня не на высоте, также столовая и детские дома. А школа и вовсе ютится в бараках, и детей перебрасывают с места на место. В их школу временно сажают[867] новоприбывших беженцев, там плодятся насекомые, и потом их нужно выводить новым средством ДДТ. Здесь же все рационально, стабильно (разумно и постоянно).
Источники Иордана зелены, прекрасны, олеандры всех цветов в Вади Элькади (Источники Судьи), все утопает в зелени. Есть масса воды, живописная местность, и радостно видеть, что мы не <всегда> в пустыне.
* * *
В Тиверии в кафе поют все те же частушки: русские, польские, на идиш и на иврит. Песенка, которая трогает все сентиментальные сердца: «Письмецо матери» (Brievele von der Mamen[868]).
По дороге обратно в Тель-Авив мы заехали в колонию Нагалал, где есть много новых построек и посадок. [Эта колония построена кругом, и в каждом секторе самостоятельное хозяйство, хотя полевые работы делаются сообща и сбыт тоже общий.] Школа агрономическая сильно разрослась.
Были также в Гинегаре, вблизи леса имени Бальфура[869]. Все эти земли были у арабов больше чем запущены: здесь была буквально пустыня, свалка, а трудами пионеров эта часть Палестины превращена в рай земной. Много труда и жертв (при выкорчевывании камней) было затрачено на мелиорацию земли. Лучшие и самые плодородные места Изреэльской долины были сплошные болота и источники малярии, а евреи их превратили в оазисы. Когда я вижу еврейскую колонизацию, я себя утешаю: враги умирают, враждебные нам министры теряют свои посты, а еврейский народ жив и будет жить — עם ישראל חי!
25.11.45
Меир все еще ночует в Сарафенде в казармах, но часто наезжает домой, и теперь это не так строго, потому что ждут демобилизации.
Из всех вещей, которые я дала в дорогу сыну, он ничего не привез с собой: у него украли белье, нессесеры, часы, перо и книги. Но было бы хуже, если бы он привез с собой «подарки», и если бы вместо денег, которые я ему каждый месяц посылала на его расходы, он бы еще привез «капиталы». Я по крайней мере знаю, что у меня честный сын.
Приезжал его товарищ, офицер, который два с половиной года провел в Италии. Бедный парень в Польше потерял всю свою семью, все они были молодые, красивые, богатые и здоровые, судя по карточкам. Мы его духовно «адоптировали»[870], но разве мы сможем ему заменить семью?
Наш зять Эли снова болел малярией и приезжал поправляться на несколько дней. Я старалась его поправить, как могла. Но пока не высушат всех болот в их местности, это безнадежно.
Из газет и радио мы знаем, что в Эймек Хефер были серьезные беспорядки, жертвы, и убитые, и раненые. Англичане теперь, когда «еврейский мавр сделал свое дело»[871], взялись за чистку еврейских кибуцов. В каждом кибуце есть законное количество оружия для самообороны, но под видом поиска «польских дезертиров» ищут оружие, разоружают евреев и этим оружием снабжают арабские деревни. Там устраивают настоящие арсеналы.
Близ Гиват Хаим[872] была «стоячая забастовка». Евреи оказали пассивную резистенцию[873], не стреляли, даже камня не бросили в английских солдат, тем не менее там было восемь жертв. Среди раненых много женщин. Мы знаем из нашей «интеллиженс» (разведки), что уже много месяцев подготавливались эти беспорядки, провокации и все, чтобы поссорить нас с арабами.
Для <британских> войск, которые египтяне выбрасывают <из своей страны>, нужны базы, и арабско-еврейские беспорядки должны послужить камуфляжем для пересылки этих войск к нам. Это новая политика министра иностранных дел Англии[874] <Бевина>.
30 декабря 1945 г.
Канун Нового года.
Читаю Сиринга, «Слава меча». Это история создания лейбористской партии в Англии. Если посмотреть на их политику теперь, можно признать, что самые либеральные и идеалистические партии способны деградировать в фашизм, если они приходят к власти.
Читаю Сомерсета Моэма и многое другое. Между прочим — «Треспассерс» Лоры Хобсон[875], об эмигрантах в Америку. Я думаю, что беженство надо испытать на собственной шкуре, чтобы его почувствовать во всей силе.
У нас в стране теперь после войны начался новый террор и новые репрессии. Есть многие, которые это называют не террором, а Иудейской войной. [Читаю Поля Валери, как это не созвучно с миром троглодитов и орангутангов, в котором мы живем.]
В «Иллиаде» и «Одисее» Гомера война, героизм, состязание лучших, самых сильных и тренированных, есть военная честь. Во что выродилась современная война? Нас отделяют тысячелетия.
Мы видели фильма «Мадам Кюри» с Грейс Гарсон[876]: прекрасно. Мадам Кюри еще принадлежала к тому поколению, которое не уничтожало, а спасало человечество, гуманные начала двигали ее научными открытиями. Такой фильм освежает душу, чего нельзя сказать о большинстве голливудских фильмов за последнее время. <Г. Гарсон очень интеллигентная артистка.>
3.2.46
[Прочла Алданова «Пятая печать»[877] — старость от 50 до 70 лет.]
Марк все годы отказывался справлять свой юбилей — сначала пятидесятилетний, потом 55 лет. Но теперь наступает его 60 летний юбилей. И хотя настроение у него и у всех нас не юбилейное (из-за очевидной гибели его матери), мы все же устроим что-нибудь.
Марк принадлежит к тому типу русских идеалистов, которые работали не за страх, а за совесть, не ради славы и накопления богатств, а ради самого дела и спасения человеческих жизней. Он обожает свою хирургию, и это большое счастье. Он удачную операцию и безнадежный случай принимает как свое личное счастье или личное горе.
Если бы не ради меня, он бы себе никогда не позволил отдых, поездку или какое-нибудь удовольствие. Его все любят, но и эксплуатируют, злоупотребляя его силами, свободным временем и его бессребреностью. Таких сионистов старого толка уже почти не осталось, так как много наших лучших людей умерло. И хотя это мой Марк, я не могу не смотреть объективно.
6.2.46
Итак, Меир окончательно вернулся с войны. Он подвергался болезням и опасностям, но, слава Богу, вернулся с ногами, руками, глазами и нервами, а главное — живой.
Он теперь охотно ходит в театр и в кино и даже тащит нас с собой. В кино мы видели «Дориан Грей» в американской версии, далеко не английская интерпретация. Портрет подчеркивает ту маску, которую человек носил всю свою жизнь и которую, в сущности, носит целый народ.
И еще мы были на концерте гениального мальчика — Зиги Вайсенберга[878]. Во время его игры (рояль) я не могла не думать, что если не много, то несколько, а может быть, и много таких гениальных мальчиков погибло среди тех шести мильонов, которые мы потеряли. Он играл «Классическую симфонию» Прокофьева, «Леонору» Бетховена, Рахманинова, Дебюсси и несколько пьес еврейских композиторов.
29.2.46
Еще одна молодая пианистка, которая доставила большое удовольствие, Элла Гольдштейн. У нее все есть: память, техника, музыкальность, но она еще слишком молода, чтобы дать глубокую интрепретацию. Я подошла к ее матери, чтобы поблагодарить за эту музыкальную радость. Мать была ее первой учительницей и руководительницей в ее музыкальной карьере.
7.3.46
Нам, как собаке кость, готовят снова какую-то «партишен» (деление), кусочек Палестины, в которой можно будет задохнуться. Теперь здесь англо-американская комиссия[879].
А в Нюрнберге идет позорный суд над «преступниками войны».
29.3.46
Все модерные писатели теперь занимаются, как Достоевский когда-то и как Владимир Соловьев[880], проблемами совести. Типы, подобные Раскольникову и Соне Мармеладовой, нередки. Комфорт, эстетизм, мораль и грех в наше время, когда есть преступность, слумсы, ночлежки, голод и холод. И этими грехами себя тревожат современные писатели.
У человека есть один атрибут — или его нет, — которого нет у животных: это совесть. <Впрочем, иногда и собака виляет хвостом, если она провинилась: это тоже совестью Понятие о добре и зле помогает человеку относительно, кое-как разбираться в повседневных житейских и мировых событиях. Это совесть велит нам жить «по Божьи», не причинять зла другим. Но мы видим, что в «реальной жизни» вопросы совести отпали, их заменяют вопросы политические, экономические. Военная база, стратегический пункт, нефть важнее, чем вопросы морали. Даже Вестминстерское аббатство и Ватикан говорят не о мире, а об «удобном для себя мире».
Где та «Совесть мира», «Вселенская Церковь», «Музыкальная Божественная симфония», «Божественная комедия», мистерии и даже политическая Лига Наций и UNO[881] (как она теперь называется)? Все эти понятия, на которых воспитывалось мое поколение, должны были бы служить одной цели: слиянию людей между собой, приобщению их к Божеству, к совершенству, к Абсолюту. Вместо этого мы далеки даже от релятивного понятия добра, справедливости, порядочности, совести.
Доказательством служит то, что случилось в нашем 20-м веке: две жесточайшие войны и Диктатуры Ненависти и уничтожения. Когда-то Церковь говорила: молись, даже если нет желания молиться. Спокойствие и радость придут потом, в силу привычки. Исповедуйся, это даст тебе осознание твоих ошибок и грехов и исправит тебя. Так же, как врачи советуют профилактически соблюдать умеренность в пище, гигиене, спорте и проч. Но, к сожалению, эта религиозная практика уже не действует на больное человечество, как снотворное перестает действовать на больного человека.
Но не совсем это так. Больной, который даже высмеивает медицину, в последний момент бросается к какому-то «самому большому профессору»: так человек в минуту опасности ищет спасения у того Бога, в которого он не верил и которого не понимал. Но и больной не понимал профессора, его диагноза и способа лечения. Разница только в том, что между человеком и Богом стоит Церковь, в которую человечество перестало верить, потому что она сама «человеческая, слишком человеческая»[882] (Ницше).
Я лично не нуждалась в Церкви, чтобы почувствовать Божественное, слияние с Божеством. Всегда счастье, когда человек радуется природе, любит каждую былинку, любит красоту, творчество, мир, покой, идиллию, как в природе, так и в человеке. Трава, цветок, горы, реки, моря, ручьи, паутинки осенью в воздухе, почки весной, снег зимой, плоды после урожая, дождь в нужную пору — все это Божественно, непосредственно.
То же, что творится посредством человека — физическая любовь женщины и мужчины, родителей и детей, радость воспитания, радость от успехов и счастья детей, а также творчество духовное: труд, искусство, строительство, музыка, литература, наука (если она не вредная, а полезная), архитектура, радость каждого каменщика и столяра и слесаря, если он сделал удачную и хорошую работу, — тоже Божественно, как и сама природа. И если человечество стало антирелигиозно, то только потому — на мой взгляд, — что есть слишком много зла в этом мире, есть погромы, войны, жестокие революции, насильственные разорения и изгнания, потери дорогих людям существ, даже могил — всего того, за что люди всегда цеплялись, держались и что считали установленным и справедливым ходом вещей. Поколебалась вера в незыблемость справедливости. Эскапизма быть не может, мы никуда не можем убежать, ни в келью, ни в ученый кабинет, ни в студию, ни в искусственно созданный парадиз. Ни алкоголь, ни сексуальная страсть, ни книжная полка, ни фантазии мечты — особенно ни дешевый «гуд тайм»[883], в который так верит Америка, не может спасти человечество от первичных и важных и назойливых проблем нашего времени. Суд Божий не на том свете, а здесь, и он приходит. Мировые джунгли должны быть вырублены и заменены законами чести и порядочности. И на этих законах должны сойтись все. Эти законы не могут быть ни релятивны, ни индивидуальны, ни временны и ни связанные с местом. И в них не может быть задней мысли — мое благо и поражение соседа. Евреи всегда ждали Мессию — может быть, настало время для Коллективного Мессии, иначе говоря, Коллектива с мессианскими задачами, союз духовной аристократии, граждане альтруистического мира, новая Церковь, построенная не на началах Огня и Меча и «Священных войн», а на началах разума, доброй воли и добрых чувств.
<Неужели все это «праздные мечтания»? [Маниловщина?] Утопия?>
16.4.46
Вчера у нас был первый домашний Сейдер после смерти бабушки, и довольно скучный. И, признаться, строгого «кашрут»[884] уже не было.
Весна прекрасная, полный сад полевых цветов, я их размещаю в низких вазах и ставлю на столы и в окнах — в доме и у больных.
17.4.46
Прибыл пароход с 1200 иммигрантами, среди них сто беременных женщин, много стариков и детей. Они не получили пристанища в Палестине, и это перед праздником Пасхи! Наши высшие чиновники из Еврейского Агентства объявили голодовку, 15 человек даже не пошли к Сейдеру, пока английская администраци не разрешила въезда и не списала эти 1200 человек с обычной [месячной] годовой нормы.
У нас на Сейдере на этот раз были дети из кибуца, Цви спрашивал «кашот» (кушйот), а Меир привел еще своего товарища, военного, «инглиш Хинду» (индус), очень приятный человек. Трудно было объяснить, почему наше настроение такое непраздничное. Внешнее и внутреннее настроение не соответствовало празднику. Но дети, в особенности маленькая кудрявая Рина, которая повторяла за братом все слова «кашот», была забавна.
2.5.46
Были прекрасные концерты — симфонический с дирижером Мюни и солисткой француженкой Енри, настоящая виртуозка (рояль). И еще концерт, который меня «омолодил» на 20 лет: Лионе играл мою любимую «Лунную сонату», много Шопена, ноктюрны, вальсы и 12 этюдов.
Теперь я взялась за Шекспира в оригинале и надеюсь одолеть его. Кстати, здесь готовят «Гамлета» с Финкелем[885].
Идут переговоры с Комиссией, нам предлагают деление. Я думаю, что на этот раз мы должны его принять, фактически — это отмена Белой книги. Все утверждают, что теперь, после того что произошло в Европе с еврейством, нас может устроить только законом оформленное Государство. Государство со всеми атрибутами: армией, финансами, судом, почтой, торговым и военным флотом и своими аэропланами. С твердо очерченными границами и с еврейскими паспортами. Представительство в УНО и название «Мдина Иврит»[886] — это то, чего теперь требуют не только крайние, но и умеренные наши элементы. Даже мандат УНО над Палестиной — это только палиатив, нездоровые условия нашего существования.
Гуссейны, конечно, непримиримы и заявляют об этом во всеуслышание.
11.5.46
Снова мы были на концерте Лионе, здесь в него все влюбились, особенно его программа романтической музыки всем по душе и знакома. Был на этот раз Бетховен, шумановский «Карнавал», Рамо, Дебюсси, Скарлатти и снова на бис Шопен.
У нас теперь от восьми вечера такой керфью, что все концерты послеобеденные, и вечером все закрыто. Артисты еще никогда так не высыпались.
17.5.46
Англичане должны будут оставить Палестину, и это отражается на их настроении. Я думаю, что, если бы не антисемитизм, который непоборим в народах, мы бы еще могли хорошо столковаться с Англией, но есть фобии, которые сильнее разума. Такова юдофобия господина Бевина.
25.5.46
Я в автобусе в Хайфу подслушала такой разговор. Старик, страдающий астмой, рассказывал своему соседу: он и жена его уже восемь лет в стране. Их дети, дочь с мужем и двумя детьми, погибли в Лодзи. И тут я подумала: «Для чего вы живете, старые астматики и склеротики?» Он продолжал: «Я получил вдруг известие, что мой внук 22 лет остался в живых и просит визу в Палестину. Конечно, я для него выхлопотал сертификат, послал ему деньги на дорогу, и он будет жить у нас, у нас есть свой дом в Иерусалиме. Я еду встречать его к пароходу». При этом он показал <старую> фотографию всей семьи, и среди них карточка мальчика 14-ти лет, который теперь должен приехать. Старик с трудом узнает его даже на этой карточке. И тут я себя упрекнула за импульсивную жестокую мысль. Старый дедушка спас внука, наградит его домом, бабушка его примет как мать, пригреет и накормит, поведет к венцу.
Мы были на прекрасном концерте де Филипп[887], артистки Метрополитен Опера.
Еще был торжественный вечер памяти Нахума Соколова [соратника Вейцмана и Членова при получении Бальфурской декларации]. Это торжество было в театре «Габима».
Были также в опере на «Ла Богем»[888] с той же де Филипп. Словом, в разных приемах, развлечениях и даже банкетах в кафе недостатка нет.
3 июня 1946
Мы были приглашены в Реховот на закладку камня для нового института имени Вейцмана. Говорили профессора из-за границы и местные. Происходило это торжество при Институте имени Зива, и прием был очень красиво устроен в саду, под шатрами, красиво декорированными. Мы встретили массу знакомых и, как водится, взяли с собой в нашей машине несколько человек в Тель-Авив.
На эстраде кроме всех ученых сидела партизанка Варшавского гетто Цивья Любеткин[889], и это служило как бы символом единения борьбы за еврейство с научным прогрессом в нашем народе.
Но кажется, больше чем всеми серьезными аттракционами, наши дамы были заинтересованы новой модой американских шляпок, которые американские гостьи навезли с собой. Мы еще не видали таких финтифлюшек на головах палестинских женщин: одна на макушке, другая на отлете, та с горшочком цветов, а та — с вазой фруктов и овощей. И к этому вуальки и всякие другие «фриволити»[890], а ногти почему-то выкрашены в зеленый цвет.
[Мы были на «Гамлете» в «Габима». Финкель был очень хорош, но я бы хотела видеть Ровину в этой роли. Могла же играть Сара Бернар молодого Орленка[891].]
16.6.46
Наконец-то мы справили 60-летний юбилей Марка[892]. Мы сделали ему сюрприз. Он руками и ногами отмахивался от этого юбилея и не хотел об этом слушать. Отчасти, может быть, потому, что 60 лет вовсе не такой приятный возраст, отчасти потому, что врач-хирург вообще боится старости, как женщина. Теперь не принято обращаться к слишком «пожилым» врачам, и мы решили все справить «en familie»[893], с ближайшими друзьями и сотрудниками и не допустить в прессу.
Я преподнесла моему Марку самый лучший подарок, какой я могла: разорванные векселя, которые я выплатила за последнее время. Теперь, если у нас будет излишек в доходах, мы сможем вместе поехать в Америку погостить у брата, и может быть, это будет наше последнее «свадебное путешествие».
Эти долги я выплатили из своих «киншлах», сбережений, о чем Марк не знал. У моего старика были слезы на глазах: «Что бы я делал без тебя?» Дети, конечно, все приехали. Меир ему привез свой диплом инженера[894], который он до сих пор не интересовался получить из Хайфского техникума. Рина нарисовала савту и сабу — бабушку и дедушку, каракули ей стоили больших усилий. Цви написал собственноручно очень красивое поздравление. Дети привезли птицу, фрукты и зелень из кибуца, а наши товарищи: врачи, сестры и кухонный персонал были трогательны. Все печения были сделаны без моего участия, также прекрасные холодные закуски — языки, копченое мясо, салаты, майонезы.
Сестры ему преподнесли альбом со всеми фотографиями, врачи — каждый в отдельности — выразил внимание книгами, и проч.
Дом был завален цветами, у меня недоставало ваз, и я взяла жестяные банки из-под керосина, задрапировала их цветной бумагой и расставила вдоль всех стен. Это было похоже на оранжерею. К обеду было приглашено человек тридцать. И так как мы хотели, чтобы весь персонал был с нами за столом, мы подали только холодные закуски, на русский манер, и вина и всех сами обслуживали. Только пирожки с начинкой подали горячими, и они катались на колесиках от одного гостя к другому при громком успехе. Этим мы ограничились. Ни каких речей и никакой официальности.
Вечером мы вдвоем с Марком пошли в кино и смотрели хороший фильм с Бетти Девис «Сильна как смерть»[895].
Читаю Игнатио Силоне[896], прекрасная сатира на всех фашистов. Циркулус вициозус состоит в том, что люди, чтобы заглушить ненависть классовую, возбуждают ненависть национальную и расовую, а чтобы заглушить последнюю — натравливают против классовых врагов. <Вместо этого нужно было бы больше любви, понимания, прощения. Но как простить немцам?>
20.7.46
Мы уже не можем сказать, что в нашей стране террор, это открытая и честная война, саботаж. Почта и телеграф прерваны, мы не можем общаться с детьми.
Англичане не скрывают здесь своего нацизма: часто слышишь, как в пьяном и полупьяном и даже трезвом виде они кричат: Хайль Гитлер! То, что они при обысках нашли тут и там оружие, ни для кого не новость. Когда немцы были под Аламейном, они сами нас снабжали оружием. Они не препятствовали организовывать так называемые «командо» (Вингейт[897]). Во время беспорядков 36–40 годов они нам помогали бороться с арабским террором, и Вингейт был нашим самым большим героем, учителем <создателем Пальмаха>. Когда была опасность со стороны нацистской Сирии, англичане одалживали оружие у евреев <и посылали наших героев в бой>, а теперь, после того как мы помогли всей Восьмой армии в Египте, в пустыне, с доставкой воды жаждущей армии и на границах Италии одержать победу над Гитлером, они отвернулись от нас, отбирают оружие, которое служит нам для самозащиты, арестовывают наших представителей — Чертока, Джозефа, Гринбаума, <Голду Меир> и др. членов Еврейского Агентства[898].
Три тысячи арестованных рабочих сидят в концентрационных лагерях в Латруне и в Рафиахе, где, по рассказам наших солдат, ужасный климат. В парламенте в Лондоне произносят речи, что из Тель-Авива нужно сделать «груду камней», и это наши «протекторы», защитники, мандатчики!
Мы все против террора, но также против английского террора. Мосли делается снова популярным человеком в Англии. Трумен требует всего 100 тысяч иммигрантов в Палестину из Европы, но Англия противится и этому.
24.7.46
Был взрыв в Кинг Дэвид отеле[899].
Была масса убитых и раненых, автобусы перевертывались от силы взрыва. Больницы в Иерусалиме переполнены. Только сам господин Шоу не был среди пострадавших. Есть больше ста жертв, среди них много евреев, арабов и христиан.
Когда был телефон террористов, что будет взрыв в этом учреждении, господин Шоу почему-то велел закрыть двери, чем помешал спастись тем, которые еще могли избегнуть смерти. Что это — глупость или преступление?
Мой внучек, который гостит у нас, меня вчера спрашивает: бабушка, почему нам не дают мирно строить страну? — Есть, видно, люди, которые не хотят порядка в Эрец-Исраэль, которым приятно разрушать то, что мы строим. — Кто они? Арабы или англичане или евреи? И когда это кончится?
Что я могла ответить моему дорогому мальчику? Он уже читает газеты, слушает радио и разговоры взрослых.
2 августа 46
Репрессии идут, как в гестапо. Несколько дней Тель-Авив держали на хлебе и воде. Я радовалась каждой консервной коробке и каждому продукту в доме. Свежего молока не было, и мы пользовались консервами.
Молодежь в тюрьмах, оружие отобрали, три парохода с людьми стоят у берега неразгруженные.
Обыски делают с невероятной грубостью, ручки, часы и деньги надо держать при себе, иначе они тут же пропадают из-под рук.
Керфью так строг, что по вечерам солдаты и полицейские в резиновых галошах хватают женщин и детей, которые выходят на балкон или даже показываются в окне. Особенно трудно тем, кто в бедных районах имеет уборные на дворе.
В Иерусалиме есть целые районы, откуда выселяют магазины, учреждения и жильцов. Тысячи беженцев ищут пристанища в своем же городе. Товары выбрасывают на тротуары, окна и двери этих магазинов забетонировывают. Центр города, здание «Женерале», Англо-Палестинский банк и Русское подворье превратили в крепость, фронт против гражданского населения. <Мы это назвали Бевинград.>
Результат такого административного террора — банкроты, разорения, неплатеж служащим. И все это делают не нацисты, не польские «эндеки»[900], не царская охранка, а <английские> джентльмены на резиновых подошвах.
9.8.46
Наконец-то сняли керфью с Тель-Авива.
Наш персонал, который все время ночевал в больнице и боялся высунуть нос на улицу, наконец-то разошелся по домам.
У Марка и других врачей были «керфью пасс»[901], но я жила в сплошном страхе за него. Работы у него было много и вне дома, и с белой повязкой с красным «Маген Давид» он выезжал и пропадал целые дни.
С нашими экс солдатами обращаются так грубо, что они должны жалеть, что три года и больше потеряли добровольцами в английской армии. А каково тем, у кого на войне погибли дети?
Арабы пользуются анархией в стране и отсутствием настоящей полиции, и кражи участились, как никогда еще.
27.8.46
Меир работает как инженер и очень доволен.
Сегодня проехал мимо нас лори, наполненный арабами, и они кричали: «Хайль Гитлер! Хайль Хадж Амин!» (муфтий Иерусалимский).
В Негеве разрушили два кибуца — Рухама и Дорот. Иммигрантов отсылают в Каир в концентрационные лагеря. «Лейбор парти»[902] поддерживает Гусейнов против евреев.
Арабские легионеры, которые считаются на службе у англичан, наглеют с каждым днем, их позиция — ружья на прицел. Целые группы фелахов и городских рабочих-арабов открыто обучаются стрельбе англичанами.
Наша экзекутива[903] отказалась от приглашения в Лондон.
Я читаю много книг о Виленском гетто. Доктор Дворжецкий[904], например, описывает, как Вильна буквально накануне уничтожения продолжала свою культурную, медицинскую, санитарную работу. Среди погибших в негашеной извести на Понаре я нашла имена многих своих знакомых и даже близких родственников. Марк хотел у меня отнять книгу, но я все-таки ее дочитала.
3.10.46
Самая большая новость, что в Нюрнберге есть 12 — к повешению, трое освобожденных и остальных приговорили на 10 лет. А что сделают с теми мильонами СС и СА, которые на свободе.
Я читаю еще книгу историческую, но не менее актуальную — «Грей Эминенс», о Ришелье и его приспешнике патере Иосифе, о Тридцатилетней войне. Ничего не меняется под луной. То была война католиков с протестантами (зачем?), затем воевали народы между собой, наконец, так называемые «свободные нации», демократы, воюют с нацистами, и в самом конце это будет война между самими демократами (коммунисты ведь тоже себя называют демократами). Ну не ирония ли?
Генерал Сматс[905] предсказывает перемирие только на одно десятилетие. Садизм стал принадлежностью не отдельных психопатов, а массовым помешательством. Наука стала служить целям негуманитарным, разрушительным. Женственность вообще исчезла — «блонде бестие»[906] тому доказательство. И зародыш всех этих явлений не в «детских душевных конфликтах», как мы учились у Фрейда, а в каких-то космических или социальных или Бог их знает, каких причинах. Неужели личный комплекс какого-нибудь сумасшедшего маляра или страдавшего манией величия итальянца или страдающего инфериорити-комплексом[907] низкорослого японца могли создать эти мировые катастрофы?
Были же когда-то переселения народов: что влекло их из одного материка в другой, на завоевания целых стран и других народов, к перемене климатов и образа жизни — кочевого на оседлый и наоборот? <Голод и холод и неизведанные просторы Земли.>
Только тогда способы войны были более примитивные, шли с женами и детьми, со скотом, навьюченные своим и награбленным добром, и еще вандалистически разрушали все, что находили. Но и теперь, при всей хваленой культуре, не лучше. Ответственность ученых и образованных людей, философов, политиков за разрушения и зверства стала больше.
11.10.46
На днях у нас в больнице тоже ожидали обыска, теперь не считаются с тем, что называется «неприкосновенностью Красного Креста». Должны были искать оружие во всем нашем районе. Нам к счастью удалось умолить, чтобы не беспокоили больных и рожениц. Офицер был приличный человек, Марк и другие врачи, по-видимому, внушили ему доверие, но из-за ожидания и волнения мы не спали и не раздевались на ночь.
Читаю Моргана о Макиавелли, это тоже актуальная книга в связи с «фюрерством». Философия сильной личности требует пересмотра. Мы живем в необычное, исключительное время. И все принятые и привычные понятия отпадают.
Еще читаю историю Америки. Чтобы создать новый континент, новые колонии, надо пройти через войны, партизанство, жестокость, пионерство, смелость и жертвы. Нужна храбрость солдат, и крестьян, и ковбоев, и золотоискателей, и бандитов, и отчаявшихся — desperados — в других местах. Все это было у завоевателей Америки.
Сюда, в Палестину, мы, евреи голуса, с пейсами и в штреймлах или в русской косоворотке и с книжкой в кармане, принесли аристократизм не титулов графов и баронов, или бандитов и пиратов в прошлом, а аристократизм раввинских семейств, нашу интеллигенцию и купечество, идеализм без колонизаторского опыта, который нужно было приобрести тяжелыми жертвами, и медленным накоплением понимания, и трудом.
Нам не все методы подходят, мы не тот имперский элемент, который некогда завоевал Сибирь, Австралию, Южную Африку и Новую Зеландию, не говоря уж об Америке. Мы хотим сохранить чистые руки и возмущаемся, если молодежь понимает героизм иначе, чем мы — «поколение пустыни» <поколение конца 19-го и начала 20-го века>. Есть теперь в мире две морали — еврейская (и, как это ни странно, она почти та же, что христианская) и нееврейская — языческая.
Я бы не хотела, чтобы было наоборот.
31.10.46
Второй концерт <нашей новой филармонии,> на этот раз при участии Молинари[908] и солиста Гольдберга[909]: «Гебриды», оп. 26, Мендельсона[910], его же скрипичный концерт, оп. 64, и Четвертая симфония Брамса. Было хорошо.
Террор не прекращается, саботаж железных дорог, и жертвы со всех сторон. По ночам стреляют, и где-то рвутся бомбы.
<Читаю Поля Валери, для него еще Ницше — не предшественник Гитлера, и Вагнер — не носитель языческого антихристианского духа. Все переменилось.>
3.11.46
Вчера была арабская забастовка, а сегодня бастуют евреи из-за парохода с беженцами «Латрун», который отправили в Каир.
Английская империя воюет с 750-тысячным еврейским населением, которое у них под мандатом для «создания национального еврейского дома». Среди этой кучки населения большинство старики, женщины и дети.
6.4.47
Я несколько месяцев не писала, не до того было. Теперь прошла Пасха со всей работой и с гостями, и отпускные дни персонала, который я заменяла, и проч.
Англия уже заранее заявила, что решение УНО по Палестинскому вопросу для нее «необязательно». Это очень интересно, что УНО, как когда-то Лига Наций, может быть для кого-то не авторитетом.
В Каире собралось больше 12 тысяч еврейских «нелегальных» эмигрантов. Мы же утверждаем, что это их интернирование нелегально, потому что люди бежали от врага в свою страну, историческую и утвержденную мандатом.
Здесь беспорядки развиваются обычным путем. Сегодня я не могла не смеяться, когда моя старая прачка, которая живет вблизи Яффы и сильно страдает от беспорядков, ворчала:
— Я понимаю, — говорит она, — нужна война, но не перед Пасхой же, когда нужно всем стирать белье и убирать квартиры, и делать предпасхальную «кашрут» и уборку, и человек может заработать себе на праздник пару грошей.
— А зачем война, Делисия?
— Как зачем? Чтобы дали «Мдина Иврит», «еврейское государство».
Она уже дала название стране.
Это мне напомнило, как в прошлом году индус солдат, который у нас был к Сейдеру, написал потом очень милое благодарственное письмо, и на адресе стояло: Тель-Авив, Jewish State[911].
7.4.47
Я узнала о смерти моей бедной и милой свекрови. Приехали люди из Польши, которые рассказали мне, что она умерла естественной смертью от болезни, до того как наци послали бы ее на Понар. Я еще не решаюсь сказать Марку, он может еще некоторое время оставаться в неизвестности. В списки погибших и в списки спасенных она не попала.
10.4.47
Я часто бегу из дома, чтобы как-нибудь развлечься.
Так я была на концерте Ашкенази — Шопен, а это всегда для меня праздник. Молодое поколение не любит Шопена и романтиков, а у меня с Шопеном связаны воспоминания юности, когда я сама играла [и знала каждую ноту наизусть], когда я ходила в концерты с партитурой и когда у нас дома играли. Но часто мне трудно слушать именно Шопена, нервы ослабели или натянуты — я уж не знаю, — и нелегко сдержать слезы.
Я слушала шопеновские концерты в исполнении Гофмана, Сливинского, Годовского, Фон Зауэра, Орлова, Темели, Боровского, Унинского, Шора и многих других. И когда я вспоминаю «Сенилии»[912] Тургенева, где он говорит «все они умерли, умерли», я думаю, что никогда этого не бывало, чтобы в поколении моего возраста — 50–55 лет — умерли почти все современники.
На именины я получила том Стефана Цвейга «Бальзак». Читаю снова Сигрид Ундзет[913]. В те времена средневековья, которое она описывает, были еще предрассудки: понятие чести, греха, мести, отцовского проклятия, материнского благословения, церковь, семья, клан, общество. И если формы и понятия изменились, то одно не изменилось: характер человека, со всеми его слабостями и страстями.
2 мая 1947
Был необычный концерт Леонарда Бернштейна[914]. Целое событие в нашей жизни. Симфония Шумана (Вторая), «Иеремиада» Бернштейна и его «Равель-концерт», написанный им в Америке под влиянием джаза. Сам Берштейн молод, красив, фигура настоящего танцора. Дирижирует без палочки, руками, всем телом, настоящий Нижинский. Публика встретила и проводила его такими овациями, какими не удостоила, кажется, еще ни одного артиста. Он не только композитор и дирижер, но и прекрасный пианист-виртуоз.
Теперь читаю «Арк де триомф»[915] Ремарка, о беженцах и евреях. До Ремарка было такое убеждение, что для того, чтобы написать исторический роман, надо ждать по крайней мере десятилетия <если не столетия>. Он же писал свои романы под свежим впечатлением войны, возвращения с фронта и теперь — беженства. Если бы он ждал годы и десятилетия, события обогнали бы его, и его книги не были бы написаны. Наци, конечно, сделали ему ауто-да-фэ.
28.5.47
Мы ездили на именины наших девочек, Рут и Рины.
В кибуце теперь разводят много гладиолусов на продажу. Я получила луковицы. Мы с детьми ходили собирать растения для сушки в ботанических целях. Нашли платаны, каштаны, рицину[916], дикую малину, терновники, мелкорослый дубок, и рожки — хорув, водяные папоротники, ажурные, как кружева, и дикие розовые мальвы.
У детей в комнате завелся новый радиоприемник, из буколита, и целый день они увлекаются радио.
И Рут, и Эли, на мой взгляд, сильно постарели за последние годы от тяжелой работы, от малярии — он, от кормления и совмещения работы с детьми по вечерам — она. Такой дорогой ценой мы покупаем нашу маленькую страну.
Здесь нет тех здоровых от рождения крестьян, которым несколько поколений оставляли в наследство вести прочное хозяйство, дома, землю, скот и поля, веками обрабатываемые, а главное — здоровье. Здесь девственная почва, которую надо очищать от диких трав, выкорчевывать камни, сушить болота и строить без конца. А мужицкого здоровья мы им не передали, нашим детям.
Мы были на уроке арифметики у Цви, также на уроке Библии и иврита. Наш внук ни в чем не сплошал, хотя присутствие гостей его немного смущало. Потом он собирал снопы, приготовляясь к празднику «бикурим» (Шовуот). Дети сами косили, жали, было чудесно.
Вечером смотрели фильм, сидели на зеленой лужайке, перед «домом культуры», где читальня и библиотека, на маленьких скамеечках, которые мы принесли себе из комнаты.
Дети нам уступили свою комнату, а сами спали где-то, как мы это называем, «у чужих жен и мужей». <(Ноnу soit, qui mal у pense![917])>
Рине мы привезли гармошку из нейлона, а Цви — книги и старое перо дедушки.
Выстроилась еще новая улица домов, с прекрасными лужайками, цветами вокруг, с шезлонгами на веранде, и завелся новый обычай пить кофе или чай в своей собственной комнате, а не в общей столовой, особенно, когда гости. Позволена электрическая плата или чайник или электро-вилка[918], но не больше одного электроприбора на комнату.
И когда вечером после душа вся семья собирается на веранде при лампочке и с низким столиком для чаепития, напоминает русские дачи.
Мне показали их реформированную кухню: есть новые котлы на паре и на электричестве, сковороды величиной с добрый квадратный метр, затем новые детские дома, новый спортивный зал на 1000 человек, пруд для плавания. Все дети учатся плавать, и есть такие храбрецы, которые не боятся падать несколько саженей вниз головой. Также наш Цви, который раньше купался с маленькими в детском бассейне, теперь бросается с деревянных площадок вниз головой. У меня захватывало дыхание, когда я смотрела на эту акробатику и ждала, чтобы его головенка показалась над водой. Но наши дети говорят, что «хакол бседер», нечего бояться.
Вернулись мы на этот раз из кибуца очень довольные посещением и детьми.
Мы были в «Габима» на «Святом Пламени»[919] с Ровиной, одна из лучших ее ролей. Я вижу эту пьесу уже не в первый раз, и каждый раз нахожу в ней новые черточки. Странно, что каждый раз, когда я хожу в театр, я бы нашла для Ровиной новые роли: Орлеанская дева, леди Макбет, Орленок, Гамлет. И я уверена, что если бы она была в коллективе, она бы играла все эти роли <и Анну Каренину, и Dame aux Camélias[920] тоже>.
Открылся новый молодой театр: Камерный, очень живой и веселый.
Теперь часто устраивают концерты в амфитеатре Рамат-Гана, на воздухе, это очень приятно. Также большой пруд вносит много жизни в этот пригород, есть сады и парки, миниатюрные, но очень милые.
30.5.47
Я читаю книгу Крама «За шелковой завесой»[921]. Как все подобные книги, где люди проявляют гуманное отношение к нам и замолвливают доброе слово за нас, евреев, эта книга меня растрогала. Я не могу читать романы, но отчет комиссий, отчет о беженцах, пароходах, страданиях евреев и о наших успехах здесь, которые нам дались такими трудностями (потом и кровью наших детей, моими подписанными и позже выплаченными векселями, кровью наших солдат) — это то единственное, что занимает мысли, и если есть такая добрая книга, она волнует меня до слез.
Не весь мир еще превратился в троглодитов, в гитлеро-мутизм. Для магометан война почему-то всегда была Священной. Крестоносцы уничтожили во время своих походов тысячи людей — а каков результат? Что они создали на Востоке? Где их достижения? Рыцари возвратились с войны, увенчанные славой, а страна, ими завоеванная, оставалась пустынной, бедной, ее земля — необработанной. Мы же не объявляли никаких священных войн, мы покупали за свои деньги землю и в пятьдесят лет создали оазис.
6.6.47
Я прочла Дюгамеля «Дневник Салавена»[922]. В наш благородный век (или века) святость идентифицируется с сумасшествием. Идея это не новая, уже Достоевский своего Мышкина назвал «Идиотом». Салавен получает в конце манию, что Бог помирился с Сатаной. Такой же вывод приблизительно в романе Найта[923] — его герой контужен на войне, и поэтому его считают ненормальным. Он говорит против течения. Но герой Найта — фашист, каких в Англии, по-видимому, немало. Андреевский «Отец Фивейский», гариновский «Красный смех», Вассермана «Христиан Ваниаффе», «Идиот» Келлермана[924] — повсюду та же идея. Добро так редко и выходит за пределы нормального, так что герои — сумасшедшие. Иногда все-таки слышится голос совести и в наше время: Крам, Морисон, Ирвинг Стоун, Лаудермильк. Спасибо и на этом!
10.7.47
Теперь заседает в Иерусалиме комиссия УНСКОП[925].
Как тяжело нам, евреям, отстаивать свое право на существование. Когда спросили гуманного Магнеса[926], как он себе представляет еврейско-арабское государство, он не имел позитивного ответа. Когда спросили Бен-Гуриона, как он себе представляет Еврейское государство, он ответил: «предоставьте это нам, мы уж найдем путь». Престиж Бен-Гуриона поднялся во всех глазах.
Будучи в Иерусалиме на заседаниях комиссии УНСКОП, мы воспользовались свободным днем и поехали в Гуш-Эцион. Там живописная природа, вид на Средиземное море, но и сам человеческий материал очень интересный. Новое физически духовное еврейство. Дети воспитываются в нормальной среде. Когда-то в Москве мы мечтали о таком неоюдаизме, где евреи превращаются в крестьян и строителей новой жизни, но не в «безбожников» по советскому рецепту.
Теперь много книг о периоде между двумя последними войнами. Это Роберт Гревс — «Долгий викэнд»[927], Цвейг — «Вчерашний мир» и самый длинный из всех этих романов — «Конец века» Уптона Синклера[928].
Лора Хобсон, которая писала о беженцах («Треспассерс»), теперь написала вторую гуманную книгу «Джентельмен Агримент»[929], об антисемитизме. Шолом-Алейхем когда-то написал книгу «Тяжело быть евреем»[930] и, конечно, лучше: нет того американского «хеппи-энд», который здесь портит все. Но гуманные книги полезны в наш негуманный век.
Книги о Виленском гетто ужасны — Суцкевера, Курчак[931], в особенности для меня, я выросла в этом городе. Я видела перед глазами эти маленькие улочки старого гетто, куда загнали перед смертью целый большой город с окрестностями.
17.7.47
Прибыл пароход с 4500 иммигрантов, «Экзодус», там 655 детей и много женщин. Их эпопея еще не кончена. Есть люди, которые говорят, что о них «будут песни петь и былины складывать»[932]. Я бы предпочла, чтобы их спустили на берег, накормили, уложили в теплую кровать и чтобы кончились их мытарства. Современные одиссеи куда менее поэтичны, лучше бы не было «огня и воды… и канализационных труб».
29.8.47
Я прочла неприятную книгу Джона О’Коннелл «Дом на улице Ирода». О’Коннелл — английский чиновник из администраци мандата. Его послали в Палестину для «заигрывания» с арабами. Он не знал, не видел и не понимал евреев и наших стремлений. У арабов есть еще семь-восемь других стран, у нас только эта маленькая, отнятая у нас когда-то сильными агрессорами страна. Арабы открыли Палестину только после того, как мы ее осушили от болот, обстроили, засадили и сделали пустыню плодородной и удобной для жизни. У него, конечно, «бедные», жалкие и побежденные — арабы, а мы — агрессоры. И то, что ставится в заслугу американским, африканским, австралийским и новозеландским пионерам (которым вовсе никогда не принадлежали эти континенты и которые буквально уничтожили и обращали в рабство всех нейтивс[933] или перевозили их из одной страны в другую на галерах), то нам, которые за большие деньги покупаем землю и обрабатываем ее, ставится в упрек. Мы никогда не имели в виду вытеснять, прогонять или уничтожать «нейтивс», арабов. Наша тенденция была жить с ними в мире, санировать и культивировать страну, повышать их заработную плату, лечить и учить, если они хотят этого. Нашу протянутую руку всегда отталкивали. Нам устраивали погромы, сжигали пардесим и посадки, и все это благодаря феодалам, которые хотят спокойно жить в Каире и в Париже и эксплуатировать феллахов и платить им гроши или вообще закрепощать должников рабочих и крестьян.
Англичанам это брожение только на руку, потому что если есть беспорядки, можно ввести больше солдат для защиты Суэцкого канала и нефтяных источников тут и там.
19.10.47
Теперь решается наша судьба в УНО, не знаем, наберутся ли необходимые для нас две трети голосов. А тем временем англичане вооружают против нас Трансиорданию и другие соседние страны. Обещанное нам «тоу вовоу»[934] уже началось. Искусственно создается беспорядок, анархия в стране. Но мы не поддаемся, не растерялись. По вечерам стреляют в дома, и говорят, что в последние три вечера арабы извели 10 тысяч пуль.
Я часто прихварываю, даже температура появилась. Поэтому много читаю: «Назареянин» Аша, который, как и Верфель в своей «Бернадетт», хочет отблагодарить христиан за спасение нескольких еврейских душ. И это не Верфель, ассимилированный европейский еврей, это наш Шолом Аш, написавший «Городок», и «Во имя святое», и «Кастильская ведьма», автор и других чисто еврейских и глубоко прочувствованных национальных книг. Что с ним стало?
5 декабря 1947
Самые большие события в нашей жизни случились за последние недели.
Я случайно, или вернее, по обыкновению, была больна гриппой. Я лежала в постели, когда ночью вернулся очень возбужденный Меир и разбудил нас: «Мазл тов! Есть Еврейское Государство. 33 против 13-ти высказались за нас. Радио из Лек-Саксес!»[935]
Уже в три ночи мы слышали шум на улицах Тель-Авива, пение. Шумная толпа, молодежь, всё мчалось в лори туда и сюда. И, по-видимому, город кипел от радости и волнения.
Утром уже были газеты и поздравления по телефону, телеграммы, и настроение поднялось на сто процентов.
Я лежала, но ко мне каждую минуту прибегала другая сестра или компаньонка или соседи, и все рассказывали новости. На улицах радуются и танцуют, братаются с английскими солдатами, которых хорошо напоили и научили кричать: «Мдина иврит, алия хофшит!» («Еврейское Государство, свободная иммиграция!»), «Халла сефер лаван!» («Долой Белую книгу!») Впрочем, эти три фразы они уже знали давно.
Англичане брали в свои военные джипы маленьких школьников, катали их по улицам, заходили в рестораны и кафе, где всех бесплатно угощали, и вино лилось как никогда в нашем еврейском [городе] <государстве>.
Вся наша молодежь, может быть в первый раз в жизни, была пьяна от вина и от счастья. Улица была украшена портретами Герцля и других вождей. Все целовались и поздравляли друг друга. Не только Меир, но и Марк прибегал домой в очень возвышенном настроении. Все жалели, что я в постели, советовали мне даже встать, несмотря на температуру, и снова убегали. Меир утверждал, что «по крайней мере со ста старыми бабами поцеловался, а папа и того больше!»
Но в Петах-Тикве уже в тот же день были столкновения с арабами и были жертвы.
А потом по всей стране пошла волна беспорядков, пожаров, убийств, арестов и масса раненых. Арабы объявили войну.
При арабско-еврейских столкновениях англичане приняли «нейтральную» позицию. Их спрашивали, как в Ирландии: «Вы за кого нейтральны?» Этой декларацией в УНО была закончена наша пятидесятилетняя борьба за восстановление еврейского государства.
У нас в клинике прибавилось пациентов, раненых, и я должна была встать, хотя я еще была очень слаба после гриппы.
14.12.1947
Я получила почту из Шанхая от доктора Вальтер, от родственников из Иоганнесбурга, из Нью-Йорка: все нас поздравляли, пишут, как в чаду, начинают паковать чемоданы и говорят: «Мы пили вино, мы плакали, целовались и паковали вещи». А Бевин нам отвечает: «Не толкайтесь в очереди, вы еще не по дороге в Палестину!»
Министров сменяют, даже королей и царей, а еврейский народ живет: «Ам Исраэль хай!»
Когда я читала книги о Франклине и о гражданине Томасе[936], и об американской Войне за освобождение[937], я была горда, что и мы, маленький народ, вступаем на тот же путь борьбы. Меир каждую ночь выходит на стражу. Погоды стоят зимние, я еще не оправилась от гриппы.
Но в хозяйстве такие трудности. Недостает газа для плит, керосина, автобусное сообщение расстроено, шин и бензина для машин не хватает. И все это затрудняет доставку запасов для больницы. «Тоу вовоу» на всем ходу. Трансиорданские легионеры перешли в оффензиву[938]. Вчера было 14 убитых и 9 раненых, среди них муж одной нашей сестры. Все это случилось по дороге в Бен-Шемен.
Были также нападения на пригород Холон, построенный на дюнах вблизи Тель-Авива, но отделенный от города арабскими районами. Пока все это называется «инцидентами». Те же «инциденты» в Пакистане, в Индии, в Индонезии.
Наши детишки гуляют с бело-голубыми флагами и венками на головках. А молодежь выезжает с песнями на каждую работу и каждую стражу. Хочется плакать от горя и радости, когда видишь все это. Война за освобождение — это как роды: мучительно, болезненно, опасно, но если кончается благополучно, то дает новую жизнь и новую радость. Поэтому нет смысла стонать и жаловаться и считать жертвы.
23.12.47
Читаю Жака Бенвилье — «Англия и Империя»[939]. И еще Бомарше, и новую книгу Фейхтвангера о Франклине и Бомарше[940].
Англия как культурная страна могла бы быть благодетельницей человечества, но в самой идее Империи есть порок: эгоистическое желание использовать чужую слабость и некультурность. Теперь даже Египет, и Судан, и Сирия, и Ирак хотят избавиться от них.
27.12.47
Убит заведующий детской иммиграцией Ханс Байт, который заменил мисс Сольд[941]. Талантливый и образованный работник. Он ехал в такси на собрание по делу детской алии.
1 января 48 года
Новый год. Завтра 28 лет нашего пребывания в Палестине. Мы в 25-летие забыли открыть бутылку «Аликанте», а теперь не до того. Мы решили переменить наши имена. Марк Натанзон превращается в Моше Натани, я — в Хаву Натани, Меир тоже получает фамилию Натани.
Я прочла символическую книгу Ульмана «Белая башня»[942] о снежных горах. Прекрасно только наше стремление ввысь, вверх, на вершину горы. Тяжел подъем, еще тяжелее спускаться. Когда мы уже наверху, мы слепнем от белизны, не видим того, к чему стремились всю жизнь. И каждый народ делает этот подъем и спуск по-своему, в связи со своим национальным характером.
Еще я перечла Гейне. Там есть много пророческого, предвидение войн и катаклизмов и агрессии со стороны средневековой Германии. Достоевский предвидел большевистскую революцию. Герцль предсказал жестокий антисемитизм и необходимость создания Еврейского Государства.
Эпилог
На этом обрывается дневник жены врача Хавы Натани (Евы Григорьевны Натанзон).
В начале января 1948 года доктор Натани с женой выезжали часто в соседние деревни, кварталы и окрестности Тель-Авива. Нередко они привозили с собой в своем амбулансе больных и раненых. Ева Григорьевна не позволяла мужу ездить одному в эти опасные поездки и исполняла роль сестры милосердия.
В одну из таких поездок они попали в сильный обстрел, шрапнель разорвалась возле амбуланса. Машина перевернулась, четверо людей остались под грудой железа и деревянных частей, которые начали гореть: бензин разлился и вспыхнул.
Автомобиль, который проезжал в то же почти время, несмотря на продолжавшийся обстрел, остановился. Люди, сидевшие в нем, открыли заднюю дверь амбуланса, отвязали привязанного к нарам раненого человека. С трудом они вытащили доктора и его жену. Шофер амбуланса был мертв. Хава Натани скончалась по дороге. Доктор был привезен в больницу без сознания. Раненый пострадал меньше всех и смог впоследствии сообщить кое-какие подробности этой катастрофы для прессы
Приложение I Издательские инициативы Лейба Яффе на русском языке
В этом разделе читатель найдет материалы, рассказывающие об издательской деятельности Лейба Яффе в Москве в годы Первой мировой войны и пореволюционный период. И хотя в библиографической описи публикаций Л. Яффе, составленной его сыном, мы найдем около 800 наименований на трех языках — русском, иврите и идише, среди многочисленных его статей, переводов, речей, манифестов и воспоминаний особое место занимают несколько инициированных им книг на русском языке. Это литературно-художественные сборники «Сафрут» (№ 1–3, Москва, 1917–1918 и отдельный том, по большей части избранное из трех московских книжек, — Берлин, 1922), составленный им поэтический сборник «У рек Вавилонских. Национально-еврейская лирика в мировой поэзии» (Москва, 1917, обложка художника Л. Лисицкого) и «Еврейская антология. Сборник молодой еврейской поэзии под ред. В. Ф. Ходасевича и Л. Б. Яффе. Предисловие М. О. Гершензона» (Москва, 1918; Берлин, 1922) переведенных с иврита стихотворений новейшего времени.
Приведу рецензию Владислава Ходасевича на книгу «У рек Вавилонских»:
Прекрасную задачу поставил себе составитель сборника. Судьба еврейского народа, его душа и его культура столетие за столетием волнует людей всех культурных наций. Воззрения эпох, народов и отдельных личностей претерпевали и претерпевают по отношению к еврейству непрерывный ряд изменений. Тот же процесс происходит и в самом еврейском народе. Национальная еврейская лирика неизбежно становится зеркалом этих изменений. Попытка собрать в одной книге ряд отражений, мелькнувших в этом зеркале, — и любопытна, и поучительна, и может представить немалую ценность как материал не только художественный, но и исторический. Но одно дело — то, как национальные еврейские мотивы отражены в мировой, не еврейской поэзии, другое — то, как они прозвучали в творчестве поэтов еврейских. Поэтому нам кажется, что составитель сборника сделал ошибку, смешав лирику еврейскую, так сказать, по крови, с лирикой не еврейской. Тут — два разных зеркала и, следовательно, — две разные книги или хотя бы два самостоятельных отдела в одной книге. Промах в методе сразу дал себя чувствовать: еврейские имена составляют целую треть в перечне поэтов, произведения которых вошли в сборник. Но в мировой поэзии евреям вовсе не принадлежит третья часть голосов. Если бы поэты-евреи были отделены составителем от поэтов иных национальностей — его прекрасный труд выиграл бы еще более[943].
Яффе гордился этими начинаниями, по праву считая их весомым вкладом в русско-еврейскую культуру. Об этом можно судить по опубликованным в 1933 году его воспоминаниям о своем первом культуртрегерском проекте — выпуске юбилейного номера редактируемой им газеты на русском языке «Еврейская жизнь». Этот двойной номер (№ 14–15) был посвящен еврейскому национальному поэту Хаиму Нахману Бялику. Претворить задуманное Яффе в жизнь было бы невозможно, если бы не успех вышедшей в 1911 году и не раз переизданной книги переводов Владимира Жаботинского: «Х. Н. Бялик. Песни и поэмы». Именно эта книга познакомила с творчеством Бялика обширную читательскую публику как среди евреев, так и среди русской интеллигенции, и ее популярность, а также нужда русских поэтов в средствах в ту трудную пору создали предпосылки для успешного осуществления издательских планов Яффе. Публикуемые ниже материалы позволяют заглянуть «за кулисы» его редакторской и издательской работы, что особенно интересно, поскольку в нее были вовлечены некоторые значительные русские поэты.
Юбилейный, посвященный творчеству Бялика выпуск «Еврейской жизни» интересен прежде всего тем, что там впервые стихи ивритского поэта были даны в переводах выдающихся русских поэтов. Письма Лейба Яффе участникам бяликовского юбилейного номера газеты «Еврейская жизнь» и их письма к нему, а также фрагменты последующей переписки Яффе с деятелями русской культуры в ходе подготовки «Еврейской антологии» и других проектов издательства «Сафрут», которое Яффе возглавлял, частями и в разное время публиковали по архивным разысканиям Брайан Горовиц (США), Александр Лавров (Россия), Владимир Хазан и Э. Мазовецкая и мы с Романом Тименчиком (Израиль). Желающих подробнее ознакомиться с контекстом этих писем отсылаю к первым публикациям[944]. Мне показалось полезным свести воедино рассеянные по научным журналам и томам фрагменты переписки, поскольку мемуары Фриды Яффе поощряют к публикации возможно полного собрания документов, проливающих свет на судьбу и деятельность семьи Яффе. Это особенно насущно еще и потому, что дав главному герою Марку Натанзону профессию врача, Фрида была вынуждена вовсе не касаться литературно-издательской деятельности его прототипа.
Да не пеняют мне на то, что переписываю уже изданное. Принято считать, что слово «культура» восходит к трактату о земледелии «De agri cultura» Марка Порция Катона Старшего (234–149 гг. до н. э.). Катон дает земледельцу совет: покупая земельный участок, нужно обойти его несколько раз; если участок хорош, чем чаще его осматривать, тем больше он будет нравиться, тем лучше будет твой за ним уход, который, согласно Катону, и есть культура.
Зоя КопельманЛейб Яффе Первый юбилей Бялика[945]
Дело было накануне Песаха 1916 года. Шел третий год мировой войны — год массовых выселений евреев, преследований и страданий еврейских беженцев. В ту пору вышел указ военного командования в России закрыть все еврейские газеты[946]. Даже частная переписка на иврите и идише была запрещена. В альманахе «Еврейская старина» под редакцией Дубнова были вымараны все еврейские буквы.
В те дни в Москву приехал Бялик[947]. Он выступал с лекцией на тему «Галаха и Агада»[948] и был вынужден читать ее по-русски. Воистину странно было видеть Бялика на сцене переполненного зала Политехнического музея, обращающегося к своим многочисленным слушателям на русском языке.
А я тогда вместе с Александром Гольдштейном[949] был редактором газеты «Еврейская жизнь», которая выходила в Москве вместо закрытого в Петрограде «Рассвета». И когда Хаим Гринберг[950] сказал мне при встрече: «Скоро исполнится 25 лет литературной деятельности Бялика», мне тут же пришло в голову посвятить этому юбилею Бялика особый выпуск «Еврейской жизни». Странная это была идея — в годину бедствий праздновать юбилей ивритского поэта. Но и обойти молчанием такое событие казалось невозможным. И не исключено, что не последнюю роль тут сыграло желание поступить наперекор, воплотить эту идею вопреки всем трудностям и препонам[951].
Мы приступили к необходимым приготовлениям. Я обратился ко всем знавшим русский язык ивритским и идишским писателям, а также к известным русским прозаикам и поэтам, знакомым с творчеством Бялика по переводам Жаботинского и других. Прежде всего, я отправил телеграмму Ахад Гааму, находившемуся тогда в Лондоне. Но его по-русски написанный ответ (от 13 марта 1916 г.) подействовал на нас, как ушат холодной воды. Он спрашивал: разве до праздников ныне? Свое первое стихотворение Бялик опубликовал в сборнике «Пардес» в 1892 году, и с 25-летним юбилеем его литературной деятельности вполне можно подождать до следующего года. И возраст Бялика тоже казался Ахад Гааму не подходящим для юбилейных торжеств. Он писал: «Если не ошибаюсь, Бялику теперь 43 года, подобное число лет не вяжется с юбилеем». И продолжал: «Помимо этих формальных причин, не скрою, вся эта задумка видится мне полным абсурдом, и уж совсем нелепо праздновать юбилей нашего национального поэта в пору, когда наш национальный язык, язык этого самого поэта, находится в состоянии вынужденного паралича. На наши уста наложили печать, чтобы мы не могли выразить на нем своих чувствований. Представьте себе, что в Судный день выйдет указ закрыть все синагоги и молитвенные дома. Что сделают в таком случае евреи? Уж верно каждый сын Израилев будет изливать душу перед Всевышним в собственном доме, а не побежит с молитвенником в церковь или в мечеть, чтобы там прочесть „Кол нидрей“. Закрыты „Ѓа-Шилоах“ и „Ѓа-Олам“, у нас нет на иврите ни одного повременного издания, где мы могли бы поздравить своего поэта на национальном языке, а ведь именно ему он посвятил дело всей жизни, ему отдал свой мощный талант. Или вы и вправду не понимаете, какую обиду и унижение испытает наш поэт, когда мы преподнесем ему в качестве подарка юбилейный номер на чужом языке? Я считаю, что нашему поэту более приличествует удовольствоваться статьей, где вы выскажете все эти соображения, а именно: что в отсутствие газет и журналов на иврите, лучшим поздравлением ивритскому поэту будет многозначительное молчание…
Последуете вы моему совету или нет, я надеюсь, что вы не найдете в этом письме ничего, что могло бы вас задеть».
Нет, задеты мы не были. Проще было бы сказать, что это письмо не прибавило нам энтузиазма, но и сидеть сложа руки мы не могли.
В редакционной статье, опубликованной в «Еврейской жизни» в те дни, я выразил всю горечь по поводу жестокости правительственных мер, однако также подчеркнул душевную потребность подготовить юбилейный выпуск.
Первым откликнулся Менделе Мойхер-Сфорим, ответивший нам письмом, написанным старинным русским стилем на бумаге со штампом одесской еврейской школы, где служил «Дедушка» нашей литературы. Он болел, и дни его были сочтены[952]. Он писал: «Вне всякого сомнения, этот юбилей нашего юного талантливейшего поэта Хаима Бялика станет великим праздником новой ивритской поэзии. И я, старейший поклонник и верный друг виновника торжества, был бы счастлив принять участие в этом празднестве, но к моему великому сожалению, болезнь не позволяет мне написать что-либо достойное такого события».
Я обратился к известному литератору и критику М. Гершензону. Тот пригласил меня к себе. Гершензон был мыслитель и считался самым знаменитым в России историком литературы. Особенно он снискал известность как историк славянофильства и декабристского движения. В работе «Грибоедовская Москва» он мастерски обрисовал дух Старой Москвы. Бялика он знал лишь по переводам его стихов с иврита на русский и по его стихам на идише и видел в нем большого поэта.
Мы долго беседовали. И Гершензон дал мне небольшое эссе «Ярмо и гений». Он также представил меня великим русским поэтам: Вячеславу Иванову, Валерию Брюсову, Федору Сологубу и другим. Мне хотелось напечатать в юбилейном выпуске образцовые переводы некоторых стихотворений Бялика. Я передал упомянутым поэтам несколько подстрочных переводов из Бялика вместе с ивритским текстом подлинников, записанным русскими буквами, чтобы они почувствовали их метр и правила рифмовки. Я получил несколько замечательных переводов. Гершензон писал о трагедии гения, наделенного мощными крыльями и неспособного воспарить. Таким ему виделся жребий Бялика: ангел в оковах, орел в цепях. Гений обязан быть свободен от всякой заботы и печали, ибо заботы умаляют масштаб его личности. Гений не может нести ярмо мрачных будней, у него лишь одно стремление — к солнцу. Оттого Гоголь, Ибсен и Глинка отправились на юг. Правда, Бялик родился среди российского еврейства, куда никогда не заглядывает солнце. Но даже если бы он родился в свободной равноправной стране, его дух и тогда не был бы свободен, поскольку еврейство отравлено долгими веками Изгнания. Оттого так бессильно падают его крылья, словно налитые свинцом. Он страдает и жалуется на порабощенность своего гения на этой земле. Если бы гений Бялика мог развиваться беспрепятственно — какие бы сокровищницы мысли и чувства, заключенные ныне в нем и не способные прорваться наружу, открылись бы глазам мира и были бы дарованы человечеству. Появление Бялика — это дивное знамение, соответственное мощи и неистощимой юности еврейского духа, оно — необъяснимое чудо в глазах народов мира: ведь при такой еврейской судьбе душа поэта осталась живой, хотя могла бы стать кровоточащей, не знающей исцеления раной. Чудо, что после таких двух тысячелетий родился в волынском местечке человек с душою Бялика. Или и вправду живет и сохраняется еврейство как негасимый уголек, тлеющий под спудом в ожидании своего часа, когда из него вдруг возгорается пламя могучего неистребимого творчества? Да, именно так: «поэзия Бялика — потрясающая повесть о противоестественности исторической судьбы еврейского народа».
И Максим Горький также прислал мне заметку[953]. Он писал: «Для меня Бялик — великий поэт, редкое и совершенное воплощение духа своего народа, он — точно Исаия, пророк наиболее любимый мною, и точно богоборец Иов». Горький писал о бяликовских стихах скорби и гнева, но тут же оговаривается: «Но это гнев любящего, великий гнев народного сердца, ибо поэт — сердце народа». Сквозь негодование пробивается, словно солнечный луч, любовь поэта к жизни, к матери и его вера в духовные силы еврейства, ведь мы — последнее поколение Изгнания и первое поколение Избавления.
Русский писатель Куприн писал: «Истинные творцы искусства протягивают навстречу друг другу руки через бездны человеческой злобы, недоверия, жадности, подлости и лжи. И в этом их заслуга…»
Поэт Бунин посвятил Бялику стихотворение, Валерий Брюсов перевел стихотворения «Где ты?» и «О резне». Последнее было переведено также Федором Сологубом, и я опубликовал оба перевода. Вячеслав Иванов перевел «Истинно, и это кара Божья…» Ведущие еврейские литераторы прислали свои характеристики и оценки многосторонней творческой личности Бялика. И Андрей Соболь, русско-еврейский писатель, столь трагически погибший[954], тоже участвовал в выпуске.
Давид Фришман распознал иного Бялика, массам не известного. Обильно цитируя стихотворение «И будет, когда продлятся дни…», он предложил свою неожиданную интерпретацию.
Посвященный Бялику выпуск «Еврейской жизни»[955] вызвал отклик во всем мире. Он был сюрпризом для стоявших в стороне евреев и для неевреев. Гершензон сказал мне: «После мук и горечи этих лет вы показали еврейство в сиянии солнечного света». Полгода спустя мы получили транзитом через Копенгаген из отделенной от нас кровавым морем Палестины сборник «В этот час», приуроченный к тому же юбилею Бялика.
* * *
20 февраля 1916 г., Л. Яффе — В. Брюсову [956]
20. II.1916
Глубокоуважаемый Валерий Яковлевич.
В ближайшие недели исполняется двадцатипятилетие литературной деятельности самого яркого представителя новоеврейской поэзии Х.-Н. Бялика. Наша редакция намерена дать специальный нумер, посвященный характеристике и оценке поэта. Для нас было бы чрезвычайно важно и ценно, если б Вы нашли возможным дать хотя бы небольшую статью о Бялике.
Особенно желательно было бы, если б Вы согласились помимо статьи дать нам несколько его стихотворений в Вашем переводе.
Зная Ваш глубокий интерес к поэзии всех стран и народов, позволяем себе надеяться, что Вы не откажете нам в этой просьбе.
С глубоким уважением Л. Б. Яффе.
25 февраля 1916 г., Л. Яффе — М. Гершензону [957]
Редакция и контора
«Еврейская Жизнь»
Москва, Солянка, № 8
Телефон 5-49-54
Москва, 25/II
Глубокоуважаемый Михаил Осипович.
В ближайшие дни исполняется двадцатипятилетие литературной деятельности самого яркого представителя новоеврейской поэзии Х.-Н. Бялика.
Мы намерены дать специальный нумер, посвященный характеристике и оценке поэта.
Помимо еврейских поэтов и писателей в юбилейном нумере примут участие некоторые лучшие представители русской литературы.
Для нас было бы чрезвычайно важно и ценно, если б Вы нашли возможным принять участие в этом нумере и дать нам хотя бы небольшую статью о Бялике[958].
С глубоким волнением читал я Вашу статью «Народ, испытуемый огнем».
Может быть, Вы еще помните московского студента, который в Гейдельберге писал под Вашу диктовку и который затем посещал Вас во Франкфурте[959].
В ожидании Вашего ответа с глубоким уважением Л. Б. Яффе.10 марта 1916 г., И. Бунин — Л. Яффе [960]
10 марта 1916 г.
Многоуважаемый Лев Борисович.
Пожалуйста, простите, я последнее время хвораю. При всем моем искреннем желании исполнить Вашу просьбу и почтить Х. Н. Бялика, коего я считаю настоящим поэтом, что так чрезвычайно редко, ничего не могу написать о нем, ибо все-таки знаю его только по переводам Жаботинского. Окажите любезность, сообщите, когда именно его юбилей и куда направить приветственную депешу.
Уважающий Вас Ив. Бунин14 марта 1916 г., Л. Яффе — В. Брюсову [961]
14. III.1916.
Многоуважаемый Валерий Яковлевич.
От души благодарю Вас за Ваш отклик. Я не ответил Вам немедленно, потому что уже несколько дней лежу больной.
Посылаю Вам три стихотворения Бялика с транскрипцией подлинника и дословным переводом.
Зная несколько Ваши переводы из армянской поэзии, я не сомневаюсь, что Вам удадутся и переводы с еврейского.
Помимо перевода мы бы очень просили Вас дать хотя бы небольшую статью в 50-100 строк о Бялике или по поводу Бялика (вроде Вашей рецензии[962]).
Для нас очень важно, чтобы к этому празднеству еврейской поэзии проявилось отношение лучших представителей русской поэзии.
«Юбилейный №» выходит несколько позже, чем мы предполагали, и последний срок для сдачи материала — 25 марта.
Я через несколько дней надеюсь подняться и тогда позволю себе позвонить Вам.
С глубоким уважением Л. Яффе15 марта 1916 г., Л. Яффе — М. Гершензону [963]
<На бланке «Еврейской жизни»>
Москва, 15 III 1916
Дорогой и многоуважаемый Михаил Осипович.
От души благодарен Вам за Вашу прекрасную статью о Бялике[964]. Я не откликнулся и не поблагодарил Вас до сих пор, потому что я уже некоторое время болен, лежу.
Юбилейный № выйдет в последних числах марта, несколько позже, чем мы предполагали. Материал мало-помалу получается. Сегодня получил статью от М. Горького. В. Брюсов согласился дать нам перевод из Бялика. Послал ему несколько стихотворений с транскрипцией оригинала и дословным переводом. Должен был посетить 19-го Вячеслава Иванова, но тогда уже лежал. На днях поднимусь и пойду к нему.
Лев Шестов был у меня в редакции. Результат разговора: он статьи не даст. Не умеет писать на публицистические темы, к тому же еврейские темы его слишком волнуют, когда он думает о них, и он не в состоянии писать об этом.
Когда поднимусь, посещу Вас, если позволите.
Низкий поклон Вашей уважаемой супруге.
Жму Вашу руку.
С глубоким уважением Л. Яффе23 марта 1916 г., И. Бунин — Л. Яффе [965]
23. III.1916.
Многоуважаемый Лев Борисович.
Посылаю Вам для юбил<ейного> № стихотворение[966]. Прикажите его переписать для печати, а оригинал будьте добры передать Х. Н. Бялику.
Ив. Бунин
Измалково, Орловск. губ.
24 марта 1916 г., Л. Яффе — Брюсову (фрагмент) [967]
…Если Вас не затруднит, я бы позволил себе просить Вас прочесть прилагаемый перевод стихотворения Бялика и высказать Ваше мнение о нем <…> Стих<отворение> дано для юбилейного №.
26 марта 1916 г., Л. Яффе — В. Брюсову (фрагмент) [968]
…Может, найдете возможным прислать мне перевод стихотворения о резне. Это стих<отворение> меня очень интересует и хотелось бы видеть его перевод[969].
29 марта 1916 г., В. Брюсов — Л. Яффе [970]
29 марта 1916
Многоуважаемый Лев Борисович!
Видя Ваше внимание к нашей, переводчиков, работе, предлагаю Вам несколько правок моего перевода: Вы лучше меня решите, какие — ввести в текст, какие — нет.
1) Чтобы избежать неудачного «путь по тверди», можно в 1-й строфе стихи 1–4 читать:
Для меня милосердий, о небо, потребуй! Если Бог есть в тебе и к Нему — путь по небу! (Той стези не обрел я!) Для меня милосердий потребуй!Или, если слово «потребуй» сразу слишком сильно, то:
Проси для меня милосердия, небо! Если Бог есть в тебе, милосердия требуй! (Но стези не обрел я, Что к Богу вела бы по небу!)Внешне последний вариант отступает от подлинника, но смысл, кажется, сохранен.
2) В той же строфе, в стихе 6, может быть, лучше:
Руки упали; надежды нет боле…3) Так как стихом «Доколе…» мой размер уже нарушен, то лучше во 2-й строфе, в стихе 6, поставить, как было прежде:
Кровь младенцев и старцев — красные реки(Можно, конечно, для соблюдения размера, вставить словечко: «те красные реки», но, думаю, это — излишне: пауза, тире, заменит недостающий слог, а слово «младенцев» здесь важно, «отроки» — гораздо слабее).
4) По той же причине, т. е. потому, что мы уже решились допускать вольности в размере, в последней (4-й) строфе, стих 2-й, лучше сократить и читать:
За кровь младенца — отмщенийВ подлиннике только — «кровь», «убийства» — нет.
5) Мне не нравится еще, в стр<офе> 3-й, ст<их> 5-й:
В проклятии вечном все небо да канетНо я не могу найти хорошей замены. Но, может быть, читать этой 3-й строфы стихи 1–5 так:
Если есть справедливость — пусть тотчас воспрянет! А если… (и т. д.) Все небо гниющим злодейством да станет.В подлиннике есть выражение «да сгниют небеса в злодействе».
Заглавие, думаю, лучше оставить по-еврейски, или поискать другого слова, не «о резне» («об избиениях»? — я вообще не знаю смысла слова al-haschchita[971]).
Повторяю: я предоставляю все эти поправки на Ваше усмотрение и потому внес их в корректуру карандашом: что Вы найдете излишним, легко стереть, и очень прошу Вас сделать это согласно с Вашим решением.
Уважающий и готовый к услугам Валерий БрюсовВалерий Яковлевич Брюсов
Москва, 1-я Мещанская, 32.
29 марта 1916 г., Вяч. Иванов — Л. Яффе [972]
29 марта 1916 г.
Многоуважаемый Лев Борисович,
Изменять что-либо, хотя бы и дружеской и умелой рукой, в стихах поэта столь знаменитого, как Ф. Сологуб — дело весьма ответственное и деликатное; Федор Кузьмич бывает часто щепетилен, — пожалуй, обидится, и — прибавлю — не без основания. Да и было бы из-за чего рисковать задеть его, — когда он так отзывчиво поспешил исполнить наше желание, воспользовавшись немногими часами, которыми он располагал в Москве! Ведь смысл все же нимало не искажается при сохранении его текста. Французский поэт может обращаться к Богу с молитвой «за французов», немецкий — «за немцев»: почему же «за евреев» в стихах Бялика должно производить такое впечатление, как будто он говорит «со стороны». В Библии постоянно говорится о «Израиле», «дщери Израиля», «дщери Сиона» — вместо: «мы», «наш народ». — Конечно, стихи Сологуба ничего бы не потеряли, если бы вместо «для евреев» (1 строка) и «за евреев» (4 строка) стояло «за народ мой». И я посоветовал бы ему написать это или подобное, если бы с ним лично беседовал. Но в его отсутствие нельзя позволить себе изменить ни йоты в написанном. Это вопрос принципиальный. И я бы сам не простил ни одной редакции произвольной перемены, как бы удачна она ни была. Итак, мой совет: печатайте хорошие стихи, как есть, и не делайте осложнений, по существу дела совершенно ненужных. Изменения мои в корректуре моих стихов тщательно соблюдите.
С искренним уважением
Вяч. ИвановЕсли я Вас не убеждаю, единственный исход телеграфировать Сологубу (Петроград, Разъезжая, 31): «можно ли поправить за народ мой вместо за евреев». Но, повторяю, этого излишне добиваться, да и времени у Вас нет. Итак, пожалуйста, печатайте стихи без перемен.
В. И.5 апреля 1916 г., Ф. Сологуб — Л. Яффе [973]
Федор Кузьмич Тетерников
(Федор Сологуб)
Петроград
Разъезжая, 31, кв. 4.
Телефон 106-44.
5 апреля 1916 г.
М<илостивый> Г<осударь>
Г<осподин> Редактор,
Очень прошу Вас выслать мне № 14 «Еврейской жизни», где напечатан мой перевод стихотворения Бялика. Мне было бы очень приятно, если бы Вы пожелали высылать мне Ваш журнал.
С истинным уважением Федор Сологуб8 апреля 1916 г., Л. Яффе — Ф. Сологубу [974]
8. IV.1916.
Глубокоуважаемый Федор Кузьмич.
От души благодарю Вас за Ваше стихотворение. Юбилейный № нашего журнала выслан Вам. Мы, конечно, с величайшим удовольствием будем высылать Вам наш журнал.
С глубоким уважением
Л. Б. Яффе* * *
Успех посвященного Бялику фестшрифта и возникшие при его подготовке литературные связи побудили Яффе приступить к подготовке тома новой еврейской поэзии в переводах с иврита на русский. В помянутой выше работе об истории создания «Еврейской антологии» Лавров пишет:
«Проведенная организаторская и редакторская работа послужила для Яффе непосредственным стимулом к воплощению более масштабного замысла — сборника стихотворений новейших еврейских поэтов в русских переводах. Два месяца спустя после выхода в свет „бяликовского“ номера „Еврейской жизни“ он писал Гершензону уже о будущей Еврейской антологии <…>
Еврейская антология, включавшая стихотворные переводы из 15 поэтов, вышла в свет в начале июля 1918 г., за первым последовало второе издание, а в 1922 г. в Берлине появилось третье, что очевидным образом свидетельствовало об успехе книги, сумевшей вызвать живой читательский интерес даже в отнюдь не самые благополучные времена <…>
После появления Еврейской антологии издательская деятельность Яффе в Москве пошла на спад — неизбежный в условиях всеобщей разрухи и большевистского хозяйствования. Воодушевление, стимулированное февралем 1917 г., сменилось у руководителя „Сафрута“ совсем иными настроениями»[975].
В подготовке «Еврейской антологии» с лета 1917 года деятельное участие принимал Владислав Ходасевич, которого с Яффе познакомил Гершензон[976] и который занимался распределением материала между переводчиками и редактировал готовые переводы[977].
Среди переводчиков «Антологии», работавших с подстрочниками, были Ф. Сологуб, Вяч. Иванов, В. Брюсов, Ю. Балтрушайтис, Вл. Ходасевич, Ю. Верховский, К. Липскеров, Амари, а Л. Яффе, С. Маршак, Элишева (Е. Жиркова), П. Берков и О. Румер переводили непосредственно с иврита.
6 июня 1916 г. Л. Яффе — М. Гершензону [978]
Многоуважаемый и дорогой Михаил Осипович.
Я очень извиняюсь, что до сих пор не сообщил Вам о ходе работ для сборника. Состояние моего здоровья было таково, что меня насильно оторвали от работы и услали отдохнуть и полечиться. Перед отъездом успел только побывать у Валерия Брюсова. Он охотно будет переводить для сборника. К Вячеславу Иванову, к сожалению, не успел заехать. Был бы Вам очень благодарен, если б Вы мне сообщили его адрес. Пока читаю еврейских поэтов, составляю подстрочники, списываюсь с авторами. У Валерия Брюсова я видел произведения новейшей евр<ейской> поэзии, которые должны войти в хрестоматию, издаваемую М. Горьким[979]. Всего этих стих<отворений> — от Бялика и после него — около 10-ти. Из них — только одно, всего только одно, которое мне очень хотелось бы иметь в нашем сборнике, — небольшая поэма Бялика.
Где проведете это лето?
Низко кланяюсь Вашей супруге.
С сердечным приветом и глубоким уважением
Л. Б. Яффе
6. VI.1916
Мой адрес до 15 июня: ст. Подсолнечная Никол, ж. д. № 9 Санаторий.
8 августа 1916 г., Л. Яффе — М. Гершензону (фрагмент) [980]
<На бланке газеты «Еврейская Жизнь»>
Москва, 8.VIII. 1916.
…По Вашему совету послал Вяч<еславу> Иванову телеграмму с уплоченным ответом, но ответа не получил. Очень огорчает меня это невнимание, тем более что неполучение от него ответа задерживает всю мою дальнейшую работу. Низкий поклон Вашей супруге…
8 августа 1916 г., Л. Яффе — Ф. Сологубу [981]
Москва, 8.VIII.1916.
Глубокоуважаемый Федор Кузьмич.
Позволяю себе обратиться к Вам с нижеследующей просьбой. Мы в ближайшем времени намерены приступить к изданию сборника стих<отворений> лучших еврейских поэтов в русском переводе. Предполагается в виде первого опыта дать стих<отворения> новейших евр<ейских> поэтов, начиная с Х. Н. Бялика. Сборник выйдет с предисловием М. О. Гершензона. К участию в нем мы приглашаем лучших представителей русской поэзии. Считая особенно важным и ценным Ваше участие в этом сборнике, просим Вас не отказать взять на себя некоторые переводы из Бялика и др<угих> евр<ейских> поэтов.
По получении от Вас ответа, вышлю Вам транскрипцию и подстрочный перевод некоторых стихотворений. Может, Вы бы нашли возможным указать, какого рода стих<отворения> Вам было бы желательно получить для перевода.
Позволяю себе надеяться, что и на этот раз мы встретим с Вашей стороны такое же отзывчивое отношение, как при первом обращении к Вам.
В ожидании Вашего ответа
с глубоким уважением Л. Б. Яффе.
2 сентября 1916 г., Л. Яффе — Ф. Сологубу [982]
2. IX.1916.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Я хворал несколько недель, поэтому не ответил сейчас же на Ваше письмо, за которое я Вам искренно благодарен.
Посылаю Вам два стихотворения Х. Н. Бялика с транскрипцией оригинала и подстрочным переводом. В ближайшие дни пришлю Вам небольшую поэму Бялика и несколько стих<отворений> других поэтов.
Я забыл написать в предыдущем письме, что мы можем предложить гонорар 50 коп. со строчки. Если разрешите воспользоваться некоторыми переводами для нашего журнала до их появления в сборнике, мы сможем предложить еще по 25 коп. со строки.
Если Вас не затруднит, я бы просил Вас подтвердить получение письма и стихотворений.
С глубоким уважением Л. Б. Яффе
22 сентября 1916 г., И. Бунин — Л. Яффе [983]
Многоуважаемый Лев Борисович.
При всем моем желании исполнить Вашу просьбу, не думаю, чтобы мне удалось это сделать: переводить, не зная языка, нельзя, я однажды уступил настояниям переложить в рус<ские> стихи 2 или 3 стих<отворения> армянских поэтов — и до сих пор чувствую себя неловко, хотя дело было уже давно. Пришлите мне несколько подстрочников, — тогда мне виднее будет, хотя, повторяю, очень мало шансов на то, чтобы вышло из этого что-нибудь путное. О гонораре не беспокойтесь — я по полтиннику получал лет 25 тому назад, теперь таких цен не беру, и посему, если выйдет что, дам уж лучше бесплатно.
Уважающий Вас Ив. Бунин.22. IX.1916.
Измалково, Орловск. губ.
1 октября 1916 г., Л. Яффе — М. Гершензону [984]
<На бланке газеты «Еврейская Жизнь»>
Москва, 1.Х.1916.
Дорогой Михаил Осипович.
Лежу уже седьмой день в лечебнице д-ра Герценберга. Так плохо себя чувствовал, что меня ночью в карете скорой помощи пришлось отправить в лечебницу. Поправляюсь, но еще придется полежать.
Фрида Вениаминовна принята на курсы Полторацкой, хотела зайти к Вам, сообщить об этом и поблагодарить Вас, но в тот же день она узнала о смерти отца.
Сердечно жму Вашу руку. Привет Вашей супруге.
Ваш Л. Яффе
5 октября 1916 г. Л. Яффе — В. Брюсову (фрагмент) [985]
…Я Вас очень прошу не отказать мне дать хотя бы несколько переводов для сборника новоеврейской поэзии. Не могу себе представить, чтобы сборник мог быть выпущен без Вашего участия…
9 октября 1916 г., В. Брюсов — Л. Яффе [986]
9 окт<ября> 1916.
Многоуважаемый Лев Борисович!
Душевно жалею о Вашем нездоровьи, и сочувствие мое тем более живо, что и я лишь недавно вышел из стен лечебницы и на своем опыте изведал все тягости долгой болезни. Что до Вашего желания, то я очень рад был бы его выполнить — если тому откроется возможность. После двух с половиною месяцев вынужденного, болезнью, «безделья», я теперь едва возвращаюсь к своим работам. Количество срочного дела, которое я обещал выполнить уже без малейшего медления, — прямо неимоверно. В сущности мне следовало бы сейчас работать беспрерывно, день и ночь, чтобы хоть сколько-нибудь исправить все, мною упущенное. Чувствую, однако, что я не имею нравственного права отнимать для какой-либо иной работы время, которое должен посвятить исполнению обещаний, ранее данных издателям и редакциям и, как мне известно, для них важным. Достаточно сказать, что моя болезнь на те же 2 1/2 мес<яца> задержала выход двух изданий «Паруса»[987], и т. под. Но все, что могу, я постараюсь для Вас сделать. Если Вы можете еще некоторое время не торопить меня, я через 3–4 недели, вероятно, смогу освободить себе столько досуга, чтобы перевести желаемые Вами стихи. Прошу извинить мне такой долгий срок, но сейчас, переводя ежедневно стихи финских поэтов, я прямо не в силах «настроить свою душу» так чтобы взяться еще за перевод еврейских. Вы — тоже поэт, Вы тоже пишете стихи и поймете это мое объяснение.
Сердечно желаю Вам здоровья,
преданный Вам Валерий Брюсов.
12 октября 1916 г., Л. Яффе — Ф. Сологубу [988]
12. Х.1916.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Очень извиняюсь, что не писал Вам и не послал стихов. Объясняется это тем, что я в последнее время часто и подолгу хвораю.
Как только оправлюсь, пришлю Вам другие стихотворения.
Если переводы из Бялика уже готовы, я бы очень просил Вас прислать их мне.
С глубоким уважением <Л. Б. Яффе>6 июня 1917 г., Л. Яффе — М. Гершензону [989]
<На бланке газеты «Еврейская Жизнь»>
Москва, 6.VI.1917
Дорогой Михаил Осипович.
Шлю сердечный привет Вам, Марье Борисовне и детям. Как живется Вам в Крыму? Отдохнули ли?
Я в ближайшие дни освобождаюсь от «Еврейской жизни», приступил к издательскому делу[990].
Очень прошу Вас, Михаил Осипович, прислать обещанную статью для первого сборника нашего издательства[991]. Дадим ее, если понадобится, с примечанием, которое раньше Вам, конечно, будет предъявлено, как мы условились. В этих сборниках, которые скорее всего будут книжками ежемесячника, будет меньше всего политики. Основная цель — углубление в сущность еврейства, в его проблемы. В первом сборнике идет также «Галаха и Агада» Бялика. Был бы Вам очень благодарен, если бы Вы могли мне прислать статью к 10–15 июля. К концу августа хотим выпустить сборник.
Мы живем на даче в окрестностях Москвы. В городе этим летом совсем невыносимо. Моя жена Вам очень кланяется. Жму сердечно Вашу руку.
Преданный Вам Л. Яффе.
6 июня 1917 г., Л. Яффе — Ф. Сологубу [992]
6-го июня 1917 г.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
По причинам личного и общественного характера мне пришлось отложить издание «Еврейской антологии». Теперь снова приступаю к этой работе.
Позволяю себе просить Вас прислать переводы стих<отворений> Бялика, посланных Вам в прошлом году Прошу также разрешить мне прислать Вам еще несколько стих<отворений> для перевода.
В ожидании Вашего ответа с глубоким уважением Л. Б. Яффе.30 июня 1917 г., С. Маршак — Л. Яффе [993]
Льву Борисовичу Яффе
Бывш<ая> редакция «Еврейской жизни»
Москва Солянка, № 8.
Отпр<авитель>
С. Я. Маршак. Петроград,
Шестая Рота, 3, кв. 32.
30. VI.17.
Дорогой Лев Борисович!
До сих пор я еще ничего не успел подготовить для Вашего сборника. Надеюсь кое-что сделать в течение остающихся в моем распоряжении трех недель. Я рассчитываю дать не всю поэму Шнеура «בהרים» [ «В горах»] (слишком мало времени для этого), а только «Вступление»; кроме того, одно или два стихотворения.
Сообщите, милый Л. Б., в каких сборниках Вы предполагаете поместить «Вечный Жид» Вордсвота, а также «Палестину» и, кажется, «Schir-Zion»? Не забудьте прислать мне обещанную корректуру двух последних вещей.
Не думаете ли Вы побывать в Петрограде в близком будущем?
Сердечный привет Вашей жене и дочкам.
Целую Вас. Ваш С. Маршак.2 августа 1917 г., Л. Яффе — М. Гершензону, телеграмма [994]
От 2-го 8 месяц<а> 1917 г.
Очень прошу обещанную статью к двадцатому августа Приступили к печатанию первой книги Без вашей статьи не выпустить.
Яффе3 августа 1917 г., Л. Яффе — М. Гершензону [995]
Книгоиздательство
«Сафрут»
Москва, Солянка 8.1.
3. VIII.1917
Дорогой Михаил Осипович.
Отправил Вам вчера телеграмму с просьбой ускорить высылку Вашей статьи. Не хотелось Вас беспокоить и нарушать Ваш летний отдых, но нужда заставила. Мы, несмотря на все трудности, приступили к печатанию нескольких книг. В ближайшие дни недели мы, по условию, должны сдать в типографии первую книгу нашего журнала, который на первых порах будет носить характер периодических сборников. В первую книгу войдут кроме Вашей статьи — статьи Бялика, Бруцкуса, Марголина, Эфроса, литературные статьи Баал-Махшовеса и Брюлловой-Шаскольской, рассказы Ан-ского, Андрея Соболя и т. д. Объединяет весь этот материал серьезное и вдумчивое отношение к проблемам еврейской жизни и мысли. Я Вас очень, очень прошу, Михаил Осипович, дать мне Вашу статью для сборника. Без нее не выпущу сборника.
Невероятно трудно теперь печатать книги, но мы решились пойти на это. Нашли две типографии, купили вагон бумаги. Мы спешим, потому что чем дальше, тем труднее будет. Уже несколько лет нет серьезных книг в еврейской журналистике на русском языке. Постараемся хоть несколько восполнить этот пробел. Печатаются уже книги «Основные течения в евр<ейской> истории» М. М. Марголина, «Судьбы еврейского народа» Д. С. Пасманика, сборник национально-евр<ейских> мотивов в мировой поэзии. Готовим к печатанию в первую очередь первую книгу наших сборников, затем рассказы Бялика, том избранных статей Ахад-Гаама, плач Иеремии Эфроса[996] и т. д.
Мы живем на даче. Здесь хорошо, но, полагаю, не так, как у Вас. Лучшее, что у нас есть, это собственный огород, в котором все возимся. Есть собственные огурцы, свекла, капуста, морковь. В городе все это теперь предметы роскоши. Здесь вообще легче жить. В городе становится с каждым днем труднее во всех отношениях. Впереди тяжелая осень и зима. Томительно жду конца войны, как набожный еврей пришествия Мессии. Жду, дорогой Михаил Осипович, Вашего отклика и статьи. Вы ею придадите блеск и значение всему первому сборнику. Очень прошу прислать ее к 20-му августа.
Сердечный привет Марье Борисовне и детям.
Фрида Вениаминовна кланяется.
Жму сердечно Вашу руку. Ваш Л. Яффе.7 августа 1917 г., М. Гершензон — Л. Яффе [997]
…Ваша телеграмма путешествовала со 2-го по 6-ое число. Она меня огорчила: я невольно, оказывается, причиняю Вам неудобства. Я писал Вам, что здесь, я знаю, сочинять невозможно, что написать статью я смогу только в Москве. — Зачем же Вы ждете меня, хотите задержать первую книжку? Не все ли равно, пустить меня в 1-й или во 2-й? Мне это безразлично, хотел бы я, чтобы и для Вас это было так же. Заказать себе статью к сроку я не умею; вопрос надо решить так: когда статья будет написана, я Вам ее отдам; я помню о ней, и все дело в том, чтобы, встав утром, я сознал, что во мне сама собою возникла мысль: «сегодня буду писать ту статью, о назначении еврейства». Так я всегда берусь за перо — когда внутри созревает охота к данному писанию. А теперь, повторяю, и вообще не пишется. Итак, выпускайте же спокойно 1-ую книжку, а я, когда приду, приду[998].
7 августа 1917 г., С. Маршак — Л. Яффе [999]
Ст<анция> Лоунатиоки, Финляндия
7 августа 1917 г.
Дорогой Лев Борисович!
Посылаю Вам мой перевод, а также «Иерусалим»[1000] (первоначально я предполагал дать Вам цикл стихотворений под этим названием, но не успел его закончить и потому решил ограничиться одним небольшим стихотворением).
Получили ли Вы мою открытку? Перед отъездом из Петрограда я чувствовал себя так плохо, что не мог приняться за окончательную отделку стихов, но три дня в Финляндии несколько освежили меня, и я оказался в состоянии закончить работу. Надеюсь, что стихи придут не слишком поздно. Из стихотворения памяти Герцля я хотел бы исправить и дать Вам «20 тамуза», но нигде не могу найти книжки «Еврейской жизни», где эта вещь была напечатана.
Был бы очень рад весточке от Вас. Пишите мне по Петроградскому адресу (6 Рота, 3, кв. 32).
Целую Вас и шлю привет Вашей жене и девочкам.
Ваш С. Маршак.? августа 1917 г., Вл. Ходасевич — Ф. Сологубу [1001]
Глубокоуважаемый Федор Кузьмич, еще прошлой осенью Вы дали Л. Б. Яффе любезное свое согласие перевести несколько стихотворений для «Еврейской антологии». В настоящее время Л. Б. Яффе решил с изданием поторопиться. Редакция переводов поручена мне, — и Вы, конечно, понимаете, в какой степени Ваше активное участие в Сборнике было бы мне радостно. Так вот, если посланные Вам 2 стихотворения Бялика уже переведены, — то не будете ли добры прислать их мне. Не согласитесь ли также перевести еще что-нибудь? Если да, то я немедленно вышлю Вам подстрочные переводы.
Если стихи еще не переведены, то, быть может, Вы бы не отказались перевести их в ближайшем будущем.
Так как почтовые операции там, где Вы живете[1002], кажется, не совсем просты, то не сообщите ли, каким образом, получив стихи, я должен Вам переслать гонорар. (Он, кстати, повышен до 75 коп. за строчку.)
Вас глубоко уважающий Владислав ХодасевичМой адрес: Москва, Плющиха, 7-й Ростовский пер., д. 11, кв. 24, Владиславу Фелициановичу Ходасевичу.
11 октября 1917 г., Л. Яффе — Ф. Сологубу [1003]
11. Х.1917.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Выражаю Вам искреннюю благодарность за присланные Вами переводы. На днях вышлем Вам несколько новых подстрочников. Сборник сдается уже в набор и к началу весны он будет готов[1004].
Выслал Вам в счет Вашего гонорара сто рублей в костромское отд<еление> Волжско-Камского Коммерческого банка, текущий счет № 452.
С глубоким уважением Л. Б. Яффе
Новинский бульвар, Проточный пер., д. 10, кв. 19[1005].
11 ноября 1917 г., Вяч. Иванов — Л. Яффе [1006]
11. XI.1917.
Многоуважаемый Лев Борисович,
Сердечно тронут, благодарю, винюсь и памятую… К величайшему моему сожалению, на митинг[1007] попасть не удосужился. Едва поспел на назначенное в тот же день, на 3 часа пополудни, заседание комитета Общ<ества> Сближения с Англией.
С глубоким уважением Вяч. Иванов27 ноября 1917 г., В. Брюсов — Л. Яффе [1008]
27 ноября 1917.
Гражданину
Льву Борисовичу
Яффе
От В. Я. Брюсова
Многоуважаемый Лев Борисович!
Очень благодарю Вас за присылку гонорара, который (восемьдесят четыре рубля) получил. С удовольствием готов продолжить свои переводы, если могу быть Вам полезен. В наши дни переводить хорошие стихи — наслаждение, а не работа.
Преданный Вам Валерий Брюсов29 ноября 1917 г., Л. Яффе — Ф. Сологубу [1009]
29. XI.1917.
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Посылаю Вам еще два стихотворения. По-еврейски они красивы и музыкальны. Уверен, что Вы им придадите ту же музыкальность и по-русски.
Не откажите разрешить мне воспользоваться одним из Ваших переводов стих<отворений> Бялика для литературно-художественного сборника, который будет выпущен нашим издательством до выхода в свет антологии.
За ответ Вам заранее благодарен,
искренно уважающий Вас Л. Б. Яффе
Около месяца т<ому> н<азад> послал Вам в Кострому сто руб. Не знаю, получены ли Вами эти деньги.
11 декабря 1917 г., Ф. Сологуб — Л. Яффе [1010]
11 декабря 1917 г.
Федор Кузьмич Тетерников
(Федор Сологуб)
Петроград
В<асильевский> О<стров>, 9 линия, 44, кв. 19.
Многоуважаемый Лев Борисович,
Два стихотворения Каценельсона[1011] я получил, одно из них перевел и посылаю Вам. Другое еще не смог одолеть. Оно очаровательно, и я буду рад, если мне удастся его перевести.
Я уехал из Костромы 12 октября, как раз в то время, когда Вы перевели мне 100 р. в местное отделение Волжско-Камского банка. Не имею основания сомневаться в том, что банк своевременно записал эти деньги на мой текущий счет, но на всякий случай послал банку запрос. Ответа пока еще не получил.
Я ничего не имею против того, чтобы Вы воспользовались одним из моих переводов из Бялика для литературно-художественного сборника, который Вы предполагаете выпустить в свет до выхода антологии.
С истинным уважением Федор Сологуб16 декабря 1917 г., Вл. Ходасевич — Л. Яффе [1012]
Е<го> в<ысокородию>
Льву Борисовичу Яффе.
Проточный, 19, кв. 19.
Настоящим изъявляю согласие передать издательству «Сафрут» первое издание переведенной мною книги идиллий С. Черниховского на следующих условиях:
1) Издательство «Сафрут» за пять идиллий[1013], содержащих всего … строк, уплачивает мне … рублей, из коих триста (300) рублей я имею получить при заключении настоящего условия, а остальную сумму равными частями, по … рублей, в два срока: по сдаче мною рукописи всей книги и тотчас по отпечатании книги.
2) Если книга будет мною снабжена предисловием, я получаю от издательства «Сафрут» еще сто (100) рублей, уплачиваемых при сдаче рукописи издательству.
3) Издательство «Сафрут» имеет право отпечатать книгу в количестве пяти тысяч экземпляров.
Владислав Ходасевич16 декабря 1917 года
10 bis, rue des 4 Cheminées,
Boulogne a/Seine, France.
Дорогой Саул Гутманович,
Пишу к Вам экстренно вот по какому делу. Мне предлагают издать отдельной книжкой переводы какой-нибудь поэмы, не вошедшей в мою книгу «Из еврейских поэтов». У меня есть «Свадьба Эльки» и «Так будет в грядущие дни» <3алмана> Шнеура. Естественно, что я предпочитаю «Свадьбу Эльки». Издание будет выпущено в самом ограниченном количестве экземпляров: 200–250. Издатели предлагают уплатить Вам пятьсот франков за авторизацию — больше никак невозможно. Мне было бы очень приятно, если бы Вы согласились, т. к., повторяю, «Свадьба Эльки» сердцу моему любезнее, чем поэма Шнеура (и чем одна поэма Мицкевича, о которой тоже идет речь на тот случай, если Вы не согласитесь). Словом, жду ответа — и как можно скорее, т. е. я должен сдать рукопись незамедлительно.
Крепко жму руку,
Ваш Владислав Ходасевич.
23 апреля 1930.
P. S. В прошлом году я однажды получил приглашение на обед в Вашу честь. Но оно было послано в «Последние новости», где я не сотрудничал — и я получил его через неделю после обеда. Очень жалко, что не удалось с Вами повидаться.
Жена Вам кланяется.
* * *
15 апр<еля> <1>931.
Дорогой Саул Гутманович,
Очень буду рад Вас видеть, но Н<ина> Н<иколаевна Берберова> в деревне, в доме беспорядок и холода (не топят) — поэтому давайте встретимся по-еврейски — в кафэ. В пятницу, 17 числа, в 3 часа дня, я буду в кафэ La Royale, на rue Royale.
Крепко жму руку, Ваш В. Ходасевич
Если в этот час не можете, назначьте другой, но тотчас известите меня пневматичкой.
Укажите, пожалуйста, Ваш постоянный адрес, по которому можно переписываться с Вами и посылать Вам материалы.
14 января 1918 г., С. Маршак — Л. Яффе [1014]
Петроград, 6 Рота, 3, кв. 32
14/I 1918.
Мой дорогой Лев Борисович!
Очень рад был получить весточку от Вас. Давно хотел написать Вам, но очень тяжело было на душе. Недавно умерла моя мать, и я — и до того разбитый и утомленный — еще больше обессилел физически и духовно. Был в Екатеринодаре у родных, потом попытался жить и работать в Петрограде, а теперь решил поехать на 2–3 месяца в санаторию в Финляндию, где мой друг доктор обещает поправить меня. Поеду завтра.
Видел я содержание 1-го сборника «Сафрут». Мне кажется, эти сборники будут иметь большой успех. Что еще собираетесь Вы издавать помимо сборников и антологии? Хотелось бы мне в будущем поработать вместе с Вами в этом издательстве.
Последнее Ваше задание пришлось мне очень по вкусу. «Сфинксы» — прекрасная вещь[1015]. Я тотчас же набросал несколько строф перевода — идет легко. Перевожу я начало анапестом (трехстопным), рифмуя первый стих с третьим, второй с четвертым. Но, милый Лев Борисович, уж очень короткий срок Вы дали мне для перевода стихов. Я получил Ваше письмо 13-го. Вещи нужны к 26-му. Помимо того, что для стихов всегда хорошо иметь побольше времени, чтобы не слишком насиловать себя, когда нет соответствующего настроения — у меня сейчас имеется много другой работы — журнальной и по книжке Блэка[1016], которую я готовлю к печати. Все же я постараюсь подготовить перевод для Вас в возможно кратчайший срок, если только 26-ое не последний срок. Ко всему еще из Финляндии письмо идет дольше: я пришлю его в Петроград и поручу кому-нибудь послать Вам артелью.
Почему нет Ваших стихов в 1-ом сборнике?
«Поцелуй»[1017] я успел перевести и посылаю Вам его (с вариантами). Размер я слегка изменил в переводе. Я пробовал переводить размером подлинника — выходило хуже.
Пожалуйста, милый Лев Борисович, мой старый друг, мой милый поэт, черкните мне как-нибудь в Финляндию — не только о делах, но и о себе, о своей жизни.
Сейчас меня занимает один проект. Доктор, к которому я иду, предлагает основать в Финляндии весной детскую колонию (летнюю) английского типа. Он хотел бы иметь там меня. Я очень люблю детей, знаю их — и был бы счастлив заниматься наряду с писанием этим делом. Будут привлечены идейные люди. Если все хорошо пойдет, доктор думает предложить нескольким педагогическим обществам, в том числе и еврейским, устроить в той же местности свою колонию и работать, помогая друг другу. Местность прекрасная. Не знаю, буду ли я там ближайшим летом, но участие в организации дела приму, а в будущем, может быть, и буду работать там, готовясь к той же деятельности в Палестине.
Жена моя с ребенком и все родные — в Екатеринодаре. К сожалению, им сейчас невозможно приехать сюда.
Передайте мой сердечный привет жене и дочкам. Крепко целую Вас.
Ваш С. Маршак.Не могли бы Вы прислать мне 2 экземпляра сборника «Сафрут» в Финляндию заказной бандеролью и удержать стоимость их из гонорара.
Мой адрес: Финляндия — Suomi, Станция Сайрала, Карельской жел. дор., Санатория Кирву, С. Я. Маршаку.
Если у меня будут поправки к посылаемому сейчас переводу — ведь я успею послать Вам их?
17 января 1918 г., С. Маршак — Л. Яффе [1018]
Выборг, 17 января [1918]
Дорогой Лев Борисович!
Неожиданно для себя самого я так быстро закончил перевод «Сфинксов» — в 2 ночи. Хотелось бы отделать еще некоторые детали, но сейчас нет правильных почтовых сношений между Финляндией и Россией и потому я спешу воспользоваться представившимся мне случаем и посылаю переводы сегодня. Я послал Вам раньше «Сон»[1019]. Этот перевод мало удовлетворяет меня. Но на всякий случай посылаю его Вам в несколько измененном виде. С чистой совестью можете его вовсе не помещать. «Сфинксы» вышли значительно лучше, на мой взгляд.
Милый Лев Борисович, деньги и книги (я просил 2 сборника Сафрут) вышлите по следующему адресу: Петроград, Гороховая 32, Типография Левенштейна, С. М. Мильвидскому. Отсюда еду в санаторию.
Получили ли Вы, голубчик, мое письмо, посланное на днях. Когда будет возможность, напишу Вам еще.
Привет Вашей жене и малюткам.
Ваш С. Маршак.Ст. Сайрала, Карельской ж. д.
Санатория Кирву
Финляндия.
Если в 1-ой строке «Сфинксов» необходимо упоминание слова «белая» (ночь), — хотя это явствует из последующего, — то можно изменить эту строку так:
Это — белая ночь волшебства… Мрамор зданий сияньем облит…[1020]и т. д.
С. М.23 января 1918 г., Л. Яффе — Ф. Сологубу [1021]
Многоуважаемый Федор Кузьмич.
Если перевод стихотворения Каценельсона Вами еще не выслан, очень просил бы его выслать возможно скорее, т<ак> к<ак> сборник заканчивается печатанием и мы сдали уже весь материал.
В ожидании Вашего ответа
Заранее Вам благодарный с истинным уважением Л. Б. Яффе23 марта <1918 г.>. Вл. Ходасевич — Л. Яффе [1022]
Суббота 23 марта
Дорогой Лев Борисович, я Вам пишу, можно сказать, с того берега[1023]. Новая моя служба — каторжная[1024]. Я буду занят сегодня до 4-х ч., но в ч. 5 у меня заседание у Толстого[1025], очень важное. Вечером буду болен. В воскресенье до 4-х ч. я на службе, а вечером читаю в концерте. В понедельник я на службе с 11 до 4 и с 7 до 11 вечера. Итого приду к Вам во вторник, под вечер. Ах, если бы к тому времени была у нас вся корректура, и мы могли бы заняться версткой! Не сердитесь, если все это задержит нас на 2–3 дня. У меня плохо на душе, я устаю и нервничаю. Да что же делать! Большой литер<атурной> работы у меня сейчас нет, мелочами не проживешь. Рус<кие> Вед<омости> — и те меня выгнали, а «Власть Народа», из-за которой выгнали — дрянь, на нее рассчитывать нельзя. Вот и все. Нюра[1026] мне говорила, как Вы приняли близко к сердцу мои маленькие печали. Большое, большое спасибо, — а Нюре досталось за то, что она Вас тревожит. Я не хотел Вам ничего говорить, а ее не предупредил, чтобы она молчала. Присланные стихи еще не смотрел, ибо голова ничего не варит. Пожалуйста, если у Вас есть ч<то>-н<ибудь> сообщить мне, черкните и перешлите с подательницей этого письма. Но денег, которые оставил у Вас для меня Соболь, ей не давайте, ибо она их обязательно потеряет. Когда я вырасту большой-большой, как дом, — я буду устраивать свои дела лучше.
Пожалуйста, выздоравливайте. Соболь говорит, что Вам лучше. Правда это? Обязательно напишите о себе.
Привет Фриде Беньяминовне.
Жму Вашу руку. Владислав ХодасевичP. S. Хуже всего в моей службе то, что я в ней ровно ничем не интересуюсь, а она все время требует умственного напряжения. Ну, представьте, что Вас заставили бы целый день стоять у окна и складывать номера проезжающих извозчиков: 1427 + 3218 + 10508… А извозчиков много, а цифры путаются, а голова думает совсем о другом.
<без даты?>. Вл. Ходасевич — Л. Яффе [1027]
Дорогой Лев Борисович, вчера я видел Балтрушайтиса, он дал мне перевод[1028]:
1) Перец. «Молитва».
2) Бялик. «Ты от меня уходишь».
У нас есть: «Ветка склонилась» Бялика (он дал мне исправл<енный> текст) и «Посвящение». Завтра, в пятницу, он мне даст (я его увижу) еще «Не вопрошай о Боге».
«Мою страну» он перевести не может, завтра вернет оригинал. Он просит (и это необходимо), чтобы я завтра заплатил ему за все, включая и «Не вопрошай о Боге». Я сосчитал, выходит 155 строк. («Не вопрошай», — 35, все уже сданное — 120). Почем мы ему платим — не помню. Кажется, по 75. В этом случае дайте, пожалуйста, моей жене 116 р. 25 к. Это если у Вас есть деньги «Сафрута». Если же нет — то пришлите их мне не позже, как к 6 часам завтрашнего дня.
Жму руку.
Влад. Ходасевич.P. S. Румер переводит хорошо.
21(8) марта 1918 г., Вяч. Иванов — Л. Яффе [1029]
21/8.III.1918.
Многоуважаемый Лев Борисович,
Благодарю Вас за любезную присылку остального гонорара.
Прилагаю расписку в получении 221 рубля сегодняшнего числа. Не имею возможности проверить немедленно Ваш подсчет строк, но, мне кажется, его нужно исправить, потому что Вы, по всей вероятности, сочли 36 (если не ошибаюсь) длинных стихов первого стихотворения «Да будет удел ваш безмолвный…») за 72, потому что я разделил каждый, для удобства чтения, на две строки (колона). Если мое предположение справедливо, я должен Вам, следовательно, 36 руб., за коими и прошу Вас прислать ко мне, если не вздумаете сами меня посетить.
Корректуры жду, излишне говорить, что прочесть ее для меня всячески необходимо. Кстати, о корректурной поправке в первом стихотворении. Я поставил:
И Дáрдо слово, u Халкола.Я думал в ту минуту, что необходимо ударение Дáрдо. Между тем в словах этого типа, по-видимому, классическое (испанское) ударение падает на конец: Дардо. Если так и если есть еще время, то исправьте так:
Вещанья Дардо u Халкола[1030].Это чтение и поэтически привлекательнее.
Прошу у Вас от всей души извинения за промедление в доставке переводов и возникшие отсюда для Вас серьозные неудобства.
С истинным уважением Вяч. ИвановP. S. Сейчас только обратил внимание на путаницу. Мальчик принес в конверте не 221 руб., а 210 рублей, как и сам признает. Мы с ним были затруднены, хотели телефонить в издательство, но № телефона нет. Итак, выдаю расписку в получении только 210 рублей. Значит, буду Вам должен не 36, а 25 рублей, если изложенное предположение мое оправдается; в противном случае Вы мне должны 11 рублей.
В. И.<без даты?> В. К. Иванова — Л. Яффе [1031]
Многоуважаемый Лев Борисович
Вячеслав Иванович очень извиняется, что не может сейчас ничего передать посланному. У него находятся в неотредактированном виде две большие поэмы, которые им переводятся одновременно, но они сейчас в черновиках и не подписаны, так что он, к своему большому сожалению, не может их отдать в данную минуту.
С истинным уважением, Вера Иванова9 мая 1918 г., Вяч. Иванов — Л. Яффе [1032]
9 мая / 26 апреля 1918.
Многоуважаемый Лев Борисович,
Благодарю Вас за присылку последней корректуры, прочесть ее, как видите, было не бесполезно.
Я был бы Вам чрезвычайно признателен, если бы Вы нашли возможным доставить мне несколько отдельных оттисков моих переводов, — хотя бы два, три, — на какой угодно бумаге и, разумеется, не сброшюрованными: хотелось бы иметь под рукой их текст.
С истинным уважением, преданный Вам Вяч. Иванов18 мая 1918 г., Вяч. Иванов — Л. Яффе [1033]
18/5. V. '18
Многоуважаемый Лев Борисович,
Приношу глубокую благодарность за присылку почетных билетов на завтрашнее собрание Сионистской Организации и прошу извинить меня, если мне невозможно будет на нем присутствовать: завтра вечером я должен читать (в Доме Своб<одного> Иск<усства>) большую публичную лекцию (О всенародном искусстве), и потому необходимо в течение дня к ней подготовиться и собрать силы, а я еще к тому со вчерашнего дня немного расхворался.
С истинным уважением,
Вяч. Иванов<без даты?> Вл. Ходасевич — Л. Яффе [1034]
Дорогой Лев Борисович, прилагаемую книгу и письмо умоляю переслать Брюсову вместе с деньгами как можно скорее. Этим Вы мне облегчите весьма неприятную задачу: вернуть Брюсову непереведенного Верхарна. А не перевел я его (и подвел Бр<юсо>ва, как Шервинский меня) — ей Богу, ради Шнеура[1035] и проч. Но это — секрет.
Жму Вашу руку. Владислав Ходасевич.P. S. Звоните, приходите. Что Вяч<еслав> Ив<анов>?
17 марта 1919 г. Л. Яффе — В. Брюсову [1036]
17. III.1919.
Вильна. 1-ая Песчаная, д. 7, кв. 6.
Многоуважаемый Валерий Яковлевич.
Позволю себе обратиться к Вам с нижеследующей просьбой. Издательством «Сафрут», редактором которого я являюсь, предпринято издание избранных статей еврейского писателя Ахад-Гаама[1037]. Книга печатается в Петрограде. Цена книги была утверждена Вами как членом коллегии Книжной Палаты в 18 руб. Теперь мы получили сообщение из Петрограда, что типографские расходы повышены, согласно постановлению комиссариата труда в Петрограде, на 20 %. Нам приходится увеличить цену книги на 2 руб. Это повышение составит чистое повышение типографских расходов. Книга издана не с коммерческими целями.
Обращаюсь лично к Вам, потому что крайне необходимо ускорить утверждение новой цены книги. Каждое замедление в издании книги наносит нам большой ущерб.
Заранее искренно благодарен Вам за исполнение моей просьбы.
Я с семьей живем уже около полугода в Вильне. Попали сюда еще в полосу немецкой оккупации. Мечтали отдохнуть от московской жизни, но здесь теперь стало значительно тяжелее, чем было в Москве ко времени нашего отъезда.
Распорядился, чтобы Вам послали сборник «Сафрут», в котором помещено Ваше стихотворение «Библия»[1038].
Был бы Вам очень благодарен, если бы Вы откликнулись на мое письмо. Буду в Москве, позволю себе посетить Вас.
Низкий поклон Иоганне Матвеевне[1039].
С глубоким уважением преданный Вам Л. Яффе? сентября 1922 г., Вл. Ходасевич — А. Яффе (фрагмент) [1040]
…Все эти годы я вспоминал о Вас куда чаще, чем Вы, вероятно, вспоминали меня. Знаете ли, что Вы — одно из немногих самых светлых моих воспоминаний, когда я думаю о тяжелых временах московской жизни в 1917–1918 гг.? И знаете ли, что Вы навсегда останетесь одним из самых любимых моих людей? И знаете ли, как бесконечно радовала и утешала меня мысль, что наконец-то для Вас осуществилась самая дорогая Ваша мечта и что Вы можете жить в своей Палестине и делать свое заветное, любимое дело?..
Приложение II Фрида Яффе Гершензон и Бялик о судьбах еврейского народа[1041]
От публикатора:
В известном письме к родным Михаил Осипович Гершензон сообщал о встрече с еврейским поэтом Хаимом Нахманом Бяликом и охарактеризовал его более чем восторженно. Для удобства читателя процитирую соответствующие строки:
…Вчера вечером Яффе привез к нам Бялика; была еще только жена Яффе. Они просидели часа три. Итак скажу: много я видел замечательных людей, но такого большого, как Бялик, еще не было за нашим столом. Маруся говорит, что из такого теста могли быть разве Кант или Шекспир. Он так удивительно глубокомысленно умен, и в своем мышлении так существен, конкретен, что по сравнению с ним наше мышление как-то беспочвенно и воздушно. И потому же, конечно, он с вида, по манерам, прост совершенно, точно приказчик. Говорит самым простым тоном, и когда вслушаешься, ты слышишь нарастающую стальную крепость мысли, отчетливость и поэтичность русских слов, а в узеньких глазках — острый ум. <…> По сравнению с ним и Вяч[еслав] Иванов, и Сологуб, и А[ндрей]Белый — дети, легкомысленно играющие в жизнь, в поэзию, в мышление…[1042]
Мне уже доводилось писать об этом знакомстве и о недоуменной реакции гершензоновского окружения на гипертрофированную, как казалось, оценку[1043]. Однако лишь теперь можно судить, о чем говорили в апрельский вечер 1917 г. Гершензон и Бялик.
Подробная запись их беседы была сделана на следующий день упомянутой в письме «женой Яффе» Фридой и хранится в архиве Дома-музея Х. Н. Бялика в Тель-Авиве. Ниже я публикую этот документ, написанный от руки по-русски[1044].
Готовя в 1917 г. в Москве «Еврейскую антологию», Л. Яффе заказал Бялику вступительный исторический очерк об ивритской поэзии[1045], который должен был предварять стихи и дополнять разъяснения редактора по поводу состава сборника. Несмотря на прекрасный русский язык Бялика, что неоспоримо явствует из его эпистолярного наследия, Яффе предлагал ему писать на иврите. Но Бялик, как это часто с ним случалось, не собрался, и книгу украсило лишь предисловие Гершензона.
Имя историка русской культуры М. О. Гершензона отчасти принадлежит и еврейской культуре[1046]. В этой связи вспоминаются не только его сугубо «еврейские» работы, но и размышления на национальную тему в «Переписке из двух углов»[1047]. Позиция Гершензона известна: еврейство движется по оси времени из состояния с максимально детерминированными национальными внешними и внутренними чертами к состоянию полного освобождения от всех этих черт, «по пути к свободе и до свободы»[1048]. Анализируя Библию и еврейскую историю, он приходил к выводу, что «для достижения этой цели религия предлагает два средства: во-первых, держать свое сознание космически открытым, не замыкать его человеческой окружностью; во-вторых, в человеческом круге держать свое сознание социально открытым, не замыкать его личной окружностью»[1049].
Разговор Гершензона с Бяликом, несмотря на общность национальных корней обоих собеседников, иллюстрирует два полярных взгляда на судьбу еврейского народа, которые, в сущности, структурируются почти геометрическим противопоставлением еврейского циклического мышления и луча метаисторической эволюции. Если отвлечься, как это делает Бялик, от Творения и Избавления, как конечных точек исторического развития, вся внутренняя протяженность временного континиума есть вечные уходы евреев от Торы, страдания за отступничество и возвращения, как это наглядно иллюстрирует библейская книга Судей, а позднее — раввинская практика объединения вокруг одной даты нескольких разновременных исторических событий, например, трагических: «Пять бедствий постигли наших предков 17 таммуза и пять — 9 ава»[1050]. Традиция закрепила метаисторическое видение в литургическом календаре, в котором все новые драмы получали архетипальную интерпретацию, теряя неповторимость исторического факта. Гершензон же разрабатывает свой миф, согласно которому еврейский народ последовательно и необратимо проходит ряд стадий на пути к всепоглощающей трансцендентальной духовности. Запись публикуемой беседы показывает, что мысли о судьбах еврейского народа занимали и оформлялись в сознании Гершензона задолго до выхода одноименной работы, и не исключено, что полемика с Бяликом стимулировала их.
Встреча 23 апреля 1917 г. оставила положительный след в памяти всех ее участников. Гершензон изложил свои впечатления в письме. Фрида поспешила поточнее зафиксировать беседу. Лейб Яффе, переехавший в 1920 г. в Палестину, попытался закрепить место Гершензона в еврейском мире анонсом готовящейся к выходу книги «Ключ веры», который появился на страницах иллюстрированного литературного журнала «Ѓе-Хаим», выходившего в 1922 г. в Иерусалиме[1051]. Бялик, живя в Тель-Авиве, хранил письмо одесского знакомца, который 20 февраля 1927 г. с радостью уведомлял поэта о выходе гершензоновых «Писем к брату» и слал соответствующую выписку[1052].
О Гершензоне на иврите почти не писали. Лишь в 1943 г. к 70-летию со дня рождения Бялика (1873–1934) на страницах палестинской «Работницы» была опубликована статья Тамар Дольжанской «Гершензон и Бялик»[1053]. Впрочем, имя еврейского поэта кажется здесь только поводом к раздумью о том, кто владел мыслями автора в молодости. Дольжанская кратко пересказывает биографию Гершензона, цитирует письмо о Бялике и высказанные в печати суждения Гершензона о его поэзии. Однако более всего ее интересуют «муки блудного сына своего народа», который языком метафизики убеждал, как пагубна для творчества и для истории внутренняя национальная ангажированность, и все-таки, как полагает Дольжанская, не смог окончательно от этой национальной ответственности освободиться.
* * *
24 апреля 1917 г. Москва.
Вчера мы провели необыкновенный вечер с Х. Н. Бяликом. Он теперь гостит в Москве. Читал интересный доклад в Политехническом музее[1054]. На днях в одном частном доме ему устроили банкет-вечер. Были представители всего еврейского общества, искусств и науки — среди них Фришман, Ан-ский, Д. С. Шор, Пастернак, вся журналистика и немало представителей «4-го искусства», как их назвал Бялик, «художников наживы»[1055].
Шор играл Баха и Бетховена, Ан-ский произнес чисто сионистскую речь, другие славили Бялика на все лады. Бялик ответил шутливой речью. Когда он говорит, он хорошеет и весь искрится юмором. Его тема была та, что «нехорошо поэту зарабатывать свой хлеб писательством». Писать нужно только изредка и только то, что не дает покоя, а посему «да здравствует четвертое искусство».
Когда мы ночью проезжали мимо Кремля и по пустым улицам Москвы, у булочных и мясных лавок уже стояли «хвосты». В городе неспокойно. В атмосфере чувствуется междоусобная война; на днях удалось кое-как предотвратить ее, благодаря соглашению между министрами временного правительства и Советами. И в такое тревожное время особенно хочется зафиксировать спокойный философский разговор двух мыслителей. Жаль, что я не могла стенографировать.
Бялик пришел к нам часов в 6, сидел до ужина, а после ужина мы повели его к Михаилу Осиповичу Гершензону. Они оба одесситы[1056], но познакомились только вчера и здесь, в Москве. Разговор недолго держался на войне, революции и других современных темах, их обоих больше интересовали судьбы еврейского народа, от которого так отдалился Гершензон, хотя и страдал из-за своего еврейства. Кафедру по русской словесности в ту пору он не мог получить.
Бялик: Евреи уже не раз завершили свой исторический путь по окружности: исход и возвращение в Палестину. Первый раз это было в доисторические времена: Авраам вернулся в землю Канаанейскую, которая когда-то уже принадлежала его племени[1057]. Еврейский народ созревал на своей родине, как плод на дереве, а когда он наливался и падал, тогда он падал «по ту сторону забора»[1058], в чужой сад, уходил в чужие земли. Этой чужбине он дарил свою культуру и свои идеи — в первом случае монотеизм. А когда плод был съеден, зерна снова попали в почву палестинскую и снова дали ростки. За вторым изгнанием последовало второе возвращение — Исход из Египта при Моисее и дарование Пятикнижия и 10 заповедей. Наконец, Вавилонское пленение, третье возвращение; его плод — христианство.
Теперь в изгнании евреи исчерпывают себя до дна. Следующее возвращение в Палестину принесет и новое мессианство. Нас не устрашит и новое очередное изгнание. В этом судьба, «миф» еврейского народа: оплодотворение чужих народов идеями, теми соками, которыми еврейский народ был напоен у себя на родине[1059].
В сущности, это участь не одного еврейского народа, таковы были и другие древние носители культуры, таковы теперь англичане, например. Как паук сидит в центре своей паутины, так и метрополия распространяет свое влияние на периферию чужих, завоеванных ее мечом или духом стран. Символика изгнания и родины, оседлости и скитальчества идет через все еврейские обычаи и письменность: «Каин и Авель»[1060], обычаи «шатнес»[1061], праздник Пасхи — который символизирует начало посева и «исход» из Египта, праздник «шовуот» — жатва для оседлых и стрижка овец для кочевых etc. etc.
На это Гершензон ответил своим «мифом» еврейского народа:
Еврейство веками отрывается от почвенного существования, от территории, языка своей культуры. Такова воля Божья. Он хочет, чтобы мы делались все более нищими, странниками, «оголенными» от всяких национальных ценностей. Сионизм как творчество на своей земле и на своем языке — «грех», сопротивление злу (по Толстому), а изгнание из Испании, погромы здесь, все гонения и наветы — заветное желание Его. К чему все мы идем? К полному абстрагированию себя от всего национального. Зачем? Мы не знаем положительных путей Божьих, мы только констатируем ход истории, мы фаталисты.
Заговорили о языке, logos и dowar — о слове и вещи, которые на еврейском языке имеют одно и то же наименование[1062]. Еврейство — по Бялику — сохранило язык и учение на нем — в этом есть единство. Гершензон же находит, что единство наше не положительного, а отрицательного свойства; доказательством этого служит антисемитизм. Антисемиты не в состоянии проникнуться нашей чуждой им психологией. Единственное позитивное, что у нас осталось, это не земля, не язык — это только чувство единения и отчужденности от других народов.
Бялик: דבר — Довар — вещь, как и слово, имеет духовное значение; вещь — частичка нашей души. По еврейскому обычаю достаточно взглянуть на вещь (находку), чтобы она стала моей[1063]. Не видав вещи, я был иной, увидев ее — обладая ею — я стал опять иным. Это фетишизм, обоготворение вещи, собственности. На этом впервые сошлись Бялик и Гершензон — на мистическом отношении к вещи. Меня это удивило: Гершензон, который не исключает дуализма: холодный «светлый» рационализм и теплый «темный» мистицизм. Бялика и Гершензона сближает последнее; это их собственные слова: «мы любим женщину за то темное, что в ней».
Жизнь — продукт не доброй, свободной воли, а случайности. Только в творчестве языка можно создавать новое. Большая сладость в создании новых слов и оборотов на еще свежем, не испорченном и не затасканном литературными шаблонами языке. Но даже и это творчество случайно. Человек не должен работать «идейно», т. е. с натяжкой, а должен работать для самого процесса работы, как Бог на душу положит, — в этом будет воля Божья. Таков труд крестьянина и поэта. Как угадать волю Божью? Помогать Богу в его строительстве мира, говорит Бялик. Гершензон ставит чисто мефистофельский вопрос: кто кого перехитрит: Бог человека или человек Бога? Человек узнал, что Бог хочет продолжения рода человеческого — и человек сознательно забастовал (Шопенгауэр, мальтузианство).
В вопросе о науке Бялик снова сходится с Гершензоном. Наука должна быть одухотворена религией. Наука требует аскетической жизни, преданности и служения ей. Даже социализм не удовлетворяется голой экономикой, и социалистам нужна религия. Не потому ли они так часто обращают свои взоры к Христу?
Когда Бялик говорит свое, он очень скромен, целомудрен. Гораздо смелее он, когда дело идет об исторических фактах, научных данных. Даже в последнем Гершензон прислушивается к его мнению, как если бы сам он не был глубоким ученым, историком. Впрочем, для него философия — процесс; для Бялика — любительская забава, пильпулистика[1064], чистая интуиция поэта. Когда мы поднялись, чтобы вернуться к себе домой, у меня было чувство, что я присутствовала на уроке некнижной мудрости (תורה שבעל פה Tora shel baal-pe)[1065].
Я никогда не видела своего учителя словесности, историка «Грибоедовской Москвы»[1066], в таком восторженном настроении. Он сказал нам потихоньку, что счастлив был узнать ближе Бялика и считает его гениальным человеком[1067].
Когда мы прощались в садике на Николо-Песковском[1068] переулке, в воздухе чувствовалась весна, на деревьях и кустах набухали почки. Мы проводили Бялика до Арбата, усадили его на извозчика и попрощались с ним. Он на днях покидает Москву. Что ждет нас всех? Скитание, исход или, быть может, возвращение на нашу настоящую родину?
Фрида ЯффеПриложение III Письма Лейба и Фриды Яффе М. О. Гершензону
16 сентября 1918 года семья Яффе навсегда покинула Москву. Они ехали в товарном поезде, где все пассажиры были возвращавшимися на родину уроженцами Литвы. Попутчиком Яффе был еврейский этнограф и литератор С. Ан-ский, знакомый им по Москве и особенно сблизившийся с ними в Вильне.
С отъездом семьи Яффе сначала в Литву, а затем в Палестину (прибыли в Яффу 2 января 1920 г.) связь с Гершензонами не прервалась. Об этом свидетельствуют письма Лейба Яффе Гершензону, опубликованные Брайаном Горовицем[1069], и письмо Фриды Яффе Гершензону от 8 февраля 1922 года, опубликованное Владимиром Хазаном[1070], а также упоминаемые ими письма адресата. Напомню, что М. О. Гершензон умер 19 февраля 1925 года.
27 сентября 1918 г., Л. Яффе — М. Гершензону
27. IX.1918[1071].
Дорогой Михаил Осипович.
Шлю Вам сердечный привет из моего родного города[1072]. Добрались сюда после восьми суток езды. До Двинска ехали эшелоном, а от Двинска скорым поездом. По приезде все простудились и до сих пор не можем оправиться как следует. Присматриваемся к окружающей жизни, такой необычной и непохожей на ту жизнь, которую мы недавно видели вокруг себя. На днях едем в Вильну и тогда решится вопрос, где будем жить, в Гродне или Вильне. Буду Вам очень благодарен, если черкнете нам несколько слов о себе, о Вашей жизни. Сердечный привет Марье Борисовне и детям.
Фрида Вениаминовна и детки кланяются.
Будьте здоровы, жму сердечно руку. Ваш Л. Яффе.15 января 1919 г., Л. Яффе — М. Гершензону
15. I.1919.
Дорогой Михаил Осипович.
Около четырех месяцев не имею известий из Москвы. Писал туда много раз, но не знаю, получились ли мои письма. Тревожимся за всех вас. В известиях, которые иногда прорывались к нам, мало было радостного.
Мы уже около трех месяцев в Вильне. Мечтал об отдыхе после Москвы, но больше одной, двух недель он не продолжался. Пришлось войти в общественную жизнь. Здесь она тяжелее, чем в Москве. За время оккупации все обеднело, притупилось. Не было интеллигент<ских> сил. Сказался гнет трех мучительных лет. Еврейство Литвы придавлено и измучено. Пришлось мне взять на себя редактирование ежедневной газеты на разговорно-евр<ейском> языке.
В одном отношении было несравнимо легче, чем в Москве. Не голодали и не мерзли. Теперь, кажется, будем уравнимы с Вами и в этом отношении.
Фрида Вениаминовна занималась хозяйством, детьми и каждую свободную минуту Фаустом, Тургеневым и др. работами, кот<орые> она взяла на себя.
Теперь наступили новые времена. Как это преломится на литовском еврействе, скоро увидим[1073].
Напишите нам, дорогой Михаил Осипович. Как Вы живете, работаете? Сыты ли, тепло ли Вам, хотя бы относительно. Это теперь главный вопрос. Как поживает Марья Борисовна, дети.
Ждем с нетерпением и будем рады каждому слову.
Горячий привет Вам, душевно преданный Вам Л. Яффе.Вильна
1-ая Песчаная д. 7, кв. 6.
6 января 1921 г., Л. Яффе — М. Гершензону
6. I.1921
Дорогой Михаил Осипович.
Пытаюсь писать Вам, может быть, письмо дойдет к Вам. Часто думаем о Вас и Марье Борисовне. Хотели бы знать, что с Вами, с Вашей семьей. Если получу от Вас отклик, напишу подробнее. Мы живем в Иерусалиме, уже год в Палестине, здоровы и довольны. Если для Вас не трудно, узнайте, что с матерью моей жены, Анной Моисеевной Зельдович, и с ее семьей. Они жили на Нижней Кисловке, д. 5, кв. 11.
Моя жена кланяется.
С любовью вспоминаем Вас,
Напишите.
Ваш Л. ЯффеАдрес мой:
Jerusalem (Palestine) «Haaretz».
Писать можно через Еврейский комиссариат или, кажется, прямо по почте.
3 июля 1921 г., Л. Яффе — М. Гершензону
3. VII. 1921
Дорогой Михаил Осипович.
Несколько месяцев т<ому> н<азад> писал Вам, но не получил ответа. Весьма возможно, что письмо мое не дошло к Вам. Пытаюсь еще раз послать Вам привет. Хочу очень знать, как живете Вы, Марья Борисовна и дети. Мы же свыше полутора лет в Иерусалиме. Жизнь нелегка, но мы довольны.
Если откликнитесь, напишу подробнее.
Фрида Вениаминовна кланяется Вам и Марье Борисовне. Будьте здоровы. Где Вячеслав Иванович? Низкий поклон ему. Здесь у подошвы Масличной горы, у древней стены Иерусалима, мимо которой ежедневно прохожу, часто читаю русские стихи и по-прежнему люблю их.
Жму сердечно Вашу руку. Очень кланяюсь Марье Борисовне.
Не могу Вам сказать, как буду рад вести от Вас.
Преданный Вам Л. ЯффеАдрес мой: L. Jaffe, Jerusalem (Palestine) «Haaretz».
8 января 1922 г., Л. Яффе — М. Гершензону
8.1.1922
Дорогой Михаил Осипович.
Писал Вам, но не получил ответа. Передавали мне только устные поклоны от Вас. Часто думаю о Вас, очень хотел бы знать, что у Вас, как живете, как Ваше здоровье, как Марья Борисовна и дети, какими работами Вы заняты.
Читал где-то, что вышла Ваша книжка — переписка с Вячеславом Ивановичем. Был бы очень благодарен Вам, если б Вы нашли возможность послать ее мне. Кажется, можно послать по почте. Мы здоровы. Работаем тяжело. Много забот личных и общественных. Недавно провел несколько месяцев в Европе. Заехал в Гродно — повидаться со старушкой матерью — и в Вильну. Был по делу в Германии и Англии. Жизнь там легче и привольнее, но не променял бы на нее все наши тревоги и заботы.
Если откликнитесь, напишу подробнее. Где теперь Вячеслав Иванович[1074]?
Хотел бы заглянуть в Вашу тихую келью, видеть Вас за работой. До сих пор с отрадным чувством вспоминаю о моих посещениях у Вас, о часах, проведенных в В<ашем> доме. Горячий привет Марье Борисовне от меня и Фриды Вениаминовны. Мы оба теперь читаем Герцена в новом издании. Стараемся не прервать связи с русской литературой. Обнимаю Вас.
Любящий Вас Л. ЯффеАдрес мой: «Haaretz», Jerusalem. Мне.
8 февраля 1922 г., Фрида Яффе — М. О. Гершензону
8. II.1922
Дорогой Михаил Осипович, на днях мы получили Ваше письмо и книжку[1075] и очень обрадовались Вашему первому привету после такого долгого перерыва. Лев Борисович собирается ответить Вам на все вопросы о нас и нашей жизни здесь, а я пока хочу только написать Вам, т. к. вся нахожусь под впечатлением Вашей книги, о том, как и почему она меня так сильно взволновала.
Последние полгода, больше чем когда бы то ни было, я болею этими вопросами. Я живу, делаю свои обычные хозяйственные дела, занимаюсь «материнством» — это занятие, правда, пассивное, не требующее от меня волевого напряжения и сознательного творчества, но все же берущее целиком мое время; я вожусь с людьми и как будто участвую в их жизни, а внутри меня идет непрерывная тяжелая работа, со всем внешним ничего общего не имеющая или имеющая постольку, поскольку отвечает мне самой на мои вопросы. Я недавно перечла почти всего Толстого и о нем биографию П. Бирюкова, я присматриваюсь к жизни молодежи так назыв<аемых> «халуцов»[1076], уже опростившихся, и наконец, я сама тяжело и много работала физически, и вся жизнь для меня начала представлять интерес только с точки зрения культуры — ее признания, отрицания или согласования с чем-то иным, что есть, но что мне еще не ясно. Люди здесь, в Палестине, жалуются на отсутствие культурной жизни, а я нахожу, что ее еще слишком много. С другой стороны, мне слишком знакомо то отупение внутреннее и огрубление внешнее, которое находит на человека, когда он после работы спит, а после сна работает — и больше ничего.
Знаю, что тут не вопрос о смысле жизни вообще, т. к. всякий человек, кот<орый> в свое юно-критическое время не покончил <с> собой, решил этот вопрос положительно. Еще меньше это вопрос выбора деятельности, иной страны и условий, где легче было бы жить соответственно каким-нибудь догматам, будь это толстовство, напр., или что-нибудь другое. Чего и кого только здесь нет и каких только экспериментов люди не проделывают над собой и своими детьми: начиная с коммуны и кончая монастырями. А тем более, если взять на себя роль штопальщицы культурных риз или, как здесь говорят, «работу по национальному строительству».
Но жить по-Божьи — это не значит жить так, как все мы живем, а как-то иначе? Как? И почему мы детям нашим готовим ту же бессмысленную жизнь? Разве в надежде, что они недорастут или перерастут нас? Я очень извиняюсь, дорогой Михаил Осипович, что заставила Вас читать о себе вещи, кот<орые>, может быть, Вас вовсе не интересуют. Но в этом вина Вашей волнующей книжечки и, может быть, еще то, что у меня есть надежда получить от Вас пару слов в ответ. Марье Борисовне мой сердечный привет и поцелуй, также детям.
Уважающая и преданная Вам,
Фрида Яффе6 мая 1922 г., Лейб Яффе — М. О. Гершензону
6 мая 1922 г.
Дорогой Михаил Осипович.
Большой радостью было для нас Ваше письмо. Мне стыдно, что я не ответил немедленно же. Много и часто думал о Вас, но было так много работы и забот в последнее время, что не мог засесть за письмо. Ограничиться несколькими словами не хотел. Через несколько дней после получения письма пришла Ваша книжка. С большим интересом читали ее. Искали в ней Ваши мысли и переживания. Она была для нас также просветом в непроницаемой стене, отделявшей нас до недавнего времени от России. В последнее время стали доходить к нам книги из России, получили даже на днях подарок — «Anno Domini» Ахматовой. Появляются в Берлине издания, рассказывающие о России без политических тенденций. Особенно интересна была для нас статья Андрея Белого «О культуре в России», появившаяся в «Новой русской книге» библиографического журнала Ященко.
О нашей жизни не расскажешь в письме. Год пробыли в Вильне. Были тяжелые времена. Во время занятия Вильны поляками и жестокого польского погрома вытащили меня с двумя товарищами из дому, обвинили в стрельбе из окна, одного из нас, писателя Вайтера[1077], тут же расстреляли. Нас спасла случайность. Затем нас увели в Лиду, там ждали 6 дней расстрела. Не было надежды на спасение. Спасло нас чудо. Самое ужасное было то, что дети видели погром, видели, как меня вытащили из дому[1078]. Только здесь они освободились от страха и нервной дрожи при виде солдата.
В Палестине мы уже два года и четыре месяца. Живем в Иерусалиме. Жизнь наша здесь была нелегкая. Условия жизни чуждые, непривычные, нелегко сразу акклиматизироваться во многих отношениях. Многие силы, которые должны уходить на цветение, уходят на мучительное врастание в почву. Чувствуется несоответствие между тем, что следует творить, и между тем, что мы в силах сделать. По тем уголкам, которые здесь создали, видно, каким культурным и цветущим уголком можно сделать Палестину, если б были силы и средства. На каждом шагу чувствуем разрушение и обнищание восточноевропейского еврейства.
Здесь — если б меня просили одним словом определить, как нам живется, — тяжело и светло. Недавно я объехал целый ряд стран и с большой ясностью увидел, что самые мучительные дни здесь не променяю на блеск и радость других стран. Я редактирую евр<ейскую> газету. Условия работы и заработка трудные. Дети выросли, есть у меня хороший мальчонка одного года и четырех месяцев. Девочки учатся, говорят по-еврейски. Им здесь хорошо, как нигде.
Что у Вас, дорогой Михаил Осипович, расскажите подробнее о Вашей жизни, работе. Как себя чувствует Марья Борисовна, дети. Писал в Лондон, чтобы через америк<анский> к<омитет> Вам прислали посылку.
На днях пошлем Вам и отсюда. Надеюсь, дойдут к Вам. Бялик в Берлине, занимается большими издательскими делами. На днях печатал его перевод Вильгельма Телля.
Сердечно кланяется Вам Фрида Вениаминовна. Привет от нас обоих Марье Борисовне и детям.
Обнимаю Вас,
Ваш Л. ЯффеL. Jaffe. Jerusalem «Haaretz».
23 сентября 1922 г., Лейб Яффе — М. О. Гершензону
23.9.1922
Привет из Иерихона. Оторвался на день от работы. Купался в Мертвом море, катался в лодке по Иордану, были у открытых руин древнего Иерихона, у источника Элиши.
Жму руку Вам и Марье Борисовне.
Привет от доктора Вейсмана[1079].
Ваш Л. Яффе
10 ноября 1922 г., Лейб Яффе — М. О. Гершензону
10.11.1922
Дорогой Михаил Осипович.
Дошло ли до Вас мое предыдущее письмо, откликнулись ли Вы? Сюда аккуратно доходят письма из Москвы. Напишите. Отправил Вам небольшую посылочку. Если получится, пошлю еще одну. Как живете, как себя чувствуете. Как Марья Борисовна и дети. Моя жена сердечно кланяется Вам, сидит теперь над биографией Толстого — Бирюкова.
Не можете ли сообщить мне адрес Анны Ахматовой[1080]. Мы доныне внимательно следим за русской литературой, поскольку она нам доступна. Жму сердечно руку.
Преданный Вам Л. ЯффеАдрес: Newspaper «Haaretz», Jerusalem. L. Jaffe.
Дополнение I «Еврейская антология»: Содержание
Дополнение II Избранные стихотворения Лейба Яффе
Как уже отмечалось в предисловии, Лейб Яффе был не только общественным деятелем, но и поэтом, переводчиком, культуртрегером, популяризатором ивритской поэзии на русском языке. Яффе владел ивритом, но его поэтическое дарование сформировалось русской поэзией, преимущественно поэзией «золотого века». Как поэт, наиболее полно он выразил себя на русском языке, пеняя себе за то, что противоречит собственным убеждениям, согласно которым единственно правильным языком для сиониста является иврит.
Фрида Яффе подробно описала в романе впечатления от поездок с мужем по Стране Израиля (Палестине, как говорили тогда), а Лейб Яффе написал о том же стихами. Эти прочувствованные стихи дороги нам тем, что, как старые открытки, запечатлели картины освоения страны в начале XX века. В них — пафос национального возрождения, гордый памятью о прошлом еврейского народа, и неподдельная радость от первых успехов. Почти все они взяты из сборника «Огни на высотах», изданного в 1938 году в Риге и давно ставшего библиографической редкостью. Оттуда же взято маленькое предисловие, рассказывающее о значении этих стихов в пору их написания.
* * *
Стихи, входящие в этот сборник, взяты из разных периодических изданий, выходивших в России. Читатель найдет в них отражение нескольких десятилетий борьбы за еврейское возрождение.
Лев Борисович Яффе является одним из поэтов — предвестников еврейского ренессанса. Вместо романтически-пассивного томления средневековых сионид — бунт против гетто и призыв к активности, к самоосвобождению. Подобно своему старшему современнику Фругу, Яффе будит «жажду к свободе и ненависть к доле раба». Он предостерегает блуждающее поколение от бесплодных чужих освободительных миражей. Он гордо и мужественно зовет молодежь разорвать заржавевшие цепи изгнания, цепи закованного Мессии. <…>
Яффе, поэт весны еврейского возрождения, один из первых будит народ к новой действительности. Эта действительность — Сион, мать земля, Еврейская отчизна. Народ не только потерял свою историческую родину: после тысячелетий изгнания в его душе атрофировалось вообще чувство собственной родины. Вот почему поэт твердит беспрестанно беспочвенному народу:
Волшебней, святее не знаю я слова: Отчизна, отчизна, отчизна.В стихах, полных нежной грусти и светлой веры, изображает он мистерию возрождения Сиона. Аромат полей, взрыхленные борозды, благословение земли — вот его стихия. Сион нужно освободить не только от чужого ига, но и от еврейских слез и бесплодных мечтаний. Вместо «обломков минувшего» и «безмолвия мрачных могил», он воспевает «радостный расцвет» восставшей из праха родины.
Песни Яффе в свое время стали достоянием еврейской интеллигенции. Трудящиеся массы и молодежь читали и пели его стихи.
Большая часть еврейской интеллигенции говорили и думали по-русски, и поэт творил преимущественно на русском языке. На этот язык он первый перевел стихи Бялика и избранные стихотворения других поэтов. Поэт глубоко сознавал трагедию немого, безъязычного народа, который осужден «расточать свои силы и страсти» на чужих языках. Этому чувству «муки слова» и безъязычия он неоднократно давал выражение в его стихах на идише и на библейском языке.
Яффе не только мечтал и творил; он умел также осуществлять свои мечтания. В деле строительства еврейского народа в Палестине Яффе принял живое и активное участие. Это, быть может, наиболее жертвенная поэма, которую он посвятил своему народу в эпоху его героической борбы за светлое будущее.
Из предисловия к сборнику «Огни на высотах» (Рига, 1938)
Предтечи
Несмелые робкие речи, Созвучья нестройных стихов… Мы — слабые только предтечи Иных, вдохновенных певцов. Придут они!.. Гимн наш заветный Споют они лучше, чем мы, Запевшие в час предрассветный, В тисках непогоды и тьмы… Мы пели во дни бездорожья, Была наша песня слаба, Но искра горела в ней Божья И ненависть к доле раба. И каждым мы чуяли нервом Рождение новых времен, Лучом их забрезжившим первым Был каждый наш стих озарен… Но тучи, как прежде, нависли, И слабо всходил наш посев, И глохли порывы и мысли, И робко звучал наш напев. Свободной мы жаждали жизни, Но пели в неволе, в цепях, По древней томились отчизне И плакали в чуждых краях. Язык мы любили, взращённый Свободой и славой былой, Но новые песни Сиона В язык облекали чужой… И душу печаль раздвоила, И крылья подрезали нам, Но песнь наша путь проложила Великим и новым певцам. Не зная скорбей и бессилья Нам душу окутавшей мглы, Свободные, лёгкие крылья Они развернут, как орлы. В них новые силы, что в нас только тлели, Прорвутся, как горный поток; Рассвет, нам забрезживший еле, Победно зальет им Восток. Их гимн, красотой вдохновленный И чуждый слезам и тоске, В стране зазвучит возрождённой На нашем родном языке. Взращённый свободой, прекрасный, Вольётся, как праздничный звон, Он в благовест светлый, согласный, Счастливых и братских племён.«Старый дед мне с Востока подарок привёз…»
Старый дед мне с Востока подарок привёз — Обожжённый запыленный камень, Обмывали его реки крови и слёз, Без конца обжигал его пламень. Но навек устоял под ударом меча, Под напорами бешеных схваток Этот тёмный, сожжённый кусок кирпича, Осквернённого Храма остаток. Вновь в душе, как привет из родимой страны, Воскресил он былое преданье: Кто на память от Западной древней стены Унесёт с собой камень в изгнанье, — Уж не сможет навек успокоиться тот, Бесконечной тоской поражённый, До поры, пока камень он сам отнесёт В край родимый, к стене опалённой… Оттого наболевшее сердце полно Всюду болью гнетущей, безумной, Оттого так к отчизне стремится оно Из чужбины далёкой и шумной. Оттого неспокойное сердце всегда Пожирает томления пламень До поры, пока сам отнесу я туда, К незабвенным руинам, мой камень…У берегов Корфу (Из путевых заметок)
Мы на судно вернулись поздно, Гремели гулко якоря, И море рокотало грозно, И зажигалася заря. Вдруг к нам навстречу волны звуков, Колебля воздух, донеслись — Средь грязных ящиков и тюков Толпой евреи собрались. На них субботние наряды, Их Храм на палубе в огнях, И луч покоя и отрады Играет в выцветших чертах. Вспугнув страданье и заботу, Под грозный гул морских валов Скитальцы радостно субботу Встречали пением псалмов. В простор задумчивый и ясный Над морем песня их плыла, Гремел в пространство хор согласный: Лехо дойди ликрас кала! Мы плыли дальше. Было поздно, Ревел тревожный моря вал, И зажигался полог звёздный, И звёзды в бездну он ронял. Отвесно падал берег в море, Бледнел далёкий огонёк, Зажёгся Млечный путь в просторе, Мы плыли дальше на Восток… Сгорали свечи беспокойно, Дрожала вспугнутая мгла… В душе напев тянулся стройно: Лехо дойди ликрас кала!У родных берегов
Мы плыли к Востоку… Прекрасный и юный Рассвет выплывал из пучины морской, И с первым лучом загоревшимся дюны Блеснули янтарной своей желтизной. И с первым лучом из завесы тумана, Из бездны, открывшей пучины свои, Таинственно вынырнул город нежданно, Нежданно прорвалось сиянье струи… На палубе все мы стояли в молчанье, Над нами лучистые реяли сны, Как будто вплывали мы в царство сиянья, И вечных лучей, и нетленной весны… И день перед нами вставал величавый, Весь в блеске невиданно-ярких одежд… Привет тебе, край нашей жизни и славы, Минувшего счастья и новых надежд!..По дороге в Газу
Вдали зажигался костёр… Дорога вела наша в Газу. Гряда потухающих гор С холма открывалася сразу. В багровом сиянье простор — Приблизилось время к намазу… Заря угасала, как храм, Когда в нем обряд совершили, Во след догоравшим лучам Шакалы пронзительно выли… Когда-то по этим степям Самсон направлялся к Далиле… Средь белой сыпучей земли Порою темнеют деревья; Причудливый кактус в пыли: Ограда жилья иль кочевья; Взволнованно море вдали Рокочет и ропщет во гневе. Верблюды, погонщик в чалме Во мгле промелькнут, как химеры; Недвижно зияют во тьме Руины, гробницы, пещеры… Блеснул огонёк на холме — Поля и жилища Гедеры. Моленья вечернего час, Дымится земля в фимиаме… Закат догорел и погас, Роса заструилась слезами — Земля совершила намаз В безмолвно-таинственном храме…На родине
Всю ночь грохотал несмолкаемо гром, И падали молний зигзаги; Над степью, спалённую знойным лучом, Повеяло свежестью влаги. И всюду остались следы на заре Грозы пробежавшей, недавней; Перистое облако всё в серебре Горит над руинами Явне. И, ярко горя на траве, на ветвях, Трепещут росинки, как слёзы, Сквозные и влажные, нежась в лучах, Жемчужины сыплют мимозы… Зиждительный трепет весны молодой Везде пробежал по деревьям; Как столп фимиама, дымок голубой Встаёт над арабским кочевьем. Без устали долго один я бреду Цветами засыпанным лугом… Вот пахарь проводит свою борозду. Он молча шагает за плугом. Всё сонно и тихо. Ни звука в дали, В тиши просветлённой и алой, Лишь слышатся вздохи взрыхлённой земли, И лязг беспощадный металла, Когда разрезается им целина И рвутся цветы им и злаки — Плуг водит по тёмной земле письмена, Таинственно-странные знаки… Как горный орёл, вдохновенно-сильна, Душа воспарила к высотам, — Я долго на эти гляжу письмена, Родным орошённые потом… Несут они весть о грядущей поре, Как вещее слово пророка, О новой, занявшейся пышно заре На небе потухшем Востока…«На далёком минарете…»
На далёком минарете Спел молитву муэдзин, Звуки тают в полусвете, В синих сумерках долин… Луч зари трепещет слабый, Вот он вспыхнул и погас… У шатров молясь, арабы Совершают свой намаз. В эту ночь, в канун Бейрама, Близок сердцу их Аллах. Над землёй, как купол храма, Небо искрится в огнях…У ключа
В дымке прозрачной тумана Блещет струя Иордана, Горы дымятся Моаба, Искрится Мёртвое море, Тихо в безлюдном просторе, Изредка встретишь араба… Путь мой в Бетанию долог… Неба раскинулся полог, Знойный, прозрачный, бездонный… Горная вьётся тропинка, Сходит по ней бедуинка; Ключ под горою студёный. Тихо идет по безлюдью С гордой высокою грудью; Строен и трепетно гибок Стан иудейской газели. Блещут на кудрях, на теле Волны дрожащих улыбок… На голове её джара; Нежная смуглость загара Дышит весной пробуждённой… Воздух застыл, не колебля В поле ни травки, ни стебля, Будто он ждёт затаённо… Льётся хрустальная влага, Вьётся по камням оврага, Звонкие падают капли… Вдруг — голоса в отдаленье, Чье-то гортанное пенье… Едут… Кто там? Не араб ли? Края далёкого люди Мчится один на верблюде, Девушка смотрит без страха… Близко подъехал к ней воин… Громко воды ключевой он Просит во имя Аллаха. Вижу с приветом, от века Близким Востоку, Ревекка Воду подносит в кушине. Щедро поит её джара Влагою Элеазара — Гостя далёкой пустыниПраздник Маккавеев в Реховоте (В октябрьские дни 1905 г.)
Мы украсили пальмами белые залы, Мы портрет увенчали Вождя. Луч зари угасал, просветлённый и алый, Как прощальный привет, уходя. Гулко колокол грянул, и радостным звоном Он сзывает на праздник селян. Опускается ночь над селеньем бессонным, Горы скрыл, как завеса, туман. Там, вдали, у подножия гор Иудейских Древний Гезер в загадочной тьме, Дальше дремлют остатки могил Маккавейских, Спит веками Модин на холме. Мы на праздник сошлись. В память дней Маккавеев Ярко вспыхнув, зажглись огоньки, Но они, тени жуткие ночи развеяв, Не развеяли в сердце тоски. Грустен праздник наш был. В тусклых звуках веселья Дрогнул стон зарыдавшей струны. Неотступно мерещился мрак подземелья Незабытой далёкой страны. Нам мерещился север угрюмый и снежный, Ширь равнин в ледяных кандалах, Нам мерещился ужас холодный, безбрежный, Затаившийся в тёмных углах. Там глумится над Богом, над братской любовью Обезумевший зверь-человек, Нам мерещился детской горячею кровью Обагрённый, забрызганный снег. Там борцов-Маккавеев пигмеи-потомки Умирают скорбя, как рабы. Тут их жизни и славы забытой обломки, Скорбный памятник древней борьбы…Гроза
Всю ночь гудели вади И молнии во мгле, Как огненные пряди, Метались по земле. И скованные громы Взрывали кандалы… Вдали катили громы С трепещущей скалы Тяжелые громады Грохочущих лавин, И содрогались гряды Встревоженных вершин Огонь стрелы свергался, Вонзаясь в ночь долин, И дольний мир рождался Из дрогнувших глубин, И разверзались бездны Под грозовой напев… Но миг — и мрак беззвездный Закроет жадный зев… Всю ночь, немолчно вторя Разгневанным громам, Тревожный грохот моря Катился к берегам. И набегал упорно До напряжённых скал, И хаос бездны чёрной Метался и роптал. Пусть вьются стрелы молний, Справляя яркий пир! Бушуй, гроза, исполни Смятеньем диким мир. В порывах грозных гнева Грядущий день готовь, Для нового посева Огнём взрыхляя новь!.У развалин Бетара
Ф. Я.
В цветах, в садах оранжевых равнина Потоком солнечным слепит глаза, Вся в золоте Саронская долина И в брызгах солнца моря бирюза… Руины — дней забытых мавзолеи, Как бледный след полуистёртых рун… Пред нами голубеют горы Иудеи, За нами россыпь золотая дюн… - Горя в лучах чешуйчатым драконом, Играя кольцами, дыша огнём, Несётся поезд наш по горным склонам, Над пропастью, над высохшим руслом! Он рвётся вдаль в ущельях иудейских, Железный путь в священный прах вонзив… Тревожит тишину высот библейских Насмешливым свистком локомотив… Дымятся в зное горные теснины, Волною раскалённой льётся жар… Стоянка близко… На холме руины… Все к окнам бросились… Бетар… Стоим без слов и стихло всё в вагоне… Остановилось сердце в муке той, Что не прорвётся в жалобе и стоне, Не выльется целительной слезой. Руин тысячелетних пыль и глыбы — Убежища шакалов и лисиц… И тени скорбные Бар-Кохбы и Акибы Витают средь развалин и гробниц… В безмолвьи вещем я услышать мог бы Оружья звон — идут на смерть войска За родину и честь — и зов Бар-Кохбы, Идущий к нам чрез дальние века.На Масличной горе
Город остался за нами… День, утомлённый лучами, Дремлет в стихающем гуле, Едем на осликах сонных Мимо толпы прокажённых… Сад Гефсиманский минули. Как безнадёжно-печален Путь средь гробниц и развалин! Ослик о камни споткнулся… Отдых у башенки древней, Возле убогой деревни… Я на горе… оглянулся… Будто нежданное чудо, Город волшебный оттуда Выплыл, как остров из пены, Созданный силою чары… Искрятся храмы, базары, Города башни и стены. В яркой игре перламутра Сон лучезарный, как утро, Не отличаешь от были… ……………………… В солнце, расплавленном, ярком Вьются гирлянды по аркам, Улицы ветви покрыли… Город — шатер благовонный, Праздник сегодня зелёный, Праздник весенних предвестий, Праздник расцвета в природе, Праздник в свободном народе, Праздник их, сросшихся вместе. Радостный гул над полями, Зеленью свежей, цветами Девушек кудри увиты. С песней идут поселяне, Девушек стройных, как лани, Песней встречают левиты… Город встревожен, как улей, В праздничном, солнечном гуле, Белый, сверкающий, дымный… Рвутся победно из Храма В синих струях фимиама Жизни и радости гимны… ……………………… Верится сказке, как были. Кажется, вдруг воскресили Радостным веяньем чуда Блеск и былое величье… Шорох, чириканье птичье — Та же унылая груда, Те же могилы, руины, Вид безотрадно-пустынный, Только уныло и слабо Где-то гудит монотонно Песня бессилья и стоны — Грустная песня араба..В Омаровой мечети
В ограде храмовой затихли гулы дня. Мы подошли к священному порогу. Мы, обувь сняв, вошли. Молчание храня, Нам старый шейх показывал дорогу. Ворвался день в просвет узорного стекла, Блеснул лампад неугасимый пламень. Под круглым куполом гранитная скала — Алтарь наш древний, первозданный Камень. Веков исчезнувших открылась глубина. На камне стертый след тысячелетий. На нишах и окне Корана письмена Причудливо играют в полусвете. Сюда в былые дни лишь раз в году входил, Молясь за свой народ, Первосвященник. Я здесь стою теперь без радости и сил, Чужих святынь и чуждой жизни пленник. В больную душу свет развеянных времен, Как свет надгробий, купол льет узорный. В мерцании лампад у мраморных колонн Перебирает четки дервиш черный. Недоуменный взор полузакрытых глаз Покоится на госте-иноверце… Бродили долго мы по храму… В этот час Последней кровью исходило сердце…В лунном свете
Ризой трепетной и яркой Мириады звёзд зажглись, Млечный путь дрожащей аркой В беспредельности повис. Колыхаясь в струйках лунных, Тишь задумчивее спит, На сыпучих белых дюнах Блеск серебряный дрожит. Зачарован мягким блеском Апельсинный сад заснул, Долетая тихим всплеском, Замирает жизни гул. Рокот моря еле внятный Донесётся иногда… С глуби неба необъятной В бездну падает звезда…«Чу, неясный слышен шорох…»
Чу, неясный слышен шорох, Что-то дрогнуло в тиши, Чей-то голос в сикоморах Прозвучал, как зов души. Лунным блеском всё залито, Слышен тихий рокот струй… Чей-то голос: «Суламита»… Еле слышный поцелуй… Месяц мягкий блеск над садом Целомудренный струит, Речь библейская каскадом Шелестит, поёт, журчит. Ночь волшебней и чудесней, И мечтательнее сад, И созвучья Песни Песней В чутком воздухе дрожат…У Западной стены
Сердце замерло вдруг, сердце стало на миг, Я не видел ещё, но душой я постиг, Что стою у стены, у надгробной плиты Наших солнечных дней и былой красоты. Я услышал как вал нарастающий гул, Я сквозь слёзы, застлавшие очи, взглянул: День был чист и прозрачен, был жгуч и палящ, Свет облёк все кругом, как пылающий плащ. Растоплённым потоком лилась бирюза, Брызги огненной пыли слепили глаза, А внизу, где к стене приводила тропа, Словно призраков мрачных и жутких толпа Вся сливалась в один оглушающий крик, Надрывающий душу… Был странен и дик Вид одежд запылённых и горестных лиц… Кто-то камень целует и падает ниц, Кто-то плачет, склонившись у древних камней, Возле глыб запылённых и дымных свечей… Здесь веками народную боль у Стены Изливают в молитвах седой старины, Зажигают свечу пред священной Стеной — Поминальный огонь на могиле родной… Чей-то тихий привет… Прикоснувшись к плечу, Старый служка вложил в мои руки свечу. Он пришельцу молитвенник старый поднёс, Обветшалый от времени, жёлтый от слёз… Я не принял свечи, я свечи не зажёг, Не прочёл и священных молитвенных строк, Я не плакал, как все, не склонялся я ниц, Но тоска без названья, но боль без границ, Что не вылить в слезах и напевах земли, Моё сердце пронзили насквозь и прожгли… Я не принял свечи, не зажёг я свечи, Но иные в душе загорелись лучи, Свет иной, неземной, не возжённый рукой, Ярко вспыхнул в душе, опалённой тоской… Он горит в ней годами, и ночью и днём, Он горит и манит путеводным огнём… Я молитв не прочёл, но в душе в этот час Неожиданно вспыхнув, молитва зажглась — Нет для этой молитвы ни звуков, ни слов, Но в душе неумолчный и пламенный зов, И годами звучит и царит он один, Этот отзвук, рождённый у древних руинНоволетие деревьев
В моей стране сегодня вешний день, Сегодня праздник пажитей и леса… Над ширью дюн и гор и деревень Лучей и золота завеса… Как голубой расплавленный хрусталь, Морская зыбь в кайме алмазной пыли, В молочно-розовом цвету миндаль, В росе ковер Саронских лилий. В мерцанье янтарей и серебра, В лугах кроваво-красной анемоны Безудержно резвится детвора, Справляя праздник свой зелёный. Лязг заступа и песни с детских уст — И труд кипит под детскими руками. Сажает каждый деревце иль куст В земле, невспаханной веками. И в этот день из году в год растут Рукой детей взращённые аллеи. Вдали в дыму серебряном встают, Как грёза, горы Иудеи. Как верный страж у дорогих гробов, Стоит их цепь и спит тысячелетья… Сегодня будит их деревьев и цветов Воскресший праздник Новолетья. (15 швата)На дюнах у Ришон ле-Цион
Немолчный шум игры Весёлой детворы; В песке горячем пляски. Звучит задорный смех, И залил он у всех И личики, и глазки. За белой цепью дюн Звучит, как рокот струн, Прибой волны жемчужной. И детвора поёт, Сплетает хоровод, За песней песню дружно. Про Ришон свой поют, Про светлый сельский труд В саду, в приволье луга, И в песне гул весны И свежесть целины, Взрыхлённой сталью плуга. Бодрей и громче песни: «Наш чудный край, воскресни, Господь, на прах веков Живой росою брызни. Покинутой отчизне Верни её сынов. О Ришон, нашей кровью, Страданьем и любовью Взращён твой каждый куст!» — И гимн благоуханный, Пленительный и странный, Течёт из детских уст. И строй стихов библейских Под сенью иудейских Далёких синих гор Певучий, свежий, чистый, Как детский смех, лучистый Уносится в простор.«С холма я вижу ширь Сарона…»
С холма я вижу ширь Сарона, Лугов сверкающий убор, И моря солнечное лоно, И выси Иудейских гор. Вокруг — минувшего обломки, Безмолвье мрачное могил, А рядом — радостны и громки Расцвет и трепет новых сил. В сиянье утреннем деревни Лучем пронизаны насквозь; Здесь в каждом камне, в глыбе древней С былым грядущее сбылось. Поля, долины и курганы Свой тяжкий сбрасывают плен… Мой светлый край, мой край желанный, Вовеки будь благословен!..Erez-Israel
Мой край, отрезанный морями Кипящей крови и огня, В моей душе горишь лучами Неугасающего дня. Моя душа благоуханьем Твоим всегда напоена, С тех пор, как Библии дыханьем Была обвеяна она. И гордый кедр твой на Ливане, Твой каждый холм и каждый дол Мне были ближе и желанней Страны, где юность я провёл. Тебе, страна моя родная, Порывы юношеских сил, В восторге творческом рыдая, Я безраздельно приносил. Тоской и радостью томимый, К мечте далёкой взор воздев, Тебе, не женщине любимой, Сложил я первый свой напев. Ты в скорби вдовьей и священной, Всегда печальна и светла, В моей душе устало-пленной, Как мать-кормилица жила. Ты вновь цвела благоуханней, Ты вновь сияла мне светлей В зеленой и расцветшей ткани Твоих воскреснувших полей. И в дни, когда война сурово Испепеляющим перстом Коснулась нашей нивы новой, Прошла над нашим очагом, Ты стала мне еще дороже, За каждый стебель твой дрожу. В благоговейной страстной дрожи Я имя светлое твержу. (Сентябрь 1918 г., Москва)Нафтали Герц Имбер Надежда
Не лишились мы надежды Светлой и отрадной Вновь узреть обетованный Край наш ненаглядный. Нет, пока еврея сердце Чувствует и бьется, И с мечтою о грядущем На Восток он рвется; И пока идут скитальцы К дорогой отчизне, К славным памятникам прежней Незабвенной жизни; И пока Святыня наша — Жалкие руины, Место слез, где изливают Скорбь и боль чужбины; И пока с немолчным гулом Иордан струится, И еврей, вставая в полночь, Плачет и томится; И пока один хоть тлеет Луч любви к народу — Можем верить, что Всевышний Нам вернет свободу! Не лишились мы надежды Светлой и отрадной: Вновь узреть обетованный Край наш ненаглядный! Пер. с иврита Лейб ЯффеКонстантин Аба Шапиро Рахиль
Глас в Раме слышен, вопль и горькое рыданье: Рахиль оплакивает детей своих и не хочет утешиться о своих детях
(Иеремия, 34:14) В Вифлеемских полях, при дороге пустынной Виден камень, забытый на древнем кургане, И в безмолвную полночь над сонной равниной Женский образ мелькает в тумане. К Иордану спустившись, у вод его сонных, Он безмолвно в священные воды глядится, И спадает слеза из очей омраченных И в священные воды катится… До зари тело женщины плач сотрясает, Неподвижно, безмолвно все в местности мрачной, И слеза за слезой в Иордан упадает, Со струею сливаясь прозрачной… Пер. с иврита Лейб ЯффеИллюстрации
Фрида и Лейб Яффе перед отъездом в Палестину. Из группового фото. Вильно, 1919.
Москва. Чистые пруды. 1900-е годы. Открытка.
Идишский писатель А. Вайтер (Айзик-Меер Девенишский), застреленный польскими легионерами. Вильно, 21 апреля 1919 года.
Нью-Джерси: The Laureate Press, 1974.
Гродно. Начало XX века. Почтовая открытка.
Книга Владимира Лиходеева «Синагоги. Еврейская жизнь». Минск: Рифтур, 2007.
Вильно, улица Еврейская. 1900-е годы. Фото из книги «Литовский Иерусалим в иллюстрациях и документах».
Нью-Джерси: The Laureate Press, 1974.
Вильно, улица Виленская. 1900-е годы. Фото из книги «Литовский Иерусалим в иллюстрациях и документах».
Нью-Джерси: The Laureate Press, 1974.
Лейб Яффе. Вильно, 1919 (?).
Первая страница номера газеты «Еврейская жизнь», посвященного Х.-Н. Бялику. Редактор Лейб Яффе.
Москва: Кадима (На Восток!), 1916
Сторожа, охраняющие сионистские земледельческие поселения. Верхняя Галилея, октябрь 1907 года. Открытка.
Тель-Авив, улица Алленби, 1920-е годы. Открытка.
Халуцим — сионистские первопроходцы — на прокладке дорог. Страна Израиля, 1920-е годы.
Строительство Тель-Авива, 1909.
Здание Еврейского Агентства сразу после взрыва, от которого погиб Лейб Яффе. 11 марта 1948 года.
Давид Бен-Гурион подписывает Декларацию Независимости Израиля. Рядом — Моше Шарет и Элиэзер Каплан. 14 мая 1948 года. Фотограф неизвестен.
Международная промышленная выставка-ярмарка. Тель-Авив, 1935.
Поздравительная открытка к еврейскому Новолетию (Рош а-Шана). Тель-Авив, осень 1931 года.
Примечания
1
М. А. Avigal. Ba-mahteret (В подполье). In: Leib Jaffe: Ktavim, Igrot ve-Yomanim (Сочинения, письма и дневники). Jerusalem, 1964. P. 264 (иврит).
(обратно)2
Письмо от 18 ноября 1916 г. Цит. по: Б. Горовиц. Письма Л. Б. Яффе к М. О. Гершензону // Вестник Еврейского университета в Москве, № 2 (18). М. — Иерусалим, 1998. С. 223.
(обратно)3
Y. Klausner. Autobiographia (Автобиография), v. 1. Tel Aviv: Masada, 1955. P. 82–83 (иврит).
(обратно)4
Писательский архив Gnazim, ед. хр. 40820/ב, листы 31–32. Писано в конце жизни по-русски, не издано. Напомню, что Черниховский сам был большим охотником до женщин, и не исключено, что в нем отчасти говорил дух соперничества. Яффе, вспоминая о том периоде своей жизни, пишет, что в Гейдельберге они сблизились, и Черниховский посвятил ему дружеское послание в стихах на иврите: «Мы — две арфы, / Мы разные струны. Но / Един звук нашей песни, / Звонкий и нежный. / Ибо единое пламя / Горит в наших сердцах, / Одна в них надежда, / И боль в них одна». L. Jaffe. Zikhronot. In: Leib Jaffe: Tekufot (Эпохи). Tel Aviv: Masada, 1948. P. 61 (иврит).
(обратно)5
См. об этом исчерпывающую статью А. Лаврова «Лейб Яффе и „Еврейская антология“: к истории издания» в кн.: А. В. Лавров. Символисты и другие: Статьи. Разыскания. Публикации. М.: Новое литературное обозрение, 2015.
(обратно)6
Z. Shazar. Leib Yaffe (Лейб Яффе). In: Z. Shazar. Or Ishim (Свет избранных), v. 3. Jerusalem: Ha-Sifria ha-Zionit, 1973. P. 123–124 (иврит).
(обратно)7
С 1791 по 1917 г. в Российской империи в отношении евреев действовало ограничительное законодательство, позволявшее им проживать только в городах и местечках Западных губерний (в так называемой черте оседлости). В 1859 г. право жительства за пределами «черты» было предоставлено евреям — купцам первой гильдии.
(обратно)8
В 1891–1892 гг. по распоряжению московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича из Москвы было выселено около 20 000 евреев (три четверти общего еврейского населения города).
(обратно)9
Человек, который сам всего достиг (англ).
(обратно)10
От «баал аголе» (иврит, букв. — владелец повозки), извозчик.
(обратно)11
Кихелах (идиш) — коржики, ароматизированные корицей, ванилью или имбирем.
(обратно)12
Кугол (идиш) — сладкая запеканка из лапши. Чолнт (идиш) — мясо, тушеное с картофелем, овощами и фасолью, стандартное субботнее блюдо ашкеназских евреев.
(обратно)13
В соответствии с еврейской религиозной традицией, замужние женщины должны были стричь или прятать волосы. Это предписание привело к распространению обычая носить парики.
(обратно)14
Обряд приобщения мальчика по исполнении 13-ти лет к обществу взрослых мужчин, а следовательно — к исполнению заповедей (мицве).
(обратно)15
«Аскольдова могила» (1835) — опера А. Н. Верстовского (1799–1862), «Пиковая дама» (1890) и «Евгений Онегин» (1879) — оперы П. И. Чайковского (1840–1893), «Жизнь за царя» (в советское время — «Иван Сусанин»; 1836) — опера М. И. Глинки (1804–1857).
(обратно)16
В ритуале общественного чтения Торы в синагоге или другом молитвенном помещении используется пергаментный свиток, на котором особой каллиграфией написан текст Торы. Писец, изготавливающий еврейские свитки для религиозного употребления, называется софер (сойфер).
(обратно)17
Пергаментный свиток со списком библейской Книги Эстер (Эсфири), читаемый на праздник Пурим.
(обратно)18
Лекех (идиш) — молочная коврижка на меду, лекехлах — маленькие кексы того же типа.
(обратно)19
Моисей (Моше) Монтефиоре (1784–1885) — еврейский общественный деятель и филантроп. Акива Эйгер (1731–1837) — раввин Познани, один из наиболее влиятельных законоучителей и интерпретаторов Талмуда в XIX в.
(обратно)20
«Молочная империя» А. В. Чичкина (1862–1949), который открыл в Москве первый специализированный магазин молочных изделий, к 1914 г. насчитывала 88 магазинов и пользовалась широкой популярностью.
(обратно)21
Знаменитая булочная Д. И. Филиппова на Тверской улице, открытая в середине XIX в.
(обратно)22
В разных мемуарах встречаем, что москвичи имели обыкновение покупать определенные товары в определенных магазинах. Ср.: «Если вы покупали коробку конфет в кондитерской Абрикосова, то, помимо обязательного приложения к ее содержимому в виде засахаренного кусочка ананаса и плиточки шоколада „миньон“ завернутого в серебряную фольгу, в коробочке лежала еще небольшая толстенькая плитка шоколада в обертке из золотой бумаги с наклеенной на нее миниатюрной фотографией Шаляпина или Лины Кавальери» (Б. И. Пуришев. Воспоминания старого москвича. М., 1998. С. 5). Кондитерская Альфонса Сиу помещалась на Кузнецком Мосту; самый известный кондитерский магазин фирмы Эйнем находился возле Мясницких ворот, другой — на Петровке. Ср.: «Закуски, фрукты, бакалею брали на Тверской у Елисеевых, Белова и Генералова… Шоколад покупали у К. Н. Крафта, и им заполонили Москву швейцарские фирмы Гала-Петер, Кайе и Сюшар» (И. И. Шнайдер. Записки старого москвича. М., 1970. С. 81–82).
(обратно)23
Недобрые (идиш).
(обратно)24
Парохес (иврит) — небольшая вышитая бархатная или тяжелая шелковая штора, закрывающая в синагоге ковчег — шкаф с пергаментными свитками Торы.
(обратно)25
Парфюмерная фирма «Брокар и К°» была основана в 1869 году американцем французского происхождения Генрихом Брокаром, который начал с производства детского мыла, а потом нашел новый способ изготовления духов. Его продукция конкурировала с французской.
(обратно)26
Рабби Элияѓу бен Шломо Залман (1720–1797), выдающийся ученый-талмудист и мистик, прозванный за свою ученость и религиозный авторитет Виленским Гаоном (от иврит. гаон, величие; в VI–XI вв. титул глав вавилонских и палестинской иешив).
(обратно)27
Неизменными обычаями еврейского праздника Пурим являются публичное чтение Книги Эстер (Эсфири) по свитку, маскарадные костюмы и театральные действа, в основе которых — персонажи и события книги Эстер, а также передача через посредника подарков («шалахмонес») друзьям и знакомым.
(обратно)28
Голус (галут, иврит) — изгнание. В еврейском традиционном и национальном дискурсе этим словом обозначается жизнь народа за пределами Страны Израиля.
(обратно)29
Праздничные и застольные песнопения, обычно на иврите, прославляющие Бога и Его любовь к народу Израиля.
(обратно)30
Хоменташн (идиш) — треугольные пирожки с маком, традиционно выпекаемые на Пурим.
(обратно)31
Особый вид картинок, которые надо было мочить в воде, а потом накладывать на бумажный лист, осторожно удаляя катышки размокшей бумаги-оригинала, так что на чистом листе оставалось словно напечатанное цветное изображение.
(обратно)32
«Красная горка» — народное название первого воскресенья после Пасхи, когда православная церковь отменяет девятинедельный запрет на совершение бракосочетаний.
(обратно)33
Гри де перл — серовато-жемчужный, сомон — цвет лососины, электрик — синий с серым отливом.
(обратно)34
То есть вне городской черты.
(обратно)35
Гарнец — мера сыпучих тел и кошелка такой меры, т. е. яблоки покупали не по весу, а по объему.
(обратно)36
Poule malade (франц.) — больная курица.
(обратно)37
Так назывался танец Саломеи из одноименной драмы О. Уайльда, представлявший изысканный полустриптиз.
(обратно)38
Еврейский траур по умершему ближайшему родственнику — шив’а — длится семь дней после похорон. В эти дни скорбящие не выходят из дому и не занимаются работой, а все друзья и знакомые их навещают.
(обратно)39
Арахис в скорлупе, или земляной орех.
(обратно)40
Речь идет, как видно, о Всемирной выставке в Париже в 1889 г.
(обратно)41
Уши́ (Ouchy) — пригород Лозанны.
(обратно)42
Гуманитарный факультет (франц.).
(обратно)43
Няня (англ.).
(обратно)44
Возможно, романс на стихи И. О. Лялечкина (ум. 1895) «Вот опять мы одни. / Всё как в прежние дни: / Темный развесистый сад, / Летняя ночь и луна!»
(обратно)45
«Прости на вечную разлуку» — городской романс на стихи В. В. Крестовского (1839–1885).
(обратно)46
Популярная и рано умершая от рака певица (меццо-сопрано) Анастасия Дмитриевна Вяльцева (1871–1913) исполняла в основном романсы; граммофонные пластинки с ее записями выходили огромными тиражами, ее фотографии украшали столичные салоны.
(обратно)47
В Малом театре в конце XIX века блистали Мария Николаевна Ермолова (1853–1928), чьи героини были чисты, идеальны и самоотверженны, Гликерия Николаевна Федотова (1846–1925), создавшая галерею легко отдающихся чувствам женских образов в пьесах А. Н. Островского, Александр Иванович Южин (князь Сумбатов; 1857–1927), прославившийся в роли Чацкого и в романтическом западном репертуаре, и Александр Павлович Ленский (1847–1908) в героико-романтических и характерных ролях.
(обратно)48
Остпрейсен — восточнопрусский, Мемель — официальное название г. Клайпеды (ныне в Литве) до 1923 г.
(обратно)49
В перерыв.
(обратно)50
Белуга, осетрина и их потроха (визига), как и свинина, запрещены евреям в пищу.
(обратно)51
В частном Русском драматическом театре Ф. А. Корша («Театр близ памятника Пушкину»; 1882–1917) на Рождество в декабре 1900 г., например (когда Фриде Каплан было 8 лет), для детей давали дневные спектакли: пьесы «Багдадские пирожники, или Волшебная лампа» (по сказкам «1001 ночи») и «Сандрильона» («Cendrillon» — франц.), т. е. «Золушка», а также водевиль «Волшебная флейта».
(обратно)52
Драматический тенор B. C. Севастьянов (1875–1929), слова из арии Валентина в опере Ш. Гуно «Фауст» (1859).
(обратно)53
Слова крестьянской песни из «Снегурочки» А. Н. Островского. Характерна ошибка мемуаристки: «наложи высоко» вместо непонятого ребенку «налаживай соху».
(обратно)54
Ироническое дореволюционное прозвание чиновников на государственной службе, получавших жалованье 20 числа ежемесячно, как людей, далеких от духовных запросов.
(обратно)55
«Дело Дрейфуса» — процесс над евреем Альфредом Дрейфусом (1859–1935), офицером французского генерального штаба, обвиненным в шпионаже в пользу Германии, — всколыхнуло в 1894–1906 гг. всю Францию. Оно имело несколько этапов и закончилось признанием невиновности осужденного и восстановлением его в чинах. Реальным шпионом оказался майор Ф. Эстергази, о чем, в частности, говорилось в опубликованном 13 января 1898 г. в газете «Aurore» знаменитом обращении Эмиля Золя к президенту Ф. Фору («J’accuse», «Я обвиняю»), хотя вина майора была доказана лишь годы спустя.
(обратно)56
Книги «Золотой библиотеки», издаваемые Товариществом М. О. Вольф с 90-х годов XIX века, должны были познакомить детей России с лучшими произведениями европейских авторов. Выходили в серийном оформлении в тисненных золотом твердых переплетах.
(обратно)57
Le muguet (франц.) — ландыш; словом «мюге» обозначают в парфюмерии аромат этого цветка. В 1900-е годы в Москве были модны цветочные духи местной парфюмерной фирмы «А. Ралле и К°», в частности «Махровый ландыш», и туалетные принадлежности парижской фирмы «Рожер и Галле».
(обратно)58
Итальянские горные курорты для легочных больных.
(обратно)59
Женщина, наделенная всеми добродетелями (ашкеназский иврит), см. Притчи, 31:10.
(обратно)60
Без лица и без имени (идиш).
(обратно)61
Внешние приличия (от apparence — внешность, франц.).
(обратно)62
Здесь: статистические списки (от recherches — «исследования», франц.).
(обратно)63
Почет (ашкеназский иврит).
(обратно)64
Недвижимость (Immobilien — нем.).
(обратно)65
Гой (иврит) — нееврей, мн. ч. — гои.
(обратно)66
Желоб, сточная канава (Rinne — нем.).
(обратно)67
Перенаселенные трущобы (slums — англ.).
(обратно)68
А. А. Вербицкая (Зяблова; 1861–1928) стала чрезвычайно популярной после опубликования романа «Ключи счастья» (1909), где писала о сексуальной свободе женщин. Еще раньше снискала симпатии определенных кругов своими социалистическими и феминистскими взглядами. Т. Л. Щепкина-Куперник (1874–1952), плодовитый поэт и прозаик, прославилась переводами западной классики и драматургии.
(обратно)69
Хутор (Vorwerk — нем.).
(обратно)70
Пастила из красной и черной смородины, иногда с добавлением крыжовника (идиш).
(обратно)71
Варенья (идиш).
(обратно)72
Лесгафтичка — ученица Курсов воспитательниц и руководительниц физического образования (Высшие курсы Лесгафта), открытых в Петербурге в 1896 г. П. Ф. Лесгафт (1837–1909), российский ученый и педагог, основоположник научных основ физической культуры.
(обратно)73
В мастерской неквалифицированных рабочих (от tenderfoot — «неопытный человек», «новичок», англ.).
(обратно)74
«Цену у-Рену» («Цэна у-рэна», иврит — «Встаньте и смотрите»), — выполненное в XVII в. Яаковом бен Ицхаком Ашкенази из Янова переложение на идиш (с добавлением комментариев и преданий) Торы и пяти библейских книг, называемых «свитками», а также сказаний о разрушении Храма. Традиционное и основное чтение еврейских женщин. См. издание на русск. яз.: Цэна у-Рэна, в 3 тт. М. — Иерусалим: Мосты культуры — Гешарим, 2012–2014.
(обратно)75
Маскил (иврит, идиш) — адепт еврейского Просвещения, называемого Гаскала; еврей, который наряду с культурой религиозной традиции интересуется также наукой и светской культурой.
(обратно)76
То есть на идише.
(обратно)77
Перец Смоленскин (1842, Монастырщина Могилевской губ. — 1885, Меран, Австро-Венгрия), ивритский писатель-просветитель и публицист; издавал в Вене для российских евреев литературно-общественный журнал «Ѓа-Шахар», пропагандист национальной идеи в еврействе.
Миха Йосеф Лебенсон, акроним Михаль (1828, Вильна — 1852, там же), популярный во второй половине XIX в. ивритский поэт, предтеча романтизма в поэзии на иврите.
«Ѓа-Мелиц» — ивритская газета ассимиляторско-просветительского толка, издававшаяся в Одессе с 1860 г. Александром Цедербаумом (1816, Замостье, Люблинская губерния, ныне Польша, — 1893, Петербург), кстати, дедом меньшевика Юлия Мартова; с 1871 г. журнал выходил в Петербурге, а в Одессе печаталось его приложение на идише «Кол мевассер».
«Восход» — еврейский ежемесячник на русском языке, выходил в Петербурге в 1881–1906 гг. Первый издатель-редактор Адольф Ефимович Ландау (1842, Россиены, Ковенская губерния — 1902, Берлин; похоронен в Петербурге) ставил целью распространение просвещения среди евреев.
(обратно)78
Сергей Михайлович Кравчинский (псевд. С. Степняк; 1851–1895), писатель, революционер-народник, в 1878 г. в Петербурге совершил покушение на шефа жандармов Н. В. Мезенцова.
(обратно)79
Жан-Батист фон Швейцер (1833–1875) издавал в Берлине газету «Социал-демократ»; его роман «Эмма» в 70-х гг. XIX в. в России был запрещен цензурой и считался «недозволенной книгой», наряду со статьями Писарева и романом Чернышевского «Что делать?» (см. В. И. Чуйко. Автобиография (Иркутск, 1926). 2006 «Biografija.ru»). В 1906 г. появился в новом русском переводе.
(обратно)80
Елена Ивановна Молоховец (в дев. Бурман; 1831–1918), автор самой популярной до революции поваренной книги «Подарок молодой хозяйке».
(обратно)81
Девятое Ава — девятое число еврейского месяца ава (пересекается с августом), день скорби в память о разрушении Первого (586 до н. э.) и Второго (71 н. э.) храмов в Иерусалиме, изгнания евреев из Испании (1492) и еще нескольких национальных бедствий еврейского народа. Девятого Ава — в день поста и траура — принято не носить кожаную обувь и читать библейский Плач Иеремии и специальные литургические сочинения, называемые на иврите «кинот» (ламентации).
(обратно)82
Цицес (ашкеназский иврит), или цицит — элемент еврейской мужской религиозной одежды, завязанные особыми узелками белые нити, прикрепленные к четырем углам так наз. малого талеса (талита) — арба канфес — полотна́ с прорезью для головы, носимого под одеждой. Закон о ношении цицит взят из Торы (Числа, 15:38).
(обратно)83
Путеркихлах (идиш) — коржики с корицей.
(обратно)84
Искровцы — политические сторонники В. И. Ленина (Ульянов; 1870–1924), чьим идеологическим рупором была нелегальная газета «Искра» (с декабря 1900 г. по ноябрь 1903).
Плехановцы — политические сторонники Г. В. Плеханова (1856–1918), отколовшиеся от ленинцев на 2-м Съезде РСДРП (российской социал-демократической рабочей партии) и образовавшие фракцию меньшевиков.
Бундовцы — члены еврейской социалистической партии Бунд (идиш) — Всеобщий союз еврейских рабочих в Литве, Польше и России. Бунд основан в Вильне в октябре 1897 г. и входил в состав РСДРП.
Сионисты — движение за возрождение еврейской национальной жизни в Стране Израиля, оформилось на 1-м Сионистском конгрессе в Базеле в 1897 г.
Территориалисты — сторонники создания еврейской автономии там, где можно получить для нее территорию.
Сеймовцы (или сеймисты) — члены Социалистической еврейской рабочей партии (СЕРП), сочетавшей социалистическую и еврейскую национальную идеологии: евреи должны создать национальную автономию как особая экстерриториальная нация в России и иметь свой сейм (парламент). Партия основана в Киеве в апреле 1906 г.
(обратно)85
Польская социалистическая партия (Polska Partia Socjalistyczna), основана в 1892 г.
(обратно)86
Согласно религиозному закону, в субботу нельзя пользоваться зонтом.
(обратно)87
Т.е. людей с высшим образованием.
(обратно)88
«Warum?» (немецк.) — «Отчего?», одна из фортепьянных «Фантастических пьес», ор. 12, Роберта Шумана (1810–1856). «Кармен» (1875) — опера Жоржа Бизе (1838–1875). «Сельская честь» (1890) — опера Пьетро Масканьи (1863–1945).
(обратно)89
Русско-японская война началась в ночь 26/27 января 1904 г. и закончилась поражением России (мирный договор 5.09.1905).
(обратно)90
Генерал Алексей Николаевич Куропаткин командовал русской армией в Русско-японской войне, но после поражения при Мукдене (19.02–10.03.1905) был смещен со своего поста.
(обратно)91
Георгий Александрович Гапон (1870–1906), священник, полицейский агент; создал в Петербурге «Общество русских фабричных и заводских рабочих», которое боролось за права и улучшение жизни рабочих. Массовая демонстрация 9 января 1905 г. в Петербурге была организована Гапоном в связи с требованиями рабочих Путиловского завода, а закончилась расстрелом безоружного шествия («Кровавое воскресенье»).
(обратно)92
Коронация Николая Второго проходила 14 мая 1896 г. в Кремле и 18 мая — при скоплении народа на Ходынском поле в Москве, где в давке погибло несколько сотен человек.
(обратно)93
«Вы жертвою пали» — похоронная песня российских революционеров на сл. А. Архангельского (Антона Александровича Амосова, 1854–1915).
(обратно)94
Маленький отель, циммеринг (иврит).
(обратно)95
Ам ѓа-арец (иврит) — букв. простолюдины, аналфабет (иврит) — букв. не знающий азбуки; выражения используются в смысле «невежда», в частности в еврейских знаниях.
(обратно)96
«Бедняжка Сюзон, возвращайся к своим овечкам» (франц.).
(обратно)97
А. А. Богданов (1873–1928), экономист, большевик, один из редакторов русского перевода «Капитала» К. Маркса, автор книги «Курс политической экономии» (т. 1, 1910). В. Я. Железнов (1869–1933), русский экономист, сочувствовал марксизму, его главный труд «Очерки политической экономии» (1902) выдержал 8 изданий. Карл Каутский (1854–1938), немецкий экономист, теоретик марксизма, автор труда «Экономическое учение К. Маркса в общедоступном изложении» (пер. под редакцией проф. В. Железнова, Киев, 1905 и др. изд.). Август Бебель (1840–1913), деятель немецкого и мирового социалистического движения, марксист, автор популярной в свое время книги «Женщина и социализм» (1883).
(обратно)98
Трудящиеся Сиона (иврит), общественно-политическое движение, сочетавшее сионизм с социалистической идеологией.
(обратно)99
Пьеса немецкого драматурга Г. Гауптмана (1862–1946) «Ткачи» (1892) посвящена проблемам социального неравенства и эксплуатации трудящихся.
(обратно)100
Популярная в России баллада австрийского писателя Морица Гартмана (1821–1972) «Белое покрывало» (пер. М. Михайлова) о гордом 20-летнем венгерском графе, арестованном и казненном за борьбу за свободу отечества. Муне Сюли (псевдоним Жана Сюли Муне; 1841–1916), французский драматический актер.
(обратно)101
Слова из стихотворения Дм. Мережковского «Сакья Муни» (1885).
(обратно)102
Заключительные слова из баллады М. Гартмана «Белое покрывало».
(обратно)103
Стихотворение С. Я. Надсона (1862–1887).
(обратно)104
Роман польского прозаика Г. Сенкевича (1846–1916) «Quo vadis?», или «Камо грядеши?», рассказывает о первых христианах в Риме времен императора Нерона.
(обратно)105
М. К. Башкирцева (1860–1884), художница, умерла от туберкулеза. Ее написанный по-французски «Дневник» (рус. пер. 1892) отразил умонастроения и эстетические веяния последней четверти XIX в., позднее оформившиеся в эстетике декаданса.
(обратно)106
Герман Зудерман (1857–1928), немецкий драматург, романист, пользовался большой популярностью; наиболее известна была драма «Родина» (1893), где вернувшаяся домой «блудная дочь» Магда отказывается вступить в брак без любви, по выбору отца.
(обратно)107
П. Д. Боборыкин (1836–1921), прозаик, драматург, ввел в употребление слово «интеллигенция» как особый вид людей умственного труда и нравственных исканий. С. А. Найденов (Алексеев; 1868–1922), прозаик, драматург, был близок к М. Горькому; наиболее известна пьеса «Дети Ванюшина» (1901). И. Н. Потапенко (1856–1929), прозаик, драматург, был весьма популярен в 90-е годы XIX в.; знакомец А. П. Чехова, прототип Тригорина в пьесе «Чайка». М. П. Арцыбашев (1878–1927), писатель, драматург, публицист; его нашумевший роман «Санин» (1907) вызвал полемику о сексуальной свободе и порнографии. А. В. Амфитеатров (1868–1932), писатель, «русский Золя», автор историко-бытописательских романов; с 1921 г. в эмиграции.
(обратно)108
Шмария (Шмарьяѓу) Левин (1867, Свислочь, близ Бобруйска, — 1935, Хайфа), еврейский и сионистский деятель, казенный раввин, оратор, педагог, пропагандист, публицист.
(обратно)109
Мемуаристка ошиблась: картина русского художника, близкого Л. Н. Толстому, Н. Н. Ге (1831–1894) «Что есть истина?» (1890) изображает Иисуса и Пилата. Картины «Несение креста» у Ге нет. Возможно, она имеет в виду большое неоконченное полотно «Голгофа» (1893).
(обратно)110
Ж. Бастьен-Лепаж (1848–1884), французский живописец, изображал жизнь крестьян. В Москве выставлена его картина «Деревенская любовь» (1882) в Музее изящных искусств (ныне Музее им. А. С. Пушкина).
(обратно)111
А. Н. Шварц (1848–1915), филолог-классик, министр народного просвещения России в 1908–1910 гг. Л. А. Кассо (1865–1914), юрист, государственный деятель, министр народного просвещения России в 1910–1914 гг., провел антилиберальные реформы в сфере школьного и высшего образования.
(обратно)112
Р. Овен (Оуэн; 1771–1858), английский философ, педагог и социалист, из первых социальных реформаторов XIX в. Ф. В. Ницше (1844–1900), немецкий философ и литератор, создатель философско-этической системы, оказавшей большое влияние на европейскую мысль. «История земли» М. Неймара — фундаментальный труд по естествознанию (рус. пер. с нем. 1892). Г. Т. Бокль (1821–1862), английский историк; в России в XIX в. издавались почти все его сочинения, в т. ч. «Женщина и ее влияние на мужчин» (1901). С. Смайльс (1816–1904), английский писатель, врач; в России в XIX в. перевели многие его популярно-морализаторские сочинения, написанные на основе житейского опыта. Г. Спенсер (1820–1903), английский философ и социолог, популярный в конце XIX в.
(обратно)113
Роман Д. В. Григоровича (1822–1899) «Проселочные дороги» (1852) рисует панораму провинциальной помещичьей жизни и перекликается с «Мертвыми душами» Н. В. Гоголя.
(обратно)114
Начальная строка стихотворения А. де Мюссе (1810–1857): «Милые мои друзья, когда я плачу, вырастает ива на погосте» (фр.).
(обратно)115
Понары — место массовых расстрелов в Литве, примерно в 10 км от Вильнюса. Начиная с лета 1941 г. по июль 1944 г. нацистами и их пособниками здесь было уничтожено почти 100 000 человек, в основном евреев.
(обратно)116
Губернатором Вильны в 1902–1905 гг. был граф К. К. Пален (1861–1923).
(обратно)117
Книга Д. С. Мережковского (1865–1941) «Л. Толстой и Достоевский» (1901–1902).
(обратно)118
Апатия, отсутствие волевой активности (acedia — лат.).
(обратно)119
«Змея подколодная» — положенное на музыку стихотворение поэта С. Ф. Рыскина (1859–1895).
(обратно)120
Актриса В. Ф. Комиссаржевская (1864–1910) работала в Вильно в 1894–1896 гг. в антрепризе К. Н. Незлобина, где сыграла около 60 ролей; самый большой успех выпал на роль Рози в пьесе «Бой бабочек» Г. Зудермана.
(обратно)121
«Дедушкины сказки», «Дочь Иофая», «Дочь Шамеса» — повествовательные стихотворения русско-еврейского поэта С. Г. Фруга (1860–1916), чья поэзия сочетала романтические и национальные мотивы. Пользовался большой популярностью в конце XIX века.
(обратно)122
Мазь на основе выжимок из плодов лавра, втирается при ревматических болях.
(обратно)123
Мицва (иврит) — букв. заповедь, в быту — доброе дело.
(обратно)124
Вели растительное существование (от vegetativus — «растительный», лат.).
(обратно)125
В богадельне, открытой в 1876 г. текстильным фабрикантом и московским филантропом Ф. Я. Ермаковым (ум. 1895), содержались 500 человек, преимущественно крестьяне.
(обратно)126
С. С. Юшкевич (1868–1927), плодовитый русско-еврейский прозаик и драматург, окончил жизнь в эмиграции. Разрабатывал тему ломки традиционного еврейского уклада и конфликта поколений на этом фоне; был близок к М. Горькому.
(обратно)127
Элеонора Дузе (1858–1924), итальянская драматическая актриса, гастролировала в Петербурге в 1891 и 1908 гг., здесь речь о 1908 г.
(обратно)128
«Новый театр» русской драматической актрисы Л. Б. Яворской (урожденная Гюббенет; 1871–1921) и ее мужа открылся в Петербурге в 1901 г. после ее отказа играть в юдофобской пьесе В. Крылова и С. Литвинова «Контрабандисты» («Сыны Израиля») и просуществовал пять сезонов.
(обратно)129
Джон Локк (1632–1704), английский педагог и философ школы эмпиризма, теоретик либерализма, один из влиятельных мыслителей Просвещения.
(обратно)130
Две начальные и две последние строки стихотворения К. Д. Бальмонта (1867–1942).
(обратно)131
С. Н. Ценский (Сергеев; 1875–1958), прозаик, близкий по духу Л. Андрееву. «Где двое, там и ложь» — слова Бабаева из романа «Бабаев».
(обратно)132
Отдельный кабинет (франц.).
(обратно)133
Название работы Ф. Ницше (1886).
(обратно)134
Процентная норма (лат.) ограничивала прием евреев в гимназии и высшие учебные заведения; введена в российских гимназиях и университетах в 1886 г.
(обратно)135
По открытой книге (фр.).
(обратно)136
Изящно оформленная книжечка, куда дамы на балу вписывали партнеров на танцы (carnet de bal — франц.).
(обратно)137
Берлинский кафедральный собор (Berliner Dom).
(обратно)138
Универмаги (Kaufhaus — нем.).
(обратно)139
Швейцарский хирург Цезарь Ру (1857–1934), в Лозанне с 1883 г.
(обратно)140
Кафе-шоколадница (confiserie — франц.).
(обратно)141
«Старая Англия» (Old England).
(обратно)142
Начальные строки (Kennst du das Land / Wo die Zitronen blumen?) Песни Миньоны из «Вильгельма Мейстера» В. Гете, которая в еврейской культуре воспринималась как описание цветущей и манящей Обетованной Земли. См. 3. Копельман. Сионида — паломничество души // Вестник Еврейского университета, № 6 (24), 2001. С. 131–144.
(обратно)143
Врач из Швейцарии Гейнрих Ламан «в 1888 г. основал в Weißer Hirsch физиатрический санаторий, целенаправленно расширил его в огромный комплекс санаториев и вилл для пациентов. В духе того времени он развивал особую систему оздоровительных мероприятий при помощи так называемых природных методов: здоровое и вегетарианское питание, много гимнастики, плавания и других видов физкультуры, движения на свежем воздухе в легкой одежде и т. д. Методы Ламана имели огромный успех, в 1910 году у него лечилось более десяти тысяч пациентов… много состоятельных русских…» (Э. Хексельшнайдер. Дрезденское лето Марины и Анастасии Цветаевых. В: Э. Хексельшнайдер. Дрезден — сокровище в табакерке. Впечатления российских деятелей культуры. СПб., 2011).
(обратно)144
Тевтобургском лесу в 9 г. до н. э. херусский князь Армин напал на римлян и разгромил их, отчего история Германии развивалась в большой степени независимо от Рима. Видимо, жестокость древнего германца побудила мемуаристку увидеть в нем «первого наци».
(обратно)145
Годесберг (с 1925 г. Бад-Годесберг) был одним из любимых мест Гитлера: с 1926 по 1945 г. он отдыхал здесь почти 50 раз. В 1938 г. здесь прошла встреча фюрера с британским премьером Н. Чемберленом по поводу судетского кризиса и отсюда был отправлен меморандум Чемберлена послу Чехословакии в Великобритании Я. Масарику, требующий отчуждения Судетской области в пользу Германии.
(обратно)146
Немецкие парни устраивали пирушки в своих пивных, пили пиво… (смесь русск. и нем.).
(обратно)147
Относительные новички в студенческой корпорации (от нем. Fuchs, от лат. Faex — «отброс, подонок») или «деды» (Alterherren — нем.).
(обратно)148
Букв. «слепой Петер» (нем.) — жмурки.
(обратно)149
«Ах, вы сени, мои сени» — русская народная песня. «Красный сарафан» — романс А. Е. Варламова (1801–1858) на слова Н. Г. Цыганова (1800–1833). «Задумал Терешка (или: Тимоня) жениться…» — русская припевка.
(обратно)150
Высшие женские курсы в дореволюционной России были важным фактором эмансипации женщин, поскольку способствовали распространению среди них высшего образования. В 1878 г. в Петербурге открылись Бестужевские высшие женские курсы (названы по имени профессора русской истории К. Н. Бестужева-Рюмина, официального учредителя курсов), а в 1872 г. в Москве — Высшие женские курсы профессора Московского университета В. Н. Герье («Герьевские»).
(обратно)151
Пьеса И. Д. Сургучева (1881–1956; умер в Париже) «Осенние скрипки» была поставлена в Художественном театре в 1915 г. с О. Книппер-Чеховой в одной из главных ролей; была переведена на европейские языки, экранизирована во Франции. Пьеса К. Гамсуна (1859–1952) «У жизни в лапах» шла в Художественном театре с 1911 г.
(обратно)152
Синодальное училище церковного пения и Синодальный хор в Москве были учреждены в 1892 г. для общего образования и репетиций певцов хора, предназначенного для пения в кремлевских соборах.
(обратно)153
Фортепьянное «Московское трио» выступало в 1892–1924 гг. В 10-е годы в нем играли пианист Давид Шор (1867–1942), скрипач Давид Крейн (1869–1926) и виолончелист Рудольф Эрлих (1866–1924).
(обратно)154
Историко-филологические и юридические курсы В. А. Полторацкой в Москве (Никитский бульвар, 14) открылись в 1906 г. Там преподавали ученые-филологи — А. Е. Крымский (профессор арабской словесности и истории Востока), А. С. Орлов (в 1910–1918 вел курс древнерусской литературы) и Д. Н. Ушаков, составитель «Толкового словаря русского языка».
(обратно)155
Точнее «блуждающий сюжет», т. е. сюжет, встречающийся в разнонациональных и разновременных литературах.
(обратно)156
Рассказ А.И. Куприна (1904).
(обратно)157
Автор музыки к опере «Паяцы» Р. Леонкавалло сам написал либретто и утверждал, что взял случай из жизни. Сюжет оперы Дж. Верди «Травиата» заимствован из романа А. Дюма-сына «Дама с камелиями».
(обратно)158
Этим именем Фрида Каплан назвала тут своего мужа Лейба (Льва Борисовича) Яффе (1876–1948).
(обратно)159
Сионистское отрицание голуса (жизни вне Страны Израиля) распространялось и на идиш, называемый «жаргоном», поэтому единственным «еврейским языком» с точки зрения сионистов оставался иврит, и необходимость в термине «древнееврейский» отпадала сама собой.
(обратно)160
См. прим. 142.
(обратно)161
Взнос определенной суммы на нужды сионистского движения (он получил название шекеля — древней меры золота и серебра у евреев) позволял участвовать в голосовании при выборе делегатов на сионистские конгрессы.
(обратно)162
Лейб Яффе, фигурирующий тут под именем врача Марка Натанзона, был старше жены на 15 лет.
(обратно)163
Мать Лейба Яффе, Хая-Лея, дочь р. Фишла Лапина, всю жизнь прожила в Гродно, где умерла в годы нацистской оккупации.
(обратно)164
11-й конгресс проходил в Вене со 2 по 9 сентября 1913 г. Конгрессу предшествовала, также в Вене, всемирная конференция Организации по распространению еврейского языка (иврит) и культуры на нем с участием российских сионистов Л. Моцкина, Ш. Левина, Н. Соколова и писателей Х. Н. Бялика, Д. Фришмана и др.
(обратно)165
«Живи и жить давай другим» (нем.) — поговорка, известная у разных европейских народов по крайней мере с середины XVII в.: «Vivons et laissons vivre les autres» (франц.); «Live and let live» (англ.). В России ее любила Екатерина II, а Г. Р. Державин включил в оду «На рождение царицы Гремиславы. Л. А. Нарышкину» (1796): «Живи и жить давай другим, / Но только не на счет другого; / Всегда доволен будь своим, / Не трогай ничего чужого: / Вот правило, стезя прямая / Для счастья каждого и всех!»
(обратно)166
«Милые венцы» и «миндаль в сахаре» (нем.; как видно, каламбур: с одной стороны, лакомство, с другой — распространенная еврейско-немецкая фамилия «Зюс» и имя «Мендель/Мандель»),
(обратно)167
Гвоздь сезона (франц.).
(обратно)168
Между нами (франц.).
(обратно)169
Пресыщенных (blasé — франц.).
(обратно)170
Восточные евреи (нем.), т. е. евреи из Восточной Европы.
(обратно)171
Анекдоты о м-м Поляк (от нем. Witz).
(обратно)172
К венским аристократам (нем.).
(обратно)173
Ныне один из концертных залов Вены.
(обратно)174
Марк Матвеевич Антокольский (1843, Вильна — 1902, Франкфурт-на-Майне), выдающийся скульптор, с 1871 г. — академик, с 1880 г. — профессор скульптуры, почетный член многих западноевропейских академий. Скульптор Илья Яковлевич Гинзбург (1859, Гродно — 1939, Ленинград), был замечен Антокольским и в 1871 г. увезен в Петербургскую академию художеств, в мастерской при которой проработал всю жизнь.
(обратно)175
Жертва «кровавого навета» М. М. Бейлис (1874, Киев — 1934, около Нью-Йорка) был арестован в Киеве в 1911 г. и оправдан судом присяжных в 1913 г. Процесс над Бейлисом всколыхнул всю Россию и выявил истинное отношение разных ее кругов к евреям.
(обратно)176
Картина Леонардо да Винчи «Джоконда» пропала из Лувра 22 августа 1911 г. и была возвращена 2 декабря 1913 г., а первые известия о ее местонахождении появились в ноябре 1913 г.
(обратно)177
Популярный в конце XIX в. австрийский писатель Артур Шницлер (1862–1931) был сыном крещеного еврея. Познакомившись с Т. Б. Герцлем, стал размышлять о сионизме и национальной проблематике, чему посвятил роман «Путь на волю» (1908).
(обратно)178
Давид Вольфсон (1856–1914), сионистский деятель, после смерти Герцля (в 1904 г.) — президент Всемирной сионистской организации. Менахем Мендл Усышкин (1863–1941), сионистский лидер. После третьей поездки в Страну Израиля (1913) пришел к выводу, что сионистам необходимо поддержать не только сельское хозяйство, но и городские еврейские общины, особенно в Иерусалиме, и выступил с планом создания там Еврейского университета. Хаим Вейцман (1874–1952), президент Всемирной сионистской организации, химик, первый президент Государства Израиль. Артур Руппин (1876–1943), экономист, социолог, сионистский деятель. Владимир (Зеев) Жаботинский (1880–1940), писатель, публицист, один из лидеров сионистского движения, идеолог и основатель ревизионистского течения в сионизме.
(обратно)179
Нахум Цемах (1887–1939), актер, режиссер, основатель театра «Габима» (1918). На 11-м Конгрессе его труппа сыграла пьесу О. Дымова (Перельман; 1878–1959) «Вечный странник».
(обратно)180
Видимо, документальные ленты 1912 г. о жизни сионистских первопроходцев в Стране Израиля.
(обратно)181
Массовая монархическая организация «Союз русского народа» была создана в октябре 1905 г. при активном участии властей для борьбы с революционным движением; придерживалась радикальной антисемитской идеологии. Во время процесса над Бейлисом орган «Союза русского народа» газета «Земщина» писала: «Милые, болезные вы наши деточки, бойтесь и сторонитесь вашего исконного врага, мучителя и детоубийцу, проклятого от Бога и людей, — жида!»
(обратно)182
Частное расследование убийства, в котором обвинили Бейлиса, доказало, что виновными в преступлении были Вера Чеберяк и собиравшиеся у нее воры.
(обратно)183
Семейное трио Любошиц в Москве (с 1925 г. в США) — сестры Лея (скрипка; Лия Сауловна, 1885–1965) и Анна (виолончель) и брат Петр (фортепьяно) — гастролировало по России и приезжало в Вильну, где жили молодожены Яффе.
(обратно)184
В Большом театре А. В. Нежданова (1873–1950) пела партию Фелины в опере Амбруаза Тома (1878–1932) «Миньон» (1866). Мария Лабиа (1880–1953), итальянская оперная певица, сопрано.
(обратно)185
Ольга Владимировна Гзовская (1883–1962), актриса Малого театра (1905–1910 и 1917–1919), МХТ (1910–1917) и кино. «Змейка» — пьеса В. А. Рышкова. В 1914 г. Гзовской было за 30, и ее трудно назвать «молоденькой артисткой»; возможно, мемуаристка записала тут впечатления от гастролей 1908–1909 гг.
(обратно)186
А. К. Глазунов (1865–1936), композитор, профессор Петербургской консерватории. Речь идет, видимо, о концерте для фортепиано с оркестром № 1 (f-moll, op. 92, 1910).
(обратно)187
Здесь беллетристическая выдумка — профессия врача — забыта мемуаристкой: Марк [Лейб Яффе] реагировал на роды жены, как всякий далекий от медицины мужчина.
(обратно)188
Командующий 2-й русской армией генерал А. В. Самсонов в августе 1914 г. участвовал в операции против немцев в Восточной Пруссии. Когда его армия не смогла выполнить задание, подвергшись яростной атаке врага, он покончил с собой. Участь армии Самсонова была трагичной, немногим частям и группам удалось вырваться из окружения, потери составили десятки тысяч убитыми, ранеными и пленными.
(обратно)189
Университетский город в Бельгии; телеграмма из Берлина, перепечатанная «Gazette de Lausanne» от 29 августа 1914 г., сообщила, что «старинный город Лувен, богатый произведениями искусства, более не существует».
(обратно)190
Памятник готики XIII–XV веков, собор в Реймсе, Франция, был сильно поврежден в результате целенаправленного обстрела немцами из крупнокалиберных орудий.
(обратно)191
Кафе, носившее имя владельца К. Штраля (Strall), находилось в первом этаже дома 14 по Георгиевскому проспекту: там собирались артисты, журналисты, литераторы. Кафе Штраля оставалось популярно и в межвоенное время.
(обратно)192
Первая мировая война создала в России проблему еврейских изгнанников и беженцев. Из последних публикаций на эту тему см.: С. Гольдин. Русское еврейство под контролем царских военных властей в годы Первой мировой войны. Диссертация. Иерусалим, 2005. Особенно гл. 4: Депортация еврейского населения и взятие заложников русским военным командованием в 1914–1915 гг., с. 154 и далее. Еврейские комитеты помощи беженцам (ЕКП), организованные с началом войны, имели главное управление в Петрограде. В таком ЕКП работал в 1914 г. Лейб Яффе.
(обратно)193
Неквалифицированной работе для неопытных работников (см. примеч. 73).
(обратно)194
Некошерная пища (иврит).
(обратно)195
Турция начала военные действия против черноморских городов России 29 октября 1914 г., а 11 ноября 1914 г. объявила войну Британии и Франции. Палестина тогда была частью Османской империи. Все российские евреи как подданные вражеской страны были поставлены перед выбором: принять турецкое гражданство или покинуть страну.
(обратно)196
Еврейское общество помощи (беженцам, а потом и выселенным из прифронтовой полосы евреям).
(обратно)197
Смаковать (от gouter — «пробовать, ценить, наслаждаться», франц.).
(обратно)198
Согласно еврейской традиции, покойников обмывают на полу и до похорон читают, сидя рядом с ними, святые книги.
(обратно)199
Согласно еврейской традиции, тело опускают в землю без гроба, лишь завернутое в саван. Над свежей могилой читают «Кадиш» и молитву о том, чтобы душа умершего нашла приют среди душ праведников, под покровительством милосердного Бога — «Эль молей рахамим» (ашкеназский иврит).
(обратно)200
«Как король шел на войну, / В чужедальнюю страну…», популярная в начале XX века песня: слова А. Колтоновского (по М. Конопницкой), муз. Ф. Кёнемана.
(обратно)201
Воззвание (и 192 подписи под ним) было напечатано 1 марта 1915 г. в московских газетах. Там, в частности, говорилось: «Русские люди, вспомним, что у русского еврея нет иного отечества, кроме России <…> Поймем, что благо и могущество России, счастье и свобода русского племени неразрывно связаны со счастием и свободой всех племен, входящих в состав великого русского государства». Полный текст см., напр., Вл. Ходасевич. Из еврейских поэтов. Сост. 3. Копельман. М. — Иерусалим: Гешарим — Мосты культуры, 1998, с. 23–24.
(обратно)202
Идиш, пользующийся еврейской азбукой, имеет много общего с немецким языком, особенно в лексике, поскольку восходит к средневековым немецким региональным диалектам. По этой причине все повременные издания на иврите и идише в годы 1-й мировой войны были закрыты, издательство книг на этих языках прекращено, а личная переписка запрещена.
(обратно)203
Затемнение (black-out — англ).
(обратно)204
Последовательная противница антисемитизма, польская писательница из дворян Элиза Ожешко (1841–1910) порицала также и еврейскую национальную и религиозную обособленность, решение еврейского вопроса Ожешко видела в ассимиляции и отстаивала это в художественных произведениях и статьях. Польский художник Франтишек Жмурко (1859–1910) изучал живопись во Львове, в краковской Академии в классе Яна Матейко.
(обратно)205
Ср. «Не хлебом единым жив человек, но всем, что выходит из уст Господа» (Второзаконие, 8:3).
(обратно)206
Кнейдлах — шарики из мацовой муки и яиц, которыми заправляют куриный бульон на Песах.
(обратно)207
«В конце апреля 1915 г. штаб 10-й Армии вновь распорядился о поголовных выселениях, на сей раз затрагивающих сотни тысяч евреев. 25.4.1915 приказ о выселении еврейского населения получил курляндский губернатор Набоков, 28.4 — ковенский губернатор Грязев» (С. Гольдин, указ. соч., с. 166). Речь шла о выселении в течение 24 часов.
(обратно)208
Герман Банг (1857–1912) — датский писатель, театральный рецензент и критик. В повести «Тине» (1889) проводится параллель между совращением молоденькой служанки и поражением датчан в военном конфликте с Пруссией и Австрией в 1864 г.
(обратно)209
Шовуот (или Шавуот, иврит), праздник дарования Торы на горе Синай и первых плодов (первинок) в 50-й день после первого дня Песаха, приходится на конец мая — июнь.
(обратно)210
Калька библейского стиха из Книги пророка Ионы (2:6): «Объяли меня воды до души моей».
(обратно)211
Картина художника Сергея Соломко (1867–1928) «Погоня за счастьем», сохранившаяся на открытках, не имеет ничего общего с настоящим контекстом, видимо, автор имеет в виду другую картину.
(обратно)212
Трансатлантический лайнер «Титаник» 14 апреля 1912 г. натолкнулся на айсберг и затонул; погибли 1504 человека.
(обратно)213
Давид Абрамович Блондес был ложно обвинен в преступлении с ритуальной целью. «Дело Блондеса» началось в 1900 г. в Вильне, имело несколько этапов разбирательства, пока в 1902 г. Блондес не был оправдан. Одним из защитников Блондеса был О. О. Грузенберг (1866–1940), позднее защищавший Бейлиса.
(обратно)214
Леонид Витальевич Собинов (1872–1934), лирический тенор, солист Большого театра. Тенор, виртуоз оперного пения Дмитрий Алексеевич Смирнов (1882–1944) пел в Мариинском и Большом театрах.
(обратно)215
Дельцов, не всегда честных (идиш).
(обратно)216
Ян Кубелик (1888–1940), чешский скрипач-виртуоз и композитор.
(обратно)217
Генерал М. В. Алексеев (1857–1918) с начала Первой мировой войны был командующим штабами разных фронтов, а в 1915 г. был назначен начальником штаба Ставки Верховного главнокомандующего и фактически руководил всеми военными операциями вплоть до Февральской революции 1917 г. Великий князь Николай Николаевич (1856–1929) был Верховным главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами Российской империи с начала Первой мировой войны. В 1915 г., после серии тяжелых поражений русской армии, был снят с этого поста по решению Николая II.
(обратно)218
Сын еврейского кантора, контрабасист Сергей Александрович Кусевицкий (1874–1951) играл в оркестре Большого театра, с 1908-го — выступал как дирижер; основал «Российское музыкальное издательство» (1909), где впервые были опубликованы партитуры многих сочинений С. Рахманинова, А. Скрябина, С. Прокофьева, И. Стравинского, создал свой оркестр. С 1921-го — в Париже, с 1924-го — в Бостоне.
(обратно)219
Владимир (Зеев) Жаботинский был одним из инициаторов создания в британской армии Еврейского легиона, но правительство Англии дало согласие на это лишь в 1917 г. Жаботинский, бывший рядовым в Еврейском легионе и произведенный в офицеры, успел принять участие в боевых действиях (см. его мемуары «Слово о полку»).
(обратно)220
Книга «Песни и поэмы» Х. Н. Бялика (1873–1934) в переводах с иврита Жаботинского вышла впервые в 1911 г. и потом выдержала еще пять переизданий, последнее в 1922 г. в Берлине.
(обратно)221
Певица (колоратурное сопрано) Антонина Васильевна Нежданова (1873–1950) была солисткой Большого театра и выступала с романсным репертуаром, прославилась исполнением романса А. А. Алябьева (1787–1851) на стихи А. А. Дельвига (1798–1831) «Соловей».
(обратно)222
Выдающаяся русская певица (сопрано) Мария Николаевна Кузнецова-Бенуа (1880–1966) в 1905–1917 была солисткой Мариинского театра, с 1920 г. жила в Париже.
(обратно)223
Василий Петрович Дамаев (1878–1932), певец (лирико-драматический тенор).
(обратно)224
Художник Натан Исаевич Альтман (1889–1970) учился в Одесском художественном училище и в Париже, с 1912 г. в Петербурге.
(обратно)225
В 1911–1918 гг. под псевдоним Россций в газете «Русские ведомости» постоянно выступал как художественный и литературный критик Абрам Маркович Эфрос (1888–1954).
(обратно)226
Историк русской литературы и общественной мысли Михаил Осипович Гершензон (1869–1925) писал о декабристах, напр, в кн.: «Образы прошлого», М., 1912, и «Декабрист Кривцов и его братья», М., 1914; о литераторе Н. В. Станкевиче (1813–1840) в кн.: Образы прошлого. М., 1912; об историке Т. Н. Грановском (1813–1855) в кн.: Грибоедовская Москва. М., 1914.
(обратно)227
Рудольф Штейнер (1861–1925), австрийский философ-мистик, писатель, создатель учения, получившего название антропософия.
(обратно)228
Франц Оппенхеймер (1864–1943) — один из основателей «либерального социализма», стремящегося совместить принципы свободы (основой которой он считал частную собственность производителя и свободную конкуренцию) и равенства (отсутствие эксплуатации, справедливый доход по труду и т. п.).
(обратно)229
Местный колорит (фр.).
(обратно)230
Основной мотив лирики и прозы итальянского писателя и политического деятеля Габриэле д'Аннунцио (1863–1938) — дуализм языческого культа наслаждений и душевного стремления к чистоте и святости; в романах, в т. ч. «Наслаждение» (1889), препарировал любовные и эротические переживания.
(обратно)231
Стихотворение «Кормщик» из сборника К. Д. Бальмонта (1867–1942) «Зеленый вертоград» (1909).
(обратно)232
Художник Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960) выступал и как художественный критик (в журналах «Мир искусства», «Старые годы», «Аполлон» и др.); с 1906 г. вместе с издателем И. Н. Кнебелем выпускал серию монографий о крупнейших мастерах нового русского искусства, написал для этой серии книги о И. И. Левитане (1913, в соавторстве с С. Глаголем) и В. А. Серове (1914).
(обратно)233
Книга Б. Ф. Шлёцера о А. Н. Скрябине (1872–1915), «А. Скрябин. Личность. Мистерия» вышла в Берлине: Грани, в 1923 г. Здесь, вероятно, речь идет о газетных статьях Шлёцера о композиторе. Третья симфония Скрябина называлась «Божественная поэма» (1904).
(обратно)234
Повесть идишского прозаика Давида Бергельсона (1884–1952) «После всего» («Нох алемен», 1913; рус. пер. «Миреле», 1947) имела большой успех у публики и критики: трагическая история одаренной и красивой Мирл изложена на фоне экзистенциального кризиса провинциальной еврейской интеллигенции. Повесть отличается напряженностью действия, психологизмом и выразительным языком.
(обратно)235
Единственный московский дом Ф. И. Шаляпина находится по адресу Новинский бульвар, д. 25–27. Доходный дом князя С. А. Щербатова (там же, д. 11–13) был выстроен в 1911-13 гг. в стиле неоклассицизма архитектором А. И. Таманяном и стал новым типом большого доходного дома в традициях московской усадебной архитектуры.
(обратно)236
Дорогой магазин «Петровский Пассаж» на ул. Петровка (откр. в 1906 г.) был также местом скопления праздношатающейся публики. Новое здание универсального магазина товарищества «Мюр и Мюрелиз» (осн. в 1846 г.), построенное в 1906–1908 гг. архитектором Р. И. Клейном (с 1922 г. — ЦУМ), имело 78 отделов, которые обслуживали три тысячи человек (В. Руга, А. Кокорев. Москва повседневная. М.: Олма-пресс, 2005. С. 65).
(обратно)237
Одна из версий, почему грузопассажирский поезд именовали в народе «максимкой»: на его паровозе значилась литера «М».
(обратно)238
Отец Фриды умер в Вильне, когда она жила в Москве: о его смерти ей стало известно в сентябре 1916 года, как явствует из письма Л. Яффе от 1.10.1916 (см. Приложение I. Издательские инициативы Лейба Яффе).
(обратно)239
«Шиве», или «Шив’а», семидневный еврейский траур по умершему ближайшему родственнику, отсчитывается со дня похорон. В эти дни скорбящий не выходит из дому и не занимается никакими делами, а все знакомые и соболезнующие приходят к нему утешать и разделить горе.
(обратно)240
Борис Александрович Фохт (1874–1946) — философ, неокантианец, переводчик философской литературы, в 1904–1918 гг. преподавал философию на Высших женских курсах, Педагогических курсах им. Д. И. Тихомирова, при Московсом обществе народных университетов и в гимназиях.
(обратно)241
О. Бургардт. Новые горизонты в области исследования поэтического стиля (Принципы Э. Эльстера). Вступ. сл. В. Н. Перетца: Новые горизонты в области исследования поэтического стиля. Киев, 1915.
(обратно)242
Пьеса русско-еврейского прозаика и драматурга Семена Соломоновича Юшкевича (1868–1927; с 1920 — в эмиграции) «Miserere» (1910) была поставлена в МХТ режиссером В. Мейерхольдом. Вот как писал об этом современник: «Кто тогда не слышал имени Юшкевича? Кто его не читал? Ведь не было как будто ни одного либерального (тогда этот эпитет имел другое значение, чем сегодня) литературного начинания, которое обходилось бы без того, чтобы в список сотрудников не было включено имя Юшкевича. Не будучи московским жителем <Юшкевич жил в Одессе. — З. К.>, он был даже кооптирован в пресловутую московскую писательскую „Среду“, сыгравшую, как известно, немалую роль в литературной жизни начала века. Но, вероятно, главное, что сделало популярным имя Юшкевича, было то, что Художественный театр поставил две или три его пьесы, из которых наибольшим успехом пользовалась драма с мистическим уклоном „Мизерере“. Настолько она пришлась тогда по вкусу публике и критике, что после наделавшей столько шуму „Анатэмы“ ее знаменитого из знаменитых автора, Леонида Андреева, обвинили чуть ли не в плагиате у Юшкевича». (А. Бахрах. Об одесском жилблазе // Октябрь, 2005, № 7).
(обратно)243
Пьеса писателя и фольклориста С. Ан-ского (Семен Акимович Раппопорт; 1863–1920) «Дибук», написанная изначально по-русски, в МХТ поставлена не была, но была сыграна в переводе на иврит Х. Н. Бялика в Москве театром «Габима», режиссура В. Мейерхольда. См. об этом: И. Петровский-Штерн. Русский «Дибук»: образы и перевоплощения // Егупец, Киев, 2002, № 10. С. Ан-ский. Меж двух миров («Дибук») — там же.
(обратно)244
Иван Александрович Ильин (1883–1954; в 1922 г. выслан из России) — русский христианский философ, литературный критик, правовед.
(обратно)245
Имеется в виду Февральская революция 1917 г.
(обратно)246
2 (15) марта Николай II отрекся от престола в пользу своего брата Михаила (1878–1918), но тот отказался принять власть до созыва Учредительного собрания, которое должно было решить вопрос о форме правления.
(обратно)247
Стихотворение народовольца, политкаторжанина Петра Филипповича Якубовича (1860–1911).
(обратно)248
Юлий Исаевич Айхенвальд (1872–1928; в 1922 г. выслан из России), русский литературный критик, полагал эстетический принцип единственным мерилом ценности произведений искусства. Перевел сочинения А. Шопенгауэра в 4 тт.
(обратно)249
Нахман Сыркин (1868–1924, с 1907 жил в США), первый идеолог и лидер социалистического сионизма, в годы Первой мировой войны активно поддержал идею В. Жаботинского о создании Еврейского легиона в составе британской армии.
(обратно)250
Иехиэль (Ефим Владимирович) Членов (1863–1918), один из главных сионистских лидеров в России. В начале июня 1915 г. в Копенгагене, на заседании Исполнительного комитета Всемирной сионистской организации, резко выступил против деятельности В. Жаботинского по созданию Еврейского легиона. В марте 1917 г. возглавил воссозданное в Москве Центральное бюро Еврейского национального фонда.
(обратно)251
Раввин Яков Мазе (1859–1924) с 1893 г. был избран казенным раввином московской общины. После Февральской революции 1917 г. Мазе был избран членом президиума Совета еврейских общин России, а также депутатом Всероссийского учредительного собрания (по еврейскому национальному списку). Мазе деятельно способствовал распространению культуры на иврите и подготовке сионистов для переезда в Палестину.
(обратно)252
На этом митинге выступал также Лейб Яффе.
(обратно)253
Сочинение римского поэта I в. до н. э. Публия Овидия Назона «Героиды» содержит 21 письмо, каждое из которых написано от лица мифологической (Федра, Медея) или исторической (Сафо) героини в период разлуки со своим возлюбленным и имитирует разные стили и характеры.
(обратно)254
В ранних работах художника Исаака Израилевича Бродского (1884–1939) сказывалось влияние символизма и модерна, после революции 1917 г. он писал деятелей большевистской партии, советских и партийных вождей. Художник Арнольд Борисович Ляховский (1880–1937) учился в Петербургской академии художеств. Художница Вера Рохлина (1896–1934), русская художница Парижской школы, писала обнаженную натуру, портреты, пейзажи, натюрморты с цветами. В 1917–1919 под девичьей фамилией Шлезингер участвовала в выставках московских художников, в 1919–1920 жила в Тифлисе. В начале 1920-х уехала во Францию и поселилась в Париже. В 1934 г. покончила с собой.
(обратно)255
На месте Театра Зон ныне стоит здание Концертного зала им. П.И. Чайковского. О постановках В. Мейерхольда в «театре Зон» см: В. Шкловский. Гамбургский счет. Статьи, воспоминания, эссе (1914–1933). М.: Сов. писатель, 1990. С. 86.
(обратно)256
Писатель, критик, переводчик Давид Фришман (1859–1922) писал на иврите и на идише, в годы Первой мировой войны жил в Москве.
(обратно)257
«Ничейная жена и ничейное дитя» (идиш).
(обратно)258
Александр Иванович Гучков (1862–1936) был военным и морским министром Временного правительства; отличался ораторским талантом. Александр Федорович Керенский (1881–1970) был министром, а затем министром-председателем Временного правительства. Ираклий Георгиевич Церетели (1881–1959) был министром внутренних дел Временного правительства.
(обратно)259
Традиционное английское чаепитие в пять часов пополудни (five o'clock).
(обратно)260
Молитва «неила» (букв. «запирание <Врат Небесных>» — иврит) завершает пост Судного дня, или Дня Искупления (Йом Кипур).
(обратно)261
Улица Налевки — артерия еврейского квартала Варшавы, в годы Второй мировой войны — центр Варшавского гетто; Зарядье — густо заселенный евреями район дореволюционной Москвы.
(обратно)262
Слова из стихотворения А.С. Пушкина «Птичка Божия не знает / Ни заботы, ни труда…» в поэме «Цыганы» (1824).
(обратно)263
Сорт мелких огурцов, хрустящих и с нежной кожицей, особенно ценных для засолки и маринада; название восходит к городу Нежину Черниговской области.
(обратно)264
М. О. Гершензон. Грибоедовская Москва. М.: Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1914
(обратно)265
Зачин нескольких «жестоких» романсов: «Ах, зачем эта ночь так была хороша! / Не болела бы грудь, не страдала б душа».
(обратно)266
Упомянуты картины В. В. Верещагина (1842–1904; погиб в Русско-японской войне) «Апофеоз войны» (1871) и передвижника Н. А. Ярошенко (1846–1898) «Всюду жизнь» (1888).
(обратно)267
Сказочная феерия о Питере Пэне (1904) шотландского писателя Джеймса Мэтью Барри (1860–1937).
(обратно)268
«Трудовая группа», или «трудовики» возникла в апреле 1906 г. как группа депутатов из крестьян и интеллигентов народнического направления в 1-й Государственной думе; идеологически близка к «народным социалистам» (эн-ес); после Февральской революции 1917 г. привела к образованию Трудовой народно-социалистической партии, поддерживала Временное правительство.
(обратно)269
Алексеевское юнкерское пехотное училище находилось в Лефортове, за рекой Яузой, в так называемых «Красных казармах». Основано в 1864 г., расформировано в ноябре 1917 г.
(обратно)270
Слесарь-сантехник (иврит, от install — «устанавливать, устраивать», англ.).
(обратно)271
Деятель русского и международного социалистического и коммунистического движений, создатель Красной армии Лев Давыдович Троцкий (Бронштейн; 1879–1940) был известен отсутствием еврейского сентимента. Близкий к Ленину партийный деятель Григорий Евсеевич Зиновьев (Радомысльский; 1883–1936) после Октябрьской революции стал председателем Петроградского совета и так называемой Северной коммуны, проявив особое рвение в проведении «красного террора». Сын крещеного еврея и русской женщины Лев Борисович Каменев (Розенфельд; 1883–1936) после Февральской революции 1917 г. вернулся в Петроград, вошел в редколлегию газеты «Правда», стал членом ЦК РСДРП(б) и до возвращения Ленина из-за границы (апрель 1917) практически руководил большевистским центром России, настаивая на поддержке демократической революции; в 1918–1926 гг. был председателем Московского совета. Каменев и Зиновьев были репрессированы и расстреляны.
(обратно)272
После Первой мировой войны белорусские области, еврейское население которых в культурном отношении представляло собою часть литовского еврейства, вошли в состав советской России. Южная часть Литвы отошла к Польше, а в центральной части страны образовалась независимая Литовская республика (февраль 1918 г.), столицей которой, после того как Вильно был захвачен Польшей (октябрь 1920 г.), стал Каунас (Ковно). В 1919 г. короткое время существовала советская республика Литбел (Литва-Белоруссия).
(обратно)273
В ноябре 1918 г. было создано независимое Польское государство во главе с Юзефом Пилсудским (1867–1935). Создание независимой Польши и определение ее границ сопровождалось вооруженной борьбой между поляками и литовцами в Вильно, поляками и большевиками на Украине и в Белоруссии.
(обратно)274
См. Приложение III. Письма Лейба и Фриды Яффе М.О. Гершензону, письмо от 27 сентября 1918 г.
(обратно)275
Только для офицеров (нем.).
(обратно)276
«Красное дерево».
(обратно)277
Форма гриппа, унесшая во время Первой мировой войны больше жизней, чем фронт.
(обратно)278
В Гродно.
(обратно)279
Пролетарская революция в Германии в октябре — ноябре 1918 г., где аналогом партии большевиков была так называемая спартаковская партия, привела к установлению в апреле 1919 г. Баварской советской республики.
(обратно)280
Здесь: провести инвентаризацию.
(обратно)281
В ритуале Пасхального седера ребенок задает четыре традиционных вопроса о празднике Песах — «кушийот» (иврит).
(обратно)282
Речь идет об идишском драматурге и прозаике Айзике-Меере Девенишском, писавшем под псевдонимом А. Вайтер (1878 — 21 апреля 1919).
(обратно)283
Собачья кровь (польск.).
(обратно)284
Конфедератка — польская национальная фуражка с четырехугольной тульей.
(обратно)285
ППС — националистическая польская пролетарская партия, созданная в годы Первой русской революции, использовала террористические методы борьбы.
(обратно)286
Брат Юзефа, юрист Ян Пилсудский (1876–1950) позднее стал министром казны Польши.
(обратно)287
Букв. «исповедь» (иврит) — канонический текст, который, согласно религиозной традиции, произносит умирающий еврей.
(обратно)288
В 1918 г. Лейб Яффе был редактором идишской газеты «Лецте найес» («Последние новости»), а когда ее закрыли — газеты «Идише цайт» («Еврейское время»).
(обратно)289
В 1919 г. американский финансист, дипломат и общественный деятель Генри Моргентау (1856–1946) возглавил назначенную президентом США Вудро Вильсоном по предложению польского премьер-министра Игнация Падеревского комиссию для ознакомления с положением польского еврейства после волны погромов, прокатившихся по стране в конце Первой мировой войны и вызвавших бурные протесты в еврейских общинах Запада. «Комиссия Моргентау» видела свою задачу не только в регистрации фактов, но и в установлении причин антиеврейских выступлений и подготовке рекомендаций для предотвращения подобных событий в будущем.
(обратно)290
Умиротворение (англ.).
(обратно)291
Община (иврит).
(обратно)292
«Тарбут» (культура — иврит) — еврейская просветительно-культурная организация, под эгидой которой в период между двумя мировыми войнами была создана сеть образовательных учреждений с преподаванием на иврите в странах Восточной Европы. В советской России запрещена в 1919 г.
(обратно)293
Керен каемет ле-Исраэль (Еврейский национальный фонд — иврит) был основан 29 декабря 1901 г. на Пятом Сионистском конгрессе в Базеле для приобретения и освоения земли в Эрец-Исраэль; до создания Керен ѓа-иесод, или Основного фонда, где долгие годы работал Л. Яффе, был единственным финансовым органом Сионистской организации. Средства для Керен каемет собирали по всей еврейской диаспоре: продавали марки, раздавали кружки-копилки и устраивали благотворительные мероприятия и концерты.
(обратно)294
Виленский ученый, филантроп и библиофил Матес (Матитьяѓу) Страшун (1817–1885) собрал уникальную библиотеку по иудаике, которую завещал виленской еврейской общине. Библиотека насчитывала свыше 5700 томов; большинство книг было аннотировано самим ученым. В 1892 г. библиотека была открыта для публики и стала центром еврейской культурной жизни города, местом научных собраний. В 1941 г. нацистские оккупационные власти приказали группе еврейских интеллектуалов провести сортировку еврейских собраний в библиотечных фондах Вильнюса, в том числе в библиотеке Страшуна. Отобранные книги нацисты вывезли во Франкфурт-на-Майне, остальные подлежали уничтожению, а здание библиотеки было разрушено. Еврейские узники, однако, сумели спасти часть оставшихся книг.
(обратно)295
В 1917 г. С. Ан-ский бежал из революционной Москвы в Вильно, где перевел свой «Дибук» с бяликовсого ивритского текста на идиш; этот вариант пьесы увидел свет в Вильно в 1919 году. Зусман Сегалович (1884, Белосток — 1949, Нью-Йорк), идишский поэт и прозаик, бундист, до 1939 г. жил в Варшаве. Шмуэль Нигер (Чарный; 1883, Минская губ. — 1955, Нью-Йорк), один из авторитетных критиков на идише, в 1919 г издавал в Вильно ежемесячник «Ди найе велт» («Новый мир»). В 1919 г. польские легионеры ворвались в квартиру в Вильно, занимаемую Нигером совместно с Л. Яффе и А. Вайтером (см. выше), арестовали их и тут же расстреляли Вайтера. Чудом избежавший расправы Нигер скоро уехал в США, там стал сотрудником газеты «Тог» («День»), где работал до конца жизни, публиковал еженедельные очерки о книгах, статьях и литературных течениях. Младший брат Нигера, идишский поэт, прозаик, мемуарист, публицист, переводчик Даниэль Чарный (1888, Минская губ. — 1959, Бостон; эмигрировал в 1924), интересен еще и тем, что в 1915 г. открыл в Марьиной Роще в Москве сиротский приют, где детей обучали на идише.
(обратно)296
Литовский Иерусалим, традиционное название еврейской Вильны.
(обратно)297
Элизабет Виже-Лебрен (1755–1842), французская художница, мастер несколько идеализированных, отмеченных сентиментализмом портретов в духе XVIII века; в России писала портреты знати и членов царской семьи.
(обратно)298
В 1912 г. в Королевском театре в Копенгагене была поставлена пьеса «За стенами» известного драматурга, режиссера и театрального историка X. Натансена (1868–1944), сиониста, происходившего из благополучной еврейской семьи. Натансен поднимал проблему смешанных браков, и его пьеса имела драматический финал: еврейская девушка покидала дом жениха-датчанина из-за оскорбления, нанесенного ее родителям. Однако по требованию публики пьесе был придан счастливый конец: жених, молодой датчанин — специалист по еврейской истории, объявлял, что в человеке важны человеческие качества, а не национальное происхождение. Пьеса имела огромный успех и обошла многие сцены Европы.
(обратно)299
Венская кухня (нем.).
(обратно)300
Как я до этого дошел? (нем.).
(обратно)301
Триест — портовый город в Северной Италии, на берегу Триестского залива Адриатического моря, в первой половине XX в. был узловым пунктом на пути из Европы в Страну Израиля.
(обратно)302
«Гатиква» («Надежда», 1886) — стихотворение ивритского поэта Нафтали Герца Имбера (1856, Злочев, Галиция, ныне Львовская обл., Украина, — 1909, Нью-Йорк), положенное на музыку и ставшее национальным гимном, а с 1948 г. — государственным гимном Израиля. См. перевод, выполненный А. Яффе (с. 716).
(обратно)303
Под палестинцами здесь и далее понимаются еврейские колонисты в Стране Израиля.
(обратно)304
Десерт из безе, изюма, орехов и цукатов.
(обратно)305
Морской порт в Адриатическом море, на границе Италии и Хорватии.
(обратно)306
А. Бельшовский. Гете: его жизнь и произведения. Пер. О. А. Рохмановой. Под ред. П. Вейнберга. СПб.: Изд. С. Г. Юфтина, т. 1 — 1898, т. 2 — 1908.
(обратно)307
Палуба (англ.). См. об этой поездке стихотворение Л. Яффе «У берегов Корфу» (с. 694).
(обратно)308
Ифигения, дочь Агамемнона и Клетемнестры — героиня греческих мифов, трагедий и произведений римской и европейской культуры; пользовалась покровительством богини Артемиды. Кандия, город на острове Крит, никак с Ифигенией не связан.
(обратно)309
Йосеф Трумпельдор совместно с английским полковником Джоном Паттерсоном сформировал к марту 1915 г. в Египте воинский отряд, который получил название Сионский корпус погонщиков (известен также как Отряд погонщиков мулов) и насчитывал 650 человек. Командовал отрядом Паттерсон. После короткой подготовки большая часть отряда была отправлена на полуостров Галлиполи для участия в десантной операции. Две роты отряда во главе с Паттерсоном и Трумпельдором в период тяжелых боев доставляли солдатам в окопы боеприпасы, воду и продовольствие. После провала галлиполийской экспедиции Отряд погонщиков мулов был переправлен в Александрию и распущен.
(обратно)310
Джара (арабск.) — большой кувшин.
(обратно)311
См. стихотворение Л. Яффе «У родных берегов» (с. 695).
(обратно)312
Вероятно, речь идет о брате Лейба Яффе, Бецалеле, и его семье. Бецалель Яффе (1868, Гродно — 1925, Тель-Авив) был сионистским деятелем в России и Палестине, участвовал в первых сионистских конгрессах, а с 1907 г. отвечал за выпуск сионистской литературы на иврите, идише и русском языке в Литве. В 1909 г. поселился в Тель-Авиве и сразу поехал изучать ирригацию, а по возвращении основал товарищество по с.-х. орошению, построившее в 1912 г. первую оросительную станцию на реке Яркон. В 1910 г. возглавил общество «Геула», скупавшее земли для нового ишува, и в 1920 г. на приобретенной им земле был заложен новый район Тель-Авива (так наз. «Центральный Тель-Авив»).
(обратно)313
Бен-Цион Мосинзон (1878–1942), один из первых российских евреев, получивших высшее образование в Швейцарии (Берн). В 1907 г. поселился в еврейском квартале Яффы Неве-Цедек, а затем перебрался в Тель-Авив, где стал учителем Библии в гимназии «Герцлия», а с 1912 по 1941 был директором этой гимназии.
(обратно)314
Меир Дизенгоф (1861–1936), сионистский деятель. В 1909 г. стал членом товарищества Ахузат-Байт (60 семей), заложившего первую улицу Тель-Авива, а с 1921 г. — первым мэром города. Не имея детей, Дизенгоф отдал свой дом под музей города и завещал ему все свое имущество. Он также основал в Тель-Авиве Музей изобразительного искусства.
(обратно)315
Первыми после войны прибыли из России в Палестину 637 иммигрантов на судне «Руслан», отбывшем из Одессы 14 ноября и приставшем в Яффе 19 декабря 1919 г.
(обратно)316
Билу — аббревиатура слов библейского стиха «Бейт Яаков леху венелха…» («Дом Иакова, идите и будем ходить [в свете Господнем]», Исайя, 2:5): название одной из групп еврейского национального движения «Ховевей Цион» («Любящие Сион», или палестинофилы). Создана в 1882 г., главным образом, учащейся еврейской молодежью. Билуйцы были среди первых еврейских колонистов, прибывших из России в Палестину в 1882 г. Несмотря на относительно небольшую численность этой группы, ее социальная и идеологическая активность имела значительное влияние на развитие нового еврейского поселения на исторической родине евреев.
(обратно)317
В годы Первой мировой войны турецкие военные власти в Сирии и Палестине, возглавляемые Ахмедом Джемалем (Кемалем) — пашой, проводили жесткую репрессивную политику в отношении национальных и религиозных меньшинств, которых они подозревали в сотрудничестве с врагами Османской империи. Десятки тысяч евреев — подданных европейских государств, проживавшие в Палестине, — были депортированы или бежали в Египет. Тяжелое положение населения Палестины усугублялось нехваткой продовольствия, болезнями и принудительной мобилизацией в армию и на трудовые работы.
(обратно)318
Иврит сефардской фонетической нормы, принятой среди потомков испанских изгнанников и выходцев из восточных еврейских общин и ставшей основой современного ивритского произношения, и иврит ашкеназской фонетики, принятой, главным образом, в восточноевропейских общинах.
(обратно)319
Тейманские, т. е. сделанные в Теймане (иврит) — Йемене.
(обратно)320
Сарафенд [Црифин] — местность на Прибрежной равнине в 3 км северо-восточнее города Рамла, где во время Первой мировой войны располагалась центральная база британских сил вторжения. Там формировались и обучались батальоны еврейских добровольцев.
(обратно)321
Микве-Исраэль — сельскохозяйственная школа, расположенная к востоку от Яффы. Основана международной филантропической организацией Alliance Israélite Universelle (Всемирный еврейский союз) в 1870 г. для развития земледельческого труда среди местного еврейского населения. В последующие годы Микве-Исраэль играла важную роль в еврейской колонизации Палестины и внедрении современных методов хозяйствования в еврейских поселениях. В 1898 г. у входа в Микве-Исраэль Герцль приветствовал кайзера Германии Вильгельма II, прибывшего в страну с визитом.
(обратно)322
Декларация Бальфура — письменное заявление британского министра иностранных дел Артура Джеймса Бальфура (2 ноября 1917 г.) о поддержке британским правительством создания еврейского национального очага в Палестине.
(обратно)323
Элиэзер (Лазарь Маркович) Марголин (1874, Белгород, Россия — 1944, Сидней), сионист, земледелец в Реховоте в 1892–1900 гг. В 1919 г. возглавил Еврейский легион (на иврите — гдуд) в составе британской армии.
(обратно)324
Здесь: торговая лавка для солдат (canteen — англ.).
(обратно)325
Исраэль Шохат (1886–1961), племянник востоковеда А.Я. Гаркави (1835–1919), был тогда учителем в Микве-Исраэль и лектором на действовавших там курсах для рабочих, где преподавали также Берл Каценельсон, Аарон Давид Гордон и др. Шохат был одним из основателей отряда еврейской самообороны в Палестине «Ѓа-шомер» и «Гдуд ѓа-авода» — с.-х. отряда-коммуны, действовавшего в ряде поселений с 1921 г. Участник об-ва «Геула» (см. прим. 306), один из организаторов строительства Техниона в Хайфе.
(обратно)326
В книге слово подчеркнуто (прим. верстальщика).
(обратно)327
Хор девушек из оперы А. Рубинштейна «Демон». Ш. Черниховский перевел слова на иврит.
(обратно)328
Первые в Палестине еврейские женские курсы для подготовки учительниц и воспитательниц детских садов («садоводниц»). Основаны в 1913 г. в Яффе, в 1918 г. переведены в Тель-Авив; названы именем Эльханана Лейба Левинского (1858–1910), литератора, пропагандиста языка иврит, одесского палестинофила.
(обратно)329
См. стихотворение Л. Яффе «На дюнах у Ришон ле-Цион» (с. 712).
(обратно)330
ПИКО (ашкеназское произношение), или ПИКА (сефардское произношение), а по-русски ПЕКО — Палестинское еврейское колонизационное общество, основанное в 1926 г. бароном Эдмоном Джеймсом де Ротшильдом (1845–1934) и принявшее на себя в Палестине функции еврейского колонизационного общества, филантропической организации, созданной в 1891 г. на средства барона Мориса де Гирша (1831–1896) для еврейского заселения Аргентины. Хотя формально ПЕКО в 1920 г. не существовало, Ришон-ле-Цион во многом жил на средства Ротшильда.
(обратно)331
Кидуш (ивр.) — ритуал благословения виноградного вина и хлеба, открывающий первую (в пятницу вечером) и вторую (в субботу утром) субботнюю трапезу.
(обратно)332
Келим — домотканый ковер без ворса.
(обратно)333
Раввинская ординация (иврит).
(обратно)334
Радующиеся (иврит).
(обратно)335
Вид пальмы.
(обратно)336
Исраэль Аѓарони (1882, м. Видз, Литва — 1946, Иерусалим), выдающийся зоолог, профессор Еврейского университета в Иерусалиме. Получил традиционное образование в Тельзской иешиве, окончил Пражский университет. С 1901 г. жил в Реховоте, был директором еврейской школы и создал первый в Палестине еврейский детский сад. Коллекционировал местную фауну и флору, за что был прозван «сумасшедшим мухоловом». В 1908 г. участвовал в исследовательской экспедиции к Мертвому морю. В годы Первой мировой войны был мобилизован Джамаль-пашой на борьбу с саранчой, объявлен государственным зоологом и получил задание создать коллекцию чучел ближневосточных птиц и животных. В честь Аѓарони названы более 30 видов открытых им млекопитающих, птиц и насекомых.
(обратно)337
Ицхак Эпштейн (1862–1943), лингвист и писатель, один из основоположников сионистской системы просвещения в Палестине. С 1876 г. жил в Одессе, в 1886 г. на средства Ротшильда прибыл в Палестину, занимался земледелием в Зихрон-Яакове и Рош-Пине. На опыте 10-летней работы в школе в Цфате разработал теорию «преподавания иврита на иврите». В 1919–1923 был директором Учительской семинарии им. Э. Л. Левинского. В 1907 г. выступил в журнале «Ѓа-Шиллоах» со статьей о том, что, покупая земли у арабских эфенди, сионисты сгоняют с земель арабских крестьян-арендаторов, что сомнительно с этической и социальной точек зрения. Статья вызвала бурную полемику.
(обратно)338
Мария Монтессори (1870–1952), итальянский педагог, специалист в области воспитания детей младшего возраста.
(обратно)339
Детский сад (иврит). Примечательно, что, живя в Израиле, Фрида Яффе большинство встречающихся в тексте ивритских слов «озвучивает» согласно фонетике ашкеназского иврита.
(обратно)340
Бейтар — не родина Маккавеев (середина II в. до н. э.), а последний оплот еврейских повстанцев под водительством Бар-Кохбы (132–135 гг. н. э.). См. об этой поездке стихотворения Л. Яффе «В поезде» и «У развалин Бетара» (с. 703).
(обратно)341
Образ Уризля Д’Акосты (1585–1640), еврейского философа-вольнодумца, вдохновлял писателей и художников в разных странах и был воплощен на сцене, в частности, в одноименной опере В. Серовой по трагедии К. Гуцкова (1847).
(обратно)342
«Доброй субботы!» (идиш).
(обратно)343
Итамар Бен-Ави (1882–1943), журналист, первенец идеолога и практика возрождения разговорного иврита Элиэзера Бен-Иегуды (1858–1922); считается первым современным ребенком, для которого единственным родным языком был иврит.
(обратно)344
Борис Шац (Барух Дов; 1862–1932), скульптор, идеолог еврейского искусства в возрожденной Палестине. Получил традиционное образование. Учился в иешиве и худ. школе в Вильне, затем в школе худ. ремесел в Варшаве. С 1889 г. в Париже, в студии М. Антокольского. Участвовал в выставках и в 1894 г. был приглашен в Софию, где возглавил Академию художеств и получил звание профессора и придворного скульптора короля Фердинанда. Познакомившись с Т. Герцлем, проникся идеей сионизма, в 1906 г. приехал в Иерусалим и основал «Школу искусств и ремесел Бецалель». В годы Первой мировой войны «Бецалель» был закрыт, а Б. Шац в 1917 г. выслан турками в Дамаск. В 1919 г. он вернулся, возобновил деятельность академии и создал при ней зоологический и геологический музей, а также организовал в Бейт-Шемене ковровую фабрику, где работали йеменские евреи. В 1930 г. поехал в США собирать пожертвования для «Школы» и там умер.
(обратно)345
Сэр Патрик Геддес (1854–1932), биолог, социолог, архитектор-градостроитель, общественный деятель. В 1919 г. представил проект комплекса Еврейского университета в Иерусалиме, в 1925 г. разработал план застройки северного Тель-Авива вокруг нынешних улиц Бен-Иегуда и Дизенгоф до реки Яркон.
(обратно)346
Гробница фараона Тутанхамона (XIV в. до н. э.), единственная почти неразграбленная египетская царская усыпальница, была открыта в 1922 г.
(обратно)347
Абдул Хамид II, султан Османской империи, правил в 1876–1909 гг. Установил в империи деспотический репрессивный режим и был причастен к организации массовых убийств турецких христиан (в основном, армян).
(обратно)348
Скала, над которой возведена мечеть Омара (арабское название — Куббат ас-Сахра, Купол скалы), в еврейской традиции связана с несколькими сюжетами. Помимо названных мемуаристкой, это и краеугольный камень мироздания (на иврите — эвен штия), о чем сообщает Мидраш Берешит-раба. Мусульмане полагают, что с этого камня Мухаммад поднялся на небо после своего ночного перелета из Мекки.
(обратно)349
См. стихотворение Л. Яффе «У Западной стены» (с. 709). Мемуаристка не совсем права: Стена Плача, уцелевший фрагмент стены, подпиравшей Храмовую гору, была построена в эпоху правления Ирода I (37— 4 гг. до н. э.), не отраженную в еврейских библейских книгах.
(обратно)350
Хадж Амин аль-Хусейни (1893–1974), лидер националистического движения палестинских арабов, главный идеолог и организатор террора арабов против еврейских колонистов и английской власти. Искал поддержки фашистской Италии и нацистской Германии, в годы Второй мировой войны активно сотрудничал с Гитлером, вербовал мусульман-добровольцев для выполнения плана уничтожения евреев. В 1920 г. аль-Хусейни был заочно приговорен британским судом к 15 годам тюрьмы за организацию погромов в апреле этого года в Иерусалиме, но Г. Сэмюэл в марте 1921-го произвел его в муфтии Иерусалима. В 1922 г. аль-Хусейни был избран председателем Верховного мусульманского совета и стал последовательно руководить антиеврейской экстремистской деятельностью арабов, в том числе их вооруженными выступлениями в 1929 и 1936–1939 гг., о чем Ф. Каплан расскажет далее.
Герберт Луис Сэмюэл, виконт (1870–1963), британский политик, активный сторонник еврейской колонизации Палестины. Получил ортодоксальное еврейское образование и окончил университет в Оксфорде. В 1920–1925 гг. занимал пост верховного комиссара Палестины и Трансиордании.
(обратно)351
См. стихотворение Л. Яффе «В Омаровой мечети» (с. 706).
(обратно)352
См. стихотворение Л. Яффе «На Масличной горе» (с. 704). Авессалом (Авшалом), сын царя Давида, поднявший бунт против отца и временно захвативший трон в Иерусалиме (II Царств, гл. 13–18). Захария (Зхарья), библейский пророк.
(обратно)353
Ицхак Лейб Гольдберг (1860, м. Шакяй — 1935, Швейцария; похоронен в Тель-Авиве), сионистский деятель и филантроп, представлял сионистскую организацию Вильны, поддерживал финансово идишские и ивритские периодические издания в России, труппу «Габима» до переезда в Москву, газету «Ѓа-Арец» в Палестине (с 1919). Когда в 1916 г. стало известно, что сэр Грей Хилл («чудак-англичанин», как напишет ниже Ф. Каплан) собирается продавать свои земельные владения на горе Скопус, Гольдберг купил эту землю на имя зятя, агронома Шмуэля Толковского, и передал ее фонду Керен Каемет под строительство Еврейского университета, идея о котором дискутировалась с 1884 г. «Краеугольный камень» университета был заложен Хаимом Вейцманом в 1918 г., а открытие состоялось 1 апреля 1925 г.
(обратно)354
В 1921–1923 гг. мандатные власти предприняли попытку ввести национальные самоуправления в Палестине, в т. ч. «еврейскую экзекутиву», исполнительную власть. Активным членом «еврейской экзекутивы» с 1921 г. был Менахем Мендел Усышкин, много сделавший для налаживания контактов еврейских колонистов с мандатными властями. Из-за противодействия арабов англичане отменили этот порядок.
(обратно)355
Пинхас (Петр Моисеевич) Рутенберг (1878–1942), активный член партии эсеров, инженер-гидролог, сионист, в 1919 г. обследовал водные ресурсы Палестины с целью получить от мандатных властей разрешение на электрификацию ишува (в 1932 г. по его проекту была построена гидроэлектростанция в Трансиордании, от которой питалась энергией Палестина). См. о нем: В. Хазан. Пинхас Рутенберг: от террориста к сионисту. М.-Иерусалим: Гешарим — Мосты культуры, 2008, 2 тт.
(обратно)356
Рутенберг вместе с писателем Андреем Соболем (Юлий Михайлович Соболь; 1888–1926) был на даче у Яффе 22 марта 1918 г. (см. Хазан. Пинхас Рутенберг, с. 417–418).
(обратно)357
Дамский клуб (англ.).
(обратно)358
См. стихотворение К. А. Шапиро в пер. Л. Яффе (с. 717).
(обратно)359
Имеется в виду строение над пещерой Махпела — склеп патриархов близ древнего Кирьят-Арба (Хеврон), в котором, согласно Библии (Быт. 23; 49:29–32; 50:13), похоронены Авраам, Ицхак и Яаков, а также их жены Сара, Ривка и Леа. Устное предание говорит, что там похоронены также Адам и Ева. Пока Страна Израиля была под мусульманским владычеством, вход евреям в святой склеп был запрещен, они могли лишь подниматься на несколько ступеней и опускать листки с просьбами в специальное отверстие.
(обратно)360
Гробница царей — внушительная усыпальница к северу от Старого города, которую поначалу атрибутировали как захоронения еврейских царей. В 1898 г. ее посетил Т. Герцль. Современные археологи считают, что это гробница Елены, царицы Адиабены — небольшого государства, располагавшегося в верхнем течении реки Тигр, цари которого приняли иудаизм около 40 года н. э.
(обратно)361
Святая Елена (Флавия Юлия Елена Августа; ок. 250–330), мать императора Константина I. Прославилась деятельностью по распространению христианства в Восточной Римской империи. Согласно свидетельствам христианских хроник, в 324–325 гг. совершила паломничество в Святую землю, где дала распоряжение о строительстве церквей в основных священных для христиан местах, в том числе в Иерусалиме (церковь Гроба Господня). Святая Елена не была похоронена в Иерусалиме, и возможно, мемуаристка спутала ее с Еленой, царицей Адиабены.
(обратно)362
В Серапейоне (Сарапеуме) помещалась уцелевшая после пожара 47 г. до н. э. часть Александрийской библиотеки, которая была окончательно уничтожена с его разрушением в 391 г.
(обратно)363
Складные переносные прилавки.
(обратно)364
Участок дороги, называемый «семь сестер» (Seven Sisters), где дорога делала семь поворотов, находился на пути из Иерусалима между населенным пунктом Арза до поселка Маоз Цион (сегодня поглощено городом-спутником Иерусалима Мевасерет Цион). Считается, что этот путь шел по древней римской мощеной дороге.
(обратно)365
15-е число месяца швата, или Ту-би-шват, так называемый Новый год деревьев, особый праздник, связанный с сельскохозяйственным циклом на земле Израиля. Сионисты ввели обычай отмечать этот день посадками деревьев. См. стихотворение Л. Яффе «Новолетие деревьев» (с. 711).
(обратно)366
Ицхак Шарль Неттер (1826–1882), французско-еврейский общественный деятель, один из создателей международной филантропической организации Alliance Israélite Universelle (Всемирный еврейский союз) и его первый лидер, инициатор и основатель Микве-Исраэль (см. прим. 321).
(обратно)367
Герой русско-японской войны, офицер царской армии, еврей Йосеф (Иосиф Владимирович) Трумпельдор (1880–1920) командовал еврейской самообороной в Палестине. Он отвечал за защиту поселений в Верхней Галилее от арабских повстанцев, действовавших против французских властей Сирии. 1 января 1920 г. Трумпельдор прибыл на место и с местными колонистами, а также с добровольцами из более южных районов приступил к укреплению поселений Тель-Хай, Кфар-Гилади и Метула. 1 марта 1920 г. значительные силы арабов подошли к Тель-Хаю. Во время переговоров с их лидерами завязалась перестрелка, и Трумпельдор был ранен в живот. Бой продолжался весь день, и лишь вечером Трумпельдор вместе с другими ранеными был эвакуирован в Кфар-Гилади, но в пути умер.
(обратно)368
Приписываемая Трумпельдору ивритская фраза «Тов ламут беад арцену» — «Хорошо умереть за родину» — стала хрестоматийной в истории сионизма, однако интересно ее сравнить со свидетельством Жаботинского, воевавшего с Трумпельдором в Еврейском легионе: «По-еврейски <на иврите. — З. К.> любимое выражение его было: „эн давар“ — ничего, не беда, сойдет. Рассказывают, что с этим словом на губах он и умер». В. Жаботинский. Слово о полку. Гл. 2. fictionbook.ru/author/vladimir_jabotinskiyi/slovo_o_polku/read_online.html
Истинность приписываемых Трумпельдору слов вызывает сомнение и в наше время. Менуха Гилула, например, полагает, что бывший ученик русской гимназии произнес одну из зазубренных в юности латинских фраз, на сей раз из Горация: «Dulce et decorum est pro patria mori», т. е. «Приятно и достойно умереть за родину» (газ. «Ѓа-Арец», 18.02.2000. С.15), и этим словам потом дали ивритское выражение.
(обратно)369
Французский психолог Теодюль Рибо (1839–1916), создатель экспериментальной психологии, автор книг «Болезни памяти» (1881), «Болезни воли» (1883), «Болезни личности» (1885).
(обратно)370
Неби Муса (пророк Моисей — арабск.). Вот как описывает этот праздник дочь писателя Ш. Й. Агнона Эмуна Ярон: «На шествие Неби Муса собирались арабы из городов и деревень в окрестностях Иерусалима и шли длинной пестрой колонной, размахивая флагами. Процессия бесконечно тянулась, сопровождаемая скандированием и пением. В детстве это монотонное пение ласкало мне слух, возможно, оттого, что я могла запомнить мелодию и потом напевать ее про себя. Во время шествия мы выходили на улицу смотреть на празднующих. Мама определяла их по женским одеждам: эти из Бейт-Лехема, эти — из Хеврона, а те — из Шхема. Тогда <в 1925> мы радовались этому зрелищу, с годами шествие сделалось угрожающим и сопровождалось антиеврейскими выкриками. В 1929 году во время шествия англичане не отреагировали на оскорбительные выкрики идущих и не помешали им устроить погром. Через несколько лет эти шествия прекратились. Когда я спросила <араба> работника в бассейне ИМКА, почему не видно шествий Неби Муса, он ответил мне, что это были политические демонстрации. По верованиям мусульман, могила Моисея находится вблизи Иерихона. Они указывают на одноэтажное строение. Посреди одной из комнат есть возвышение в виде полусферы, и это, по их словам, могила Моисея» (Э. Ярон. Праким ми-хаяй (Главы моей жизни). Иерусалим-Тель-Авив: Шокен, 2005. С. 34).
(обратно)371
Разделяй и властвуй (лат.).
(обратно)372
Дворничиха, сторожиха (польск.).
(обратно)373
Господин еврей (идиш).
(обратно)374
Жаботинский был арестован британскими властями за участие в еврейской самообороне во время беспорядков 1920 г. в Иерусалиме. Британский суд в Палестине приговорил его к пятнадцати годам лишения свободы и каторжных работ. Л. Яффе посетил Жаботинского в тюрьме Акко в мае 1920 г., а в июле того же года, под давлением общественного мнения в Палестине и Великобритании, власти были вынуждены Жаботинского освободить.
(обратно)375
Жаботинский не принял назначения сэра Герберта Сэмуэла, поскольку тот был сторонником ограниченной иммиграции евреев в Палестину и заискивал перед арабами, а в годы Первой мировой войны препятствовал созданию Еврейского легиона. Маневрируя между своими просионистскими симпатиями и курсом на умиротворение радикальных арабских кругов в Палестине, которому следовало британское правительство, Сэмюэл способствовал отходу мандатных властей от принципов Декларации Бальфура.
(обратно)376
Речь, видимо, о состоявшейся 19–26 апреля 1920 года в Сан-Ремо (Италия) конференции с участием глав стран Антанты, когда мандат на Палестину был передан британскому правительству. Хотя Декларация Бальфура датируется 2 ноября 1917 г., фактически лишь в 1922 г., по заключении мира с Турцией и подписании британского мандата на территорию Палестины, в мандат было вписано, что Великобритания признает «историческую связь еврейского народа с Землей Израиля и право основать в ней заново свой национальный очаг».
(обратно)377
Неточно цитируется благословение (иврит), произносимое при радостном событии: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь вселенной, Который даровал нам жизнь, и поддержал нас, и дал нам дожить до этого времени!»
(обратно)378
«Механизм мыслей» (Schaltwerk des Gedankens — нем).
(обратно)379
Видимо, письма немецкого художника Отто Бруно (1881–1975).
(обратно)380
Немецкий прозаик Якоб Вассерман (1873–1934) был сторонником ассимиляции евреев и противником их национальной идеи. Роман «Христиан Ваншаффе» (1919) Фрида читала по-немецки. Висенте Бласко Ибаньес (1867–1928), испанский писатель, младший представитель плеяды писателей-реалистов второй половины XIX в. Рихард Бер-Хофман (Беер-Хофман; 1866–1945), австрийский поэт, романист и драматург, участник литературной группы «Молодая Вена»; его библейская пьеса «Сон Иакова» (1918) была переведена на иврит С. Бен-Ционом и поставлена театром «Габима» (1925).
(обратно)381
Еврейское новолетие приходится обычно на сентябрь.
(обратно)382
«Дни трепета» (ашкеназск. иврит) — десять дней от Рош ѓа-Шана до Йом Кипура, включительно.
(обратно)383
Авраам Мельников (1892, Бессарабия — 1960, Хайфа), из первых еврейских скульпторов в Палестине, куда приехал из России в 1918 г. Учился в Академии художеств в Чикаго, в годы Первой мировой войны пошел добровольцем в Еврейский легион. В 1923–1928 гг. вместе с художниками Й. Зарицким и Ш. Леви устраивал ежегодные выставки в Башне Давида в Старом Городе. С 1923 г. был председателем Союза ивритских художников. В 1934–1960 гг. жил в Лондоне, куда приехал по приглашению состоятельных евреев, заказавших ему скульптурные портреты, и где остался в связи с началом войны. Делал бюст генерала Алленби, У. Черчилля и его дочери и мн. др. Его «Рычащий лев» (здесь «Лев в пустыне») на могиле Трумпельдора выполнен в эстетике, как казалось, отвечавшей духу древней Земли Израиля. Похоронен в Кфар-Гилади, неподалеку от этого памятника.
(обратно)384
Пьеса И.Л. Переца «Пожар» («Ѓа-Срейфе») впервые была сыграна в числе четырех одноактных пьес в Москве 8 октября 1918 г. (реж. Е. Вахтангов). Премьера спектакля по пьесе Давида Пинского «Вечный жид» состоялась в Москве в декабре 1919 (реж. В. Мчеделов), по пьесе С. Ан-ского «Дибук» — там же 31 января 1922 г. (реж. Е. Вахтангов).
(обратно)385
«Габима» прибыла в Палестину только в 1928 г.
(обратно)386
Генриетта Сольд (1860, Балтимор, США — 1945, Иерусалим), педагог, сионистский деятель в Балтиморе; в 1907 г. организовала 38 еврейских женщин в группу «Хадаса» («Адаса»), из которой позднее выросла международная сионистская организация медицинской и гуманитарной помощи. С 1920 г. Сольд жила в Палестине, возглавляла местную «Хадасу», руководила молодежной алией и т. д.
(обратно)387
Джесси Семптер (Jessie Sampter; 1883, Нью-Йорк — 1938, Гиват Бреннер), педагог, поэт, в Палестине с 1919 г. Пришла к сионизму под влиянием Г. Сольд. В США преподавала на курсах «Хадассы», готовила сионистских агитаторов и будущих поселенцев. В Палестине инициировала создание скаутского движения и организованную помощь репатриантам из Йемена.
(обратно)388
Вот как это происходило: «Яффа была важным политическим центром арабов в Палестине и источником антисионистской пропаганды. В мае 1921 г. возле еврейского квартала Неве-Шалом во время Первомайской демонстрации началась стычка между колонной организации Поалей Цион и колонной еврейских коммунистов. Арабские лидеры воспользовались этим и стали подстрекать к нападению на евреев Яффы и граничащих с ней кварталов. Тысячи арабов Яффы и окрестностей собрались в городе и набросились на евреев. Были убиты прохожие на улице Бутос и в яффском порту. Арабские погромщики, вооруженные палками, железными прутьями и ножами, напали на еврейское общежитие к югу от Яффы, по дороге к кварталу Аджами, где проживало на тот день почти сто новых репатриантов, и на еврейские кварталы Неве-Шалом и Неве-Цедек. В час дня толпы вооруженных дубинками и кинжалами арабов вместе с арабскими полицейскими ворвались в здание общежития и буквально затопили его этажи. Лишь спустя два с половиной часа после начала погрома туда прибыл начальник яффского порта в сопровождении одного полицейского. Уже первого выстрела было достаточно, чтобы погромщики начали покидать место. Одиннадцать новых репатриантов были убиты, двадцать шесть ранены, причем двое из них вскоре скончались от ран. В Неве-Цедек и Неве-Шалом вооруженные палками и железными прутьями арабы избивали прохожих, да еще тринадцать евреев были ранены выстрелами арабских полицейских. Улицы Яффы подверглись нападениям и грабежам. Погромщики сгрудились на границе квартала Менасия, куда их оттеснила небольшая группа полицейских. Только в 15.45 в Яффу начали прибывать английские войска из лагеря в Сарафенде и из Иерусалима и навели порядок в городе. На следующий день, 2 мая, арабские погромщики напали на отдаленный дом семьи Яцкер, расположенный среди фруктовых садов к востоку от Абу-Кабира. Семь обитателей дома, не успевших эвакуироваться — и среди них писатель Йосеф Хаим Бреннер и его товарищи, тоже писатели, Цви Шац и Йосеф Луидор, — были зверски убиты. <…> За пять дней погромов 49 еврейских жителей Яффы и окрестностей были убиты и более ста — ранены» (Я. Шавит, Г. Бигер. Га-история шель Тель-Авив (История Тель-Авива). Т. 1: Рождение города, 1909–1936. Тель-Авив: изд-во Тель-Авивского университета, 2001. С. 117.)
(обратно)389
Длинное традиционное арабское женское платье с рукавами; не подпоясывается; предназначено для ношения в общественных местах. Здесь: свободная верхняя одежда мужчины.
(обратно)390
Сионистские энтузиасты страдали от безработицы, поскольку их неумелому труду еврейские плантаторы и хозяйственники предпочитали дешевый и умелый труд арабов, что отражено в такой вот незатейливой, по-русски (!) распевавшейся песне (Сефер га-алия га-шлишит (Книга третьей алии, 1919–1923). Тель-Авив: Ам овед, 1964. С. 570): «Когда колонисты / Арабов, арабов нанимают, / Тогда все халуцы / Поголовно голодают. // Когда арабы / На колонию, на колонию наступают, / Тогда все халуцы / Колонистов защищают».
(обратно)391
Макс Нордау (Симха Меир Зюдфельд; 1849–1923), писавший по-немецки литератор, философ и еврейский общественный деятель, один из создателей Всемирной сионистской организации. Нордау видел в переселении евреев в Палестину не только исполнение национальной мечты, но и путь к физическому спасению европейского еврейства. Позднее Нордау поддержал «план Уганды», а после погромов Гражданской войны в России предложил план массового переселения евреев Украины и России в Палестину, что было отклонено сионистским руководством.
(обратно)392
П. И. Бирюков. Биография Л. Н. Толстого в 4-х тт. М., 1905–1924, или: Краткая биография Л. Н. Толстого. М., 1908, 1912.
(обратно)393
Фрида читала книгу: Rosa Luxemburg. Briefe aus dem Gefangnis (Письма из тюрьмы). Berlin: Jugendinternationale, 1922, где все письма адресованы Софии Либкнехт — жене Карла Либкнехта, немецкого революционера и коммуниста, расстрелянного 15 января 1919 г. вместе с соратницей по компартии Розой Люксембург. Примечательно, что книга достигла Палестины в течение нескольких месяцев.
(обратно)394
Пианистка Надя Этингон-Рейхерт (1906, Киев — ? Тель-Авив), дочь еврейского филантропа Альтера Этингона, окончила Киевскую консерваторию по классу фортепиано, училась в Германии у А. Шнабеля, концертировала в России, Германии, Австрии, Англии, Ливане и др. С 1925 г. жила в Тель-Авиве, была председателем Союза еврейских композиторов.
(обратно)395
Тельма Елин (дев. фам. Бентович; 1895, Лондон — 1959, Иерусалим) окончила Королевское музыкальное училище в Лондоне по классу виолончели, училась у П. Казальса, концертировала с 1915 г. С 1920 г. жила в Иерусалиме, где преподавала в музыкальной школе, основала общество музыкантов-исполнителей и Иерусалимский струнный квартет.
(обратно)396
Видимо, фильм американского режиссера Юджина Мура (Moore) «Joseph in the Land of Egypt» (1914).
(обратно)397
Квиш (иврит) — мощеная дорога, шоссе. Многие сионистские энтузиасты работали на прокладке шоссейных дорог: дробили камень, возили в тачках песок и щебень, выравнивая будущее дорожное полотно.
(обратно)398
Весенний праздник Пурим (обычно в марте) имеет несколько ритуальных традиций, одна из которых — пуримные театрализованные представления по библейской книге Эсфирь (на идише — пуримшпиль) — положила начало еврейским карнавалам.
(обратно)399
Букв. «радости» (идиш).
(обратно)400
Персонажи кн. Эсфирь (их имена даются в мемуарах в ивритском варианте): царица Эсфирь, Артаксеркс, Мордохей и злодей Аман. Шушан Хабира (иврит) — престольный город Сузы.
(обратно)401
«Тай» — «Театрон эрец-исраэли», т. е. «Театр Земли Израиля», был основан в 1923 г. в Берлине; его первый главный режисер — Менахем Гнесин (1882–1951), ученик школы К. Станиславского. Пьеса на традиционную тему — А. Роше, «Валтасар» — была премьерой театра, в 1924 г. переехавшего в Палестину. «Тай» закрылся в 1929 г.
(обратно)402
Барон Эдмон де Ротшильд, филантроп, поддерживавший еврейские поселения Страны Израиля, основал в Ришон-ле-Ционе (1882) и Зихрон-Якове (1890) винодельческий кооператив «Кармель Мизрахи», которому суждено было доминировать в израильском виноделии вплоть до 90-х годов XX в.
(обратно)403
Букв. «посылка подарков» (ашкеназский иврит), одна из традиций Пурима — делать подарки друзьям, родным и соседям, посылая их с третьим лицом. Часто посланцами были ряженые дети.
(обратно)404
Цитируются стихи о весне: «Зеленый шум» Н. А. Некрасова (1862) и (неточно) «Весна! Выставляется первая рама — И в комнату шум ворвался» А. Н. Майкова (1854).
(обратно)405
Один из ритуалов Пасхального седера — налить бокал вина для Ильи-пророка и открыть входную дверь, приглашая его прийти особой песней. К этому бокалу в течение суток никто не прикасается, и наутро дети проверяют, отпил ли Илья, был ли он у них дома.
(обратно)406
Артуф — железнодорожная станция у подножия Иудейских гор. См. стихотворение Л. Яффе. «С холма я вижу…» (с. 713).
(обратно)407
Ѓар-Тов (Ѓар-Тув) — небольшое с.-х. поселение, основанное в 1895 г. евреями — репатриантами из Болгарии.
(обратно)408
Харара — сыпь (иврит).
(обратно)409
Знойный ветер, суховей (иврит).
(обратно)410
Видный филантроп и меценат, сионист Файвл Меир Шапиро (1888, Городок, близ Белостока — 1960, Тель-Авив) в 1922 г. специально отправил композитора Михаила Фабиановича Гнесина (1883, Ростов-на-Дону — 1957, Москва) из Петербурга в Баб-эль-Вад (Ворота долины — арабск.), придорожную гостиницу и крепость на полпути из Тель-Авива в Иерусалим, чтобы тот создал «аутентичную» музыку о юности Авраама. Это странное представление о родине Авраама расходится с традиционным, согласно которому Авраам родился в Уре халдейском (см. Бытие, 11:31).
(обратно)411
Газоз (иврит) — название прохладительного напитка (вроде лимонада), весьма распространенного в Палестине; как правило, продавался вразнос на леднике.
(обратно)412
Видимо, цитата из К. Н. Батюшкова: «О век Юпитеров! О времена несчастны! / Война, везде война, и глад, и мор ужасный, / Повсюду рыщет смерть, на суше, на водах…» (Элегия из Тибулла, 1814?).
(обратно)413
Долина (ашкеназский иврит).
(обратно)414
Кибуц Эйн-Харод был основан в 1921 г. членами рабочей коммуны Гдуд га-авода (Рабочий батальон им. Йосефа Трумпельдора).
(обратно)415
Хаверим — товарищи (иврит), здесь — члены кибуца.
(обратно)416
Кибуц Мерхавия был основан в 1921 г. на месте сионистского поселения, заложенного в 1913 г. на землях, купленных в 1909 г. Иегошуа Ханкиным (1864, Кременчуг, Украина, — 1945, Тель-Авив). Вот что писала о Мерхавии приехавшая с мужем из США и ставшая членом кибуца Голда Меир: «В сентябре <1921> мы подали заявление в кибуц Мерхавия в Изреэльской долине, которую мы называем „Эмек“. Мы выбрали этот кибуц, как часто бывает, по случайным причинам: там находился наш с Моррисом друг, прибывший в Палестину с Еврейским легионом. О самой Мерхавии мы знали очень мало — да и вообще о кибуцах мы знали только то, что это поселения, где фермеры живут сообща, не имея личной собственности, наемной рабочей силы и частной торговли, и что коллектив целиком отвечает и за производство, и за обслуживание, и за индивидуальное снабжение. Но оба мы верили — я без всяких сомнений, Моррис с оглядкой, — что жизнь в кибуце больше всего поможет каждому из нас выявить себя как сиониста, как еврея и как человека. <…> Мерхавия (в переводе — Божьи просторы) — один из первых кибуцов, основанных в Эмеке. В 1911 году группа молодых людей из Европы устроила тут ферму, но еле-еле справлялась с ней. Когда в 1914 году разразилась война, соединенные усилия эпидемии малярии, враждебно настроенных соседей-арабов и турецких властей, уговаривавших покинуть это место, сделали свое дело: первая группа не устояла и рассеялась. После войны новое поселение было основано на том же месте, опять-таки пионерами из Европы, к которым присоединились британские и американские ветераны Еврейского легиона (а позже — и мы с Моррисом). Но и эта группа распалась. В 1929 году на то же место пришла третья группа поселенцев, и на этот раз группа выполнила свою задачу — осталась на месте» (Г. Меир. Моя жизнь. Пер. Р. Зерновой. Иерусалим: Библиотека-Алия, 1985).
(обратно)417
Экскурсовод, гид (guide — англ.).
(обратно)418
Мигдал — с.-х. поселение на юге долины Гиносар (6 км севернее Тверии). В 1909–1910 гг. здесь была основана еврейская ферма на землях, приобретенных у немецких католиков, покинувших эти места из-за малярии. В 1920 г. в Мигдале возникли частные хозяйства: выращивали цитрусовые и бананы.
(обратно)419
Аелет ѓа-шахар (Утренняя звезда — иврит), кибуц в Верхней Галилее, основанный в 1918 г.
(обратно)420
Имеется в виду финансовая помощь Рош-Пине барона Эдмона де Ротшильда.
(обратно)421
Маханаим — с.-х. поселение, основанное в 1898 г. группой евреев — выходцев из Галиции. На протяжении последующих лет несколько раз оставлялось и вновь восстанавливалось. В 1939 г. Маханаим был превращен в кибуц, существующий и сегодня. Интересно употребление автором термина «совхоз», введенного в России с 1918 г. как «советское хозяйство»; может быть, здесь имеется в виду «совместное хозяйство»: в начале 20-х годов Маханаим был мошав овдим (поселение трудящихся — иврит), кооперативным хозяйством, каждый член которого работает на своем наделе.
(обратно)422
Меромское озеро, или Мей-Мером — болотистое озеро в долине Хула.
(обратно)423
Шомер (иврит) — страж. Так называли бойцов организации «Ѓа-Шомер», военизированной охраны еврейских поселений от арабских набегов.
(обратно)424
Маня Вильбушевич (1880, близ Гродно — 1961, Кфар-Гилади), активистка еврейского рабочего движения, увлеклась сионистскими идеями и в 1904 г. приехала в Палестину. Здесь участвовала в создании первых с.-х. коллективных поселений и отрядов «Ѓa-Шомер» (совместно с мужем Исраэлем Шохатом, см. прим. 325). О российском периоде ее жизни см.: Рут Баки. Русская рулетка. Пер. Дм. Прокофьева. Изд-во мин. обороны Израиля (без года).
(обратно)425
Пансион Кети Дан (иврит).
(обратно)426
На палубе (deck — англ.).
(обратно)427
Гравий (турецк.?).
(обратно)428
Ваад ѓа-цирим (иврит) — совет представителей, или еврейская экзекутива, орган еврейской исполнительной власти в годы британского мандата на Палестину.
(обратно)429
В прозвании Рудник, видимо, угадывается каламбур: с одной стороны, соединение немецкого «Rüde» (кобель) с суффиксом «-ник» по образцу израильского «нудник», «гаражник» и т. п., а с другой — славянского «руда».
(обратно)430
«Польская держава» (Polska Gromada), «Песнь об отечестве» (Vaterlandslied).
(обратно)431
«Я был пионером, пионером из Польши, ходил себе в башмаках, в башмаках без подошвы» (идиш).
(обратно)432
Песня, которую А. Н. Вертинский (1889–1957) пел в костюме Пьеро: «Я сегодня смеюсь над собой / Мне так хочется счастья и ласки…» (1915).
(обратно)433
«Помидор, помидор, когда я сошел с корабля…» (иврит) — неточное цитирование слов Иегуды Карни (1884, Пинск — 1949, Тель-Авив) из его песенки на музыку Юлия (Йоэля) Энгеля (1868, Крым — 1927, Тель-Авив) «Агванья» («Помидор», иврит, неологизм колонистов).
(обратно)434
Числа, 14:36–38.
(обратно)435
Четвертая алия — волна репатриации евреев в Палестину в 1924–1926 гг., преимущественно из Польши и других стран Восточной Европы.
(обратно)436
Согласно греческому мифу, жрица богини Афродиты Геро была разлучена со своим возлюбленным Леандром, но каждую ночь она зажигала на башне маяка огонь, и Леандр приходил к ней, переплывая Геллеспонт (ныне — пролив Дарданеллы). Сюжет многократно отражен в европейской живописи и литературе.
(обратно)437
Тайер (идиш) — дорогой.
(обратно)438
Dirndl (нем.) — платье альпийских крестьянок в Южной Германии и Австрии; юбка и лиф отделаны воланом и обязательный фартучек.
(обратно)439
Джордже Энеску (1881–1955) — выдающийся румынский скрипач, дирижер и композитор.
(обратно)440
«Дама приятная во всех отношениях» (Н. В. Гоголь. «Мертвые души», ч. 1, гл. 9).
(обратно)441
Изысканная, изящная (от франц. distinguée).
(обратно)442
Нансеновские паспорта — временные удостоверения личности, заменявшие паспорта для беженцев и лиц без гражданства. Были введены Лигой Наций по инициативе Фритьофа Нансена (отсюда и название) по решению созванной в Женеве конференции (1922). Лица, имевшие нансеновский паспорт, пользовались правом проживать и перемещаться в странах — участницах конференции, в их отношении не действовали ограничения, предусмотренные для лишенных гражданства лиц.
(обратно)443
Акция или кампания протеста (от англ. offensive — атака).
(обратно)444
Стихи, проза и драмы индийского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1913) Рабиндраната Тагора (1861–1941) вышли в русском переводе: Р. Тагор. Сочинения, кн. 1–7 (1923–1927).
(обратно)445
Речь идет об осенних праздниках (в сентябре — октябре): Рош ѓа-Шана (Новолетие) и Йом Кипур (Судный день, или День искупления), литургия которых сопровождается коллективным чтением покаянных молитв с перечислением всех возможных грехов и вниманием трубному звуку бараньего рога (шофара).
(обратно)446
Сдержанность (иврит.) — термин, применявшийся для характеристики политики левого крыла сионистского руководства в Палестине и означавший отказ от вооруженной борьбы с англичанами и местными арабами.
(обратно)447
Немецкий и австрийский драматический актер Александр Моисси (1879, Триест — 1935, Вена) особенно прославился в спектакле «Фауст», сначала в роли Фауста, позднее — Мефистофеля, и в пьесе Г. Гауптмана «Белый спаситель» (1920), в роли Монтесумы, вождя ацтеков.
(обратно)448
Мейсен — мейсенский фарфор, изделия первой в Европе фабрики по производству фарфора (1710 г., Мейсен, близ Дрездена), художественно выполненная посуда и мелкая пластика. Розенталь — изделия предприятия по изготовлению посуды из высококачественного белого фарфора с ручной росписью и окраской; основано в 1884 г. в Богемии Филиппом Розенталем (1855–1937).
(обратно)449
Воспитательница в детском саду (иврит).
(обратно)450
Ныне пограничный (на севере Израиля) и туристский пункт Рош ѓа-Никра на берегу Средиземного моря.
(обратно)451
Разрешение на въезд/выезд за границу (франц.).
(обратно)452
Ивритская поэтесса, сионистская подвижница Рахель (Блувштейн; 1890–1931) в 1925 г. лечилась в больнице в Цфате, где, как считалось, горный климат полезен для легочных больных.
(обратно)453
Вторая (после Дгании) с.-х. коммуна в Палестине. Создана в 1913 г. на берегу озера Кинерет (Тивериадского озера), неподалеку от кибуца Дгания.
(обратно)454
Капернаум (Кфар Нахум) — еврейское поселение времен Второго храма на северо-западном берегу озера Кинерет. Согласно Новому Завету, в синагоге Капернаума Иисус проповедовал свое учение (Иоанн 3:43–59, Марк 1:21). Сохранившиеся до нашего времени живописные руины синагоги относятся ко II–III вв. н. э.
(обратно)455
Дгания — первое еврейское поселение, созданное на принципах коллективной собственности и равенства в труде и потреблении. Коммуна в Дгании основана в 1911 г. социалистами — выходцами из России.
(обратно)456
Седжера — с.-х. еврейское поселение в Нижней Галилее, в годы «второй алии» (1904–1914) служило местом подготовки сионистских репатриантов к жизни в Стране Израиля, позднее — центром организаций еврейских рабочих в Галилее. Тот факт, что на земле Седжеры работали арабы, показывает, что еврейские состоятельные арендаторы предпочитали арабский, а не еврейский труд.
(обратно)457
Хана Майзель (1883, Гродно — 1972, Наѓалаль) прибыла в Страну Израиля в 1909 г. дипломированным агрономом (училась во Франции) и поселилась в Седжере, где руководила садоводством. Майзель считала, что еврейские женщины слабо связаны с землей и это отрицательно сказывается на воспитании детей. При поддержке организации еврейских женщин Германии она в 1911 г. основала в мошаве Кинерет первую в Палестине учебную с.-х. ферму для девушек (там, в частности, работала в первые годы по приезде поэтесса Рахель). Ферма просуществовала до 1917 г. и сыграла важную роль в изменении статуса женщины в поселениях, созданных еврейским рабочим движением. В 1912 г. Хана Майзель вышла замуж за Элиэзера Шохата (старшего брата Исраэля), и вместе они были среди основателей мошава Наѓалаль.
(обратно)458
Кооперативное поселение Наѓалаль было основано в 1921 г. и спроектировано архитектором Рихардом Кауфманом. Поселок имеет в плане форму солнца (как воплощение «Города Солнца» Томмазо Кампанеллы), где на плоскости диска расположены общественные постройки, по его окружности — дома жителей, а между «лучами» — сельскохозяйственные угодья.
(обратно)459
Слово «сабра», означающее вид кактусов (Opuntia ficus indica) со съедобными плодами, колючими снаружи и нежными и сладкими внутри, которые во множестве растут в Палестине, стало в иврите устойчивой метонимией уроженца страны в противоположность «голусному» («галутному») еврею.
(обратно)460
Неудовлетворительно (иврит).
(обратно)461
Интернист — здесь: специалист по внутренним болезням.
(обратно)462
Водительские права (licence — англ.).
(обратно)463
Поставщик (Lieferant — нем.).
(обратно)464
«Капля молока» («Типат халав» — иврит) — название сети пунктов медицинской помощи младенцам и молодым матерям.
(обратно)465
Наемный партнер для танцев (Eintänzer — нем.).
(обратно)466
Первый класс (англ.).
(обратно)467
Давос — горный курорт в юго-восточной Швейцарии, с середины XIX в. здесь возникли санатории и лечебницы для легочных больных; место действия книги Т. Манна «Волшебная гора». Сан-Мориц — высокогорный курорт в швейцарских Альпах, с XIX в. стал моден в высшем свете, здесь отдыхал царь Николай II.
(обратно)468
Одно из названий апельсинов, которые были завезены из Китая в Европу португальцами.
(обратно)469
Иерихон расположен близ Мертвого моря, в оазисе, орошаемом несколькими родниками, в т. н. источником Елисея (Ма'ян-Элиша — иврит, Айн-ас-Султан — арабск.): там библейский пророк Елисей жил некоторое время и «сделал воду здоровою… до сего дня» (II Царств, 2: 19–22). См. стихотворение Л. Яффе «У ключа» (с. 699).
(обратно)470
Нахаркум сайда (арабск.) — радостного дня.
(обратно)471
Карантен (от лат. quarante, сорок) — русский православный монастырь Искушения Господня (арабск. название — Дир эль-Каранталь), построенный в 1875–1905 гг. на развалинах византийкой лавры. Расположен на отвесной скале, возвышающейся на 360 м над Иерихонским оазисом.
(обратно)472
Эпизод, описанный в Евангелии от Матфея (4:1–4), где, в частности, сказано: «И приступил к нему искуситель и сказал: Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Иисус цитирует Второзаконие (8:3).
(обратно)473
Как известно, Моисею не дано было войти в Землю обетованную, которую он увидел с горы Нево, «что против Иерихона», и там умер и «погребен в Земле Моавитской… и никто не знает места его погребения даже до сего дня» (Второзаконие, 34:1, 5–6).
(обратно)474
Имеется в виду библейский эпизод взятия Иерихона евреями под водительством Иисуса Навина (Иисус Навин, гл. 6).
(обратно)475
Землетрясение произошло 11 июля 1927 г. Вот как описывает его в письме к 3. Шокену живший в центре Иерусалима Ш.Й. Агнон: «…страшное бедствие нас не убило и не ранило. Только дом, в котором мы находились, обвалился, а муниципальные власти приказали всем покинуть жилища на двадцать четыре часа, во избежание опасности. Мы уже подыскали себе новую квартиру в Тальпиоте. В час бедствия я сидел дома, только я и мой сынишка Шолом Мордехай, да продлятся дни его, и я успел вывести его на улицу. Мальчик страшно испугался, когда штукатурка стала сыпаться со стен и на его кровать. Благословен Спасающий и Вызволяющий из беды! <…> Сколько страху все натерпелись, какая тут началась суматоха! <…> На другой день пополудни я сошел в Старый Город проведать там моего брата. Что я там увидел, такого, как кажется, сам Пресвятой Благословенный и близко не видал!» (Ш.Й. Агнон — Ш.З. Шокен: переписка. Иерусалим — Тель-Авив: Шокен, 1991. С. 208–209, иврит).
(обратно)476
Религиозно-этническая группа (около 600 человек), проживающая в отдельном квартале Холона (более половины) и в Шхеме. Согласно традиции самаритян, они — часть народа Израиля, хранящая верность его подлинному наследию. Еврейская традиция связывает происхождение самаритян с завоеванием Самарии ассирийцами (722–721 гг. до н. э.), которое сопровождалось депортацией еврейского населения этого района в глубинные районы Ассирийской империи и переселением на их место «людей из Вавилона, и из Куты, и из Аввы, и из Хамата, и из Сфарваима» (IV Царств, 17:24)
(обратно)477
Писатель и драматург Перец Гиршбейн (1880, Гродненская губ. — 1948, Лос-Анджелес) дебютировал на иврите стихами и драмами, в 1906 г. опубликовал первую драму на идише и с тех пор писал на этом языке. В 1908 г. создал в Одессе еврейскую труппу («Гиршбейн-трупе»), которая с успехом гастролировала по России с пьесами И. Л. Переца, Ш. Аша, Д. Пинского, Я. Гордина и его самого. Гиршбейн совершил несколько кругосветных путешествий. Его визит в Страну Израиля спровоцировал острую языковую полемику: «В 1927 году в Тель-Авив приехали Шалом Аш и Перец Гиршбейн, жившие в Америке и писавшие на языке идиш. В их честь был устроен прием, на котором выступили видные израильские писатели, в том числе и Бялик, писавший, как известно, также и на идише. Приветствуя гостей, он, в частности, сказал, что „между ивритом и идишем заключен нерасторжимый брак на небесах…“ Эта безобидная фраза послужила поводом для очень резкой по тону и содержанию статьи Шлионского, в которой он утверждал, что двуязычие — это „чахотка, разъедающая легкие нации“. <…> Шлионский вообще отрицал за языком идиш с его богатейшей литературой и многовековыми традициями право на существование. <…> Разумеется, он получил достойную отповедь. Выдающийся еврейский писатель X. Лейвик писал, что восхищается стихами Шлионского (они подобны „чистому и крепкому вину“ в них есть „общечеловеческие чувства, выходящие за рамки государственных и языковых границ“), но „гебраисту Шлионскому не подал бы руки“» (А. Элинсон. Поэт возрожденного Израиля. В кн.: А. Шлионский. Горы Гильбоа. Иерусалим: Библиотека-Алия, 1980, 1991. С. 10–11).
(обратно)478
Бельгийский драматург и поэт Морис Метерлинк (1862–1949) живо интересовался естествознанием и внес свой вклад в натурфилософскую школу: в созданных им книгах «Жизнь пчел» (1901), «Разум цветов» (1907), «Жизнь термитов» (1926) и «Жизнь муравьев» (1930) он наделил насекомых и растения свойствами, присущими человеку.
(обратно)479
Неточно воспроизведена итальянская поговорка «Se non è vero, è bon trovato!» — «Если это и неправда, то хорошо придумано!»
(обратно)480
Райский сад (иврит).
(обратно)481
Кибуц Гева в Изреэльской долине был основан в 1921 г. выходцами из России и Польши.
(обратно)482
«Габима» приехала в Палестину 27 марта 1928 г. после гастролей в США и Европе, оставив в Нью-Йорке своего отца-основателя, режиссера Нахума Цемаха (1888–1939).
(обратно)483
Здесь половина страницы аккуратно отрезана ножницами.
(обратно)484
Старый ишув (ивр. поселение, община) — закрепившееся в еврейской историографии нового времени обозначение традиционного еврейского общества в Стране Израиля. Старый ишув (в отличие от нового ишува) не являлся частью сионистского движения и зачастую даже противостоял ему, экономической основой его существования долгое время служили исключительно пожертвования из-за границы. К началу XX в. он представлял собой достаточно замкнутую ортодоксальную общину, тон в которой задавали выходцы из Восточной Европы и их потомки.
(обратно)485
Обед для бедных (идиш). Существовал обычай устраивать особую трапезу для бедных во время свадьбы. Так, в рассказе М. Спектора «Обед для бедных» (Еврейская жизнь в изображении еврейских бытописателей. СПб., 1903. С. 204–209) богач обращается с просьбой к беднякам присутствовать на свадьбе, чтобы исполнить обряд, а нищие, почувствовав свою значимость, начинают набивать себе цену.
(обратно)486
Набожный человек, сведущий в раввинистической премудрости (иврит).
(обратно)487
Букв.: «За жизнь!», традиционный еврейский тост (иврит).
(обратно)488
Кест (идиш) — принятый в состоятельных традиционных еврейских семьях обычай брать молодую семью на иждивение в дом родителей невесты.
(обратно)489
Счет в банке (compte au? — франц.).
(обратно)490
Букв. шут (ивр.), в традиционных еврейских общинах — человек, развлекающий гостей на свадьбе.
(обратно)491
Ср.:
Вот уже встала невеста среди балагана, готовясь К танцу кошерному. В ручке держа белоснежный платочек, Элька стоит, смущена, лицо от стыда наклонила. <…> С места поднялся раввин, реб Рефуэл, и медленным шагом К Эльке приблизился он, и рукою взялся за платочек; Важно, степенно они три медленных сделали тура, Весь обходя балаган — и хлопали гости в ладоши. Кантор, реб Эли, в атласной одежде, поднялся. К Эльке приблизился он и рукою взялся за платочек…(Ш. Черниховский. Свадьба Эльки. В кн. Вл. Ходасевич. Из еврейских поэтов. С. 277–278.
(обратно)492
Режиссер Алексей (Авраам Азарх) Грановский (1890, Москва — 1937, Париж) в 1919 г. организовал в Петрограде Еврейскую школу сценических искусств и театр-студию, ставшую основой Государственного еврейского камерного театра (с 1925 г. — ГОСЕТ). Спектакль по пьесе А. Гольдфадена (1840–1908) «Колдунья» (1922) пользовался особой популярностью. Моше Литваков (1875–1937, погиб в тюрьме), литературно обработавший пьесу для Еврейского камерного театра, писал: «Гольдфаден был должен и, вероятно, мог стать первым творцом классических театральных традиций в еврейской среде, однако история назначила ему быть „Моисеем“ сценической пошлости» (М. Литваков. Пять лет Государственному еврейскому камерному театру (1919–1924). М., 1924. С. 57–58. Пер. А. Борисова). «Большая доля старого текста была заменена современными шутками, странными, неправдоподобными интермедиями, актуальными куплетами, не чуждыми политического шаржа. Для сценической редакции „Колдуньи“ И<ехезкель> Добрушин (1883–1953, погиб в лагере) написал 21 песню. Столь радикальное вмешательство далеко уводило от самой пьесы, и Грановский назвал спектакль „еврейской игрой по Гольдфадену“» (Вл. Иванов. Художественные «абсолюты» Алексея Грановского. ).
В 1928 г. Грановский выехал с театром на гастроли и остался в Европе, а труппа вернулась в СССР.
(обратно)493
Михаил Александрович Чехов (1891, Петербург — 1955, Лос-Анджелес), актер, театральный педагог, режиссер, заслуженный артист республики (1924), племянник А. П. Чехова. Окончил Петербургскую театральную школу имени А. С. Суворина, с 1913 — актер МХТ, с 1928 — в эмиграции в Европе, а с 1943 — в США. В ноябре 1928 в Вене состоялась премьера спектакля «Артисты» Г. Уоттерса и А. Хопкинса в постановке М. Рейнгардта, где Чехов сыграл свою первую за границей роль — клоуна Скида.
(обратно)494
«Царевич» (1927), оперетта композитора Франца Легара (1870–1948). Франц Шальк (1863–1931), австрийский дирижер, с 1904 г. выступал в Венской опере. «The Corregidor» («Коррехидор», 1896), опера австрийского композитора и музыкального критика Хуго Вольфа (1860–1903).
(обратно)495
Драма Д. С. Мережковского «Смерть царя Павла» (1908). Ср. воспоминания С. Поволоцкого: «Мережковский должен был выступить с докладом в Вильне. Его имя в Польше было широко известно. <…> Известны были также его драматические произведения, а среди них — трагедия „Царь Павел I“, которая шла на сценах Польши (с 1921 г. в Вильне). Эта постановка имела тем больший успех, что в ней создал неповторимый образ Павла I Казимеж Юноша-Стемповский. По прошествии многих лет, когда я брал у него интервью для журнала „Артистические новости“ (издаваемый в Вильне театрально-артистический журнал в течение ряда лет), в котором я тогда сотрудничал, он сказал, что не знает в мировом репертуаре другого, так сценически написанного произведения, которое давало бы артистам столько возможности для раскрытия человеческих переживаний и духовного внутреннего облика человека». ()
(обратно)496
Пьеса-сказка М. Метерлинка «Ариана и Синяя Борода» (1896).
(обратно)497
«Очень грустный город и очень грустные люди» (польск.).
(обратно)498
Александр Фредро (1793–1876), польский комедиограф, поэт и мемуарист; его называли польским Мольером. Комедия «Пан Иовяльский» (1832) высмеивает нравы польской шляхты. Л. Сольский, М. Френкель — видные польские актеры «Театра Народовы» в 20-е гг. XX в.
(обратно)499
Независимость Польши (II Речь Посполитая) была провозглашена в ноябре 1918 г.
(обратно)500
Ажурная вышивка (филе и вениз) по венецианскому кружеву.
(обратно)501
Veder Napoli е poi mori (Увидеть Неаполь — и потом умереть) — популярная в России итальянская поговорка.
(обратно)502
Человеческое животное (франц.).
(обратно)503
Так называется последнее произведение (1869) в оперной тетралогии Рихарда Вагнера (1813–1888) «Кольцо нибелунгов».
(обратно)504
Свершившийся факт (Fait accompli — франц.).
(обратно)505
Недельный раздел (иврит) — фиксированный фрагмент Торы (Пятикнижия Моисеева), который принято читать в каждую конкретную неделю. Понедельное чтение Торы начинается вскоре после еврейского новолетия с Книги Бытия и завершается ровно через год, чтобы в следующем году начаться снова.
(обратно)506
Кинотеатр «Эден» — первый кинотеатр в Стране Израиля — был построен М. Абарбанелем и М. Вейсером в 1913 г. на краю еврейского квартала Яффы Неве-Цедек, на углу улиц Лилиенблюма и Пинеса, и открылся показом фильма «Последний день Помпеи». Помещение кинотеатра служило также местом проведения собраний, лекций, балов, оперной и театральной сценой.
(обратно)507
По еврейской традиции Пурим в Иерусалиме как «стольном городе» празднуется на день позже, чем в остальных городах Страны Израиля.
(обратно)508
Собрание депутатов — высший выборный орган еврейского самоуправления в подмандатной Палестине в 1920–1948 гг; в 1928 г. получил официальное признание британских властей.
אסיפת נבחרים
(обратно)509
Монастырь кармелитов на горе Кармель возник в XII в. и положил начало Ордену братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель.
(обратно)510
Бахайские сады в Хайфе, спускающиеся по склону горы Кармель, как и Бахайский храм на горе — центр бахайской религии, основоположником которой был шейх Ахмад Аль-Ахсани (ум. в 1829). В начале XIX в. в Персии он основал новую секту, впоследствии получившую название бахайской по имени одного из ее идеологов Хусейна Нури (Аль-Баха; ум. в Акко в 1892 г.).
(обратно)511
Погромы начались 15 августа (9 ава) 1929 г. в Иерусалиме по призыву иерусалимского муфтия Хадж Амина аль-Хусейни и быстро распространились на другие города. Наиболее кровавым был погром в Хевроне, где за один день погибли 65 евреев и были ранены 60, еврейский квартал был разрушен, синагоги разграблены, свитки Торы сожжены.
(обратно)512
Биньямин-Зеев Гольдберг (1905–1929) погиб, защищая от арабских погромщиков спиртовой завод. Его имя носит район Тель-Биньямин в Рамат-Гане, построенный на землях, ранее купленных для ишува его отцом, И. Л. Гольдбергом.
(обратно)513
Английский политик, крещеный еврей, Бенджамен Дизраэли (1804–1881) несколько раз избирался на пост премьер-министра Великобритании. Стремясь укрепить позиции своей страны, особенно ее владычество в Индии, убедил английских Ротшильдов в 1875 г. приобрести для правительства акции Суэцкого канала и тем обеспечил контроль Британской империи над жизненно важным путем из Англии в Индию.
(обратно)514
Белая книга Пасфилда была опубликована британским министром колоний лордом Пасфилдом вслед за погромами 1929 г. и объявляла, что Декларация Бальфура не определяет политику британского правительства в Палестине. В частности, указывалось, что надо приостанавливать иммиграцию евреев, если она вызывает безработицу среди арабского населения. В знак протеста против внедрения принципов Белой книги президент Еврейского агентства X. Вейцман подал в отставку. Ответом на этот шаг стало письмо английского премьер-министра Р. Макдональда Вейцману от 13 февраля 1931 г., которое отменяло некоторые антисионистские положения Белой книги Пасфилда.
(обратно)515
Звезда театра «Габима» Хана Ровина (1889–1880) в пьесе немецкого драматурга К. Гуцкова (1811–1878) «Уриэль Акоста» (пост. А. Грановского, 1930) играла главную женскую роль, Иегудит. «В этой пьесе „Габима“ снова обратилась к национальной тематике, на этот раз в истории об Уриэле Акосте, потомке маранов, который влюбился в Иегудит и покончил с собой, когда она вышла замуж за богатого негоцианта» (К. Гай. Ѓа-малка нас’а ба-отобус (Царица ехала в автобусе: Ровина и «Габима»), Тель-Авив: Ам овед, 1995. С. 163). В пьесе С. Моэма (1874–1965) «Святое пламя» (The Sacred Flame, 1928; пер. на иврит М. Гнесин «Ѓа-лаѓава ѓа-кдоша»; пост. 1931) играла роль матери: «Мать в „Святом пламени“ стала одной из многих матерей, образы которых Ровина создала на сцене и которые ей еще предстояло создать. Ее мать всегда была масштабнее, чем реальность, то была мать национальная, мать страдающая, мать понимающая, мать, которая словно львица сражается за жизнь своих детей» (там же, с. 178–179).
(обратно)516
Актер и режиссер Цви Фридлянд (1898–1967), из ветеранов театра «Габима», с которым начинал еще в Москве.
(обратно)517
Сара Бернар (Генриетт Розин Бернар; 1844–1923), французская актриса, дочь еврейки, прославилась драматическими и трагическими ролями. Элиза Рашель Феликс (1821–1858), французская актриса, еврейка, возродила на сцене классическую французскую трагедию П. Корнеля (1606–1684) и Ж. Расина (1639–1699). Дузе — см. прим. 127.
(обратно)518
Принадлежность к высшему кругу (англ.).
(обратно)519
Краткое изложение (англ.).
(обратно)520
Актриса МХТ Мария Петровна Лилина (в девичестве Перевощикова, по мужу — Алексеева; 1866–1943), жена (с 1889) К.С. Станиславского, играла Марью Тимофеевну в пьесе «Николай Ставрогин» по роману Ф.М. Достоевского «Бесы».
(обратно)521
Видимо, археолог Дж. Гарстанг, директор Британской археологической школы в Иерусалиме, который проводил раскопки Иерихона в 1929–1936 гг.
(обратно)522
Леди Беатрис Самюэл, жена первого верховного комиссара Палестины сэра Г. Самюэла.
(обратно)523
В апреле 1931 г. в Испании была провозглашена Вторая республика, закончилась эпоха правления короля Альфонсо и его конституционной монархии, страна вступила в эпоху правления масс.
(обратно)524
15 января 1913 1-я Студия МХТ показала свой первый спектакль — «Гибель „Надежды“» Г. Гейерманса. Театр «Огель („Шатер“) — Театр трудящихся Эрец-Исраэль», созданный в 1925 г. бывшим актером московской студии «Габима» Моше Галеви (1895–1974), ставил «Гибель „Надежды“» в переводе на иврит А. Шлионского — «Ѓа-даягим» («Рыбаки»; 1927). Об этом спектакле режиссер Галеви писал: «…я хотел выразить социальный пафос, который я впитал в годы революции в России» (М. Галеви. Дарки алей бамот (Мой путь на сцене). Тель-Авив, 1956. С. 124). «Огель» входил в систему учреждений культуры Гистадрута и рассматривался как один из элементов строительства еврейского государства; Галеви показывал свои спектакли в мошавот, кибуцах, сионистских колониях.
(обратно)525
Аѓарон Мескин (1898, Могилев — 1971, Тель-Авив), один из ведущих актеров театра «Габима» (с 1922). Пьеса «Цепи» (1888) русского драматурга А. И. Сумбатова-Южина (1857–1927) сочетала романтизм с критикой отжившего старого быта; неоднократно ставилась в российских провинциальных театрах.
(обратно)526
Скрипач-виртуоз, признанный современниками «королем скрипачей», Яша Хейфец (1899 или 1901, Вильна — 1987, Беверли Хилз, США) начал выступать с концертами с 5-летнего возраста. Неоднократно бывал в Палестине, а затем в Израиле. Все доходы от своего сенсационного турне 1925 г. пожертвовал на дело музыкального образования в Израиле. 14 апреля 1926 г. состоялся первый сольный концерт Хейфеца в Иерусалиме, а в марте 1932 г. — в Тель-Авиве, Иерусалиме и даже в мошаве Наѓалаль. «…Новое серое здание Общинного центра, наполненное до отказа, жило молчаливым ожиданием сказки, которую должны были рассказать. В первых рядах виднелись симпатичные головки детей из Наѓалаля. Некоторые матери держали на руках младенцев… Зал не мог вместить всех желающих. Жаждущие послушать заглядывали в зал через окна. Внутри люди теснились в каждой нише либо висели на стенах, как летучие мыши… Из тумана, окутавшего дорогу на Иерусалим, появился автомобиль. Без малейших признаков усталости после долгой дороги скрипач взобрался на сцену под гром аплодисментов. Напряжение росло… Скрипач поднял смычок, и вдруг заплакал младенец, за ним второй, третий… „Заберите их отсюда“ — все были раздражены… Однако доброе лицо Хейфеца озаряла очаровательная улыбка… Звуки Сонаты Грига наполнили тоскующие сердца, брызги волшебного фонтана Хейфеца упали на сухие поля Наѓалаля, оросив их драгоценными каплями освежающих звуков…» (Я. Эзрахи. Концерт Яши Хейфеца в Наѓалале // Ѓа-Арец, 21 марта 1932. Цит. по: Й. Гиршберг, указ. соч. С. 254–255).
(обратно)527
Видимо, Робер Марсель Казадезюс (1899–1972), выдающийся французский пианист; отличался разнообразием репертуара из французских композиторов, от клавесинистов XVII–XVIII вв. до импрессионистов XIX–XX вв.
(обратно)528
Первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь» (реж. Н. Экк), премьера которого состоялась 1 июня 1931 г., обошел более ста стран. Фильм рассказывает о перевоспитании трудом юных беспризорников. «Ничья земля» (1931, реж. В. Тривас) — звуковой фильм с участием немецкого артиста и певца Эрнста Буша (1900–1980).
(обратно)529
Барух Агадати (Каушанский; 1895, Бендеры — 1976, Тель-Авив), израильский кинорежиссер, хореограф, художник. В 1910 г. приехал в Палестину, учился в Школе искусств «Бецалель». В 1914 г. отправился на каникулы в Россию и из-за начавшейся 1-й мировой войны не смог вернуться в Иерусалим. Поселился в Одессе, учился в балетной школе-студии при оперном театре, где впоследствии работал артистом балета. В 1919 г. возвратился в Палестину и вскоре организовал в Тель-Авиве хореографическую труппу «Хевре траск», стремившуюся возродить еврейский танцевальный фольклор. Выступал в стилизованных хореографических композициях в Палестине и в Европе. В 1920-30-е гг. Барух Агадати стал одной из самых ярких личностей в художественной жизни Тель-Авива; в частности, занимался оформлением и хореографией вошедших со временем в традицию карнавальных шествий «Адлояда» в Пурим, балов-маскарадов и других массовых зрелищ.
(обратно)530
29 марта — 6 апреля 1932 г. в Тель-Авиве проходила I Макабиада. 500 спортсменов из 23 стран, а также многочисленных зрителей разместили в домах жителей Тель-Авива, и все же спортсменов оказалось меньше, чем желающих их принять. Идею общееврейских спортивных состязаний по образцу Олимпийских игр выдвинул Йосеф Иекутиэли (1897–1982). В 1928 г. он предложил председателю Керен Каемет М. М. Усышкину провести их в год 1800-летия восстания Бар-Кохбы (132–135), а название Макабиада дал поэт Кадиш Сильман (1880–1937).
(обратно)531
Одна из первых улиц Тель-Авива, выходит к морю.
(обратно)532
Спортивный клуб «Ѓа-Коах» («Сила» — иврит) существовал в Вене в период между мировыми войнам и был закрыт нацистами после аншлюса Австрии в 1938 г. Все члены клуба были евреи. Клуб устраивал состязания по атлетике и футбольные матчи. Игроков набирали из разных стран Европы.
(обратно)533
Возможно, книга друга Сары Бернар, композитора и музыкального критика Рейнальдо Ана (1874–1947): R. Hahn. La grande Sarah. Paris 1930.
(обратно)534
Во время суда над А. Дрейфусом Capa Бернар, как и ее друзья М. Пруст и Р. Ан, выступала в защиту обвиняемого.
(обратно)535
Вот как рассказал об этом друг и биограф Шаула Черниховского (1875–1943) Иосеф Клаузнер: «…исполнилось сорок лет со дня первой публикации его стихотворения. По этому случаю я напечатал статью „Мировоззрение Шаула Черниховского“ (в ежемесячнике Бейтар, 1932, № 1, с. 160–172) <…> В Иерусалиме в честь Черниховского было устроено торжество, которое организовал Менахем Усышкин. Во славу поэта Черниховского говорили сам Усышкин, Давид Елин, Бялик и пишущий эти строки. Бялик, обращаясь к Черниховскому, сказал: „В ивритской поэзии я не знаю никого, кроме тебя, у кого бы слово было на вес золота и диктовалось исключительно внутренней потребностью стихотворения“ В этом торжественном собрании ему были вручены первые восемь томов юбилейного издания его сочинений, подарочного, роскошного. Все газеты и журналы на иврите посвятили поэту прочувствованные строки, не скупясь на похвалы юбилейному изданию его стихов» (И. Клаузнер. Ш. Черниховский. Иерусалим: изд-во Еврейского университета, 1947. С. 258, иврит).
(обратно)536
Витийство (иврит), особый стиль письма и речи, уснащенный библейскими оборотами.
(обратно)537
Поэт Х. Н. Бялик (1873–1934) выдвинул программу сбора и научно-популярных изданий памятников ивритской письменности, в частности произведений еврейских поэтов «Золотого века» в Испании (X–XIII вв.). Имя Иегуды Галеви (1075–1141) неоднократно упоминалось на вечере Черниховского еще и потому, что Черниховский, как и Галеви, был не только стихотворцем, но и практикующим врачом.
(обратно)538
Отчаявшиеся (desperados — исп.).
(обратно)539
Речь, видимо, идет о двух романах Вассермана из трилогии о немецкой молодежи: «Дело Маурициуса» (1928, рус. пер. 1929) и «Этцель Андергаст» (1931)
(обратно)540
Ѓаман (Аман) — персонаж библейской Книги Эсфири, замышлявший уничтожить евреев.
(обратно)541
День всегерманского экономического бойкота еврейских предприятий 1 апреля 1933 г. должен был продемонстрировать силу и влиятельность национал-социалистической партии. Студенты из рядов партии провели бойкот также в немецких университетах, блокируя вход в аудитории преподавателей-евреев.
(обратно)542
Инспирированное властями нацистской Германии демонстративное сожжение книг, чуждых идеологии национал-социализма, состоялось 10 мая 1933 г. в Берлине.
(обратно)543
Хагана (Ѓагана, букв. «оборона» — иврит) — название подпольной военизированной организации евреев в период британского мандата в Палестине. Созданная в 1920 г. как орган самообороны евреев, Хагана после провозглашения Государства Израиль составила основу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
(обратно)544
Хайфский Технион (иврит, Техникум — нем.) — высшее инженерное учебное заведение, созданное по инициативе и при финансовой поддержке объединения немецких евреев «Хильфсферейн» («Эзра»), а также взноса по завещанию российского чаепромышленника Клонимуса Высоцкого (1824–1904). Технион был заложен в 1912 г. и начал работу в 1924 г.
(обратно)545
Табха (Tabgha, на иврите — Эйн Шева) — низменность на северо-западе Кинерета (Тивериадского, или Генисаретского озера), неподалеку от Капернаума.
(обратно)546
Гора Мерон — место паломничества религиозных евреев, особенно в тридцать третий день «счета омера» (счета дней семинедельного периода между праздниками Песах и Шавуот), который по традиции является «днем веселья и плясок, пения и больших костров, вокруг которых пляшут и распевают в память о святом учителе нашем рабби Шимоне бар Йохае. И более всего — на горе Мерон, там, где похоронены р. Шимон бар Йохай и р. Эльазар, его сын. Кто не видел великого веселия в 33-й день омера на Мероне, тот не видал истинно радостного воодушевления и истовых плясок тысяч паломников. Очень многие проводят этот день в ритуальной чистоте и святости, очищают душу словами Торы и молитвы, и все без исключения поют и распевают ради учителя нашего р. Шимона бар Йохая, и песнь их возносится кверху и проникает своды небес, а пламя костров издалека видимо» (Э. Ки-Тов. Сефер ха-тодаа (Книга нашего наследия). Иерусалим: Яд Элияху Ки-Тов, 1963. С. 255–256, пагинация 2-я. Мистику и законоучителю р. Шимону бар Йохаю (II в. н. э.) приписывается авторство книги «Зоѓар», важнейшего каббалистического сочинения.
Лурд — город во Франции, место массового христианского паломничества к источнику, где в 1858 г. юной местной жительнице явилась Дева Мария. Источник почитается чудотворным, к нему стекаются толпы больных и страждущих.
(обратно)547
Название психиатрической больницы в Лондоне с XIV в., искаженное Бейт-Лехем (Вифлеем).
(обратно)548
Жизненное пространство (нем.).
(обратно)549
Хаим Арлозоров (1899–1933) был убит 20 июня во время прогулки на берегу моря. В убийстве были обвинены и преданы суду лидер партии сионистов-ревизионистов Аба Ахимеир и двое его соратников, Ц. Розенблат и А. Ставский. Суд оправдал Ахимеира и Розенблата, а Ставский был осужден, но впоследствии оправдан Верховным судом за недостаточностью улик. Инцидент способствовал дискредитации ревизионистов в глазах сионистской общественности.
(обратно)550
В 1933 г. после продолжительного перерыва возобновились спектакли Палестинской оперы. Ее создатель, руководитель и дирижер Марк Голинкин (1875–1963) отметил десятилетие своего детища двумя постановками — «Паяцы» Р. Леонкавалло и «Сельская честь» П. Масканьи.
(обратно)551
Н. И. Пирогов (1810–1881), врач, педагог, специалист по военно-полевой хирургии.
(обратно)552
Спектакль по пьесе Б. Брехта (1898–1956) «Трехгрошовая опера» (1928, муз. К. Вайля) был поставлен в 1933 г. театром «Огель» (реж. Э. Вольф, новый иммигрант из Германии).
(обратно)553
В приближении осенних праздников: Новолетия (Рош ѓа-Шана), Суккота и в его последний день — Симхат Торы, праздника по случаю завершения ежегодного чтения Пятикнижия.
(обратно)554
Начальная строка басни «Мартышка и очки» И.А. Крылова (1769–1844).
(обратно)555
В октябре 1933 г. по арабским городам Палестины прокатилась волна массовых протестов против политики мандатных властей и еврейской репатриации. В ряде случаев (в том числе в Яффе 27 октября) имели место кровавые столкновения между демонстрантами и британскими силами безопасности. В ходе беспорядков осенью 1933 г. погибли 27 человек и 234 были ранены (в том числе 56 полицейских).
(обратно)556
Видимо, от «tablette» (фр.) — маленький столик.
(обратно)557
Пережаренное растительное масло (friture — франц.).
(обратно)558
Швейцарский врач-диетолог Максимилиан Оскар Бирхер-Беннер (1867–1939), пропагандист вегетарианства, создатель метода лечения сыроедением (сырая растительная пища) и вегетарианским питанием. Его санаторий в Цюрихе стал известен благодаря великолепным результатам, полученным в лечении этим методом различных болезней. Он призывал не только к особой системе питания, но и к спартанскому образу жизни с обязательной работой в саду.
(обратно)559
Швейцарский психоаналитик Карл Густав Юнг (1875–1961) в 1933 г. читал лекции в Технической высшей школе в Цюрихе.
(обратно)560
Фердинанд Хольдер (1853–1918), швейцарский художник-символист, любил изображать свои модели за повседневными занятиями. Джованни Сегантини (1858–1899), итальянский художник-пейзажист, работал в технике пойнтилизма, а также в эстетике символизма. Арнольд Бёклин (1827–1901), швейцарский художник-символист.
(обратно)561
Здесь обыгрывается афоризм, приписываемый греческому философу Сократу (469–399 гг. до н. э.): «Я знаю только то, что ничего не знаю».
(обратно)562
Здесь: «дополнительные» услуги или товары.
(обратно)563
Culmen — вершина (лат).
(обратно)564
Виленская труппа — любительский театральный коллектив, возникший в Вильне в 1916 г. и выступавший со спектаклями на идише. Позднее переехал в Варшаву, гастролировал по странам Западной Европы.
(обратно)565
Шолом Аш (1880–1957), еврейский писатель и драматург из Польши, писал на идише. Кадя Молодовская (1894–1975), поэтесса, в т. ч. для детей, прозаик, драматург и литературный критик из Польши, писала на идише.
(обратно)566
Деревня Давос и площадь Давос (нем.).
(обратно)567
Ульрих Цвингли (1484–1531), швейцарский реформатор церкви, христианский гуманист и философ, проповедовал в Цюрихе.
(обратно)568
В Австрии нацисты пытались захватить власть и объединиться с Германией, но канцлер Австрии Энгельберг Дольфус (1892–1934) был сторонником независимости своей страны. 25 июля 1934 г. отряд нацистов ворвался в здание австрийской радиостанции и под угрозой расстрела заставил диктора объявить об отставке правительства Дольфуса и об образовании фашистского правительства А. Ринтелена. В то же время другая группа нацистов ворвалась в кабинет Дольфуса и смертельно ранила канцлера. Путч не привел к установлению фашистского режима, Дольфуса сменил его единомышленник К. фон Шушниг.
(обратно)569
Король Бельгии Альберт I (1875–1934) погиб 17 февраля, взбираясь на альпийскую вершину.
(обратно)570
Лес (bojs — франц.), видимо, Булонский.
(обратно)571
Ночной клуб, кабаре (boîte — франц.).
(обратно)572
В грузовике (camion — англ.).
(обратно)573
В 1934 г. коррупционный скандал, связанный с разоблачением крупнейшего банковского мошенничества во Франции, привел к затяжному политическому кризису. Воспользовавшись этой ситуацией, правые антиреспубликанские силы устроили 6 февраля на Елисейских полях демонстрацию, вылившуюся в неудачную попытку фашистского путча.
(обратно)574
«Париж, я тебя люблю» (Paris, je t’aime — франц.). Морис Шевалье (1888–1972), французский шансонье и киноактер.
(обратно)575
«Выпить!» («A drink!» — англ.).
(обратно)576
В Асторе спят (En Astor on dort — франц.), в том смысле, что они вернулись поздно и могли потревожить сон постояльцев гостиницы.
(обратно)577
В конце XIX в. во Франции начал выходить кулинарный журнал «La Cuisinière Cordon Bleu», где давали уроки лучшие повара. Журнал имел успех, и в 1895 г. в Париже открылась первая кулинарная школа под эгидой журнала. В 1933 г. подобное учебное заведение было открыто в Лондоне выпускником парижской «Кордон Бле» («Голубой ленты»), а после Второй мировой войны такие школы и их рецепты распространились по всему миру.
(обратно)578
Коронным блюдом (spécialité de la maison — франц.).
(обратно)579
Мария-Антуанетта (1755, Вена — 1791, Париж), французская королева, жена короля Людовика XVI. После Французской революции была обвинена в связи с враждебными Франции странами, в первую очередь Австрией, и казнена.
(обратно)580
«Фоли-Бержер» (Folies Bergère), знаменитое варьете и кабаре в Париже. Мистангет — сценическое имя Жанны Буржуа (1873–1956), звезды французского мюзик-холла. Вот как написал о ней В. П. Катаев: «…большая фотография под стеклом, где была снята во весь рост великая французская шансонетка Мистангет. Она стояла на заднем сиденье открытого автомобиля, одной рукой подхватив пенистый шлейф своего умопомрачительного платья из валансьенских кружев, а в другой руке держа полураскрытый кружевной зонтик чудной красоты и, вероятно, дьявольских денег. На голове Мистангет сверкало эспри из страусовых перьев, унизанных брильянтами, а ее задорное простонародное лицо, уже несколько поблекшее, но все еще неотразимо выразительное — лицо молодой шестидесятилетней парижанки, — повернутое в три четверти, светилось такой неувядаемой энергией любви, что я невольно забыл о ее почтенном возрасте» (Маленькая железная дверь в стене. В кн.: В. Катаев. Собр. соч. в 9 тт. Том 9. М.: Худ. лит., 1972).
(обратно)581
Видимо, «предметом потребления», как блюдо, которое заказывают в ресторане (от consommation — франц.).
(обратно)582
«Слабый пол» (Le Sexe faible — франц.), французская кинокомедия (1933) с Виктором Буше (1877–1942) и Мириэль Балэн (1909–1968).
(обратно)583
Агрономический институт — сельскохозяйственная испытательная станция, переведенная в Реховот из Тель-Авива в 1932 г. В 1934 г. по инициативе X. Вейцмана в Реховоте создавался Исследовательский институт имени И. М. Зифа, позднее, в 1949 г., преобразованный в Научно-исследовательский институт имени X. Вейцмана.
(обратно)584
Речь идет об очередной международной торгово-промышленной ярмарке Ярид ѓа-мизрах, первая из которых открылась в Тель-Авиве 7 апреля 1932 г., длилась три недели и принимала 24 страны. В обращении оргкомитета 1-й ярмарки говорилось: «В Стране Израиля нет более подходящего места для ярмарки, чем Тель-Авив, один из самых современных городов на Ближнем Востоке. Здесь имеются комфортабельные гостиницы, электрическое освещение, качественные дороги, сюда идет железнодорожный и морской транспорт, а жители города отличаются трудолюбием и творческим подходом» (Я. Шавит, Г. Битер. История Тель-Авива. Т. 1: Ми-шхунот ле-ир (Рождение города), 1909–1936. Т-А, 2001. С. 132). Здесь говорится о третьей ярмарке, проходившей с 26 апреля по конец мая 1934 г.; в ней участвовали 32 страны, было почти 600 тысяч посетителей. Для этой ярмарки построили специальные павильоны (архитекторы Р. Кауфман и А. Альханани) на севере Тель-Авива, возле устья реки Яркон.
(обратно)585
Вторая из Десяти заповедей гласит: «Не делай себе изваяния [кумира] и всякого изображения…» (Исход, 20:4).
(обратно)586
Избалованная (иврит).
(обратно)587
Х. Н. Бялик умер в Вене 4 июля 1934 г., а похороны его состоялись в Тель-Авиве 16 июля: «в 12 часов закрылись все национальные и сионистские учреждения страны. С четырех до шести, часа, на который были назначены похороны, остановились все работы. В два часа пожарные включили сирену, означавшую конец всякой деятельности. В 2.45 раздалась вторая сирена, и все транспортные средства в Тель-Авиве — автомобили, автобусы, повозки, велосипеды и мотоциклы — замерли. <…> Похоронная процессия направилась к дому Равницкого на ул. Ахад-Гаама, потом к большой синагоге на ул. Алленби, и — к дому Бялика. Вдоль всего пути горели обернутые в черное электрические фонари. У дома Бялика прочли кадиш. По ул. Хеврон похоронная процессия прошла к кладбищу на ул. Трумпельдора. Тут контролеры остановили людской поток, вход на кладбище разрешался только по билетам» (Ш. Шва. Хозе, брах! (Беги, пророк! Биография Хаима Нахмана Бялика. Израиль: Двир, 1990. С. 403–404).
(обратно)588
Порочный круг (circulus vitiosus — лат.).
(обратно)589
Горный инженер из Баргузина Моисей Абрамович Новомейский (1873–1961) был видным еврейским деятелем, председателем сионистской организации Сибири. В 1920 г. приехал в Палестину, а в 1929-м не без борьбы с мандатными властями получил концессию на добычу брома и поташа из вод Мертвого моря. Тогда же на севере Мертвого моря была основана Палестинская поташная компания, крупнейшее предприятие такого рода на Ближнем Востоке, а в 1934 г. на юге Мертвого моря, в Сдоме, был основан второй завод компании.
(обратно)590
Кастрюля с паровой баней (rechaud — франц.).
(обратно)591
Девушка на побегушках (нем.).
(обратно)592
Парень (иврит).
(обратно)593
Комар анофелес является переносчиком малярии, которая свирепствовала в Палестине до проведения широкомасштабной программы осушения болот.
(обратно)594
Отделение внутренних болезней.
(обратно)595
Помногу (франц.).
(обратно)596
Жак Тибо (1880–1953), французский скрипач, выдающийся исполнитель камерной музыки.
(обратно)597
Историческая мелодрама (1933 г., реж. Р. Мамулян).
(обратно)598
Люк (manhole — англ.).
(обратно)599
Брейшит — первое слово Библии: «В начале», с которого начинается рассказ о Сотворении мира, создании «сущего из ничего».
(обратно)600
Имеется в виду старинный иерусалимский род Хусейни, пользовавшийся значительным влиянием среди палестинских арабов и занимавший непримиримо враждебную позицию по отношению к английским властям и к евреям. Среди наиболее известных представителей этого рода — Хадж Амин аль-Хусейни, муфтий Иерусалима, открыто призывавший к насилию против евреев и сотрудничавший с нацистской Германией (см. прим. 350), и Абд аль-Кадр аль-Хусейни (1907–1948), возглавивший вооруженную борьбу против создания Еврейского государства.
(обратно)601
Покрывало для лица.
(обратно)602
Нарды.
(обратно)603
Грек, купец второй гильдии, Михаил Иванович Бостанжогло был владельцем крупнейшей в Москве табачной фабрики, действовавшей со второй половины XIX в., человеком, не раз помянутым в истории и культуре «Серебряного века», напр., в «Тринадцати трубках» И. Эренбурга, но о чае подобной марки сведений мною не найдено.
(обратно)604
Наслаждаться и ценить (goûter — фр.).
(обратно)605
Детский дом — здесь: общежитие детей кибуца; согласно идеологии кибуцного движения на раннем его этапе, дети воспитывались не в семье, а в коллективе, и жили в общежитиях соответственно возрасту, возвращаясь в семьи только на субботу.
(обратно)606
Здесь: оркестр.
(обратно)607
Александр Браиловский (1896, Киев — 1975, Нью-Йорк), пианист-виртуоз, учился в Киеве и Вене. Его дебют в Париже в 1919 г. произвел сенсацию, и в последующие годы он много гастролировал в Европе, США и Южной Америке.
(обратно)608
Квартира, машина и няня (flat, car, nurse, — англ.).
(обратно)609
II Макабиада проходила в Тель-Авиве со 2 по 11 апреля 1935 г. при участии 1350 спортсменов из 28 стран. Стадион был отремонтирован, построили новые спортивные снаряды и площадки. Из-за запрета мандатных властей на этот раз открытие Макабиады прошло без массового шествия по улицам города, но команды спортсменов все же шли на стадион двумя маршрутами под звуки оркестров.
(обратно)610
Биссиклет — велосипед (калька с англ. bicycle), циклисты — велосипедисты.
(обратно)611
Промышленник Генри Людвиг Монд, 2-й барон Мелчетт (Melchett; 1898–1949), будучи воспитанным в христианском духе в еврейской ассимилированной семье, после 1933 г. вернулся к иудаизму. Он был ярым сторонником сионистской идеи, считая, что арабы и евреи смогут мирно сосуществовать в независимом двунациональном государстве. Г.Л. Монд также выступал за эвакуацию немецких евреев в Палестину, был председателем Совета Еврейского агентства и возглавлял Международное еврейское спортивное движение «Макаби». Его отец, английский политик и промышленник Альфред Монд, 1-й барон Мелчетт (1868–1930) был дружен с Хаимом Вейцманом: они вместе работали в химической компании «Brunner, Mond and Со», а затем, когда в 1921 г. Мелчетт посетил Палестину и объехал ее с Вейцманом, он проникся пафосом сионизма, активно поддерживал Декларацию Бальфура и деятельность Еврейского агентства, приобрел земельный участок в Мигдале и вложил средства в заводы по добыче поташа. Поселение Тель-Монд в Шароне носит его имя.
(обратно)612
Факельное шествие (Fackelzug — нем.).
(обратно)613
Сэр Артур Г. Вокуп (Wauchope; 1874–1947) занимал пост верховного комиссара Палестины с 20 ноября 1931 г. по 1 марта 1938 г.
(обратно)614
Певица оперы и оперетты, исполнительница идишских песен Иза (Изабелла Яковлевна) Кремер (1889, Бельцы, Бессарабская губ. — 1956, Кордова, Аргентина) покинула Россию в 1919 г.
(обратно)615
Сертификат — документ, заверенный британскими властями, дававший право на въезд и жительство в Палестине. Сертификаты распределялись по странам, а там по городам и стоили недешево. Число сертификатов определялось въездной квотой, вдобавок разные политические силы препятствовали иммиграции евреев и скрывали сертификаты.
(обратно)616
Маршал Юзеф Пилсудский (1867–1935), первый глава независимой Польши, вернулся к управлению государством в результате военного переворота в мае 1926 г. Его многочисленные сторонники приветствовали установленный им новый режим «санации» (оздоровления), надеясь, что он разрешит на демократических началах наболевшие социальные и национальные вопросы. Евреи, в частности Жаботинский и ревизионисты, к которым была близка семья Яффе, вскоре стали считать Пилсудского едва ли не филосемитом. С годами обозначились реакционные тенденции авторитарного режима Пилсудского, отчего после его смерти 12 мая ожидали усиления антисемитизма на государственном уровне. В самом деле, в конце 30-х гг. в Польше были, в частности, введены квоты, ограничивавшие долю евреев среди студентов, участились случаи нападений на еврейские магазины и предприятия.
(обратно)617
Слова из ариозо Герцога в опере Дж. Верди «Риголетто».
(обратно)618
Кафля — кафель; здесь — мощеная плитками дорога, клинкер.
(обратно)619
19-й Сионистский конгресс проходил в Люцерне, Швейцария, с 20 августа по 4 сентября 1935 г.
(обратно)620
Наше море (Mare Nostrum — лат.) — так римляне называли Средиземное море; с объединением Италии в 1861 г. это понятие было вновь пущено в ход националистами, утверждавшими преемственность Италии от Древнего Рима, а затем его использовал Бенито Муссолини (1883–1945) в связи с идеей возрождения Римской империи (Imperia Romana) и превращения Италии в колониальную сверхдержаву (L'Italia coloniale).
(обратно)621
В начале января 1935 г. министр иностранных дел, а позднее — премьер-министр Франции Пьер Лаваль (1883–1945) подписал с Муссолини декларацию о франко-итальянском сотрудничестве, которая предусматривала изменение границ в Африке. В разгар итало-эфиопского конфликта и уже после начала военного вторжения Италии в Эфиопию (Абиссинию) Лаваль призывал к мирному урегулированию.
(обратно)622
Местечко (идиш).
(обратно)623
Дгания Алеф — старая часть кибуца Дгания, от которого в 1920 г. отпочковалось коллективное хозяйство (квуца) Дгания Бет.
(обратно)624
Фильм «Веселые ребята» (1934; реж. Г. Александров) был первой советской музыкальной комедией; пропагандировал советский подход к искусству, включая музыку и особенно — джаз.
(обратно)625
Скрипач-виртуоз Бронислав Губерман (1882, Ченстохова, Польша — 1947, Швейцария) в 1936–1938 гг. жил в Тель-Авиве. В эти годы он инициировал и воплотил в жизнь идею создания Палестинского оркестра (впоследствии — Израильский филармонический оркестр). Первое выступление оркестра под управлением Артуро Тосканини состоялось 24 октября 1936 г. Губерман впервые выступил с сольным концертом в Стране Израиля в 1929 г., а затем нередко выступал с созданным им оркестром.
(обратно)626
Вундеркинд, ставший выдающимся скрипачом XX в., Миша (Михаил Саулович) Эльман (1891, м. Тальное Киевск. губ. — 1967, Нью-Йорк) выступал в Стране Израиля в ноябре 1935 г., в т. ч. в здании кинотеатра «Эдисон» в Иерусалиме.
(обратно)627
Пьеса на библейскую тему «Рахав» Цви-Гирша (Гарри) Секлера (1883, Галиция — 1974, Нью-Йорк; писал на идише и на иврите) была поставлена в «Габиме» в 1932 г. с Ханой Ровиной в заглавной роли.
(обратно)628
Вот как описывает место Шолом-Алейхема в репертуаре «Габимы» израильская исследовательница Кармит Гай: когда в апреле 1928 г. театру предложили остаться в Стране Израиля, встал вопрос «какой репертуар должна ставить Габима в Эрец-Исраэль? Ивритской драматургии еще не существовало, и ясно, что пройдет немало времени, пока будет написана первая на иврите пьеса. А пьесы из жизни галута вряд ли встретят тут симпатии публики, людей, сделавших свой выбор и отвергнувших ту самую жизнь фактом своего переселения на историческую родину. В конце концов, за неимением лучшего, обратились к пьесе Шолом-Алейхема „Сокровище“ в постановке известного русского режиссера Алексея Дикого. Он, будучи свободным от комплексов обитателей еврейского местечка, перевел юмор Шолом-Алейхема в русло острой социальной критики, и обратил ее против галутных евреев, что весьма обрадовало и театральных обозревателей, и тель-авивских зрителей» (К. Гай. Ха-малка… (Царица ехала в автобусе: Ровина и «Габима»), с. 148). На зарубежные гастроли в 30-е гг. «Габима» вывозила несколько спектаклей по произведениям Шолом-Алейхема, в т. ч. названные здесь.
(обратно)629
Автор книг, героем которых является доктор Дулитл (появились в 20-е гг. XX в.), — английский писатель Хью Лофтинг (1886–1947), а немецкий писатель для детей, чрезвычайно популярный в Израиле и после 2-й мировой войны, Эрих Кестнер (1899–1974) переложил его по-своему (как и многие другие ставшие классикой книги).
(обратно)630
Немецкий и австрийский театральный деятель и продюсер Макс Рейнхардт (Максимиллиан Гольдман; 1873–1943; эмигрировал в США в 1938 г.) снял в Голливуде «Сон в летнюю ночь» (1935) по пьесе Шекспира на музыку Ф. Мендельсона.
(обратно)631
Брис (ашкеназский иврит) — обряд обрезания.
(обратно)632
Идишское имя Гирш означает «олень», что на иврите соответствует нарицательному и собственному имени Цви.
(обратно)633
Земля Саар на границе Франции и Германии в течение столетий была спорной территорией; по плебесциту 13 января 1935 г. отошла к Германии.
(обратно)634
Речь идет о вторжении в Абиссинию (см. выше).
(обратно)635
Речь идет о так называемом арабском восстании в Палестине 1936–1939 гг., сопровождавшемся вооруженными нападениями арабов на евреев, бойкотом еврейских предприятий, уничтожением еврейских хозяйств и политическим давлением на администрацию британского мандата. Это давление привело к принятию английским парламентом Белых книг 1937–1939 гг., ограничивших еврейскую иммиграцию в Палестину и фактически заперших еврейские массы в Европе, что повлекло за собою их гибель в годы Второй мировой войны.
(обратно)636
В 1934 г. останки Л. Пинскера (1821–1891) были перенесены из Одессы в пещеру Никанора на горе Скопус в Иерусалиме.
(обратно)637
Комендантский час (curfew — англ.).
(обратно)638
От ивритского «давка», означающего «именно, намеренно».
(обратно)639
«Левантийская ярмарка» проходила в Тель-Авиве с 30 апреля по 30 мая 1936 г. (О ближневосточных промышленных и с.-х. ярмарках см. прим. 584).
(обратно)640
Четвертый верховный комиссар Палестины (1931–1938), сэр А.Г. Вокуп.
(обратно)641
Министр колоний Великобритании Дж. Г. Томас (1874–1949) ушел с поста 22 мая 1936 г. после разглашения им некоторых сведений о бюджете страны.
(обратно)642
Масада — крепость в Иудейской пустыне, построенная царем Иудеи (40-4 до н. э.) Иродом, стала последним оплотом зелотов (ревнителей, на иврите — канаим) во время антиримского восстания в 66–73 гг. После длительной осады защитники крепости предпочли покончить с собой, но не сдаться врагу. Известная из книги И. Флавия «Иудейская война» история Масады стала ярчайшим сионистским мифом (см. поэму И. Ламдана «Масада», 1927 г.).
(обратно)643
Речь идет о «программе возмездия», осуществление которой взяла на себя Еврейская военизированная организация «Эцель» (Иргун цваи леуми; 1931–1948), действовавшая на территории Палестины и отвечавшая террором на арабский террор, а позднее — и на антиеврейские меры администрации британского мандата в стране.
(обратно)644
Американская нефтяная компания Шелл (Shell Oil Company) в 30-е гг. XX в. имела склады и предприятия в Палестине.
(обратно)645
28 ноября 1941 г. в Берлине состоялась встреча аль-Хусейни и Гитлера. «Как сообщалось в сводке новостей из Берлина, „фюрер приветствовал Великого муфтия Иерусалима, одного из наиболее выдающихся представителей арабского национального движения“. В ходе встречи аль-Хусейни называл Гитлера „защитником ислама“, а тот, в свою очередь, пообещал муфтию уничтожить еврейские элементы на Ближнем Востоке» (И. Лосин. «Огненный столп». Иерусалим, 1982. С. 335).
(обратно)646
Дэвид Ллойд Джордж (1863–1945), занимавший пост премьер-министра Великобритании в 1916–1922 гг., сочувственно относился к сионистскому движению и немало способствовал принятию британским правительством Декларации Бальфура. В речи в палате общин 19 июня 1936 г. он вновь выразил поддержку сионистскому проекту и призвал британское правительство не уступать арабскому давлению и не отказываться от своих обязательств в отношении еврейского населения Палестины.
(обратно)647
Швабра с резиновой насадкой для мытья пола (от sponge — англ., губка).
(обратно)648
Кондотьеры (Condottieri — итал.), в Италии IV–XVI вв. руководители наемных военных отрядов (компаний), находившихся на службе у городов и правителей.
(обратно)649
Легальная и поддерживаемая англичанами еврейская вооруженная милиция для защиты еврейских поселений и превентивных мер против арабского террора. В 1936 г. насчитывала 600, а в 1939 г. — почти 15 000 человек. Носили особую форму, часть из них считались британскими служащими и получали зарплату, остальные служили на добровольных началах.
(обратно)650
Покориться судьбе и отступиться от прежних принципов (от resignieren — нем.).
(обратно)651
М. Дизенгоф умер 23 сентября 1936 г. после продолжительной болезни.
(обратно)652
Tumor — опухоль (англ.).
(обратно)653
Свастику (нем.).
(обратно)654
Здесь: предписания (от proscription — «объявление вне закона», «запрет», англ.).
(обратно)655
Торжественная месса (Missa Solemnis — лат.), такие сочинения есть у многих европейских композиторов.
(обратно)656
Ицхак Нисенбаум (Nisenbaum; 1868, Бобруйск — 1942, Варшава), раввин, один из лидеров религиозного сионизма, писатель-публицист, автор трудов по иудаизму (на иврите). Был одним из руководителей Еврейского национального фонда. Погиб в Варшавском гетто.
(обратно)657
Фриц Буш (Fritz Busch; 1890–1951), немецкий дирижер; после конфликтов с нацистами в 1933 г. эмигрировал в Англию.
(обратно)658
Лео Слезак (1873–1946), один из великих теноров XX в., солист Венской оперы.
(обратно)659
Палестинская Королевская комиссия по расследованию во главе с лордом Пилем занималась выявлением причин арабского мятежа и террора в Палестине в 1936 г. 7 июля 1937 г. комиссия Пиля опубликовала доклад, в котором впервые заявила, что мандат не справляется со своими функциями, и рекомендовала раздел Палестины на арабское и еврейское государства.
(обратно)660
Имеется в виду статуя раввина Лёва (скульптор Л. Шалоун, установлена в 1910 г.). Изображает Маѓарала из Праги (р. Лёв/Лива Бецалель; 15127-1609), великого еврейского мудреца и мистика, по преданию создавшего искусственного человека Голема.
(обратно)661
Каждый бургомистр Праги при вступлении на пост берет хранящуюся в мэрии цепь как знак своего будущего служения интересам города.
(обратно)662
«Свят, свят, свят…» (Исайя 6:3, иврит). Речь идет о распятии на Карловом мосту.
(обратно)663
Стиль Бидермейер, направление в немецком и австрийском искусстве и дизайне, в том числе интерьера, распространенное в 1815–1848 гг. Тяготел к простым формам, просторному уюту и в XX в. ассоциировался с «добрыми старыми временами», «Старой Веной» (Alt Wien — нем.).
(обратно)664
Александра Давид-Неель, псевдоним Луиз Эжени Александрин Мари Давид (1868–1969), французская путешественница, исследовательница Тибета. В 1924 г. достигла столицы Тибета и затем написала ряд книг об этой стране.
(обратно)665
Частное владение (privé — франц.).
(обратно)666
Статуя «La Belgique reconnaissante» бельгийского скульптора Эрнеста Винана (Ernest Wynants, 1878–1964). Установлена 26 июля 1930 г. в память о том, что Швейцария дала приют бельгийским беженцам во время Первой мировой войны.
(обратно)667
Слова арии Валентина из оперы Гуно «Фауст».
(обратно)668
Все проходит, все рушится, все приедается (Tout passe, tout lasse, tout casse — франц.), поговорка.
(обратно)669
Альфред Дени Корто (1877–1962), швейцарский пианист и дирижер, прославился исполнением Шопена и Шумана.
(обратно)670
Антонио Канова (1757–1822), итальянский скульптор, образец классицизма.
(обратно)671
Умершие мученической смертью за веру первые христиане (martire — итал.).
(обратно)672
Игнатий де Лойола (1491–1556), основатель ордена иезуитов, католический святой.
(обратно)673
См. П. П. Муратов. Образы Италии. М. — Берлин, 2015. С. 426
(обратно)674
Потешные войска в России формировались из отроков для цесаревичей, начиная с Петра I, из детских отрядов которого «выросли» и служили ему уже как царю Преображенский и Семеновский гвардейские полки. «Павел впоследствии открыто сравнивал Гатчинские войска с „потешными“ полками Петра…» (Е. И. Юркевич. Феномен «потешных» войск в России второй половины XVIII века. В сб.: Война и оружие: Новые исследования и материалы. СПб., 2010. Ч. II. С. 430). А. А. Аракчеев (1769–1834) к «потешным» полкам Павла I отношения не имел, при Павле I был петербургским комендантом. Прославился при Александре I реформами в управлении армией и устройством военных поселений жесточайшего надзора над солдатами («аракчеевщина»). Мемуаристка совместила два явления.
(обратно)675
Пинакотека Брера, одна из крупнейших художественных галерей Милана, основана в 1809 г.
(обратно)676
Букв.: «восхождение на почву» (иврит), поселенческое движение, больше известное как «стена и башня» (хома у-мигдаль — иврит); заключалось в возведении в течение суток водонапорной башни и ограды будущего поселения с целью расширить территорию еврейского присутствия в Палестине в ответ на британские планы ее раздела и на противодействие арабов. За период с 10 декабря 1936 г. по 31 октября 1939 г. так были созданы 52 населенных пункта, в том числе кибуцы.
(обратно)677
Кибуц Эйн Гев был основан 6 июля 1937 г.
(обратно)678
Льюис Йелланд Эндрюс (Andrews; 1896, Сидней, Австралия — 1937, Назарет), администратор британского мандата в еврейском ишуве в период с 1917 по 1937 г., много помогал евреям в освоении земли и строительстве поселений; был убит 25 ноября арабским террористом. В ответ англичане арестовали Хадж Амина, но вскоре он бежал из тюрьмы и перебрался в Германию. Арабский высший комитет был распущен, многие его члены были арестованы и депортированы.
(обратно)679
Артур Шнабель (1882–1951), австрийский пианист, педагог, композитор.
(обратно)680
Увертюра из музыки Ф. Шуберта к пьесе «Розамунда, принцесса Кипра» (1823).
(обратно)681
Александр Павлович Ленский (наст. фамилия Вервициотти; 1847–1908), актер, театральный режиссер и педагог, в Малом театре с 1876 г., автор неоконченных воспоминаний «Пережитое» (1899).
(обратно)682
Тирсо де Молина (1579–1648), испанский драматург, доктор богословия, монах. Особую известность снискала ему комедия «Севильский обольститель, или Каменный гость» (ок. 1630), первое художественное воплощение Дон Жуана (на основе подлинной истории Хуана Тенорио).
(обратно)683
Работа по найму, не в кибуцном хозяйстве, с целью внести в кассу кибуца дополнительные средства (иврит).
(обратно)684
Авиноам Елин (1900 — 22 окт. 1937), востоковед, педагог, с 1925 г. инспектор еврейского образования в Палестине в администрации британского мандата. Уроженец Иерусалима в четвертом поколении, шестой сын Давида Елина (1864–1941), создателя (вместе с Э. Бен-Иегудой) Комитета языка иврит (ныне Академия языка иврит).
(обратно)685
Леви Луис Биллиг (1897, Лондон — 21 авг. 1936), учился и получил ученую степень в Лондоне, с 1926 г. профессор востоковедения в Еврейском университете в Иерусалиме. Проживал в одном из новых домов в Тальпиоте, заселенных служащими и педагогами. Мемуаристка ошиблась датой.
(обратно)686
Стечение обстоятельств и наложение разных факторов (от constellatio — лат.).
(обратно)687
Пауль Муни (псевдоним Мешулема Мейера Вейсенфройнда; Львов, 1895–1967), американский актер театра и кино. Сын актеров идишского театра, в 1902 г. поселившихся в США. Снялся, в частности, в фильмах: «История Луи Пастера», «Хорошая земля» (1936), «Жизнь Эмиля Золя» (1937). Фильма о Дрейфусе в его фильмографии не нашла; возможно, Дрейфус упомянут в фильме о Золя, где Муни играет заглавную роль.
(обратно)688
Цинна Дизенгоф (Зина Хая; 1872–1930), дочь житомирского раввина, жена первого мэра Тель-Авива М. Дизенгофа. Была учительницей музыки и французского языка, помощницей мужу, ее прозвали «мамой Тель-Авива». После смерти ее именем назвали новую площадь со сквером и фонтаном.
(обратно)689
Видимо, Морис Равель (1875–1937). В 1933 г. он попал в автомобильную катастрофу, и развившаяся в результате травмы опухоль мозга привела к его смерти.
(обратно)690
Гисхадрут (иврит), объединение еврейских профсоюзов, основано в 1920 г. в Хайфе с целью защиты прав трудящихся евреев перед мандатными властями в Палестине, в том числе в «борьбе за еврейскую землю», т. е. обеспечение покупки евреями земли и превращение ее в сельские хозяйства, и в «борьбе за еврейский труд», т. е. обеспечение занятости евреев, несмотря на то что арабская рабочая сила стоила дешевле и часто была квалифицированней.
(обратно)691
Англицизм (sleep on it), аналог русского «утро вечера мудренее».
(обратно)692
Черток (фамилия при рождении) известен как Моше Шарет (1894, Херсон — 1965, Иерусалим), первый в истории Израиля министр иностранных дел и второй премьер-министр (в 1954–1955, между периодами правления Д. Бен-Гуриона). До провозглашения Государства Израиль (1948) — начальник политического отдела Еврейского агентства (Сохнут), осуществлявшего функции министерства иностранных дел еврейского ишува в Палестине.
(обратно)693
Элиэзер Хофиен (Siegfried Hoofien; 1881–1957), сионистский деятель из Голландии. В Палестине с 1912 г., в 1925–1947 гг. — управляющий Англо-Палестинским банком (с 1948 г. — Банк Леуми), впоследствии — член совета его директоров.
(обратно)694
Ицхак Галеви Герцог (1888, Ломжа, Польша — 1959, Иерусалим), с 1936 г. и до конца жизни — верховный раввин ашкеназских евреев Палестины и Израиля.
(обратно)695
Моше Давид Ремез (Драбкин; 1886, Копысь, ныне в Беларуси — 1951, Иерусалим), политический и государственный деятель, из тех, кто подписал Декларацию независимости Израиля; первый министр транспорта Израиля, второй министр образования Израиля. В Палестине с 1913 г.
(обратно)696
Ицхак Бен-Цви (Шимшелевич; 1884, Полтава — 1963, Иерусалим), сионистский деятель, второй президент Израиля.
(обратно)697
Гарольд Альфред МакМайкл (1882–1969), с 3 марта 1938 г. по 30 августа 1944 г. — верховный комиссар Палестины. В период Второй мировой войны активно препятствовал въезду в Палестину еврейских беженцев выше довоенной установленной Британией квоты. После войны выяснилось, что с 1941 г. тысячи сертификатов на въезд в Палестину остались неиспользованными.
(обратно)698
Исай Александрович Добровейн (Барабейчик; 1891, Нижний Новгород — 1953, Осло), пианист, дирижер и композитор. В 1923 г. покинул Россию и стал симфоническим и оперным дирижером, пропагандистом русской музыки. После создания Палестинского филармонического оркестра Добровейн дирижировал им в его первом сезоне (1937), впоследствии регулярно выступал с ним.
(обратно)699
Николай Андреевич Орлов (1892–1964), русский пианист. С 1921 г. жил в Париже, с 1948 г. — в Великобритании.
(обратно)700
Ханита — кибуц у границы с Ливаном, основан в марте 1938 г. по методу «стена и башня» как еврейский аванпост в Западной Галилее. Ханита страдала от частых нападений банд арабских террористов. В первый же день погибли два члена кибуца, в первый год — 10.
(обратно)701
Харольд Малькольм Воттс Сарджент (1895–1967), английский дирижер, органист и композитор.
(обратно)702
«Программа танцевального вечера» (Un сагпе de bal; 1937) фильм режиссера Жульена Дювивье.
(обратно)703
Григорий Михайлович Хмара (1878–1970), русский, немецкий, французский актер. Работал в МХТ и с 1912 — в Первой студии Художественного театра. С 1922 г. в эмиграции. Самой запомнившейся у русской публики работой Хмары стала роль Джона Пирибингля из популярнейшего спектакля Студии «Сверчок на печи», поставленного в конце г. Екатерина Васильевна Гельцер (1876–1962), русская балерина, народная артистка СССР.
(обратно)704
Старческим слабоумием.
(обратно)705
И. С. Тургенев. Из стихотворения в прозе «Как хороши, как свежи были розы…»
(обратно)706
Ставшее нарицательным в смысле «ханжа» имя героя комедии Ж.-Б. Мольера «Тартюф» (1664).
(обратно)707
Гостиничных работников.
(обратно)708
Свод законов (Галахи) всех сторон еврейского жизненного уклада. Автор-компилятор Йосеф Kapo (XVI в.).
(обратно)709
Пальмах (аббревиатура слов плугот махац, «ударные роты» — иврит), особые отряды Хаганы (см. прим. 543).
(обратно)710
Единомышленники Освальда Эрнальда Мосли (Mosley; 1896–1980), британского политика, основателя Британского союза фашистов.
(обратно)711
Оборона (defence — англ.).
(обратно)712
Процесс по обвинению в оскорблении расы (Rasen Schande Prozess — нем.).
(обратно)713
Уволен/а с работы (Abgebaut — нем).
(обратно)714
Создание 18 февраля 1932 г. под японской эгидой государства Манджуко на Дальнем Востоке и его официальное признание Японией 15 мая того же года привело к обострению советско-японского соперничества в Китае и на Дальнем Востоке в целом.
(обратно)715
…в «уютной Вене» (gemütliche Wien — нем.)… «у нас это не пройдет» (Bei uns kann es nicht passieren — нем.).
(обратно)716
Книга Псалмов на иврите с параллельным переводом на идиш («жаргон»), Чтение псалмов, согласно еврейской религиозной традиции, предотвращает напасти.
(обратно)717
Эдвард Бенеш (1884–1948), второй президент Чехословакии в 1935–1948 гг. (фактически в 1935–1938 и в 1945–1948 гг.; в 1938–1945 гг. пребывал за границей, в 1940–1945 — президент в изгнании).
(обратно)718
Публий Квинтилий Вар (Varus; 46 до н. э. — 9 н. э.), римский военачальник и политический деятель, был наместником Германии на захваченных римлянами прирейнских землях. Римский историк Флор пишет, что Вар «довольно неосторожно похвалялся тем, что он в состоянии укротить дикость варваров прутьями ликторов и голосом глашатая».
(обратно)719
«Братья Ашкенази» (1937), роман-сага Исроэла Иешуа Зингера (1893–1944), американского (с 1933 г.) писателя на идише, старшего брата Ицхака Башевиса-Зингера.
(обратно)720
5 октября 1938 г.
(обратно)721
Нацив (иврит) — верховный комиссар Палестины; здесь МакМайкл (см. прим. 697).
(обратно)722
Аффидевит (от affido — «клятвенно удостоверяю», лат.) — в праве Великобритании и США письменное заявление лица, выступающего в роли свидетеля. Здесь: поручительство от гражданина США о готовности принять на иждивение иммигранта.
(обратно)723
22 сентября 1938 г. в Бад-Годесберге Гитлер предъявил Чемберлену Годесбергскую программу, ультимативные требования немедленной передачи фашистской Германии ряда районов Чехословакии. В Мюнхене 30 сентября 1938 г. премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом, премьер-министром Франции Э. Даладье, рейхсканцлером Германии А. Гитлером и премьер-министром Италии Б. Муссолини было подписано Мюнхенское соглашение о передаче Чехословакией Германии Судетской области. Мюнхен назван тут «художественным» из-за богатства городских музеев.
(обратно)724
Фундаментальный, ставший классическим труд еврейского историка Семена Марковича Дубнова, погибшего в одной из первых акций по уничтожению Рижского гетто.
(обратно)725
Жизненное пространство (Lebensraum — нем.).
(обратно)726
Ср. «…и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Исайя, 2:4).
(обратно)727
В ответ на начавшуюся депортацию из Германии польских евреев еврей Гершель Гриншпан (1921–1942) убил 7 ноября 1938 г. в Париже третьего секретаря посольства нацистской Германии Эрнста фон Рата, что послужило предлогом для волны погромов 9-10 ноября в Германии и Австрии («Хрустальная ночь»).
(обратно)728
Фредерик Герман Киш (Kisch; 1888–1943), еврей, британский генерал, военный инженер английской армии, сионистский деятель. С 1922 г. глава политического отдела Всемирной сионистской организации. С 1923 г. жил в Палестине, где сыграл большую роль в налаживании связей с администрацией британского мандата, хотя резко осуждал меры, препятствующие созданию там еврейского национального очага. Во Второй мировой войне Киш в чине полковника был главным инженером 8-й британской армии в Северной Африке. Погиб, подорвавшись на мине в Тунисе. Его имя носит с.-х. поселение в Нижней Галилее Кфар-Киш.
(обратно)729
В 1933 г. под Мюнхеном был создан первый концентрационный лагерь в Германии — Дахау. Во время «Хрустальной ночи» была разрушена большая синагога, а в последующие дни проведена «ариизация» еврейских квартир и другой собственности, все передавалось в руки арийцев. Тогда же были снесены две синагоги, разгромлены еврейские дома, и около 1000 мужчин были высланы в Дахау.
(обратно)730
Правильно Хирбет-Цемах, поселение по методу «стена и башня»; создано 24 ноября 1938 г. для укрепления защиты северной границы Палестины группой из кибуца Эйлон (1936, близ Петах-Тиквы). В настоящее время — кибуц Эйлон.
(обратно)731
Рождение Мессии — представление еврейской традиции о том, что Мессия как Избавитель явится в этот мир после страшных мук, метафорически называемых «родовыми муками» и «войной Гога и Магога».
(обратно)732
Еврейская община в Шанхае существует с середины XIX в., особенно пополнилась российскими евреями после Первой мировой войны и революции, а в 30-е гг. — эмигрантами из Европы; к 1939 г. насчитывала около 17 тысяч человек.
(обратно)733
«По ту сторону добра и зла» (1886), работа Ф. Ницше. В марте 1938 г. в Вене было зарегистрировано 311 случаев самоубийства евреев, в апреле — 267 случаев.
(обратно)734
Gauleiter (нем.) — партийный лидер городского или губернского масштаба, применяется к национал-социалистической партии (нацистам).
(обратно)735
Еврейская гуманитарная организация «Красный маген-давид» была создана в 1925 г. по аналогии и при участии уже существовавших христианского «Красного Креста» и мусульманского «Красного Полумесяца».
(обратно)736
Роман-тетралогия Т. Манна «Иосиф и его братья» выходил частями, по мере написания: «Былое Иакова» (1926–1930), «Юный Иосиф» (1931–1932), «Иосиф в Египте» (1932–1936), «Иосиф-кормилец» (1940–1943). Здесь, видимо, речь идет о третьей части.
(обратно)737
Пьеса Макса Цвейга (1892–1992), писателя и драматурга, австрийского еврея, большую часть жизни прожившего в Палестине. Премьера в «Габиме» состоялась 27 декабря 1938 г.
(обратно)738
Ось «Рим-Берлин-Токио» — союз трех держав гитлеровской коалиции. Окончательно оформился при подписании Германией, Италией и Японией 27 сентября 1940 г. пакта о разграничении зон влияния при установлении «нового порядка» и военной взаимопомощи.
(обратно)739
Президент США Вудро Вильсон (1856–1924) 8 января 1918 г. предложил конгрессу «14 пунктов» будущего мирного договора между странами — участницами Первой мировой войны, который учитывал интересы западного либерализма.
(обратно)740
В одной из последних работ «Der Mann Moses und die monotheistische Religion» (1939; рус. пер. «Этот человек Моисей») 3. Фрейд исследовал фигуру Моисея путем применения к анализу истории нации методов анализа отдельной человеческой личности и пришел к выводу, что Моисей был египтянином, религиозным реформатором, выведшим из Египта своих последователей монотеистов.
(обратно)741
Распределитель питания (англ.). Видимо, мемуаристка читает Библию на европейских языках.
(обратно)742
Иосиф Флавий (Йосеф бен Матитьягу; около 38, Иерусалим — после 100, Рим), еврейский историк. Во время антиримского восстания евреев сдался в плен, впоследствии был обласкан Титом. Автор книг «Иудейская война», «Иудейские древности» и др.
(обратно)743
Наум Абрамович Переферкович (1871–1940), гебраист, переводчик классических текстов еврейской традиции, в том числе первого трактата Вавилонского Талмуда Брахот (с паралл. текстом, 1912).
(обратно)744
«Катя» (1838) с Даниэль Дарье (р. 1917) в заглавной роли, «Мария Антуанетта» (1938) с Нормой Ширер (1902–1983) в заглавной роли, «Парнелль» (1937) об ирландском политическом деятеле Чарльзе Стюарте Парнелле (1846–1891) с Кларком Гейблом (1901–1960) в заглавной роли.
(обратно)745
Белая книга М. Макдональда (май 1939 г.) резко ограничивала еврейскую иммиграцию в Палестину и покупку евреями земель; рассматривалась сионистами и несионистами как отказ Великобритании выполнять свои обязательства в отношении еврейского народа, вытекавшие из Декларации Бальфура и условий мандата.
(обратно)746
Книга эссе французского писателя Андре Моруа (настоящее имя Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог; 1885–1967) «Un Art de vivre» (1939).
(обратно)747
Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Не рыдай так безумно над ним…» (1868).
(обратно)748
Casus belli (военный инцидент, лат.), юридический термин времен римского права: формальный повод для объявления войны.
(обратно)749
Кинотеатр «Рекс» (открылся в 16 июня 1938 г.) находился недалеко от Старого города, принадлежал арабскому бизнесмену и был местом досуга арабов, евреев и англичан. 29 мая 1939 г. семеро членов еврейского подполья «Эцель» купили билеты на фильм и во время сеанса сбросили с балкона взрывчатку. 5 человек погибло, 18 было ранено, террористы сбежали. В ответ военный комендант Иерусалима Р. О'Конор распорядился закрыть все еврейские места развлечений.
(обратно)750
Ihre königlich kaiserliche Erscheinung (нем.).
(обратно)751
Данцигский, или польский коридор — наименование польской территории, которая в 1919–1939 гг. отделила германский эксклав Восточная Пруссия от основной территории Германии. Претензия Германии на эти земли была одним из ее поводов к нападению на Польшу 1 сентября 1939 г.
(обратно)752
«Твоя коза — не моя коза» (идиш), аналог русского «своя рубашка ближе к телу».
(обратно)753
С 1860-х по 1930-е гг. темплеры, немецкие лютеране, разошедшиеся с официальной церковью, создавали в Палестине колонии, строили железные дороги. В 1939 г. были частично депортированы из Палестины британскими властями как граждане нацистской Германии, а после провозглашения Израиля оставшиеся в его пределах темплеры были высланы из-за прежних связей с нацистским режимом. В настоящее время проживают в основном в Австралии и Германии.
(обратно)754
На иврите слово «мораль» означает «состояние духа».
(обратно)755
3. Фрейд уехал из Австрии легальным образом, благодаря усилиям своих влиятельных друзей, которые ходатайствовали за него перед президентом Рузвельтом и внесли крупную сумму выкупа. Умер Фрейд 23 сентября 1939 г.
(обратно)756
Неточность мемуаристки. Четвертая волна иммиграции в Палестину (4-я алия; 1924–1928) более чем наполовину состояла из польских евреев, представителей среднего класса. Разразившийся в 1926 г. в Палестине голод и последовавший затем экономический спад побудили многих вернуться в Польшу.
(обратно)757
Археологический музей Рокфеллера находится в Восточном Иерусалиме, против ворот Ирода. Основан в 1938 г.
(обратно)758
Мемуаристка ошибается: слово «яд» на иврите имеет два значения — «рука» и «память». В данном случае речь идет о склепе, «памятнике Авессалому».
(обратно)759
После дежурства (англ.).
(обратно)760
Правильно: крайот — мн. ч., кирия — ед. ч. (городок — иврит). Так назвали города-спутники Хайфы: Кирьят-Бялик, Кирьят-Ата, Кирьят-Хаим и др.
(обратно)761
Линия Мажино (la Lignę Maginot), система французских укреплений на границе с Германией, построенная в 1929–1934 гг., стала местом скопления мощных армий с обеих сторон после того, как 3 сентября 1939 г. Великобритания и Франция объявили Германии войну в ответ на ее вторжение в Польшу. 14 июня 1940 г. немецкая армия атаковала линию Мажино и прорвала ее.
(обратно)762
Стенокардии.
(обратно)763
Кстати (ad hoc — лат.).
(обратно)764
Сорт простокваши (иврит).
(обратно)765
Хотя в повествовании Фрида постоянно напоминает, что семья Натанзон живет в Тель-Авиве, реально семья Яффе жила в Иерусалиме, и изредка детали выдают истину, как, например, вид на горы с крыши их дома, который никак невозможен на средиземноморском побережье.
(обратно)766
Феликс Вейнгартнер (1863–1942), австрийский симфонический дирижер и композитор, с 1936 г. жил в Швейцарии и ездил с гастролями.
(обратно)767
Песчаная муха (Sandfliege — нем.).
(обратно)768
В игровом фильме «У них должна быть музыка» («They Shall Have Music», 1938) режиссера Арчи Майо Яша Хейфец сыграл самого себя.
(обратно)769
Беда и страдание (misère — франц.).
(обратно)770
Умиротворение (appeasement — англ.).
(обратно)771
После капитуляции бельгийской армии правительство отправилось в Париж, а оттуда в Лондон, но Леопольд III (1901–1983) остался в Брюсселе и не возглавил правительство в изгнании, в отличие от королевы Нидерландов Вильгельмины или короля Норвегии Хокона VII. Это вызвало обвинения короля в коллаборационизме.
(обратно)772
Умение применяться к ситуации (savoir faire — франц.).
(обратно)773
На праздник Шавуот (или Шовуот — ашкеназский иврит) принято украшать дом зеленью и цветами и готовить молочные блюда.
(обратно)774
Сигнал тревоги, здесь — по случаю бомбежки с воздуха (alarm — англ.).
(обратно)775
Пнина Зальцман (1922–2006), израильская классическая пианистка, уроженка Тель-Авива; по оценке критиков входит в пятерку самых выдающихся пианистов современности.
(обратно)776
Натан Штраус (1848–1931), американский промышленник, филантроп, гуманист, совладелец нескольких крупнейших сетей универмагов. Большую часть доходов жертвовал на сионистскую колонизацию Палестины и развитие здравоохранения в США. В 1927 г. его именем названа Нетания.
(обратно)777
Язва желудка (Ulcus — латынь).
(обратно)778
Женская служба в британской армии, была организована 9 сентября 1938 г., поначалу из добровольцев (ATS, The Auxiliary Territorial Service — англ.).
(обратно)779
Комплекс неполноценности (Minderwertigkeitskomplex — нем.).
(обратно)780
Профсоюз (иврит).
(обратно)781
Неточность (неосведомленность?) мемуаристки. На британском судне «Патрия» были интернированы нелегальные еврейские иммигранты, снятые с других судов. «Патрия» стояла в хайфском порту, беженцев собирались отправить на о. Маврикий. Бойцы Хаганы подложили на «Патрию» взрывчатку, желая вывести судно из строя и задержать высылку людей, но взрыв (25.11.40) был столь силен, что судно пошло ко дну. Погибло около 200 беженцев и 50 британских солдат.
(обратно)782
Симфонического оркестра (гебраизм).
(обратно)783
Яромир Вайнбергер (1896–1967), чешский композитор, еврей, с 1939 г. жил в США
(обратно)784
Дов Хоз (1894, Орша, Белоруссия — 1940, близ Бейт-Лида), общественный деятель, лидер рабочего движения, возглавлял Всемирный союз еврейских рабочих Поалей Цион, был из пионеров еврейской авиации в Палестине. Погиб в автомобильной катастрофе вместе с дочерью и женой (сестрой Моше Шарета).
(обратно)785
Большое спасибо (иврит).
(обратно)786
Букв.: «Хава — душа общества, девушка, словно кедр!» (иврит), сравнение с кедром, всегда комплиментарное, в славословиях заменяет в иврите слово «молодец».
(обратно)787
Специалист, выполняющий операцию обрезания (иврит).
(обратно)788
Алия-бет (иврит), нелегальная алия (иммиграция) в Палестину во времена британского мандата.
(обратно)789
Моше Валлах (1856–1967), врач из Германии, создал, оснастил и возглавил первую за стенами Старого города больницу «Шаарей цедек», а старшая сестра Зельма Майер (1884–1940) была его бессменной помощницей.
(обратно)790
Поварского искусства (калька с иврита).
(обратно)791
Самовнушение (autosugestia — лат.).
(обратно)792
После первых месяцев войны с СССР радио «Голос Иерусалима» пригласило владеющих русским языком видных представителей ишува и попросило их выступить в поддержку советских евреев.
(обратно)793
Здесь страница аккуратно обрезана ножницами прямо посредине текста.
(обратно)794
Адаптация фрагмента библейской фразы (Исайя, 2:3): «Ибо с Сиона выйдет Учение (Тора) и Божье слово — из Иерусалима» к идее создания Еврейского университета в Иерусалиме.
(обратно)795
М. М. Усышкин похоронен рядом с Л. Пинскером в пещере-усыпальнице на горе Скопус в Иерусалиме, на территории Еврейского университета.
(обратно)796
Йосеф Гдалия Клаузнер (1874, Олькеники, Виленская губ. — 1958, Иерусалим), один из инициаторов возрождения национальной культуры на иврите, литературовед, историк, лингвист; сионистский деятель, профессор Еврейского университета в Иерусалиме.
(обратно)797
Сборник «Озорные рассказы» (1832–1837).
(обратно)798
«Струма», болгарское судно, на котором в декабре 1941 г. еврейские беженцы пытались эвакуироваться в Палестину, достигло вод Турции, где простояло десять недель, пока Турция и Британия вели переговоры: Турция не желала пустить беженцев на берег, Британия — в Палестину. Условия на судне были нечеловеческие, двигатель то и дело ломался. 24 февраля 1942 г. советская торпеда подорвала «судно под болгарским флагом», «Струма» пошла ко дну. 767 пассажиров (из них 103 — дети) погибли, один спасся.
(обратно)799
Унция (ounce — англ.).
(обратно)800
Белоснежка.
(обратно)801
Анна Элеонора Рузвельт (1884–1962), американский общественный деятель, супруга президента США Франклина Делано Рузвельта (1882–1945), написала автобиографию «This Is My Story» (1937).
(обратно)802
Поэт и переводчик на иврит Шаул Черниховский учился в Гейдельберге, имел диплом врача, подтвержденный в царской России, сначала служил земским врачом в Таврической губернии, а в годы Первой мировой войны в Серафимовском лазарете и в санитарном поезде. Многие эпизоды его врачебной практики описаны им в рассказах. По-русски см. об этом: Гордей Щеглов, священник. Первый Серафимовский: история одного лазарета в событиях и лицах (1914–1918). Минск, 2014.
(обратно)803
Теодор Злоцисти (1874–1943), поэт, врач, переводчик, сионистский деятель, соратник Герцля. Участвовал в 1-м Сионистском конгрессе, член редакции органа сионистов на немецком языке «Die Welt». Родом из Пруссии, работал врачом в Берлине и с 1921 г. — в Палестине.
(обратно)804
Город в Ливии, с января 1941 г. по ноябрь 1942 г. здесь проходили ожесточенные бои между странами антигитлеровской коалиции и странами «оси».
(обратно)805
Имеется в виду рожковое дерево.
(обратно)806
Борис (Федорович) Шлёцер (1881–1969), французский литератор, музыкальный и литературный критик, переводчик, с 1920 г. жил в Париже. Автор ряда трудов о композиторах, в том числе книги «Скрябин. Личность. Мистерия». Т. 1. Берлин: Грани, 1923. Был братом жены композитора, Татьяны.
(обратно)807
Видимо, речь о программе Lebensborn (Источник жизни), политической инициативе Г. Гиммлера для поощрения рождаемости (с 1936 г.): зачатие и воспитание в детских домах детей от служащих СС, прошедших расовый отбор, то есть не содержащих «примесей» еврейской и вообще неарийской крови у их предков. Программа включала создание сети домов, где расово чистые беременные женщины вынашивали детей «для отечества», не заключая брака.
(обратно)808
Аристид Бриан (Briand; 1862–1932), французский политический деятель, неоднократно премьер-министр Франции. Лауреат Нобелевской премии мира 1926 г. (вместе с Густавом Штреземаном) за заключение Локарнских соглашений, гарантировавших послевоенные границы в Западной Европе.
(обратно)809
Где-то там, в нашей стране (иврит).
(обратно)810
Букв.: «уложить холодными», то есть умертвить (kalt legen — нем.).
(обратно)811
В ноябре 1942 г. в Палестину впервые дошли известия об «окончательном решении еврейского вопроса», как это формулировалось в гитлеровских документах, — о планомерном уничтожении еврейского населения на оккупированных Германией территориях.
(обратно)812
Международное агентство новостей «Палькор» (Palcor News Agency) выпускало в Палестине особый Бюллетень (Palestine Correspondence Service Bulletin), где освещались события войны и то, что касалось евреев.
(обратно)813
Утром 27 ноября 1942 г. по приказу Адмиралтейства режима Виши были затоплены 77 французских судов, стоявших на рейде в Тулоне, чтобы предотвратить их захват нацистской Германией.
(обратно)814
Видимо, местность в районе городка Рафиах в Синайской пустыне, где в 1917 г. было сражение между силами Великобритании и турками, и победившие англичане создали там военную базу.
(обратно)815
Так называемые тегеранские дети, группа из более 1200 еврейских беженцев из Польши, среди них более 850 детей, которые после начала Второй мировой войны в результате раздела Польши между Германией и СССР оказались на советской территории. К 1943 г. они через Тегеран добрались до Палестины.
(обратно)816
Внутривенное вливание.
(обратно)817
Стихотворение «Я это видел!» (Керчь, 1942) советского поэта Ильи Сельвинского (1899–1968).
(обратно)818
Джордж Элиот (Мэри Анн Эванс; 1819–1880), английская романистка, создала роман «Даниэль Деронда» (1876), в котором не только вывела главным героем еврея, но и отстаивала необходимость еврейской национальной самоидентификации, чтобы противостоять ассимиляции в демократическом английском обществе.
(обратно)819
Большой палец книзу (pollico verso — лат.), выражение, заимствованное из гладиаторских боев в Древнем Риме, когда публика решала, убить или не убивать гладиатора: поднятый большой палец означал «даровать жизнь», тогда как «полисо версо» приговаривал его к смерти.
(обратно)820
Здесь: выходит.
(обратно)821
Числа 14:20–23; 14:29:33
(обратно)822
Дружеские посиделки (кум+зиц — «приходи+посиди» — идиш).
(обратно)823
Этот абзац представляет собой позднюю вставку и напечатан на отдельном полулисте.
(обратно)824
Поэт Шаул (Саул Гутманович) Черниховский умер 14 октября 1943 г. в Иерусалиме, в первый день праздника Суккот. Похоронен на старом кладбище Тель-Авива, ул. Трумпельдор.
(обратно)825
Инвентаризация, учет (stock — запас, фонд; англ.).
(обратно)826
Чист от евреев (Judenrein — нем.), термин, введенный нацистами.
(обратно)827
Хижинка (Lufthütte — нем.).
(обратно)828
Аллюзия к библейской книге Руфи (на иврите — Рут), где героиня собирает несжатые колосья и забытые снопы на чужом поле.
(обратно)829
Тихий океан (Pacific — англ.).
(обратно)830
Осенние праздники — Рош ѓа-Шана, Йом Кипур, Суккот.
(обратно)831
Ева Дениза Кюри-Лабуисс (1904–2007), французская и американская журналистка, писательница, музыкальный критик и общественный деятель, дочь физиков Марии Склодовской-Кюри и Пьера Кюри. В годы Второй мировой войны служила фронтовым военным корреспондентом, в том числе на Дальнем Востоке, и в 1943 г. выпустила книгу своих впечатлений и взятых ею интервью.
(обратно)832
Кибуц, точнее — коммуна (квуца — иврит), основан 2 ноября 1913 г.
(обратно)833
По рассказам римских историков, поначалу Рим был населен только мужчинами; соседние племена не хотели выдавать своих дочерей замуж за бедное население Рима. Тогда Ромул устроил праздник и пригласил соседей, в частности, сабинян, которые явились семьями. Во время праздника римляне неожиданно бросились на безоружных и похитили у них девушек. Возмущенные соседи начали войну. В особенно жестоком сражении сабинские женщины, привязавшиеся уже к своим римским мужьям и имеющие от них детей, бросились между врагами и стали умолять их прекратить битву. Сабиняне согласились, и был заключен вечный мир.
(обратно)834
Здесь: помощь.
(обратно)835
Портняжные мастерские.
(обратно)836
Каймакам (турец.), наместник, правитель округа.
(обратно)837
Стихотворение «Деспо» из цикла А. Н. Майкова (1821–1897) «Новогреческие песни».
(обратно)838
Эва Вайолет (маркиза Рединг, 1895–1973), была президентом британской секции Всемирного еврейского конгресса. Дочь Альфреда Морица Монда (см. прим. 611).
(обратно)839
Имеется в виду озеро Кинерет, называемое на иврите «морем» (ям Кинерет).
(обратно)840
Отменили затемнение.
(обратно)841
Одесский комитет (Ховевей-Цион) — официальное название: Общество вспомоществования евреям земледельцам и ремесленникам в Сирии и Палестине (также Одесское палестинское общество), легальная организация палестинофильского движения в России. Был создан в 1887 г. и субсидировал ряд еврейских начинаний в Палестине, но и диктовал свои принципы, что нередко приводило к конфликтам с жившими в Палестине евреями.
(обратно)842
Сборник статей «Onwards to Victory» (1944).
(обратно)843
Имеется в виду политика англичан, запрещавшая судам с беженцами из Европы высаживать свой живой груз в Палестине. Беженцев переправляли на острова Средиземного моря и у берегов Африки, где содержали в лагерях. Маурициус — о. Маврикий.
(обратно)844
Озабоченная судьбой своих нефтяных и транспортных владений на Ближнем Востоке и стремясь сохранить контроль над ними, Англия готова была уступить требованиям арабов в отношении политики в Палестине. О Дизраэли см. прим. 513.
(обратно)845
Вальтер Клэй Лаудермильк (Lowdermilk, 1888–1974), американский агроинженер, проводил мелиорационные работы в разных странах, в том числе в Палестине, где поддерживал еврейскую колонизацию, исходя из религиозно-исторических принципов. Резко критиковал политику Белой книги 1939 г. и предрекал резню евреев мусульманами по окончании Британского мандата. Речь идет о его книге «Палестина, Земля обетованная» («Palestine, Land of Promise», 1944).
(обратно)846
Мультипликационный фильм (1942) студии У. Диснея по книге Ф. Зальтена «Бэмби» (1923).
(обратно)847
Международная конференция, проходившая с 25 апреля по 26 июня 1945 г. В ней участвовали 50 стран, которые являлись учредителями Организации Объединенных Наций. На конференции был учрежден Международный суд ООН и подписан Устав ООН, вступивший в действие 24 октября 1945 г.
(обратно)848
Так в книге (прим. верстальщика).
(обратно)849
Б. Муссолини, его любовница и несколько фашистских лидеров Италии были расстреляны, а их тела повешены в Милане за ноги 28.4.1945.
(обратно)850
День массовых празднеств по случаю победы в решающем сражении или войне или в память о них (англ.).
(обратно)851
Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945 г.
(обратно)852
Героиню идишской пьесы Якова Гордина (1853–1909) «Миреле Эфрос» (1898) часто называли «королевой Лир».
(обратно)853
Добродетельная и сильная, активная женщина (иврит).
(обратно)854
Пьер Лаваль (1883 — 15.10. 1945), французский политик, занимал высокие государственные посты; владелец газет и радиостанций. Активный деятель коллаборационистского «правительства Виши» и его глава с 1942 по 1944 гг. 4 октября 1945 г. Лаваль предстал перед судом по обвинению в государственной измене и сотрудничестве с врагом. Казненный по приговору суда, Лаваль своей вины не признал.
(обратно)855
Выдающийся еврейский историк С. М. Дубнов был убежденным противником сионизма и создателем идеологии автономизма, стремившейся к созданию широкой еврейской национально-культурной автономии в странах диаспоры. Примечателен тот факт, что А. Эйнштейн вышел из международного еврейского научного общества ИБО только потому, что его возглавлял антисионист Дубнов (письмо Эйнштейна Дубнову по этому вопросу хранится в Архиве Эйнштейна в Иерусалиме).
(обратно)856
Альберт Кессельринг (Kesselring; 1885–1960), генерал-фельдмаршал авиации (люфтваффе), один из самых успешных командиров Третьего рейха. После войны был осужден за военные преступления и приговорен к смертной казни. Впоследствии приговор был заменен пожизненным заключением, а в 1952 г. Кессельринг был освобожден по состоянию здоровья.
(обратно)857
Грузовик (lorry — англ.).
(обратно)858
Роман австрийского писателя-еврея Франца Верфеля (1890, Прага — 1945, Беверли-Хиллз, США) о святой Бернадетте, которая уверяла, что в 1858 г. ей многократно являлась Дева Мария. Издан в 1941 г. После успеха у читателей был экранизирован (США, 1943).
(обратно)859
Трилогия Аша на идише о возникновении христианства: «Человек из Назарета» («Дер ман фун Нойцерес», 1943), «Апостол» (1949) и «Мария» (1949).
(обратно)860
Три предыдущие страницы рукописи автором удалены, о чем свидетельствует номер на странице: «407-408-409-410».
(обратно)861
Йоэль (Юлий Дмитриевич) Энгель (1868, Бердянск, Таврическая губ. — 1927, Тель-Авив), музыкальный критик, лексикограф, композитор, фольклорист, один из зачинателей движения за возрождение еврейской национальной музыки. С 1924 г. жил в Тель-Авиве. Кароль Ратхауз (1895, Тарнополь, Австро-Венгрия — 1954, Нью-Йорк), композитор, сын польки и австрийского еврея. С 1932 г. жил в эмиграции.
(обратно)862
«Благословен Ты, Господь… что дал нам дожить, просуществовать и поддерживал нас до настоящего времени».
(обратно)863
Пьеса «Эта земля» (Ѓа-Адама ѓа-зот; 1943) поэта, драматурга и переводчика Аѓарона Ашмана (1896, Подолия — 1981, Тель-Авив) была написана под впечатлением празднования 50-летия поселения Хадера (основано в 1890 г.), и спектакль «Габима» стал событием в культурной жизни ишува.
(обратно)864
«Вчерашний мир», автобиографическое произведение Стефана Цвейга (1881–1942) с подзаголовком «Воспоминания европейца». Мемуары написаны Цвейгом в последние годы жизни в эмиграции в 1939–1941 гг. и опубликованы после его смерти (1943). Schöngeist — прекрасный дух (нем.). Цвейг и его жена покончили с собой в г. Петрополисе, Бразилия.
(обратно)865
Ѓа-Танур, 30-метровый водопад на ручье Аюн на севере Израиля, невдалеке от г. Метулы.
(обратно)866
Работа скульптора А. Мельникова (см. прим. 383), который в 1925 г. посетил Галилею и предложил сделать памятник на месте захоронения жертв в Тель-Хай. Борис Шац обеспечил Мельникова материалом. Скульптура из необработанной горной породы была торжественно открыта 22 февраля 1934 г. и стала национальным символом.
(обратно)867
Здесь: селят (калька с иврита).
(обратно)868
Идиш.
(обратно)869
Мелиорация почв и лесные посадки на приобретенных Еврейским национальным фондом землях проводились в 1930–1948 гг. в основном вокруг Изреэльской долины, среди них — Лес Бальфура, в то время самый большой лесной массив в стране. Лес относится к кибуцу Гинегар (основан в 1922 г.).
(обратно)870
Усыновили (от adopt — англ.).
(обратно)871
«Мавр сделал свое дело, мавр может уходить», цитата из драмы Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» (1783). Эту фразу произносит мавр, оказавшийся ненужным после того, как он помог графу Фиеско организовать восстание республиканцев против тирана Генуи дожа Дориа.
(обратно)872
25 ноября 1945 г. кибуц Гиват Хаим (основан в 1932, назван после гибели Хаима Арлозорова в 1933 г.) был окружен британскими войсками (так называемая блокада Гиват Хаим) в ответ на устроенные Пальмахом взрывы полицейских станций и радаров. Евреи из других мест приехали на демонстрацию протеста. Огнем англичан 8 человек из них были убиты и 42 ранены. Еврейские жители Эмек Хефер поддерживали борьбу против англичан за свободную иммиграцию и еврейское самоопределение.
(обратно)873
Сопротивление (resistance — англ.).
(обратно)874
Лейборист Эрнест Бевин (1881–1951) занимал пост министра иностранных дел с 1945 по 1951 г. Активно боролся с нелегальной иммиграцией евреев в Палестину, так как считал, что пережившие Холокост должны остаться в Европе. Его предложение создать в Палестине федеративное государство евреев и арабов было отвергнуто и евреями, и арабами.
(обратно)875
Роман «Пересекшие границу» (The Trespassers, 1943) американской писательницы, дочери еврейского иммигранта Лоры Хобсон (1900–1986) рассказывает о беженцах от нацизма.
(обратно)876
Неточность мемуаристки: в фильме «Мадам Кюри» (1943, реж. М. Лерой) играла актриса Грир Гарсон, получившая «Оскара» за исполнение заглавной роли.
(обратно)877
Марк Алданов (псевдоним Марка Александровича Ландау; 1886, Киев — 1957, Ницца, Франция), с 1919 г. жил в эмиграции. Роману «Начало конца [культуры и свободы]» (1943), рассказывающему о деградации Европы в период между двумя мировыми войнами, в английском переводе автор дал название «Пятая печать» (The Fifth Seal, 1943).
(обратно)878
Алексис Сигизмунд Вайсенберг, в детстве выступал под именем Зиги (1929, София — 2012, Лугано, Швейцария), французский пианист. После начала войны чудом попал в Хайфу, где раньше обосновалась одна из сестер его матери, год спустя возобновил занятия музыкой в Иерусалиме. В 1943 подписал контракт на три сезона выступлений с Палестинским филармоническим оркестром, в 1946 г. уехал в Нью-Йорк.
(обратно)879
Англо-американская комиссия по вопросу о Палестине была создана в январе 1946 г. с целью согласовать политику в отношении будущего подмандатной Палестины, в первую очередь касательно иммиграции еврейских беженцев из Европы и покупки евреями арабских земель. Были опрошены представители евреев и арабов, комиссия прибыла в Палестину 6 марта и в апреле опубликовала свои рекомендации. Но в июне 1946 г. Великобритания отказалась следовать рекомендации впустить в Палестину 100 тысяч евреев.
(обратно)880
Видимо, речь идет о полемике философа B. C. Соловьева (1853–1900) с автором книги «При свете совести» Н. М. Минским (1855–1937).
(обратно)881
ООН (The United Nations Organization) была основана 24 октября 1945 г. вместо неэффективной Лиги Наций.
(обратно)882
Философский труд Ф. Ницше «Человеческое, слишком человеческое» (1878) продемонстрировал его разрыв с прежними кумирами и взглядами.
(обратно)883
Приятное времяпрепровождение (good time — англ.).
(обратно)884
Кашрут (иврит) — законы иудаизма, касающиеся всего, что связано с едой и питьем.
(обратно)885
Ведущий актер «Габимы» Шимон Финкель (1905, Гродно — 1999, Тель-Авив) выступил в роли Гамлета в 1946 г.
(обратно)886
Ивритское государство (иврит).
(обратно)887
Эдис де Филипп (1912–1979), звезда американской оперы, дочь еврейских эмигрантов с Украины, приехала в Палестину в 1945 г. на гастроли, а осталась навсегда, став в 1947 г. директором и художественным руководителем реанимированной ею национальной оперы. В первый год выступала с концертами.
(обратно)888
«Богема» (1896) Дж. Пуччини с де Филипп в роли Мими была поставлена в Парижской опере по инициативе ее директора Георга Хирша и давала спектакли в Палестине.
(обратно)889
Цивья Любеткин (1914–1978), участница восстания в Варшавском гетто, в 1945 г. переехала в Палестину, где была одним из основателей кибуца Лохамей ѓа-гетаот («Бойцы гетто», 1949). Одной из первых выступила с рядом докладов о Холокосте и вооруженном сопротивлении европейских евреев.
(обратно)890
Здесь: легкомысленные штучки (frivolity — англ.).
(обратно)891
В 1900 г., в возрасте 56 лет, Сара Бернар сыграла 20-летнего героя в героической драме Эдмона Ростана «Орленок» (L'Aiglon), посвященной судьбе сына Наполеона I и необычайно популярной в начале XX в.
(обратно)892
Мемуаристка на 10 лет омолодила своего героя по сравнению с прототипом.
(обратно)893
В семейном кругу (франц.).
(обратно)894
Как уже отмечалось, за образом Меира стоит сын Фриды и Лейба Яффе Биньямин. Он окончил Еврейский университет в Иерусалиме по истории, исследовал историю сионизма, получил докторскую степень в Оксфорде, там работал старшим научным сотрудником в сфере иудаики. Автор ряда книг на иврите, в том числе: «Раввин из Иеѓуда» (биография р. Гимпеля Яффе; 1958), «Бенджамен Дизраэли» (биография; 1960), «Портрет Страны Израиля, 1914–1948» (1983).
(обратно)895
Такой картины в фильмографии Бетт Дэвис не найдено.
(обратно)896
Видимо, Иньяцио Силоне (Сегондино Транквилли; 1900–1978), итальянский писатель, публицист, политический деятель социалистического толка.
(обратно)897
Чарлз Орд Уингейт (Wingate; 1903, Индия — 1944, Бирма), британский офицер. В 1936 г. был направлен на службу в подмандатную Палестину. Сыграл решающую роль в подавлении арабского террора, в первую очередь в отражении атак арабских банд на нефтепровод Киркук — Хайфа, за что был награжден орденом. Уингейт установил тесные связи с руководством ишува и Хаганой. По его инициативе и под его руководством были созданы «ночные роты», действия которых основывались на специально разработанной Уингейтом неконвенциональной тактике, доказавшей свою эффективность в борьбе против арабских нападений.
(обратно)898
29 июня 1946 г. англичане провели в Палестине карательное мероприятие (Операция Агата), получившее у евреев название «Черная суббота». Еврейские города, кибуцы и поселки были объявлены на осадном положении, проводились повальные обыски в домах и облавы на улицах. В операции участвовали 17 тысяч британских солдат, было арестовано более 2700 евреев. Бен-Гурион отдал приказ членам Хаганы не оказывать физического сопротивления, сведения о готовящейся операции позволили многим бойцам подполья спрятаться и перепрятать склады оружия. Среди арестованных и заключенных в Латруне были лидеры ишува Давид Ремез, Моше Шарет (Черток), Ицхак Гринбаум (1879–1970), Давид Ѓакоѓен (1898–1984), Хаим Альперин (1899–1967) и судья Дов Йосеф (Джозеф; 1899–1980).
(обратно)899
Взрыв в гостинице «Кинг Дэвид» в Иерусалиме, произведенный июля 1946 г. еврейской подпольной военной организацией «Эцель», был ответом на «Черную субботу». Взрыв был направлен против администрации британского мандата, штаб-квартира которой находилась в отеле. По утверждению руководителей «Эцель», за полчаса до взрыва они оповестили об операции работников отеля с тем, чтобы дать им возможность эвакуировать людей, но главный секретарь правительства Палестины сэр Джон Шоу запретил своим подчиненным покинуть отель. В результате взрыва погибло более 80 человек, и руководство ишува публично осудило эту акцию.
(обратно)900
Члены национал-демократической партии Польши, правой националистической партии (1897–1947).
(обратно)901
Пропуска, позволяющие ходить по улицам во время комендантского часа (curfew pass — англ.).
(обратно)902
Британская лейбористская партия (Labour Party) была правящей в 1945–1951 гг.
(обратно)903
Исполнительная власть еврейского ишува в подмандатной Палестине.
(обратно)904
Марк Дворжецкий (1908, Вильна — 1975, Тель-Авив), врач, один из руководителей комитета медицинской помощи в гетто Вильны, автор книги «Медицина в Виленском гетто» (Париж — Женева, 1946; идиш).
(обратно)905
Ян Христиан Сматс (Smuts; 1870–1950), южноафриканский государственный и военный деятель. Служил в Имперском военном кабинете под руководством У. Черчилля. Он был единственным человеком, который принимал участие в подписании мирных договоров и после Первой, и после Второй мировой войны, инициатор мандата на Палестину. Одним из величайших международных его достижений стало создание Лиги Наций и ее устава. Позднее он призвал к формированию ООН.
(обратно)906
Белокурая бестия (die Blonde Bestie, букв. «желтоватый зверь» — нем.; первоначально так называли льва, царя зверей), термин, использованный Ницше в его работе «К генеалогии морали» (1887) для обозначения «сверхчеловека». Фашисты называли так представителей арийской расы, в первую очередь немцев.
(обратно)907
Комплекс неполноценности (inferiority complex — англ.).
(обратно)908
Бернардино Молинари (1880–1952), итальянский дирижер. В 1945 г. прибыл в Палестину и принял на себя руководство еврейским филармоническим оркестром. По некоторым источникам, сделал оркестровку национального гимна «Ѓа-тиква», одобренную Леонардом Бернстайном и поныне исполняемую в Израиле.
(обратно)909
Скрипач и дирижер Шимон Гольдберг (1909–1993) был польским евреем. Работал с Берлинским филармоническим оркестром, но в 1938-м покинул Германию, ездил с турне по разным странам. В 1942–1945 гг. был интернирован японцами на Яве. Вскоре после войны обосновался в США.
(обратно)910
Увертюра созданная Ф. Мендельсоном под впечатлением путешествия по Шотландии в 1829 г.
(обратно)911
Еврейское государство (англ.).
(обратно)912
Стихотворения в прозе (senilia — лат.).
(обратно)913
Зигрид Унсет (Sigrid Undset; 1882–1949), норвежская романистка, лауреат Нобелевской премии по литературе (1928) после публикации романа-трилогии «Кристин, дочь Лавранса» (Kristin Lavransdatter, 1920, 1921, 1922) о Норвегии в Средние века. Жюри отметило историческую и этнографическую точность в изображении дохристианской Норвегии.
(обратно)914
Американский дирижер, пианист, композитор, популяризатор музыки Леонард Бернстайн (1918–1990) впервые выступил с Палестинским филармоническим оркестром в Тель-Авиве в 1947 г. и оставался связан с ним до конца жизни; давал концерты в годы войны (1948) и победы (1967).
(обратно)915
«Триумфальная арка» (Arc de Triomphe — нем.), роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (1898–1970), впервые опубликованный в США в 1945 г.; немецкое издание вышло в 1946 г.
(обратно)916
Клещевина (Ricinus — лат.; кикайон — иврит).
(обратно)917
Да устыдится тот, кто об этом подумает плохо (франц.), в смысле «каждый понимает в меру своей испорченности».
(обратно)918
Кипятильник.
(обратно)919
Пьеса Сомерсета Моэма «Святое пламя» (The Sacred Flame; 1928), где Ровина играла мать героя.
(обратно)920
«Дама с камелиями» (франц.), роман А. Дюма-сына (1948).
(обратно)921
Бартли Крам (Crum; 1900–1959), американский юрист, член Англо-Американской комиссии по Палестине, написал книгу «За шелковой завесой: частная оценка англо-американской дипломатии в Палестине и на Ближнем Востоке» (Behind the Silken Curtain: a Personal Account of Anglo-American Diplomacy in Palestine and the Middle East; 1947).
(обратно)922
Жорж Дюамель (Duhamel; 1884–1966), французский прозаик, поэт, драматург, литературный критик; лауреат Гонкуровской премии (1918), автор пяти романов из цикла о Салавене («Полуночная исповедь», «Двое», «Дневник Салавена», «Клуб на улице де Лионнэ», «Игры и утехи», 1920–1932).
(обратно)923
Максвелл Найт (Knight; 1900–1968), английский разведчик и контрразведчик, натуралист, писатель. Один из первых английских фашистов. Автор двух детективных романов. Прообраз Джеймса Бонда.
(обратно)924
Повесть Леонида Андреева (1871–1919) «Жизнь Василия Фивейского» рассказывает о священнике, который отказался от сана, а его же рассказ «Красный смех» — об ужасах войны (под влиянием Русско-японской войны). Мемуаристка ошиблась, называя автора. Ранний роман «Идиот» (1909) немецкого писателя Бернгарда Келлермана (1879–1951) написан под влиянием одноименного романа Ф. Достоевского.
(обратно)925
УНСКОП, Специальная комиссия ООН по Палестине (UNSCOP), в составе 11 государств (Австралия, Канада, Нидерланды, Швеция, Чехословакия, Югославия, Индия, Иран, Гватемала, Уругвай и Перу), была создана в 1947 г. с целью изучить ситуацию в стране и подготовить для ООН отчет по палестинской проблеме.
(обратно)926
Иеѓуда Лейб Магнес (1877, Сан-Франциско — Нью-Йорк), еврейский общественный деятель, в 1925–1948 возглавлял Еврейский университет в Иерусалиме. Пацифист, отличался крайне левыми взглядами, был убежденный сторонник двунационального арабо-еврейского государства в Палестине.
(обратно)927
Роберт фон Ранке Гревс (Graves; 1895–1985), английский поэт, романист, воевал в Первой мировой войне. Роман «Долгий викэнд» (The Long Weekend) вышел в 1940 г.
(обратно)928
Уптон Синклер (Sinclair; 1878–1968), американский писатель, автор более 100 книг.
(обратно)929
Роман об антисемитизме в США «Джентльменское соглашение» (Gentleman’s Agreement; 1947).
(обратно)930
По следам дела Бейлиса (1911–1913) Шолом-Алейхем (1859–1916) написал роман «Кровавая шутка» (1913), который переложили в пьесу «Трудно быть евреем» (Швер цу зайн а йид) и играли на сцене.
(обратно)931
Авраам Суцкевер (1913, Сморгонь — 2010, Тель-Авив), идишский поэт и прозаик. Был членом боевой организации в Виленском гетто и на конкурсе литераторов-узников (февраль 1942 г.) получил премию за драматическую поэму «Дитя могил» («Дос кейверкинд»). Нацисты принудили Суцкевера и других деятелей еврейской культуры заниматься уничтожением рукописей и книг библиотеки М. Страшуна и ИБО, но те сумели вынести из помещений института и библиотеки самые ценные материалы. Ружка Курчак (1924–1988), из активистов военного подполья в том же гетто. В декабре 1944 г. добралась до Палестины. Опубликовала несколько книг о годах в гетто (в переводе с польского на иврит).
(обратно)932
См. роман-бестселлер американского писателя, сына еврейского иммигранта из Польши Леона Юриса (Uris; 1924–2003) «Исход» (Exodus, 1958) и сделанный по нему фильм (1960) с Полом Ньюменом в главной роли.
(обратно)933
Уроженцев места (natives — англ.).
(обратно)934
Хаос (ашкеназский иврит).
(обратно)935
Речь идет о голосовании в ООН 29 ноября 1947 г. в городке Lake Success, когда большинство стран выступило за создание в Палестине двух отдельных государств — еврейского и арабского.
(обратно)936
Роман-биография американского писателя Говарда Фаста (1914–2003) «Гражданин Том Пейн» (1943) посвящен судьбе политика, просветителя, инженера Томаса Пейна (1737–1809), участника Войны за независимость в Северной Америке и Великой французской революции.
(обратно)937
Война за независимость США, длилась с 19 апреля 1775 по 3 сентября 1783 гг.
(обратно)938
Стали противниками (от offensive — «агрессивный», англ.).
(обратно)939
Книга французского историка и журналиста Жака Пьера Бенвиля (Bainville; 1879–1936) «Англия и Британская империя» (L'Angleterre et l'Empire Britannique; 1938).
(обратно)940
«Лисы в винограднике» (1947) Лиона Фейхтвангера (1884–1958), немецкого писателя, еврея, автора исторических романов, чьи книги нацисты жгли в 1933 г.
(обратно)941
26 декабря 1947 г. арабы обстреляли из засады колонну машин в районе Шаар ѓа-Гай на выезде из Иерусалима, в которых ехали работники Еврейского агентства (Голда Меир, Ицхак Гринбаум и др.), а также грузовик с 50-ю бойцами Пальмаха. Несколько человек погибло, среди них Ганс Байт, пятеро были ранены.
(обратно)942
Джеймс Рэмси Ульман (Ullman; 1907–1971), американский писатель, автор нескольких книг о горах, в том числе бестселлера «Белая башня» (1945), экранизированного в 1950 г.
(обратно)943
Опубликовано в 1917 г. Цит. по: Вл. Ходасевич. Собр. соч. в 2 тт. Т. 2: Статьи и рецензии 1905–1926. Под ред. Джона Малмстада и Роберта Хьюза. Анн Арбор: Ардис, 1990. С. 278.
(обратно)944
Р. Тименчик, 3. Копельман. Вячеслав Иванов и поэзия Х. Н. Бялика // Новое литературное обозрение, № 14, 1995. С. 102–118. (Далее — Тименчик, Копельман, 1995.)
Б. Горовиц (Публикация, предисловие и комментарии). Письма Л. Б. Яффе к М. О. Гершензону // Вестник Еврейского университета в Москве, № 2 (18). М. — Иерусалим, 1998. С. 210–225. (Далее — Горовиц, 1998.)
Э. И. Мазовецкая. Поэзия на иврите в переводах русских писателей. // Русская литература, № 2, 2003. С. 174–187. (Далее — Мазовецкая, 2003.)
А. В. Лавров. Лейб Яффе и «Еврейская антология»: к истории издания // Художественный перевод и сравнительное изучение культур (Памяти Ю. Д. Левина). СПб: Наука, 2010. С. 120–138. (Далее — Лавров, 2010.)
(обратно)945
Журнал «Ѓа-Олам», 1933, № 2 (иврит).
(обратно)946
«…наш депутат <в Думе> М. Х. Бомаш сообщил Думе о тех мытарствах, которые выпали на долю еврейской прессы: 5-го июля 1915 года, сказал М. Х. Бомаш, над 6-миллионным еврейским народом был сделан эксперимент: его лишили языка. Были закрыты все повременные издания, издающиеся на еврейском языке: 7 ежедневных, 1 еженедельное, 1 двухнедельное и 2 ежемесячных. Еще раньше, в марте и апреле, все издания на еврейском языке были закрыты в Киевском военном округе, а в Одессе закрыты журналы на древнееврейском языке. С самого начала войны была запрещена вся переписка на еврейском языке» // Еврейская печать. В журнале «Новый путь», № 6 (26 февр. 1916), с. 4–5. Москва.
(обратно)947
Х. Н. Бялик (1873–1934) не имел права на жительство вне черты оседлости, однако приезжал в Москву как участник разных мероприятий.
(обратно)948
Статья Бялика «Галаха и агада» в переводе на русский язык Хаима Гринберга была опубликована в сб. «Сафрут», № 1 (1917).
(обратно)949
А. Гольдштейн (1884–1949), сионистский деятель, журналист, работал в русско-еврейской печати. С 1933 г. в Палестине.
(обратно)950
X. Гринберг (1889, Бессарабия — 1953, Нью-Йорк), журналист, переводчик с иврита на русский, идеолог Социалистической еврейской рабочей партии «Поалей Цион» в США. Сотрудничал с Л. Яффе в газете «Еврейская жизнь» и в изд-ве «Сафрут». В 1921–1294 гг. жил в Берлине, с 1924 г. — в США.
(обратно)951
Желание воздать Бялику и обсудить его ивритское творчество по-русски видится мне откликом Яффе на событие, очевидцем которого он был: «27 февраля <1916 г.> в театре Незлобина состоялся вечер еврейской поэзии, устроенный кружком студентов-евреев Московского коммерческого института. В программу вечера входило: доклад Х. И. Гринберга „Давид Фришман и его литературная деятельность“ и чтение Д. С. Фришманом и Х. Н. Бяликом своих произведений. <…> Театр был переполнен. Теплая встреча литераторов, принявшая форму оваций, свидетельствовала о том, что еврейская <на иврите> литература стала достоянием широких еврейских кругов. <…> Х. Н. Бялик читал со свойственным ему подъемом отрывки из своих произведений „Ochein se musar“ и нигде непечатавшийся „Lamenazeach al a’mecholes“. К сожалению, единодушно встретившая поэта публика после чтения на непонятном многим языке не столь единодушно провожала его. Компенсацией явилось чтение артисткой Малого театра г<оспожой> Смирновой переводов автора на русском языке. Прочла она с мастерством, за что и была награждена дружными апплодисментами» (Б. Л. Вечер еврейской поэзии // Новый путь, № 7, 4 марта 1916, с. 34–35. Москва).
(обратно)952
Менделе Мойхер Сфорим (псевдоним Шолома Якова Абрамовича), классик литературы на идише, с легкой руки Шолом-Алейхема прозванный «Дедушкой» (еврейской литературы), умер 8 декабря 1917 г. в Одессе, где с 1881 г. возглавлял еврейскую школу с изучением традиционных и общих предметов и иврита как национального языка.
(обратно)953
См.
(обратно)954
Русский писатель Андрей Соболь (настоящее имя Юлий Михайлович (Израиль Моисеевич) Соболь; 1888, Саратов — 1926, Москва) с юношеских лет страдал от тяжелой депрессии, неоднократно пытался покончить с собой. 7 июня 1926 г. застрелился в Москве, у памятника Пушкину. Яффе публиковал рассказы Соболя в сб. «Сафрут».
(обратно)955
Еврейская жизнь, № 14–15, 3 апреля 1916 г.
(обратно)956
Лавров, 2010, с. 126.
(обратно)957
Горовиц, 1998, с. 212.
(обратно)958
В письме матери от 11 марта 1916 г. М. Гершензон писал: «Поэзию Бялика я знаю по его книге на жаргоне <идише. — З. К.>, которую привез из Одессы, по переводу Жаботинского и т. п.; да когда-то Дизенгоф читал мне и буквально переводил его стихи древнееврейские. Еще я познакомил Яффе с Булгаковым, Шестовым и Вяч<еславом> Ивановым, у которых он тоже просил статей» (Горовиц, 1998, с. 222).
(обратно)959
В письме к родным от 4 марта 1916 г. М. Гершензон писал: «Знаете, мамаша, кто у меня был дня два назад? Яффе, который в Гейдельберге писал у меня под диктовку, помните? — блондин. Он здесь редактор журнала „Евр<ейская> Жизнь“. Все такой же пламенный сионист. На днях я по телефону пригласил его зайти, и он просидел целый вечер. Очень симпатичен» (там же).
(обратно)960
И. А. Бунин: письма 1905–1919 годов. Отв. ред. С. Н. Морозов. М.: ИМЛИ РАН, 2007. С. 362–363.
(обратно)961
Лавров, 2010, с. 126–127.
(обратно)962
А. В. Лавров приводит слова Брюсова о Бялике: «…по переводам нельзя не почувствовать, что г. Бялик — поэт очень значительный, умеющий сочетать истинную художественность с тем, что у нас называют „гражданственностью в поэзии“. Поэзия г. Бялика, насыщенная воспоминаниями Библии, исполнена редкой в наши дни силы и своим „необщим выраженьем“ резко выделяется из однообразного хора современных „певцов“» (Там же).
(обратно)963
Горовиц, 1998, с. 213.
(обратно)964
Статья «Ярмо и гений».
(обратно)965
И. А. Бунин: письма 1905–1919 годов, с. 364.
(обратно)966
Стихотворение Бунина «Да исполнятся сроки» («— Почто, о Боже, столько лет / Ты мучишь нас в пустыне знойной!»)
(обратно)967
Лавров, 2010. С. 127. А. Лавров, приводя этот фрагмент, добавляет: «Возможно, в данном случае имелся в виду перевод стихотворения „Аl Ha’schchita“ („О резне“, или „Над бойней“), выполненный Сологубом, который не во всех формулироваках удовлетворял Яффе (об этом свидетельствует письмо Вяч. Иванова от 29 марта 1916 г.)».
(обратно)968
А. Лавров, 2010. С. 127–128
(обратно)969
Брюсов сделал перевод стихотворения «Аl Ha’schchita», и в юбилейном номере газеты были опубликованы два перевода одного и того же стихотворения: Сологуба — «О милости, Небо, проси для евреев…» и Брюсова — «Для меня милосердий, о Небо, потребуй!..»
(обратно)970
См. Мазовецкая, 2003. С. 180–181
(обратно)971
Слова, выбранные Бяликом в название стихотворения, отклика на Кишиневский погром (1903), заимствованы из благословения, которое произносит резник перед убоем скота: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, освятивший нас своими заповедями и давший нам заповедь об убое <al haschchita>».
(обратно)972
Тименчик, Копельман, 1995, с. 116. (У Мазовецкой, 2003, с. 178–179, текст дан с ошибками и урезан.)
(обратно)973
Мазовецкая, 2003. С. 177.
(обратно)974
Лавров, 2010, с. 131.
(обратно)975
Там же, с. 129, 137,138.
(обратно)976
Ходасевич писал: «…если бы не Гершензон — плохо мне было бы в 1916–1918 гг., когда я тяжело хворал. Гершензон добывал для меня работу и деньги…» // Письма В. Ф. Ходасевича Б. А. Садовскому. Подгот. текста, сост. И. П. Андреевой. Анн Арбор: Ардис, 1983. С. 93.
(обратно)977
См. об этом: Вл. Ходасевич. Из еврейских поэтов. Сост., вступ. ст. и комм. 3. Копельман. М. — Иерусалим: Гешарим, 1998.
(обратно)978
Горовиц, 1998, с. 213–214. Лавров, 2010, с. 130.
(обратно)979
Издание не состоялось.
(обратно)980
Горовиц, 1998, с. 214. Б. Горовиц приводит телеграмму М. Гершензона Вяч. Иванову: «Яффе убедительно просит телеграфного согласия. Привет всем», которая находится в фонде Яффе в архиве Национальной библиотеки в Иерусалиме.
(обратно)981
Лавров, 2010, с. 132.
(обратно)982
Лавров, 2010, с. 132–133.
(обратно)983
И. А. Бунин: письма 1905–1919 годов, с. 374. Переводов Бунина в «Еврейской антологии» нет.
(обратно)984
Горовиц, 1998, с. 214–215.
(обратно)985
Лавров, 2010, с. 130.
(обратно)986
Там же.
(обратно)987
В «Сборнике финляндской литературы» (Пг.: Парус, 1917) в переводе Брюсова были опубликованы 18 стихотворений, принадлежащих перу 11 поэтов. (Примеч. А. Лаврова.)
(обратно)988
Лавров, 2010, с. 132–133. Как пишет Лавров, после этого письма в переписке Яффе и Сологуба образовался более чем полугодовой перерыв.
(обратно)989
Горовиц, 1998, с. 215.
(обратно)990
Л. Яффе принял должность главного редактора еврейского издательства на русском языке «Сафрут» («Изящная словесность»), созданного на средства Ицхака Лейба Гольдберга, Ицхака Найдича и Файвла Шапиро и просуществовавшего в Москве до 1919 г. Помимо уже названных, издательство выпустило сборник рассказов Х. Н. Бялика в переводе Д. Выгодского, речи М. Нордау, сборник статей Ахад-Гаама и другие публицистические книги, касающиеся сионизма.
(обратно)991
Речь идет о первом сборнике «Сафрут». В редакционной статье Яффе, в частности, писал: «Сборники Сафрут будут посвящены обсуждению и углублению основных проблем еврейской национальной мысли, выяснению вопросов еврейской общественности и сионистского движения, а также ознакомлению с еврейской литературой и искусством» («Сафрут», № 1. С. 3).
(обратно)992
Лавров, 2010, с. 133.
(обратно)993
Мазовецкая, 2003, с. 182.
(обратно)994
Горовиц, 1998, с. 216.
(обратно)995
Горовиц, 1998, с. 216–217.
(обратно)996
Это издание библейской книги в переводе А. М. Эфроса не было осуществлено. (Примеч. А. Лаврова.)
(обратно)997
Горовиц, 1998, с. 224. Публикатор сообщает, что это — единственное письмо Гершензона к Яффе, хранящееся в архиве (фонд Л. Яффе) в Национальной библиотеке в Иерусалиме. Послано из Судака.
(обратно)998
Статьи Гершензона в № 1 альманаха «Сафрут» (вышел в октябре 1917 г.) нет.
(обратно)999
Мазовецкая, 2003, с. 182–183.
(обратно)1000
Перевод с иврита главы из поэмы «В горах» 3. Шнеура и собственное стихотворение Маршака «Иерусалим» («По горной царственной дороге…») были напечатаны в сб. «Сафрут», № 1. Этот перевод вошел также в «Еврейскую антологию».
(обратно)1001
Лавров, 2010, с. 136.
(обратно)1002
Письмо Ходасевича Сологубу отправлено в усадьбу Княжнино (близ Костромы), где писатель жил летом и ранней осенью 1917 г. (Примеч. А. Лаврова.)
(обратно)1003
Лавров, 2010, с. 136.
(обратно)1004
В сб. «Сафрут», № 1, в переводе Ф. Сологуба было опубликовано стихотворение Бялика «Я знал в глухую ночь…» Этот перевод не вошел в «Еврейскую антологию».
(обратно)1005
Указание этого московского адреса Яффе в последующих письмах опускается.
(обратно)1006
Тименчик, Копельман, 1995, с. 117.
(обратно)1007
На следующий день после обнародования Декларации Бальфура 9 ноября 1917 г. в Москве состоялся митинг (2000 участников), где выступал и Л. Яффе.
(обратно)1008
Мазовецкая, 2003, с. 181.
(обратно)1009
Лавров, 2010, с. 137.
(обратно)1010
Мазовецкая, 2003, с. 178.
(обратно)1011
Ицхак Каценельсон (1886, Гродненская обл. — 1944, Освенцим), идишский и ивритский поэт, драматург, педагог, деятель еврейской культуры. В «Еврейской антологии» опубликован один перевод Ф. Сологуба из этого поэта — «В пламя солнце погрузилось…»
(обратно)1012
Мазовецкая, 2003, с. 174–175.
(обратно)1013
Работая с Яффе, Ходасевич перевел из Черниховского три идиллии «В знойный день» («Еврейская антология»), «Завет Авраама» («Сафрут», № 1) и «Вареники» («Сафрут», № 3). Четвертая идиллия «Свадьба Эльки» была переведена им в эмиграции без участия Яффе, в тесном сотрудничестве в 1923 г. в Берлине с делавшим подстрочники Черниховским, и издана там же в 1924 г. (ж-л «Беседа»), Заявленная в плане изд-ва «Сафрут» книга «С. Черниховский. Стихотворения (в переводе на русский язык)» издана не была. Знакомство двух поэтов в Берлине и позднее в Париже было вполне доверительным, о чем свидетельствуют два письма Ходасевича Черниховскому, хранящиеся в писательском архиве «Гназим» в Тель-Авиве (фонд Черниховского, ед. хр. 31501/2 и ед. хр. 33189/2), которые привожу ниже. Убеждена, что Черниховский с радостью дал согласие, но издание осуществлено не было.
(обратно)1014
Мазовецкая, 2003, с. 184–185.
(обратно)1015
Стихотворение «Сфинксы» ивритского поэта и переводчика на иврит поэзии Пушкина и сочинений Лермонтова Давида Шимоновича (Шимони; 1891, Бобруйск — 1956, Тель-Авив) в переводе Маршака вошло в «Еврейскую антологию».
(обратно)1016
«Первые четырнадцать переводов стихотворений из ранних сборников Блейка были опубликованы в журнале „Северные Записки“ (1915, № 10 и 1916, № 3). <…> Всю свою жизнь Маршак мечтал издать книгу избранных стихотворений Блейка. Он впервые написал об этом И. И. Горбунову-Посадову 31 января 1917 года: „Небольшую книжку Блэка я понемногу готовлю, а также статью о нем и его отношении к ребенку“». (Примечания к переводам В. Блейка в кн.: Собрание сочинений С. Я. Маршака в 8 тт. Т. 3. М.: Худ. лит., 1969.) Книжка издана не была.
(обратно)1017
Стихотворения с таким названием в книгах изд-ва «Сафрут» нет.
(обратно)1018
Мазовецкая, 2003, с. 185.
(обратно)1019
Перевод опубликован не был.
(обратно)1020
Л. Яффе не внес это исправление и напечатал так: «Эта полночь полна волшебства. / Мрамор зданий сияньем облит…»
(обратно)1021
Лавров, 2010, с.137.
(обратно)1022
Вл. Ходасевич. Собрание сочинений в 4 тт. Т. 4: Некрополь. Воспоминания. Письма. М.: Согласие, 1997. Письмо 25 и комментарии к нему.
(обратно)1023
…с того берега. — Отсылка к кн. А. И. Герцена «С того берега» (1849 — вышла на нем. яз., 1855 — на рус. яз. в Лондоне), в которой писатель осмыслял трагический опыт революций в Европе («Все побеждены, всё побеждено, а победителя нет…») и завещал сыну: «Не останься на старом берегу…»
(обратно)1024
Скорее всего, в это время Ходасевич работал в Комиссариате труда.
(обратно)1025
Толстой Алексей Николаевич (1882/83-1945) — поэт, прозаик, драматург.
(обратно)1026
Вторая жена Ходасевича Анна Ивановна, урожденная Чулкова.
(обратно)1027
Мазовецкая, 2003, с. 175–176.
(обратно)1028
Опубликованные переводы русского поэта-символиста Юргиса Казимировича Балтрушайтиса (1873–1944) см. в прилагаемом содержании «Еврейской антологии».
(обратно)1029
Тименчик, Копельман, 1995, с. 117.
(обратно)1030
Речь идет о предпоследней строфе стихотворения Бялика «Да будет удел ваш безмолвный…» Редакция перевода этой строфы связана с ориентацией изд-ва «Сафрут» на сефардскую (испанскую) фонетическую норму иврита с нормативным ударением на последнем слоге.
(обратно)1031
Тименчик, Копельман, 1995, с. 118. К этому же периоду, вероятно, относится это письмо Веры Константиновны Ивановой-Шварсалон.
(обратно)1032
Тименчик, Копельман, 1995, с. 118.
(обратно)1033
Там же.
(обратно)1034
Мазовецкая, 2003, с. 176.
(обратно)1035
Ходасевич перевел часть поэмы 3. Шнеура «Под звуки мандолины» и опубликовал в «Еврейской антологии» под псевдонимом «Ф. Маслов».
(обратно)1036
Лавров, 2010, с. 134–135.
(обратно)1037
Биограф Л. Яффе Авраам Левинсон (кстати, переведший на иврит в 1937 г. «Евгения Онегина») пишет по поводу этого издания: «том Ахад-Гаама, подготовленный к печати Л. Яффе и X. Гринбергом, не получил распространения, потому что пока он печатался, к власти пришли большевики» (Л. Яффе. Ткуфот, с. 23.)
(обратно)1038
Стихотворение Брюсова «Библия» («О, книга книг! Кто не изведал…», 1918) было впервые опубликовано в кн. 3 сборников «Сафрут» (с. 152–153), перепечатано в берлинском сборнике «Сафрут» (с. 131–134). (Примеч. Лаврова.)
(обратно)1039
Жена Брюсова.
(обратно)1040
Russian Literature. 1974, № 6. P. 29. Публ. Луиса Бернхардта.
(обратно)1041
Вступительная статья, публикация и комментарии 3. Копельман. См.: Вестник Еврейского университета, № 4 (22), 2000. С. 311–320.
(обратно)1042
М. О. Гершензон. Письма к брату (избранные места). Изд-е М. и С. Сабашниковых, Москва, 1927. С. 184–185. В публикации письмо датировано 23 апреля 1917, тогда как из записи Ф. Яффе следует, что это дата встречи Гершензона с Бяликом. Видимо, письмо было начато днем того дня, до прихода гостей, а продолжено на следующий день. Маруся — Мария Борисовна Гольденвейзер (1873–1940), жена Гершензона.
(обратно)1043
Р. Тименчик., 3. Копельман. Вячеслав Иванов и поэзия Х. Н. Бялика // Новое литературное обозрение, № 14. Москва, 1995. С. 103–104. Уместно и здесь процитировать воспоминания А. Белого о Гершензоне: «Однажды, рассерженно набивая свою папироску, взбурлил он в пространство, минуя глазами меня: — Вы, Валерий Брюсов, Иванов с вашими дарами — не молокососы даже, а — меньше; и — что там Пушкин? Пушкин юноша перед —
— Перед кем?
— Перед… Бяликом.
В чем дело? В том, что к Гершензону явился поэт Бялик; после беседы с ним М. О. безапелляционно решил: Бялик — гений, которого свет не видел; с Бяликом встретился я через несколько лет; ну да, — умница… но, но, но… О Бялике больше я ничего не слышал от Гершензона: Бялик потух в нем». (А. Белый. Меж двух революций. М., 1990, с. 256.) Подчеркнутые А. Белым не без иронии слова Гершензона «Бялик — гений» вторят названию его статьи о Бялике «Ярмо и гений», написанной до личного знакомства с еврейским поэтом (см. прим. 7 (1047) к публикуемому тексту).
(обратно)1044
Запись беседы Гершензона с Бяликом публикуется с любезного разрешения директора Дома-музея Х. Н. Бялика Ионатана Дубоссарского.
(обратно)1045
Письмо Л. Яффе Бялику из Москвы в Одессу (на иврите) хранится в архиве Дома-музея Бялика. Привожу свой перевод этого неопубликованного текста с разрешения директора архива
29. ХII [1917]
Дорогой Бялик.
Хоть Вы и не ответили мне на мое предыдущее письмо, попытаюсь еще раз к Вам обратиться. Наша книга «Новая еврейская [ивритская] поэзия» скоро будет готова. Сделаны почти все переводы и более половины их сданы в набор. Помимо предисловия Гершензона, которое он пишет на основании лежащих перед ним переводов и в котором он сможет сказать лишь немногое, нам настоятельно требуется введение для сборника — историческая статья о поэзии на иврите с ее начала — Священного Писания — до последних лет, включая Агаду, синагогальную поэзию, средневековую поэзию, поэзию испанской эпохи, поэзию Гаскалы вплоть до Гордона и Мане.
Я решил обратиться к Вам с просьбой дать нам такое введение — в один печатный лист или меньше. Написание такой статьи не возьмет у Вас много времени, поскольку нам известно, что несколько лет назад Вы выступали с лекцией на эту тему. Статью пишите на иврите, а мы переведем и укажем, что переведено с рукописи. Гонорар за это введение — 300 р[ублей] с[еребром].
Примите на сей раз во внимание нашу просьбу. Это нам чрезвычайно необходимо. Между нами, благодаря ему можно сделать важную, ценную книгу, которая будет весьма полезна нашей литературе, и у Вас нет права уклониться от этой нашей просьбы.
Необходимо показать читателям перипетии поэзии на иврите вплоть до нынешнего дня: как она вошла в наше время, как создавалась на ее основе молодая поэзия — словами краткими и простыми.
Мы умоляем Вас снизойти к нашей просьбе. Ответ телеграфируйте по адресу: «Кадима. Москва». Расход на телеграмму вкладываю в письмо.
Привет Вам от Гершензона и Гринберга.
Жду скорого ответа и Вашей статьи.
Дружески Ваш, Л. Яффе.
(обратно)1046
См. об этом, напр.: В. Кельнер, «…интимно понять русских я не в состоянии» (Письмо М. О. Гершензона А. Г. Горнфельду) // Вестник Еврейского университета в Москве, № 4. М. -Иерусалим, 1993. С. 229–232.
(обратно)1047
Статьи: Дело правды и разума! // Невский альманах. Жертвам войны. Пг., 1915 (см. также «Народ, испытуемый огнем» // Еврейская неделя, № 1, 1916; статью о Х. Н. Бялике «Ярмо и гений» // «Еврейская жизнь», № 14–15, 1916; Книги: «Судьбы еврейского народа», «Ключ веры», обе в изд-ве «Эпоха», Пб. — Берлин, 1922. Вяч. Иванов и М. О. Гершензон. Переписка из двух углов. Пб.: Алконост, 1921
(обратно)1048
М. О. Гершензон. Ключ веры. С. 119.
(обратно)1049
Там же, с. 118–119.
(обратно)1050
Мишна, Таанит, 4:6.
(обратно)1051
Л. Яффе опубликовал там эссе о фонетической норме иврита и стихосложении и, видимо, попросил напечатать сообщение о еврейской книге Гершензона. Однако в анонсе исказился смысл названия: ивритское «Мекор ѓа-эмуна» — это «Источник веры», а Гершензон, как кажется, искал ключ к еврейской религии и использовал кальку с латинского clavis fidae.
(обратно)1052
См. письмо Я. Лацеса Бялику в Доме-музее Х. Н. Бялика.
(обратно)1053
Т. Dolzhanski. Gershenson ve-Bialik // Dvar ha-po’elet. 30.12.1943. Тель-Авив.
Тамар Дольжанская (1903, Екатеринослав, — 1993, Тель-Авив), педагог, переводчица, исследовательница пересечений русской и ивритской поэзии, составитель сборника русских стихов на еврейские темы «На одной волне», Иерусалим: Библиотека-Алия, 1974. В Палестине с 1922 г.
(обратно)1054
17 февраля 1917 г. Бялик выступил в Политехническом музее с докладом об агаде и галахе. Позднее он опубликовал одноименную статью на иврите, перевод которой был опубликован Л. Яффе в сб. «Сафрут», № 1, 1918.
(обратно)1055
Давид Фришман (1859? близ Лодзи, — 1922, Берлин), ивритский и идишский писатель, критик, переводчик на иврит, в частности стихов А. С. Пушкина (1899). В 1917–1919 жил в Москве.
С. Ан-ский (наст, имя Семен Раппопорт; 1863, м. Чашники Витебской губ., — 1920, Варшава), еврейский этнограф, идишский писатель, автор знаменитой пьесы «Диббук».
Давид Соломонович Шор (1867, Симферополь, — 1942, Тель-Авив), пианист и музыкальный педагог, профессор Московской консерватории. Внес весомый вклад в русскую музыкальную культуру, а с 1927 г. — в музыкальную культуру сионистской Палестины.
Об отношениях художника Леонида Осиповича Пастернака (1862, Одесса, — 1945, Оксфорд) с «еврейским обществом» и, в частности, с Х. Н. Бяликом см.: 3. Копельман. Письма Л. О. Пастернака Х. Н. Бялику // Stanford Slavic Studies, vol. 20. Stanford, 1999. P. 234–272. Также: Л. Флейшман. К публикации письма Л. О. Пастернака к Бялику // Slavica Hierosolymitana, vol. 1. Иерусалим, 1977. С. 309–316.
(обратно)1056
Бялик в 1900-04 и 1905-21 проживал в Одессе, хотя родом был из местечка Ряды, Волынь, а Гершензон, родившийся в Кишиневе, с 1889 по 1904 год жил зимами в Москве и только летние месяцы проводил у родных в Киеве, Кишиневе и у брата, Абрама Осиповича, детского врача, в Одессе.
(обратно)1057
Примечательно, что Бялик высказывает тут предположение, не подтверждающееся ни Библией («И взял Терах Аврама, сына своего, и Лота… и вышел с ними из Ура Халдейского», Бытие, 11:31), ни традиционной еврейской экзегезой. Однако это мнение было довольно распространено в кругу еврейской интеллигенции в России. Так, член Общества еврейской народной музыки Михаил Фабианович Гнесин в 1922 г. был отправлен в творческую командировку в Палестину и провел некоторое время в одиночестве в Баб-эль-Ваде, чтобы, как пояснял финансировавший поездку меценат Ф. М. Шапиро, «впитать воздух и звуки родины Авраама». Так была написана опера Гнесина «Юность Авраама».
(обратно)1058
К 1917 г. эти слова уже послужили Бялику для названия рассказа «Меахорей ѓа-гадер» (1909), русский перевод которого «За оградой», выполненный Д. Выготским, вышел в издательстве Л. Яффе «Сафрут», в книге: Х. Н. Бялик. Рассказы. М., 1918.
(обратно)1059
Ср. неожиданный и не получивший развития поворот мысли у убежденного противника сионизма Гершензона: «Или правда то, что только почва Палестины может родить еврейству новый творческий миф?..» (М. О. Гершензон. Народ, испытуемый огнем // Еврейская неделя, № 1, 3 янв. 1916. С. 28).
(обратно)1060
Каин, как известно, был земледельцем, т. е. вел оседлый образ жизни, а Авель — скотоводом, т. е. кочевником (см. Бытие, гл. 4). Отсюда все, касающееся земледелия, ассоциируется с оседлым образом жизни, а скотоводства — кочевого.
(обратно)1061
Запрет носить шерсть и лен, сшитые вместе. — Прим. Ф. Яффе.
(обратно)1062
Автор пользуется греческим словом logos, так как dawar, или в ашкеназском произношении dowar, означает на иврите («еврейском языке») и «слово», и «предмет, вещь».
(обратно)1063
Талмуд обсуждает право на обладание находкой и, в частности, утверждает, что «не спускающий взгляда с ничейной вещи [даже и не поднимая ее] становится ее владельцем» (Бава-Мециа, 118а).
(обратно)1064
От ивритского слова «пильпуль», что означает хитроумные логические построения; так называли изощренные еврейские дискуссии над текстами Талмуда. Происходит этот термин от ивритского «пильпель», т. е. перец, и, как подсказал мне У. Гершович, вероятно восходит к высказыванию Тосефиста: «Лучше один острый перец, чем целая корзина тыкв»
(обратно)1065
Букв., Устная Тора — так принято называть еврейскую традицию, которая формировалась в диспутах в эпоху Второго храма и получила позднейшую письменную фиксацию в Мишне, Талмудах, Мидраше.
(обратно)1066
Об ученичестве зимой 1915/1916 гг. Фрида написала в мемуарах, и среди книг, с которыми она не расставалась ни дома, ни летом 1917 г. на даче, — «изящная книжечка Гершензона о Грибоедовской Москве».
(обратно)1067
О том, как Гершензон «знал» Бялика до описываемой встречи легко судить по выдержке из его письма от 11 марта 1916: «Я писал Вам недавно о Яффе, мамаша. Его журнал — „Еврейская жизнь“ — собирается дать нумер, посвященный Бялику, и Яффе просил меня написать что-нибудь для этого №; я и написал статейку. Поэзию Бялика я знаю по его книжке на жаргоне, которую привез из Одессы, по переводу Жаботинского и т. п.; да когда-то Дизенгоф читал мне и буквально переводил его стихи древнееврейские» (М. О. Гершензон. «Письма к брату». С. 179). Примечательно, что Гершензон читал стихи Бялика на идише («жаргоне»).
Меир Дизенгоф (1861, м. Акимовичи, Бессарабия, — 1936, Тель-Авив) — сионистский деятель и первый мэр с 1921 по конец жизни (за исключением 1925-28 гг.) Тель-Авива. В 1886 основал в Кишиневе Палестинофильский комитет. В 1897–1905 жил в Одессе.
…по переводу В. Жаботинского — книга: Х. Н. Бялик. «Песни и поэмы». Пб., 1911, и переиздания.
(обратно)1068
Место проживания Гершензона. См. в кн.: Н. М. Гершензон-Чегодаева. Первые шаги жизненного пути (воспоминания дочери М. Гершензона). М., 2000. С. 15–23.
(обратно)1069
Брайан Горовиц. Письма из Иерусалима: Л. Б. Яффе — М. О. Гершензону. В кн.: Идемте же отстроим стены Иерушалаима. Евреи из Российской империи, СССР/СНГ в Эрец-Исраэль и Государстве Израиль. Ред. — сост. Ю. Систер, М. Пахомовский. Иерусалим, 2005. С. 54–59. Как пишет публикатор, «Письмо находится в Российской государственной библиотеке в Москве, в фонде Гершензона (ф. 746, кор. 44, ед. хр. 58)».
(обратно)1070
В. Хазан. Слово в Израиле, слово в России // Вести (Окна), 9.12.2004. С. 4–5. Как пишет публикатор, «Письмо хранится в архиве Гершензона в отделе рукописей Российской государственной библиотеки (ф. 746, кор. 44, ед. хр. 59, л. 1–2 об.)».
(обратно)1071
В публикации Горовица воспроизведена описка Яффе: «27.IX.1917».
(обратно)1072
Из Гродно.
(обратно)1073
В 1919 г. евреям Литвы была предоставлена автономия, в рамках которой была учреждена система еврейских общин во главе с Еврейским национальным советом, действовавшим в сотрудничестве с Министерством по еврейским делам. В марте 1924 г. сейм постановил прекратить финансирование Министерства по еврейским делам, а 3 сентября 1924 г. оно было формально упразднено. В сентябре того же года власти распустили Еврейский национальный совет.
(обратно)1074
Вяч. Иванов с дочерью и сыном жил в Баку, где преподавал классическую филологию в местном университете. (Примеч. Горовица.)
(обратно)1075
Вячеслав Иванов и М. О. Гершензон. Переписка из двух углов.
(обратно)1076
Пионеры, авангард еврейской колонизации Палестины (от халуц — иврит).
(обратно)1077
Вайтер (Арон Девенишский; 1878–1919), журналист, драматург, член Бунда. (Примеч. Горовица.)
(обратно)1078
Вот сообщения из еженедельника «Хроника еврейской жизни» (прежде ж-л «Еврейская жизнь», Петроград): «…Бушевавшие в Вильне <польские> погромщики не пощадили и других представителей еврейской интеллигенции. Живущие в Вильне писатели С. А. Ан-ский и С. Нигер были арестованы <…> подверглись избиению. Наш дорогой товарищ председатель Сионистской организации Литвы, в прошлом член редакции. — З. К.>, поэт Л. Б. Яффе был кроме того в заложниках отправлен в Лиду вместе с сотнями евреев. Только благодаря энергичным настояниям Общины и по телеграфному распоряжению из Варшавы Л. Б. Яффе был освобожден» (№ 18, 6 июня 1919, с. 8). «Запрос об аресте Л. Яффе в Английском Парламенте, в палате общин министру иностранных дел. Ответ: Л. Яффе уже освобожден, но польское правительство не разрешает ему выезд ни в Палестину, ни в Англию. <…> В Вильне <16 июня?> Л. Яффе и С. Нигер были на приеме у американского посла, прибывшего из Варшавы в силу многих запросов об их судьбе из Америки» (№ 22–23, 11 июля 1919, с. 21, 22).
(обратно)1079
Имеется в виду Хаим Вейцман.
(обратно)1080
Л. Яффе был первым, кто перевел на иностранный язык (иврит) стихотворение Ахматовой — «Сжала руки под темной вуалью…» — и опубликовал перевод в редактируемой им газете «Ѓа-Арец» (1921). Может быть, он хотел послать ей вырезку из газеты с этим переводом.
(обратно)
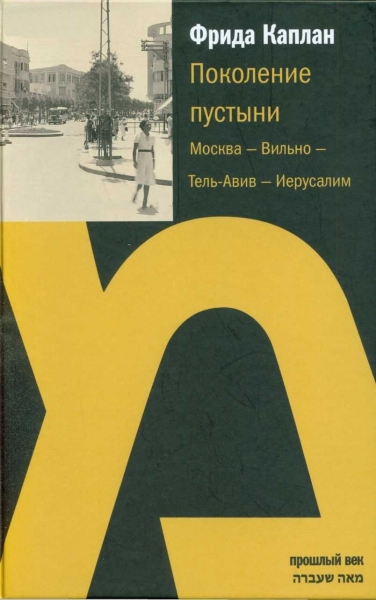

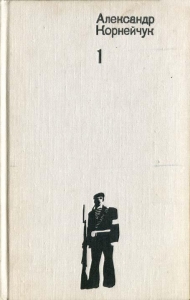

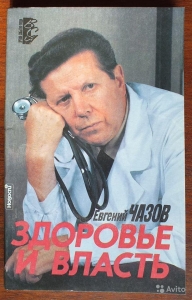

Комментарии к книге «Поколение пустыни. Москва — Вильно — Тель-Авив — Иерусалим», Фрида Каплан
Всего 0 комментариев