Павел Константинович Финн Но кто мы и откуда
© Павел Финн
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
Глава 1
Спаяны свежо и тесно Жизни выжитой слои: Как прелестно, как прелестно Жить. На свете. В дни свои. Георгий ОболдуевСамый первый “дневник”, в самодельной тетради с твердой зеленой обложкой, завел лет в четырнадцать. Тот, пропавший, где я якобы написал на первой странице: “Не перестаю удивляться гению Толстого”.
На самом деле я это придумал гораздо позже, уже во ВГИКе, — для смеха.
То, что я писал уже много лет, сначала в тетрадях и записных книжках — рукой, потом на машинке, потом на компьютере, — это никак не дневник, скорее — книга отзывов на всё-про-всё, в некотором смысле даже книга жалоб и предложений.
Как только есть возможность — сбегаю, эмигрирую. Туда. И мои записи за все годы — по сути, свидетельство о втором и предпочтительном гражданстве, тайно самим себе выданном и заверенном временем.
Но так и не успел ни с кем ни объясниться, ни себя объяснить — даже с самим собой, даже самому себе. И вдруг подумал! А ведь никто меня не знает по-настоящему. Хорошо это или плохо?
Ни по делам моим, ни по словам не следует судить, каков я был. Как часто обстоятельства мешали по-своему и поступать, и жить. Как часто обстоятельства велели молчать, когда хотелось говорить. И лишь в поступках самых незаметных, в писаньях самых тайных, сокровенных найти возможно ключ к душе моей. Но, может быть, усилий и труда Такая цель ничтожная не стоит… Константинос КавафисКогда-то в детстве по ночам я придумывал себе восхитительную судьбу.
Я радовался под одеялом своим изобретениям собственной будущей — и при этом как бы настоящей — жизни, ставившим меня в такое восхитительное — высшее, блистающее, вызывающее мой собственный восторг — положение. Я дрожал от счастья, смеялся и захлебывался. И верил! И много лет я так играл в себя — другого. Только менялась — на порядки — степень наивности и изобретательности. Жизнь вокруг менялась с возрастом, а игра оставалась. Кем я только не перебывал за это время: и великим актером, и великим летчиком, и великим философом, и, наверное уж, великим писателем…
Как и многие, я всегда подозревал, что я это не я. Но в каждом возрасте по-разному. В детстве я очень хотел быть не я, хотел быть не собой, а кем-то великим. В юности меня стал занимать вопрос: почему я это я? И в то же время упорно старался доказать всем и себе, что я это я. А когда я становился старше и грешил, то после каждого греха подозрения, что я это не я, всё усиливались и усиливались. Но все равно я возвращался к себе. Ну вот, а теперь остается только притвориться не собой, чтобы смерть не узнала и прошла мимо.
“Сюжет — это использование всего знания о предмете”.
Виктор ШкловскийЯ однажды подавал шубу кумиру моих юных лет Шкловскому. Это было, когда умерла Нина Яковлевна Габрилович, Зиночка из нашего с Авербахом фильма “Объяснение в любви”. И он в похоронный день пришел к Старику, он же Филиппок. И я принес ему шубу из прихожей в кабинет, где они стояли с Габриловичем. Шкловский никак не мог попасть в рукава, потому что одновременно продолжал выражать соболезнование, и тайно злился на то невидимое за спиной, что так неловко сзади напяливало на него шубу. А это был я, и я волновался. И враждебную эту жесткую и тяжелую шубу я запомнил больше, чем Шкловского.
Я и Олешу видел не один раз.
Узнавая в изданной в 2006-м “Книге прощания” растворенные там “Ни дня без строчки”, вспоминаю, как я ему обязан. Может быть, идея этих моих записей — от него?
“Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная”.
Александр Пушкин“Ни дня без строчки”? Даже если эта строчка — не твоя?
Насколько все-таки я завишу от чужих умов, мои догадки — от их открытий?
Я люблю чужую мысль, я завидую ей.
Часто я использую ее как насильник. Каждая цитата здесь не только часть моего “интеллектуального или духовного опыта”, она еще и — в некотором смысле — мое собственное высказывание, мое признание, моя откровенность.
Иногда наступает такая степень близости между мной и источником, когда мне кажется, что его мысли — мои мысли, и я не испытываю никакой неловкости, пользуясь ими, как своими.
“Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает”.
Осип МандельштамИзвестно, что жизнь и судьба человеческая решаются в споре между Богом и сатаной. (Иов). И в этом споре Бог вовсе не так активен, как дьявол, он больше доверяет человеку, он не кукловод. Может показаться, что Бог наивнее, а дьявол — больший психолог? Но это заблуждение.
Что же зависит от человека? Собственно, это и есть главный вопрос и философии, и искусства.
Я всегда думаю, почему я такой счастливый человек. Я ведь мог не родиться. Но они встретились, эти двое — с помощью третьего, моего дяди, писателя Виктора Дмитриева, которого я никогда не видел и который мог застрелиться до того, как их познакомил. Я мог погибнуть в войну. Ведь немецкая бомба, попавшая в наш балкон, могла разорваться, а не зарыться в землю. И я мог в тот момент быть не в эвакуации, а дома, на Фурманова. Разве это не счастье? И в эвакуации я мог умереть от диспепсии, если бы не было нужного лекарства взамен того, что вдруг сдуло с подоконника ташкентским ветерком. Но я не умер. Разве это не счастье? Впоследствии я мог стать негодяем, вором, стукачом. А почему нет? Но ведь не стал. Разве же это не счастье? Я мог не прочитать то, что я прочитал, не увидеть то, что увидел, не побывать там, где я побывал. Но прочитал, увидел, побывал. Могло не быть сына. Я мог не встретить мою жену Иру и нашу дочку Катю. Я мог не встретить тех, кого встречал и с кем дружил. Но я их встретил. Разве это не счастье?
Я насильно вырвал свою жизнь из какой-то иной, возможно предназначенной мне, судьбы. Может, это была ошибка?
Но я всегда радуюсь, что живу, и всегда мне по этому поводу как-то неловко.
Друг моей молодости, очень тогда близкий, Валя Тур смешно говорил про меня, что я знаю всё — и всё неточно. И был недалек от истины.
По частям — мне кажется — я могу понять всю свою жизнь, но в целом она мне никак не дается.
Видимо, я все-таки действительно что-то о себе не знаю.
“Невозможно же жить и работать с неутоленным желанием иметь ангельски чистую совесть”.
Федерико ФеллиниА почему, собственно, я не должен гордиться собой? Кто мне это внушил? Кто заразил мою душу постоянной болью самоуничижения и неуверенности? Кто? Я сам. Слишком много гордыни, слишком много грехов, твержу я себе постоянно и тоскливо — и этим только умножаю их.
Образ моей жизни, моей судьбы, моей слабости и силы. Мальчик по имени Сашка — придуманный мной — мой вечный герой. В разных ипостасях. И в разных сочинениях. И разных возрастах.
Вот он — в сценарии “Ожидание” — тонет в реке и отталкивается ногами от дна, чтобы пробить головой толщу воды и схватить ртом немного спасительного воздуха, перед тем как снова потянет на дно, и опять оттолкнуться, и опять наверх…
“Так давайте в наш собственный внутренний мир мы опустимся гораздо глубже, чем обычно, и тогда гораздо более мощная сила вытолкнет нас к поверхности”.
Анри БергсонИ тут Он выпускает тебя из рук и говорит: “Плыви”. Ты кричишь, захлебываясь: “Я же не умею плавать”. И Он говорит, исчезая: “А мне какое дело?”
Какой, оказывается, гениальный смысл в поговорке “На Бога надейся, но сам не плошай”. Здесь все, что нужно, о свободе воли. Вся идея отношений Бога и человека.
Все-таки истинно верующие те, кто верит в ад как в совершенную реальность.
Кто думает, что в раю живут воспоминаниями, ошибается. Воспоминаниями живут в аду.
Я родился в високосном году. Ровно за год до начала войны.
Когда рождается новый человек, Бог о нем наперед знает всё — или каждый раз надеется?
Отец Павел Флоренский написал в “Именах”: “Павел есть прежде всего хотение, влечение, томление”. Похоже на меня?
С самого детства, родившись у своего отца Константина Финна, театрального драматурга и, между прочим, автора “Окраины” — повести и сценария фильма Бориса Барнета, — я неверно, ложно понял, что такое писатель и что такое писательство. И это принесло мне наибольший вред — для дальнейшего. Однако, не родись я так, как родился, что бы было со мной вообще?
А ну-ка, парень, Подними повыше ворот И держись. Черный ворон, черный ворон, Черный ворон Переехал мою маленькую жизнь. Неизвестный авторКино, типа, переехало мою жизнь.
Я никогда не признавал себя писателем. Сценарист — и все, мне этого достаточно. В юности меня, естественно, раздирали в разные стороны влияния — Бабель, Олеша, Хемингуэй, Пастернак, Дос-Пассос… Когда я успокоился и выработалась кой-какая дисциплина сочетания слов, мне стало неинтересно писать выдуманную неправду. Для этого мне хватало и кино.
“Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит…”
Николай ГогольНе хочет быть человек тем, кем ему назначено быть. Не хочет, мучается, страдает, бьется, съедает себя, сжирает…
Любая человеческая жизнь — это комедия, разыгрываемая перед Господом. А Он чего ждет от нас? Трагедии? Во всяком случае, не того, что люди перед ним разыгрывают. Это прекрасно понимал Чехов, упорно называя свои пьесы комедиями.
Как важна для меня эта “тема” — подросток.
“…Ибо, — как написал Достоевский, — из подростков созидаются поколения”.
Вновь — заново — пережить переживания того — несчастного, одинокого — возраста — со всеми его запахами и заусенцами, слезами и пороками?
Вот улица Фурманова, вот Гоголевский бульвар, вот метро “Дворец Советов”, а вот котлован с водой и плотами на том месте, где должен был быть этот Дворец Советов.
Действующие лица — я сам, моя мама, отец, брат, отчим.
Внезапные приливы и отливы прозы…
Начнем с конца, то есть с начала романа.
Роман про мальчика, ставшего стариком.
“Роман — это зеркало, с которым идешь по большой дороге. То оно отражает вам лазурь небосвода, то грязные лужи и ухабы”.
СтендальА если зеркало разобьется? Разлетится на осколки разного размера и формы? Все равно — каждый осколок останется зеркалом.
Наброски из ненаписанного романа
Много лет назад один маленький актер, красавчик с утиным носом, перекати-поле, странствующий неудачник и мелкий интриган, в приступе мании величия захотел сыграть Гамлета в провинциальном русском театре. Много лет спустя его пасынок, старый, больной и одинокий, лежал ночью на кровати, отвернувшись к стене, в дощатом дачном домике, на краю большого леса. Над этим черным лесом две птицы куда-то летели, одна и говорит другой — на русском языке: слыш-ка, сестрица, тёмно, ночь, давай переждем, переспим, а то как бы в этой тьме-тьмущей злая птица нас не загубила. Нельзя, говорит ей другая птица, у нас с тобой, сестра, важная забота есть. Видишь, там, где темная заря и где лес кончается, несчастливая береза растет, под той березой дом стоит. Вижу. Так нам туда долететь надо. Летят дальше. Другая птица и говорит: ох, устала я, сестрица, давай переждем, переспим. Нельзя, говорит первая птица. У нас с тобой, сестра, еще одна важная забота есть. Видишь, в темном лесе мальчик блуждает. Вижу, глянула вниз птица. А там черт из мутного пузыря выскочил. Хорошо, орел-орлович подоспел, железными когтями поднял Сашку за плечи, перенес над темным потоком. Еж подкатился Сашке под босы ноги, вывел-таки на невидимую дорожку. Серый волк подставил спину. Яблоня протянула черное яблоко. Тут над лесом звезда расцвела в черном небе, холодный лучистый цветочек на бархате небосклона. Внимание, сказала звезда. Будь предельно осторожен, будь стопроцентно внимателен, мальчик. Не верь никому, ни птицам, ни яблоне, ни печке. А уж кто-то гнался за мальчиком, топча и ломая сушняк, шумно вздыхая и ворча. Помогите, стонал человек в дачном домике. Он чувствовал, как его зрачки плавают во влаге, слюна вытекала из краешка рта на подушку. К стене отвернувшись, шептал: ты один, дурак, ты один — вот итог — всё, ты один. Сирин и алконост, сказал он вдруг громко. Два слова с женскими лицами, мгновенно став птицами, с шумом и пением вырвались на волю и полетели над черным лесом. Вот летят они над страшным местом. Злая ночная птица громко щелкнула на них жадными острыми зубами, замахала перепончатыми крыльями. Ох, не долететь нам, сестрица, не сделать дела, не выполнить поручения, говорит тут одна птица. Ох, крепись, сестрица, отвечает другая птица, не сделаем дела, не выполним поручения, домой Хозяин не впустит. Лети без страха, лучше спой мне, я послушаю, потом я тебе, так и долетим. Помогите, говорил человек, помогите, кто может, я один, меня все бросили, я беспомощен. Господи, дай мне утиный нос, дай мне сыграть Гамлета в пропахшем зеленой масляной краской театре!
Голос в темноте — особый звук, слушающий себя — в темноте, — всегда кажется себе еще более одиноким.
Мне очень нравится мысль Цветаевой, что каждая делаемая вещь — враг, личный враг. Настоящая работа — враг, и я нападаю на нее неожиданно, из засады. Но потом отступаю — бесславно.
Я живу с этим врагом уже полжизни… С этим “романом”, который то исчезает, то возникает, и все равно — остается ненаписанным…
Наброски из ненаписанного романа
— Вона куда забрел малый, — сообщает одна птица другой.
Это они в финале видят Сашку в снежном поле, выкинутого с поезда, на котором он едет хоронить то ли Сталина, то ли Пушкина. И он идет босой по белой целине — за своим Ангелом-поводырем, в надежде все-таки перейти поле.
Увидел на сверкающем разноцветном снегу отпечатки легких ног, не отвердевшие, словно только что живые, теплые стопы коснулись этой раскаленной морозом сияющей поверхности. Кто-то до Сашки уже прошел этим белым путем. Он взял чуть вбок, следы словно свернули вместе с ним и вновь оказались перед ним. Теперь, куда бы он ни сворачивал, они были впереди. И он вложил свои стопы в них и пошел указанным путем…
Драматическое и мучительное расставание ангела с самим собой — это с трех примерно лет. Контуры покидают тело и существуют теперь отдельно, наполненные не бренной плотью, а бессмертным светом.
Но когда заканчивается безгрешный период и нас покидает Ангел Детства, на его место сразу же устремляется неумолимый бессонный демон с компанией.
Человек — это катастрофа. Ум и тело рождают химер. И главная — на всю будущую жизнь — забота — ума или тела? — пережить, умилостивить химер, сговориться с ними или бросить им вызов.
Всю жизнь моим демоном был возраст.
И конечно, желание быть старше — это желание расширить свою жизнь, которая, как казалось, была необычайно узка по сравнению с жизнью взрослых. Это чувство расширения жизни вызывало захлебывающуюся радость и самозабвение. Оно иногда переходило границы, и забывалась разница между собой и старшими.
Бунт против возраста в детстве и примирение с возрастом на склоне — два полюса. Но я не желаю примиряться!
Да кто меня спрашивает?
Как печально и как неправильно — хотя, наверное, правильно — то, что самый лучший возраст — момент произрастания — так драматичен для растущего — и так непонятен для растящих.
Мне всегда очень жалко детей, особенно мальчиков, своих — в первую очередь. Потому что я лучше многих знаю, какая трудная перед ними дорога и какие демоны подстерегают за каждым поворотом.
Свирепая чувственность подростка.
Идеалистами мы рождаемся. Реалистами нас делают сложные отношения с собственным пенисом и первый выдавленный прыщ.
Мир — сосуд, полный непрерывно кипящей и никак не выкипающей чувственности. Ах, если бы душа, ум и плоть думали и чувствовали одинаково!
А дьявол постоянно тычет когтем туда, где плоть особенно беззащитна и особенно прелестна. Для дьявола есть больные места в человеке, которыми он ловко пользуется.
Чувственность — и всё, что находится в ее поле, — драматично, и драматизм этот вот-вот может перейти в трагедию — в любую минуту. Драматично несоответствие возраста и силы чувственности, желаний и возможностей, воображения и смутной нравственности.
Желание слепо, оно не справляется по священным книгам: можно или нельзя. Оно хочет и добивается. Оно существует само по себе — и уже в этом страшная драма.
“Невинность — это знание, обозначающее неведение”.
Сёрен КьеркегорНаброски из ненаписанного романа
Сашка ужасно боялся умереть, так и не испытав ЭТО.
Гостиница южного города, прибежище — временное — военных и актеров. Зоя, соседка из номера напротив, жена подполковника — мадонна военных кочевий…
Было перед праздниками: голая, худая, розовая, красная, блестящая, сидя боком, ерзая худыми — в мелких розовых прыщиках — ягодицами, на плоском отвороте чугунной, с потрескавшейся эмалью ванны, долго и настойчиво терла пемзой распаренную пятку и подошву, стесывая огрубевшую, выпуклую, пористую беловатую кожу, положив ногу на худое колено другой ноги, так, что под маленькой складкой рано родившего живота был не виден его вожделенный низ. А он, Сашка, прокравшись по пустому коридору в кафельную умывальню, пахнущую банным туманом, подглядывал — с пересохшим ртом и стуком сердца в ушах, — слизывая языком сухость с приоткрытых отвердевших губ, упираясь взглядом в ее бледно-розовую подошву с расправившимися складками, с натянувшейся от напряжения мокрой кожей, с напряженно растопыренными пальцами, по которым ходила пемза.
И ничто потом так не волновало его, как это воспоминание, этот образ: свесившиеся светлые — но ненадолго потемневшие от воды — волосы, и свесившиеся на одну сторону и тихо касающиеся друг друга груди, и чуть — как и у него сейчас — глупенько приоткрытый ротик, и как она меняла ноги, разводя их, и тогда он — во мгновение — видел бритую рыжую — колкую, наверное, — полянку с этой чуть вдавленной в нее тонкой тропиночкой — словно проведенный чьим-то остреньким ногтем прочерк — уверенный и нежный разрез — заповедный вход — туда, о чем он знал, и думал, и не понимал, и мечтал, и ждал, и не надеялся.
Иногда он думал — ему казалось — она знала, что он смотрит на нее, потому-то ее движения были чуть замедленны, чуть напоказ — может быть, она вредничала, шалила с ним, может быть, сама, зная о нем — влажном, глядящем, страдающем, — сама испытывала ту же, что и он, сладостную ломоту и тягость в животе, и желание, чтобы это длилось, и желание вдруг вывернуться — ему — невидимому — навстречу, напоказ, схватить себя и вывернуться всем своим красным и горячим, так, чтобы крики и стоны вырвались из груди — бесстыдно и торжествующе — на всеуслышанье.
Но так или не так — разбери.
А пока что сидит голая Зоя, жена подполковника, ничего и никого не видя, кроме себя, и только пемза ходит в руке, только рот приоткрыт мечтательно и кругленько, как у рыбки…
Было с детства заведено, что мама всегда целует его перед сном. Но в этот раз — в их гостиничном жилье — он ухитрился так зарыться в подушки, притворяясь спящим, что она не смогла к нему подобраться. Постояла, улыбнулась и ушла. Сказала себе: “Вырос”. А на самом деле он только что видел голую Зою.
Вдруг он почувствовал зуд во всем теле, он чесал себя со страстью, унимался зуд в одном месте, возникал в другом, он скреб себя ногтями ожесточенно, как будто хотел соскрести с себя эту воспаленную кожу, с кровью содрать ее с себя. Ему казалось, что этот зуд шумит, что у него есть какой-то звон, и Сашка в какой-то момент захотел вскочить, убежать от этого ощущения, от необходимости раздирать и мучить себя, забиться куда-то, подтянув колени к подбородку, заплакать… Потом пришел в себя и сказал себе: ну и ничтожество же ты, Сашенька…
“Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написанного”.
Федор Достоевский, “Подросток”“Я теперь в Москве перечла «Подростка». Ах, какая вещь. И все это совсем не страшно. К реальной действительности это отношения не имеет. Это всё стороны его души, и только. В действительности такого никогда не было и не бывает”.
Анна АхматоваБывает, бывает!
Анна Андреевна ведь подростком не была. Мужеского пола.
Достоевский гениально бестактен в описании чувств и поступков.
О, это сложное произрастание — детское, отроческое — в воображении без любви. Страшнее бедности. Как много от этого на всю жизнь.
“В Каббале нечистые, то есть эгоистические желания получить наслаждения для себя называются клипот — кожура. Потому что как кожура защищает плод в период созревания от вредителей и сохраняет его, поспевший уже, так и духовные нечистые отвлекающие силы, предназначенные для развития человека, сыгравши свою роль, пропадают”.
Из какого-то предисловия — не помню какогоЧувства, страсти, грехи подчиняются одной и той же схеме — по одной и той же программе, испокон веков принятой и утвержденной еще тогда, когда в начале было Слово, а змей уже окучивал и поливал яблоню и ждал плодов.
Страх и наслаждение. Причина большинства грехов человеческих.
Нет, я не осуждаю себя-подростка, хотя за многое надо было бы осудить. Мне себя жалко, и я понимаю себя того сейчас гораздо больше, чем когда бы то ни было.
Слеп человек, а жажда жить сильна. И почему б из лужи не напиться? И почему бы мне не воплотиться Еще хоть раз — чтоб испытать сполна Всё, с самого начала: детский ужас Беспомощности, едкий вкус обид, Взросленья муки, отроческий стыд, Подростка мнительного неуклюжесть? Уильям Батлер ЙейтсКогда на экране кто-то, одинокий и бесстрашный, медленно въезжает в маленький чужой город на лошади, душа наполняется сладостной тревогой.
Каждый подросток приходит во враждебный мир, как одинокий герой вестерна в чужой город. Один против всех. Нет, скорее, все против него. Но он редко бывает так же ловок и находчив, он редко побеждает. Главная идея “подростка”, конечно, в Давиде, все-таки поражающем “взрослого” Голиафа камнем из пращи.
Чисто детское, к несчастью, сохраняемое у многих всю жизнь, чисто детское — раскорячив ноги, выпучив глаза, покраснев, кричать — всем, всем, всей этой массе — враждебной, — не различая в ней милых, дорогих, любящих тебя лиц — если они есть, конечно, — кричать: вот вы, вы все, все, все…
Чувство радости от гнева. Вдруг вспыхивающее желание на кого-то кричать, испытывая от этого странный восторг. Может быть, это объяснялось необходимостью выбросить — выкрикнуть — из себя все темное, дурное?
“Я тебя не люблю” ребенка… Потому что любовь это всё, что у него есть.
Подростковый “гамлетизм”…
Месть, возмездие, смерть отца, преступление матери. Когда это случилось, Гамлет не был подростком. Но ощущение — обиженного подростка из Достоевского. Кстати, у Достоевского с Шекспиром гораздо больше общего, чем мне казалось раньше. Шуты, например. Лебядкин. Или старший Карамазов.
“Быть или не быть” — вопрос подростков и стариков. Мост между подростком и стариком — вся — мгновенная — жизнь.
Что такое “Гамлет”? Рассуждение о жизни и смерти. Он живет ради смерти. Он знает, что умрет. Месть — это смерть.
Для меня “Гамлет” прежде всего — “Трагедия о свободе воли”. Вырезанное из темной вечности и вставленное в раму, как рембрандтовское “Возвращение блудного сына”.
Гамлет и “Гамлет” — с точки зрения христианской?
Разговор Гамлета с бывшими его соучениками уж очень похож на разговор Христа с фарисеями (Мтф. 16, 1–4).
Герой скольких жизней, судеб и сознаний — Гамлет. Поистине, он связывает наш мир во времени.
Гамлет и, пожалуй, Дон-Кихот и Дон-Жуан — это сотворенные на глазах человечества, а не где-то за пределами Бытия, боги. В их честь надо устанавливать статуи на площадях, как — в древности — античным богам.
Наброски из ненаписанного романа
…И, начитавшись “Гамлета”, Сашка играет в то, что он как будто живет в Эльсиноре… Играет на улицах, играет под одеялом, играет в школе…
Слышит, как актер и режиссер Загорский, высланный в этот город, говорит его отчиму, собравшемуся сыграть Гамлета:
— Эльсинор… Я не согласен с тем, как обычно трактуют Эльсинор, как угрюмый, серый, каменный, суконный. Он живой, он пестрый, он яркий. Это не скалистый берег Скандинавии, это Лондон. Воровской, кровавый, нищий и распутный.
И еще:
— Всё есть всё… И эта комната — тоже Эльсинор… Каждая клетка, каждая молекула бытия — ограниченная небом и землей или потолком и полом, — это тоже Эльсинор, это воображением и соображением сооруженная лаборатория для исследования и понимания самых главных человеческих страстей в том чистом виде, в каком ими нас наделил Бог.
Гамлет — месть, Отелло — ревность, Лир — старость…
Да, не удивляйтесь, старость — это страсть. Одна из страстей человеческих. Хождение по мукам, хождение по страстям… Хождение по старостям…
Почему вот уже сколько лет на меня безотказно — щемяще — действуют эти слова Эдгара, притворившегося Бедным Томом, чтобы оберегать сумасшедшего Лира, сумасшедшего старика?
В терновнике северный ветер свистит. Да ну его, пусть себе свищет, зуда! Дофин, мой наследник, не бегай туда.Найдется ли и для меня Бедный Том?
“Не отверже мене во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня”.
Псалом 70Наброски из ненаписанного романа
И вот его душа стоит у городских ворот… Душа — воздушный шарик на веревочке… Ветерок… трепет…
— Это же я… я! — шепчет Сашка под одеялом, обливаясь слезами печали и восторга. — Впустите меня!
Стражники впускают не всех. Он мал и невзрачен. И очень беден.
Рябой стражник с копьем… Кажется, что и голос у него тоже рябой.
— Сколько тебе лет, мальчик?
— Мне уже тринадцать.
— Не врешь?
— Нет, правда, честное пионерское.
— Что у тебя есть, пацан? Тут плата нужна. За вход.
А у души всего-то что и есть — одна заветная монетка.
— Знаешь, как город наш называется, тетеря? Эльсинор. Славный город Эльсинор. Давай, проходи, не задерживай…
Шайка босоногих мальчишек. Коварных, ловких, жестоких, безжалостных. Бесенята…
— Вот он! Вот он! Лови!
Я придумал! Счастливый принц будет стоять на площади в Эльсиноре. Ласточка, выклевав его драгоценные глаза, кружит вокруг слепой головы. И звездный мальчик жестоко гонит от себя собственную мать — нищенку…
Сегодня в темную комнату, где я слушаю музыку, тихо заглянула робкая нищенка. И оказалось, что это моя мама. Совсем как в сказке Оскара Уайльда “Звездный мальчик”. Но я не прогнал ее, как он. Однако она так же быстро исчезла, как и появилась.
Мама, уплывающая в маленькой лодочке, лицом ко мне, взглядом — чистым, робким и детским — ко мне.
Я благодарен маме за то, что она в меня верила. Это мамины молитвы, наверное, помогали мне.
Мама, мама… Как я виноват перед тобой…
Через Книгу Иова нам сказано: нет такого страдания, которым мы могли бы сполна заплатить свой долг. И не надейся, человек, что, отстрадав, ты можешь быть спокоен.
Когда мама плакала — наверное, было от чего, — я гладил ее щеки и утешал:
— Полно… Полно…
И мне очень нравилось это говорить.
Откуда я взял это слово в семь лет? Из какой книги?
Что? Мама с балкона пятого этажа зовет меня со двора? Уже пора домой? Я не хочу, мама, еще рано. Разве уже зацвел миндаль? Разве кузнечик отяжелел? Ну, можно мне еще немного поиграть, мама?
Читаю Черчилля об ужасных и героических событиях сорокового года в Европе. И вспоминаю рассказы мамы, что именно этот, сороковой, был в Москве самый обеспеченный, даже богатый, и беззаботный.
Тут и я родился. И ровно через год вся беззаботность исчезла в эвакуации.
Брат Витя сказал, что в Куйбышеве мы делили одну квартиру с Эренбургами.
А в Чистополе или в Берсуте соседями были Катаевы, Всеволод Иванов. Но, может, это было уже в Ташкенте? А я наелся какого-то холодного сала и чуть не помер.
Мы вернулись в Москву на Фурманова в 1943-м. Одно из первых воспоминаний в жизни. Коридор, узкий и длинный. И переполох! Перед нашим приездом кто-то свел у нас французского бульдога Роя, остававшегося с кем-то в Москве. Десятилетний Витька побежал на улицу. Мне кажется сейчас, что я смотрел на него из окна кухни… Подстилка с собачьим запахом еще долго лежала в коридоре возле входной двери.
“Ташкентский” шрам на моей левой ноге. По семейному преданию — Петя Катаев катал меня на велосипеде по какому-то пустырю. Мы упали, и я порезал ногу стеклом до кости. Пети давно уже нет. А шрам заметен до сих пор. Нет и друга моей юности Ильи Катаева; оба — сыновья Евгения Петрова.
Вот мы с Ильей вместе на ташкентских фотографиях, маленькие, черненький и беленький. Мама братьев, Валентина Леонтьевна Грюнзайт, как известно, прошумела навстречу безнадежно влюбленному Олеше, “как ветвь, полная цветов и листьев”. Когда декабрьским вечером 47-го года мы встретили его в темном Лаврушинском дворе, он шел от нее.
В декабре это было? Да, в декабре. Несовпадение тьмы и начала детского праздника. И ужасный человек, замотанный, закрученный каким-то невероятным шарфом, свисающим с его маленького — огромного — страшного тела. Он является из тьмы. Он пьян. Я уже хорошо знаю, что это такое. Он приближается к нам, я понимаю, что сейчас он нас убьет. Мы вдвоем с мамой, мы беззащитны в темном дворе. Сейчас этот страшный будет нас убивать. Он наклоняется, как будто падает, и целует маме руку.
— Это Олеша, — говорит мама гордо, когда он исчезает.
Я тогда еще не знал, что он Карлович. А узнав, испугался бы еще больше, сообразив, что он сын страшного карлы Черномора.
Поздно вечером по Каменному мосту, от Замоскворечья к центру, идет человек. На середине моста он останавливается. Он вспоминает, как много лет назад поздно вечером шел здесь с мамой. В Кремле ясно и ярко, как леденец, горело одно окно.
— Сталин! — торжественно, с гордостью говорит мама. — Это Сталин!
Гордиться и Олешей, и Сталиным? Вот такое время.
Молодая мама. Не было, конечно, этой прямой мощной красоты, как у Нины Габрилович. Скорее, такое что-то западное, что-то пастельное — импрессион — ренуаровские краски, как говорили про нее, чуть смазанное, что просило шляпы — сдвинутой, — и взгляд из-под шляпы — очень милый и не прямой, чуть улыбающийся, голубой взгляд — что просило определенной позы — в кресле — нога на ногу — и длинной папиросы, которая могла и не куриться, а только держаться в пальцах, а если куриться, то чуть манерно, — это просило молчания в разговоре, этого молчания с улыбкой, которая была как бы частью разговора, с тайным и бесцельным флиртом, но без звука, без слов — дыхание и улыбка говорили больше, — и взгляд визави всегда привлекался к лицу, словно написанному на воздухе, на этом золотисто-голубоватом — от папиросного дыма — хорошо пахнущем воздухе состоятельной квартиры, благополучного — довоенного — мира.
В коричневом костюме, высокий, с белой головой шел Фадеев по Горького возле своего дома рядом с магазином “Грузия”. Того самого Юлькиного дома с “квартирой без взрослых”, с которым у меня потом будет связано так много, что и до сих пор не дает покоя. Таким я его увидел и запомнил. Но тогда — в начале мая 56-го года, за две недели до его самоубийства — что я там делал?
Фадеев у нас на Фурманова. 44-й год? Меня будят свет и шум из соседней с нашей детской большой комнаты, столовой, где за круглым столом пьют и громко говорят взрослые. Мама выносит меня в одеяле. Сейчас мне почему-то кажется, оно было зеленое. Может, потому что рюмки, потом все побившиеся узкие граненые столбики, были из зеленого стекла, ярко освещенного лампами из-под большого абажура над столом. И вот зеленый цвет этого просонья…
Мальчишки, в своем большинстве, всегда вызывают подозрения. Взрослые всегда находятся в некотором заговоре по отношению к ребенку.
Вот что имело огромную притягательную силу — мир взрослых, тайны взрослых, дела взрослых — полупонятные, но рождающие сладостную и мучительную — стыдную — энергию расследования: догадок — открытий — расшифровки тайн.
— Мама, оставь щелочку…
Через эту щелочку проникал не только свет, но и голоса. Взрослой жизни. В “большой” комнате, за круглым столом-сороконожкой. Там играли в карты, пили, сплетничали, кокетничали, ревновали.
Маленький, когда меня укладывали спать, я приспособился падать с кровати. Совершал я эту хитрую операцию, чтобы привлечь внимание взрослых, сидевших за столом в соседней комнате. Со светом сидели, на зависть мне, и интересными, волнующими мою любопытную душу разговорами. Сначала я долго слушал их голоса и злился, что не могу разобрать всё, что они говорят, потому что они часто — потише — сообщали друг другу “взрослые вещи” и смеялись. Тогда я начинал медленно сползать с простыни. Но надо было упасть так, чтобы не стащить с собой одеяло и не улечься на него. Не было бы необходимого эффекта и шума. Но вот я на полу, дверь открывается. Свет, лица. Наверное, когда ко мне подходили, я делал вид, что сплю, свалился во сне, бедный мальчик. Верили мне? Кто их знает! Их давно уже никого нет…
В детстве смерть родителей мы допускаем гораздо охотнее, чем собственную. Потом уже сладостное воображение рисует собственную смерть как наказание для взрослых. Но это еще только приятная игра с самим собой.
Темная, страшная комната — детство, — где надо прожить, чтобы увидеть, как всё же высветляются углы и начинают светиться неожиданные спокойные щели.
Что можно сделать из мрака комнаты, особенно если примешать еще немного яркого желтого света от проехавшей машины, и света из щелки под дверью, да еще прибавить таинственный и странный звук падающих неведомо где капель, и тихий шопот, и шаги?
Однажды в детстве, прочитав в “Черной курице” о том, как мальчик слышит, прижав ухо к подушке, шаги уходящего навсегда подземного народца, я тоже стал слышать эти шаги. А потом понял, что это стук моего сердца.
До сих пор. Иногда — сквозь полусон: тук-тук-тук… Уходит народец…
— Мама! Оставь хоть щелочку! Я не хочу засыпать в этой тьме.
Мама ушла от отца в 45-м. К юному красавчику-актеру.
Вдруг пришло в голову… А может быть, вся история разрыва отца со мной и с братом — из-за меня — это отголосок маминой измены?
Мама и папа были похожи друг на друга. Но это стало заметно только в их старости. На фотографиях.
Были в Иванове на фестивале “Зеркало”. С картиной “Подарок Сталину”, где герой все тот же Сашка, сосланный в Казахстан. Дед умирает по дороге, и сирота попадает в аул, к казаху-железнодорожнику.
Поехали с Рустамом Ибрагимбековым и женами в Плес. Тот ли это — мамин — Плес? Где она, молодая, на снимке с еще более молодым Галичем. Я все собирался — и обещал — подарить эту фотографию Александру Аркадьевичу, но не успел, он уехал. Подарил много позже его брату — Валерию Аркадьевичу Гинзбургу, кинооператору. И его нет.
И вдруг, взглянув в зеркало, увидеть вместо своего — мамино лицо. А иногда сидеть за письменным столом, как сидел отец, — поворот и наклон головы над левым плечом, подбородком в плечо, и такое выражение лица, которое чувствуешь изнутри. А иногда говорить по телефону голосом брата и самому это слышать.
В зеркале… Иногда — мама, иногда — папа… И всё это — я…
В 19 лет в письме к своей первой подруге Рильке называет мать “падким на развлечения достойным сожаления существом”.
В противоположность Рильке я никогда не сочинял маму. Отца сочинял. Маму — нет. Я боялся трогать ее образ, боялся заглядывать за пределы ее — данного предо мной — существования.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Какое счастье, что я не был “писательским сыном”!
Но жил в писательском доме на Фурманова, тот самом, откуда забирали Мандельштама и где умер Булгаков. Вот здесь ли умер Андрей Белый? Надо спросить у брата. Он и Кома Иванов — молодые — приходили к его вдове, жившей на четвертом этаже нашего подъезда, — расспрашивали и записывали.
Да, я жил в этом доме, постоянно разваливающемся, откуда все время бежали — сначала в Лаврушинский, потом на “Аэропорт”.
Я даже был приписан к писательской полиниклинике в Лаврушинском дворе и подвале театра Советской Армии и два лета провел в литфондовском пионерлагере, где научился пить и курить. Но все же был неполноценный писательский ребенок: жил без отца, в нищей семье. Зачерпнул в детстве несчастной жизни.
И знаете, я благодарен судьбе за это. Да кем бы я был без этого?
“Антисфен, сквозь дыры твоего плаща проглядывает твое тщеславие”.
СократВ первом моем лагере, кажется, в 52-м, я был взят под опеку кумиром всех писательских дочек и родственниц — Мишей Ардовым. Он был очень красивый мальчик. Ходили слухи, что из-за него даже вешалась одна девочка — на пионерском галстуке. Сейчас он известный отец Михаил. Пишет книги. Мы с ним встретились недавно на дне рождения Кости Щербакова, его соученика по МГУ. Он все время анекдоты рассказывал.
Израиль, Ор-Иегуда. Вечером к Давиду Маркишу приезжает из Иерусалима писательница Света Шенбрунн, и я узнаю, что мы были с ней в одно время в пионерском лагере Литфонда в 1952 году. Солагерники.
Как давно мне не снились цветные сны…
Я видел местность, где не был сто лет. Река за это время совсем заросла зеленью. Я видел склон берега, где стоял с удочкой в пять часов утра, счастливый, что поднялся так рано, и рядом со мной верные друзья. Четыре фигурки из пионерского лагеря — в мелкой фабричной — окрашенной: фабричка текстильная — воде…
Пионерлагерь. Я в старшем отряде. Курим папиросы, пьем вино и даже водку, которую нам доставляет губастый семнадцатилетний парень, местный телеграфист. Он рассказывает похабные анекдоты и анекдоты про евреев. Волосы у меня светлые, выгоревшие, веснушки, и я непонятен. Физкультурник Володя. Старшая пионервожатая Рая, грудастая, мощная, веселая, в шароварах. К концу второго срока сколачивается компания старших. Сашка, сын рано умершего поэта, с черным чубом, добрый, сильный, веселый. Рая к нему явно неравнодушна. Женька, родственник директрисы лагеря Марии Николаевны. Он в очках, прямые, светлые волосы зачесаны назад. Гарик, местный дачник, невысокий, крепкий, с рыжей шевелюрой и веснушчатым лицом. И я — ребенок с виду, но крайне начитанный и порочный. Правда, в потенции и в теории. Пионервожатая Райка по вечерам, в полутемноте, собирает в пионерской комнате — а живем мы в школе — “своих”. Пьем вино. Потом, уже в начале осени, мы все встретились, как и договаривались, в Парке Горького. Райка оказалась здесь, в городском виде, очень некрасивой, но такой же веселой и заводной. Что мы там делали, в Парке?
Мы все — писательские дети: Миша и Боря Ардовы, Алёша Герман, Алёша Симонов, братья Михалковы, Алёша Габрилович, Андрюша Смирнов, Саша Червинский, Ваня Дыховичный, Сандрик Светлов, Саша Марьямов, Саша Нилин, Маша Зверева; называю только тех, кто связан с кино. Очень разные родители, разные судьбы, разные семьи. Положение и дальнейшая судьба потомка часто — это, конечно, не правило — зависели от положения родителя.
Я-то был подвержен зависти, тщеславию и честолюбию с очень раннего возраста. Вспомним, как я мечтал, чтобы отец получил Сталинскую премию за спектакль по пьесе “Честность” в Ермоловском театре. А получил постановление ЦК и статью в “Правде”.
Я хорошо помню, как Алёша Габрилович, поднявшись на этаж, в нашу 67-ю квартиру, сообщил мне со слов отца, что Финна забаллотировали на Сталинскую премию. Был, между прочим, жуткий 52-й год! Через некоторое время появилась передовая в “Правде”, то есть реальная возможность посадки. Я думаю, страх этих дней повлиял на всю его дальнейшую судьбу — привел в партию, подписал отвратительное письмо о Пастернаке.
Я нашел свидетельства — в книге Аркадия Ваксберга, например, — того, что фамилия моего отца была в списке тех, кого в 53 году отобрали для нового “дела”, значит, уничтожения. Какая судьба ждала бы нас с мамой и братом — и, между прочим, с отчимом Борисом Авиловым — если бы…
“Одни… живущие скромно и трудно писатели в Нащокинском переулке, другие… блестящие жители Лаврушинского…”
Борис Пастернак, из письмаВспомнить, как мы с мамой, или с Витькой, ходили из Нащокинского в Лаврушинский — к отцу, в “гусевскую квартиру”…
Я думаю, отец женился на Нине Гусевой, маминой подруге и вдове его друга, поэта Виктора Гусева, еще и потому, что хотел все-таки — сознательно или подсознательно? — жить в Лаврушинском доме.
Подмосковное Внуково. Часть детства. “Гусевская дача”, крайняя на улице, кажется, “Ул. Виктора Гусева”. Огромный участок с грибами граничил с Бубенновым и Ильинским, прыгающим с ракеткой на собственном корте. С другой стороны поле, куда ходила гулять с немецкой овчаркой Орлова — в брюках. Напротив — Милютин. На параллельной улице — Сурков, Дунаевский, Утесов с березами. На перпендикулярной — Громыко, Образцов. На той стороне прудика — Твардовский, по слухам, в пьяном виде залезавший на дерево. Кинорежиссер Александров, муж Орловой, приходил из своего “чаплинского” шале к отцу и что-то фантазировал про Сталина.
Я не очень был любим на “Гусевской даче”. И может быть, они были правы.
Там, на втором этаже, на веранде, я сначала готовился к переэкзаменовкам, а потом к ВГИКу, к новой жизни. Однажды, кстати, Игорь Владимирович Ильинский захватил меня в свой ЗИМ и привез на переэкзаменовку по физике. Директор школы Ронин и физик Антошин, по прозвищу “Студебеккер”, антисемит, главный враг, курили перед входом, по летнему делу. Обалдели, увидев Ильинского. И меня в его машине…
Помню, как “Студебеккер”, шут и садист, с помощью генератора Вирмшурста пропускал через несчастного двоечника Кельциева возникшее на глазах класса электричество, и у того над плачущим от ужаса личиком с круглыми карими глазами-пуговками поднимались вверх короткие и жесткие черные волосы.
“Студебеккер” почему-то иногда вел урок, не сняв с себя длинное кожаное коричневое пальто. Отгадка такой странности была вскоре получена — к общему восторгу: в глубоком кармане кожаного ожидала своего момента четвертинка.
Я ничегошеньки не понимал в физике. Как и в химии. Как и в математике. Я тоже был несчастный двоечник, но надо мной он издевался по-другому.
Запись 2016-го года
Позвонил Иося Шехтман, с ним я учился до седьмого класса. Он уже давно живет в Израиле. Так вот — он вспомнил, как физик говорил про меня: “Финн умен до глупости”. И страшно довольный собой, смеялся.
У Ильинского был не только ЗИМ, купленный с согласия правительства у китайского посольства, но еще и единственный на дачной улице “московский” телефон. Отец иногда просил для меня разрешения позвонить, кажется, это тоже было связано с проклятой переэкзаменовкой из девятого в десятый, и жена Ильинского Татьяна Еремеева милостиво подпускала меня к телефону.
Много лет спустя в Союзе писателей, в Клубе на Воровского, в маленьком “парткоме”, была панихида по отцу, с которым я не виделся до этого десять лет. Ильинский пришел к его гробу, один из очень немногих. Двумя годами позже мы с Ильей Авербахом на Каретном уговаривали его сняться в “Объяснении в любви” в роли Старика, в прологе и эпилоге. Он отказался.
Тайный механизм памяти вдруг, и, как всегда, без всякой связи, вызывает из небытия актовый зал моей 59-й школы, и мы стоим — по какому поводу? — в несколько шеренг. И я, в серой гимнастерке, рассказываю кому-то с тайной, сладострастной и ничем не оправданной в реальности гордостью, что мой отец купил машину “Победа” — МО 02–15, серый цвет. Типа — это моя машина… Ах, дурак!
Были “майские”, мы с Витькой шли на “плановый” Нинпетровнин праздничный обед в Лаврушинский, для мальчиков от первого брака. Я ем фруктовое мороженое “в стаканчике” — помню его вкус и цвет. На мне пионерский галстук. Где-то уже в Замоскворечье на меня почему-то нападает какой-то здоровый обалдуй. Хулиган, как тогда говорили. Витька за меня заступается.
Мой брат, Виктор Константинович Финн, доктор двух наук, профессор и, говорят, выдающийся ученый. Тысяча девятьсот тридцать третьего года рождения.
Старый замысел. Два брата сидят на футбольном стадионе — сейчас — и вспоминают футбол прошлого, начиная с 45-го, разговор только об этом. Два пожилых брата, на полупустом стадионе. И футбол никому не нужен, и они никому не нужны, и ничто никому не нужно. А потом оказывается, что все на свете нужно, иначе света не будет.
Всегда был равнодушен к цирку. Хотя яркость его очень привлекательна. И тут нет противоречия. В 45-м году отец повел Витьку и меня в цирк — двенадцать и пять лет. Конечно, программа была посвящена Победе. Единственное, что осталось в памяти, — конные казаки, которые носились по желтой светящейся арене с очень блестящими шашками в очень нарядной форме, почему-то сейчас мне видится — ярко-голубой.
Может быть, любовь к яркости и силе цвета — к свету — я вынес из театра, увиденного в детстве — ереванский театр, задники в Центральном детском, сморщенная — леденцовая — слюда на софитах…
Где же это было? Политехнический? В каком-то амфитеатре? Они пели, эти ребята в гимнастерках без погон, всего два года назад вернувшиеся с войны, хор фронтовиков. Наверное, они казались нам, семилетним, бесконечно взрослыми. Они пели для нас военные песни.
Я их вижу… Но не слышу.
Отправимся в безвозвратное путешествие — на поиски стрекоз, летавших некогда с жесткими, странно прозрачными, переливающимися геликоптерными крыльями в солнечном свете — над речками — в детстве, на даче под Москвой.
О, этот дачный звук преодолевающего глубокие лужи грузовика с вещами, “полуторки”.
Солнечный жаркий день и запах горячего клубничного варенья.
И теплый грибной дух — большого, вкусного грибного варева — лета — дух, как будто прикасающийся к тебе добрыми влажными руками — дачи — лета — семьи.
И как всегда, долгий, однообразный и шумный дождь за дачным окном делает жизнь более домашней, более семейной.
Звук дождя ночью в детстве.
Тихо проснуться в середине ночи и услышать дождь. Улыбнуться тому, что скоро будет громкое утро, солнце, мокрая трава, босые ноги… И снова — заснуть.
То единственное, неповторимое, дачное, подмосковное, что солнечно-светлой, зыбкой аурой окружало речные пляжи, волейбольные площадки и пятачки перед пахнущими керосином и дешевым печеньем магазинами, что слышалось в голосах, перекличках и смехе, в шуршании велосипедных шин по дорожкам, усыпанным хвоей, и шаркании подошв по доскам танцевального круга, что чувствовалось на запах, цвет и вкус, что было, да сплыло.
Деревянная веранда, вся застекленная, с фонарем, вечернее солнце, и флоксы, флоксы, флоксы — имя: флоксы, отчасти похожее на табличку врача-отоларинголога, — запах флоксов и медленный, густой, низко и тяжко стелющийся над теплой и сырой вечерней землей белый — молочный, туманный — запах табака.
Помню с невероятной ясностью, как вечером в дачной местности Загорянка мой двоюродный брат, красавец Женя Дмитриев, тогда еще юноша, нес меня на дачу, после того как меня помыли где-то на другой даче, потому что у нас, видимо, не было для этого теплой воды. Помню даже ощущение восторга, когда я, сидя у него верхом на шее, касаюсь босыми ножками его груди и держусь за черноволосую голову… И при этом я как будто смотрю со стороны на это освещенное дачным электричеством мгновение подмосковной жизни 46-го года.
Чудеса, да и только. Вдруг, сидя за компьютером, вспомнил — ощутил — летний день в деревне — мне семь лет… Внутреннее чувство, имеющее совершенно реальную, но неуловимую форму. Ведь было, было! И я был! Низко, в траве, под солнцем, на поляне… И какие-то ямки, колышки…
В середине лета — на даче — бывает такой желтый зеленый свет — цвет? — цветосвет — светоцвет… И он же — звук — светозвук — золотое гудение… И еще были вишни, все дерево в черных вишнях… В середине лета бывают спелые вишни? Все равно, тогда были. И еще была мама. И брат, подросток с голубыми глазами. В середине лета. В начале жизни.
Я еще помню… Но в тот момент, как я умру, эта линия памяти — часть памяти мировой — оборвется навсегда и безвозвратно.
А уж если уплывать, то не морем, да здравствует его красота, а по реке. Ведь и приплыл тоже — в эту жизнь — по реке. Голышом. Ранним утром. По неширокой деревенской речке в зеленых берегах и с очень чистой водой. Пусть и вода тоже, как и берега, будет зеленой от тихо падающей в нее хвои.
И просвечивающее сквозь черно-зеленую воду тельце, когда, отфыркиваясь и прижимая подбородок к груди, на которой всегда почему-то оставалась дорожка — бледная бородка — от ила и водорослей, — движениями рук, ног поддерживал себя на воде, чтобы смотреть в небо. А на склоне холма, над приречными кустами — дочерна прожженная земля: здесь палили только что зарезанную свинью, — и пьяные мужики говорили беззлобно: бежи, бежи к мамке.
Спи… утром будут подарки…
2010-й… Сплю…
Сколько же лет прошло с того утра, с того дня рождения, когда рядом с моей кроватью, на даче, лежала синяя шелковая рубаха и однотомник Гайдара? Днем была клубника с молоком, и должен был приехать — и не приехал — отец. Какой год? 45-й? Нет, скорее, 47-й…
А потом из этого вышел сценарий “Ожидание, или Деревенский футбол 49-го года” все с тем же моим Сашкой. Написанный мной для мосфильмовского объединения, которым руководил Юлий Яковлевич Райзман. Так и не поставленный сценарий. Правда, был опубликован в 86-м году после нашего 5-го съезда в “Альманахе киносценариев”.
Иногда я думаю: вот ведь несчастье, что “Ожидание” так никто и не поставил. А потом: а может, оно и лучше? Пусть останется только на бумаге. Целее будет.
Вдруг вспомнил, что у наших хозяев, у которых мы после войны снимали дачу в деревне Боброво — станция Бутово, Курская железная дорога, — на стене висела “картина”. На цветной олеографии было изображено достаточное дореволюционное село, добротные дома под красными крышами, красиво расположенные на чистой широкой улице, и хорошо одетые крестьяне. Один со снопом на плече, другой — ведущий под уздцы запряженную в телегу лошадку.
Хозяина, плотника и пчеловода, звали Василий Иванович, он был очень добрый, с большими седыми усами, и я подозревал, что он и есть Чапаев. Строгая с виду хозяйка Александра Ивановна была еще добрее.
Во дворе росло большое черемуховое дерево, на которое я любил залезать и рассматривать сверху весь мир. А однажды во двор, сметая ограду, въехал черный страшный бык верхом на корове. Когда прошел испуг, взрослые смущенно посмеивались и смутно отвечали на мои наивные вопросы.
В детстве я очень боялся коров. Однажды мы с мамой шли через стадо, я держал маму за руку и хотел не бояться. Я и грозы боялся, особенно ночью, днем меньше. Когда мама была на даче, я не боялся, почти. Если оставался с домработницей Шурой, я очень боялся. И еще я очень боялся, что ночью кто-то постучит в окно или тихо откроет запертую дверь и войдет. Шура просила меня почитать ей, чтобы я не думал об этом и после побыстрей и покрепче заснул. Но однажды мы чье-то лицо увидели в окошке, бледное, страшное пятно. Оно сразу исчезло, а страх, ужасный, остался. А однажды тихо открылась дверь и вошла мама, с последней ночной электрички. Веселая, красивая, прохладная. От нее пахло вином, когда она целовала меня в кровати.
Когда был маленький, ужасно боялся, что спящая мама — мертвая. И все время подходил и проверял. И очень боялся лунатизма и летаргии. Чего только не приходит в голову в детстве. И только позже я узнал от Вали Тура неожиданные — по крепости — стихи Константина Симонова:
И в жару, подняв глаза сухие, Мать свою я трепетно просил, Чтоб меня, спася от летаргии, Сорок дней никто не хоронил.Когда после трех месяцев лета возвращались с дачи, Москва всякий раз казалась новым городом. Особенно ее шум, уличные звуки. Довольно быстро это проходило…
Задолго до переезда из деревни сын наших дачных хозяев Витька, пришедший на побывку, пьяный, кричал матери: “Не волнуй молодого солдата”. Он вскорости благополучно обрюхатил нашу домработницу, рыженькую Зойку. По прошествии нужного времени она с дикими криками начала ночью рожать у нас в Москве на кухне, за стеной нашей “детской”.
Прибежала соседка по лестничной площадке Вера Дмитриевна Богданова и все сразу взяла в свои руки. “Кто?” — спросила она. “Хозяйский сын Витя”, — ответила, рыдая, Зойка. Моему брату Вите, который все это слушал, лежа рядом со мной на своей кровати в нашей комнате, было тогда лет четырнадцать. Мама чуть не упала в обморок. Мне, разбуженному, что-то соврали по поводу происшествия и шума. На что я мрачно заметил: “Наверное, она проститутка”.
Мне было семь. И все это тоже стало семейной легендой.
Бывает так, что одна или две стихотворные строки отрываются от целого стихотворения и живут в памяти совершенно самостоятельно.
Только детские книги читать, Только детские думы лелеять. Осип МандельштамЯ всегда, наверное, как только научился читать года в четыре, переживал написанное в книге как совершенную реальность. И до сих пор откладываю книгу, чтобы переждать расстраивающий или интригующий меня эпизод.
Вот никогда не мог — сразу — до конца прочитать то место в романе, где погибает прелестная Фру-Фру. Сейчас тоже. Отложил книгу, вышел из комнаты, походил немного — вдруг за это время что-то изменится, и лошадь останется жива, и Вронский выиграет скачки?
Какой занятный поворот! Начать — в детстве — с чтения толстой, растрепанной серой — или синей? — книги, с теми восхитительными картинками, на которых изображены молодые красавцы — с женскими, как мне тогда казалось, волосами — в шляпах, коротких плащах с крестами и шпагами в руках, — и заканчивать жизненный цикл чтением этого же — на борту самолета, летящего в Лондон, — на экране айпада! О, если б знать, что так бывает… что так будет… И как тогда я откладывал книгу, как только доходил до миледи в Англии, так и сейчас откладываю айпад в этом же самом месте.
Чтение мое получалось в чрезвычайно странном виде. Это была дикая смесь Шекспира и Островского, Пушкина и Гайдара, Гофмана, Киплинга, Конан-Дойля, Дюма, Диккенса и Исидора Штока.
Два писателя, две няньки моего детства, рассказывали мне про самое лучшее и делали меня человеком — Толстой и Дюма.
Диккенс. Конечно же, Диккенс! Вместе с мамой, очень рано — еще даже она мне читала. Вслух. Наверное, это было едва ли не первое большое чтение. Твист. Домби. Пип. Копперфильд.
Или этот умильный и коварный лис с иллюстраций к “Рейнеке-Лису” Гёте. Большая и тонкая черная книга, я любил рассматривать в ней человеко-зверей, но не любил читать. Лис в шляпе и с золотой цепью на груди, поднимающийся по ступеням будто из какого-то подземелья с блюдом в выставленных вперед жестоких, когтистых лапах.
Первая встреча с Гофманом, первая книжка — маленькая, оранжевая, — сейчас она у меня снова есть, “Academia”. На обложке растерянное лицо, будто бы током поднятые вверх все волосы-пружинки, но главная — привлекательная — странность: надпись — Э. Т. А. Гофман. Странность и привлекательность в первых трех буквах, которые воспринимаются, конечно, как “ЭТО” — это Гофман!
На самом деле я-то — что? — больше люблю “детского”, а не “взрослого” Гофмана? Гофмана страхов, превращений и марципановых радостей больше, чем Гофмана сарказмов, ужимок и нестрашных ужасов?
Что произошло со мной за то время — с того дня, — когда я вообразил себя Щелкунчиком? Уродливым, несчастным, одиноким и отважным. Наступившим на жирную королеву-мышь.
Я учился остроумию у Ильфа и Олеши, интонации Бабеля до сих пор не дают мне покоя. Перечитал “Любку Казак” и аж мороз по коже и теплота в глазах от восторга перед совершенством. А они его убили!
В моем отношении к книге есть, кажется, что-то чувственное. Может, поэтому я так люблю старые книги. Смотреть на них, даже не читая, трогать. Лохматые, зачитанные, рассыпающиеся, с чьими-то пометками — все равно. Они часть чего-то такого великого и необъяснимого, без чего не было бы моей жизни.
Я рад, что раскопал в развале на полках букинистического отдела в книжном на Тверской эту потрепанную книгу 1929-го года издания — Леонид Гроссман, “Борьба за стиль” — разрисованную чьей-то, наверняка давно умершей, — детской рукой. Пусть сохраняются в моих старых книгах забытые там старые неясные записки, неизвестно чьей рукой и кому написанные — обрывки — отрывки — чьих-то давно исчезнувших связей, отношений… Жизней…
Сегодня купил на Тверской — “Серапионовы братья. Альманах первый. «Алконост». 1922 год”. Возникает какое-то особое чувство, когда я держу эту ветхую книжечку в руках. Вообще, это удивительное явление — энергия старых книжек. Особенно книг начала века и двадцатых годов. В них какой-то заряд. И ведь именно что не самых старинных. Есть ведь у меня и столетние, и стодвадцатилетние. Но от них наслаждение, умиление. А в книгах двадцатых годов — ощутимая душой сила, таинственный магнетизм.
А вот еще — какая прелесть, вторая покупка: “А. Толстой, П. Щеголев. Азеф. Пьеса. Изд-во «Круг». 1926 год”. Действие первое, картина первая: “Школа филеров”. Первая ремарка: “Огромная низкая пустая комната в помещении Московской охранки в Гнездниковском переулке”.
Особенная прелесть в том, что как раз из этого здания, где ныне помещается на месте охранки — или вместо охранки — наше кинематографическое начальство, я вышел сегодня и направился в букинистический отдел книжного магазина напротив, через улицу, где и купил эту книгу.
Книга мне нравится как вещь. Книга мне нравится как “источник знаний”. Книга мне нравится как — всё. Книги умеют манить и соблазнять. Книга — это сильное лекарство против тщеславия.
Тонкий золотой слой, который остается после прилива и отлива чтения.
Все новое надеть сразу, все вкусное съесть сразу, и все интересное прочитать или увидеть сразу. Не умею ничего раскладывать и распределять разумно и с выгодой для себя. Вот такой я, увы. Что уж теперь поделаешь…
Увидел у себя на столе третий том писем Пушкина, “Academia”, алчно схватил и отложил опять… Погибаю под тяжестью непрочитанного.
Почему никто не писал о том, что, кроме тайны писательства, сочинения, есть невероятная тайна чтения?
Только абсолютная беспорядочность, бессистемность чтения представляет для меня главный его смысл. Читать надо всё.
“Инстинкт книги есть только у немногих людей. Я помню, Мих. Петр. Соловьев, уже около 50-ти лет, непрерывно и много читал. Читал горячо и с интересом… Порядочно, но с таким же пылом, читал Влад. Соловьев. Л. Н. Толстой читал до самого конца жизни, и очень много и горячо. Но, вообще говоря, этот инстинкт редок, и мне встречались люди с университетским образованием, которые, кроме газет, ничего и никогда не читали…
Чтение, и сила, и напряженность его есть особый талант — талант умственного поедания, талант душевного аппетита, «охотка к еде книг»…”
Василий РозановВампиризм — мой — чтения, впивания в литературный текст, когда глаза — читающие, думающие, ищущие, как зубы у вампира, — инструмент наслаждения и существования. Когда какой-нибудь один с виду не очень существенный “абзац” дает больше “крови” — привет Розанову! — чем все любовники Дракулы, вместе взятые.
Мне кажется, что я уже родился с желанием читать.
Я должен быть благодарен “Верке” — Вере Дмитриевне Богдановой — ее квартире, ее шкафам с книгами.
Краду бархатную книжечку у Веры Дмитриевны, соблазненный ее красотой. Выступление Сталина на каком-то съезде партии. И с чувством дарю ее брату. Он приходит в ужас. Книга незаметно возвращается.
В самом нежном детстве я искренне желал ей смерти в необъяснимой надежде, что она завещает мне свою великую библиотеку. Она, конечно, со временем умерла без моих зловещих пожеланий, и ее муж, Николай Владимирович, тут же наконец-то с удовольствием заведший себе новую жену, пустил великую библиотеку на ветер.
Вера Дмитриевна научила меня читать в 44-м году. Первой книгой было сочинение ее мужа Николая Владимировича, детского писателя. Крупные буквы и картинки, изображающие приключения какого-то сорванца, но октябренка. Потом я перешел сразу на Шекспира. У нас был замечательный Шекспир, большие — парадные — книги с красивыми гравюрными иллюстрациями под прозрачной и туманной папиросной бумагой. Их потом в критический момент загнал отчим Борис Авилов.
Мы — нищие, мама, брат с голубыми глазами и я. И отчим-актер с утиным носом, которого я ненавижу.
— Денег нет, — сказала мама.
Как же быть, как жить дальше? Как жить, когда нет денег?
— Как выйти из материальной бездны?
Дома, которые сыграли странную, но явную роль в моей жизни. Дом Тоидзе… Дом Варшавских… И, конечно, дом Туров. Это всё были богатые дома. К ним добавить еще дом Богдановых, который тоже был по-своему богат — книги, великая библиотека… А дом Габриловичей?
Даже какие-то запахи далекого прошлого вспоминаются иногда. Особенно я помню запах квартиры Габриловичей на Фурманова.
В нищем моем детстве я никому не завидовал — ни Гусевым, ни Габриловичам, ни Вербенкам, ни Тоидзе, ни Варшавским. Но какой-то микроб печали, видимо, проник тогда без спроса в мою душу и сделал свое дело.
В детстве я страстно мечтал иметь бурки. Тогда они были в моде у определенного сорта начальства, полувоенных хозяйственников. Белые, с отворотами, с полосками мягкой коричневой кожи. Валенки я презирал, они мне казались неприличной обувью бедных — а сам-то! — и простых. А вот бурки, маленькие бурочки… На ком я видел их? На старшем Вербенко? На младшем Вербенко?
Андрей Андреевич Вербенко, крестивший Алёшку Габриловича. Он был тогда полковником, замполитом, кажется, дивизии. Нина Яковлевна, Алёшкина мама, великая женщина, ставшая Зиночкой — Эвой Шикульской в “Объяснении в любви”, вызвала Андрея Андреевича с фронта, и он крестил Алёшку. Потом он стал директором Московского ликеро-водочного завода.
Однокомнатная квартира Вербенок ниже этажом на одной площадке с Габриловичами. Раки из Ростова в ванной. Вина без этикеток, черные и словно пыльные — такими, конечно, их делало воображение, раздразненное чтением Дюма, — бутылки с белыми наклейками, на которых было написано черными чернилами что-то. Пакеты и свертки. Футболисты и боксеры. Вратарь Саная. Великий тяжеловес Королев. Пистолет “вальтер”, который тайно показывает нам Вовка.
Марья Филипповна, жена замполита и директора ликеро-водочного, училась в московской школе Айседоры Дункан, была среди ее юных босоножек.
Потом, когда Вербенкам дали квартиру на Калужской, в их квартиру поселили безрукую женщину, ногами вышившую бисером подарок Сталину. Я видел этот подарок в Музее на Волхонке.
Уже в пятом классе я со страстью мечтал о маленьком чемоданчике, с которыми пижоны-старшеклассники ходили тогда заниматься спортом. Позже — в институте — мечта о плаще “болонья” и узконосых туфлях. Но тут уже мечты стали частично осуществляться. Плащ я так и не смог купить, а туфли, как-то схимичив, что-то заняв и что-то продав, я все-таки приобрел у приятеля-оператора. Коричневые, элегантные, узконосые. Как жаль, что они сносились пятьдесят семь лет назад.
Вдруг хочется заболеть и в бреду умолять, чтобы принесли книги Киплинга. “Книгу джунглей”… “Рикки-Тикки-Тави”… “Ким”…
Милое детское время — болезнь с Киплингом, с маминым шерстяным платком, с чаем… Если можно было бы по-прежнему болеть, как в детстве, думая, что впереди бесконечность.
Классическая болезнь любого литературного “детства”. И ведь действительно, болезнь — это огромная часть детства. Остров в океане, на который всегда хочется приплыть.
Дайте мне горячего молока с боржомом. Верните мне детство, сволочи!
И вдруг — воспоминание, как отец — к Новому — какому? — году прислал — в ящике — с шофером — хворающему Витьке — и мне — мандарины и яблоки — я помню запах…
Болезнь в детстве приятно замедляет жизнь, выводит ее ненадолго из-под давления возраста. Я любил болеть в самом конце зимы, в марте, чтобы — выздоровев — медленно, слабыми ногами выйти из темного подъезда уже на весеннюю, новую, яркую до прищура и пока еще робко журчащую улицу. Черный, колючий снег по краям мостовой. И воздух, в котором звонко слышен каждый звук, голос. Этот воздух — радость. Этот воздух — предчувствие.
В начале пятидесятых годов наша улица Фурманова (б. Нащокинский пер.) была еще с булыжной мостовой. Как радостно и весело было выбежать к друзьям из полутемного подъезда, увидеть голубое прохладное сияние раннего апреля и витые струйки солнечной воды, журчащие между крупными и чистыми булыжниками.
Собаки улицы Фурманова. Королевские пудели Славиных, спаниель Нагибина, овчарка Габриловичей, спаниэль и боксер Варшавских… И тот чудный сеттер, никому не принадлежавший, бегавший по улице. И каждый раз напоминавший строчки из стихотворения Веры Инбер: “Был славный малый и не дурак ирландский сеттер Джек”.
Желтый двухэтажный дом на углу нашей улицы и Гагаринского переулка, старый, облезший, в трещинах и лохмотьях, первым отколупав замазку и сорвав газетные полосы, распахивал немытые еще с зимы окна. Галдеж, плач, смех и брань, весь этот коммунальный шум, воняющий едой, теснотой, бедностью и пьянкой, рвался на улицу. Население в этом доме было как на подбор, бойкое и скандальное. Однажды, правда, они присмирели. Со стороны Гагаринского, между двумя окнами вдруг укрепили прямоугольную мраморную доску и до поры закрыли ее холстом. Наконец, появились какие-то автомобили, автобус, какие-то люди, и высокий писатель с седыми висками и орденом Ленина, привинченным к лацкану хорошего пиджака букле, заикаясь, сказал речь. Это был Сергей Михалков. Холст сняли. На мраморе золотыми буквами было написано, что в этом доме останавливался Пушкин.
Потом Шпаликов часто приходил ко мне. И — вместе с Инной Гулая, снявшейся у Льва Кулиджанова в картине “Когда деревья были большими”, — к жившему напротив меня в двухэтажном “доме Карахана” Юрию Никулину. И появились стихи:
Здесь когда-то Пушкин жил, Пушкин с Вяземским дружил. Горевал, лежал в постели, Говорил, что он простыл.На самом деле в этом доме Пушкин дружил с Нащокиным, а не с Вяземским. Но Вяземский лучше укладывался в размер, так и остался. Нащокин или Вяземский, какая разница? Гена пренебрегал такими тонкостями.
Одна комната из трех у нас сдается. Сначала офицер, интендант с белыми погонами, очень тихий, потом чудовищно напивающийся и исчезающий от ужаса. После этого решено было сдать женщине. Так появилась “Трехнутая”, врач Роза Савельевна. Я ужасно стеснялся из-за жилички и ненавидел ее.
Когда она уходила на работу, я проникал в ее — мою — комнату. Там мне все было неприятно, все ее вещи.
Но благодаря Трехнутой я посмотрел “Тарзана”. Попасть в кино на него было невозможно, стояли небывалые очереди. В ее поликлинике — кажется, она была на Арбате — ей выдали билеты, а она отдала их мне.
Возможно, она была несчастна.
Но разве подростку есть до этого дело?
В той же комнате — детской…
Там мы сначала жили с братом. Потом он после всех семейных катаклизмов переселился в бывший кабинет отца — и стала “Витькина комната”.
В той же детской я первый раз увидел Э Т О.
Прибежал со двора, где играл и носился с Алёшкой Габриловичем, открываю дверь в свою комнату. Домработница Шура и пожарник. Уж конечно, пожарник. И что-то голое, двигающееся, словно светящееся в солнечной полутьме…
Вот ведь! Денег не было, а домработницы были. Становились своими, жалели маму, любили меня и терпели от меня. Я был ужасен!
“По сути, это детское убеждение: нет никого подлее меня”.
Франц КафкаТоска по собственному детству, презрение, жалость и любовь к себе…
В детстве я мечтал быть обиженным. Чтобы я мог или наказать, или простить. Но это общее место для возраста. Вспомним “Детство” и “Отрочество” Толстого.
Я жил — в детстве, но я не жил — детством. Пожалуй, оно казалось мне слишком скучным, в отличие от того, что было за его невидимой границей. Детство не радовало, не веселило, оно меня унижало и обижало, и я старался забыть его, еще не расставшись с ним. Я изменял ему — с будущим, которое, наступив, сразу же стало изменять мне.
Глава 2
Как птица в воздухе, как рыба в океане, Как скользкий червь в сырых пластах земли, Как саламандра в пламени — так человек Во времени. Кочевник полудикий, Уже он силится измерить эту бездну И в письменах неопытных заносит События, как острова на карте…Владислав Ходасевич
Я по-прежнему уверен: все, что произошло со мной в жизни, — чистая случайность. К какой жизни был готов? Как представлял себе эту жизнь? Стал жить в ней как будто бы внутри приключения, к которому испытывал постоянный интерес, и потому все переживания, страдания уравновешивались этим интересом.
Вот главные города моей жизни. Ереван. Рига. Одесса. Ленинград. Ну, естественно, Москва.
Нет для меня чужих городов, все города — свои.
И вновь и вновь собирать — в поездках — давно не виденные, любимые города, как ищут и собирают — по еще живым адресам — когда-то отосланные письма.
Все-таки Бог дал мне повидать мир. Однажды я даже пил пиво в баре внутри дота, которыми Энвер Ходжа изуродовал Албанию.
Радоваться ли всему этому? Ну, например, тому, что я могу выйти на жаркий балкон номера под бьющимися на ветру флагами разных государств и увидеть сверху авеню Альмейды и памятник ему — Альмейде. Увидеть Лиссабон…
Да! Радоваться!
Я хотел, чтобы в романе — ненаписанном — был другой город, не Ереван. Но запахи его, и свет, и цвет увядающей листвы, — я всё позаимствовал там, на тех улицах и стогнах, в тех дворах — чтоб смешать всё в одном сосуде, в странном вареве воспоминаний.
В этом городе может быть море, хотя оно быть не может.
Запах моря присутствует в любом городе.
Таинственный город… Одни говорили, да, море у нас есть, там, в конце улицы, другие смеялись: какое море, вы что? Но море появлялось тогда, когда было нужно… Кому? Сашке? Морю?
Мне?
Море вообще было самой сильной мечтой моего детства — завистливой — социальной — мечтой, — море Артека, где я никогда не был, и море дачи Берии в Пицунде, где отдыхал тем школьным летом Сандрик Тоидзе и где по берегу несся табун белых лошадей.
Море как перемена жизни, положения в жизни.
Не забывать, что представление о море у меня всегда связывалось с представлением о богатстве, благополучии, нормальной семье.
Ереван — самое сильное впечатление моего детства, следы от которого протянулись по всей жизни.
Манит меня и тоскует до сих пор — во мне — южная кочевая жизнь, гостиница, кулисы театра, актерское глупое и вздорное племя, 49-й год, хинное небо, морская свинка, вытягивающая “счастье”…
Ереван — не просто воспоминание. “Ереван” — некая область моего экзистенциального существования, магическое пространство, куда моя душа возвращается постоянно — наверное, для того, чтобы узнать как можно больше о себе самой.
Роман, собственно, и стал возникать из желания отправить душу в это путешествие.
Сама та жизнь, ее пестрота и краски, ее невиданный вихрь и тон — все это осталось в моем Сашке. Самое сильное, самое главное, что было в его жизни, и то, что сделало его — хоть и забылось, стерлось, выцвело с годами — но сделало его.
Я решил: пусть Борис будет и в романе, как в жизни, Борис.
Мы с мамой собираемся в Ереван.
Отчим Борис уже уехал, он нанялся в Русский драматический театр имени Станиславского. Было еще предложение поехать в театр Дальневосточного флота, в Совгавань. Но он выбрал ереванский театр. Главным режиссером там — знакомый ему вахтанговец, актер и поэт Анатолий Миронович Наль. Не так давно я купил книжку его стихов с предисловием Кузмина, издание “Academia”…
Наль жил в Ереване на горе вместе с женой и дочерью, моей ровесницей. Теперь она поэтесса и жена знаменитого барда. С ереванской поры я видел ее, уже взрослой, только один раз, бесконечно давно — в “Национале”, в компании поэта Володи Файнберга.
Конечно же, не смог удержаться. Попросив прощения у благородной тени Анатолия Мироновича, я решительно преобразил режиссера в ненаписанном романе, дал ему другую фамилию, дал другие имена — да и все другое — жене и дочери. Уж очень они были все мне нужны. И сделал его не вахтанговцем, а таировцем, сбежавшим от разгрома Камерного театра.
Наброски из ненаписанного романа
Мягкое, удлиненное — насмешливо-приветливое — лицо, лысый череп, пересеченный серебрящимися и очень длинными и редкими прядями, прикрывающими череп, обтянутый розовой — с бледно-коричневыми пятнышками неправильной формы — кожицей. Мешочки щек, с нежной склеротической инкрустацией, тоненькие, как жилки просвеченного солнцем листика, бледно-красные сосудики, похожие на крошечные японские деревца. Белые мягкие узкие руки, перстень с черным агатом — с пламенем, поэтому он особенно ценен, — на пальце.
Такой изысканный, эстетствующий — в этом провинциальном, довольно-таки затхлом театре. Где, кстати, в некоторых ситуациях он ведет себя абсолютно как советский режиссер-чиновник. Зато дома…
Странной была не только его фамилия — для Сашки странным было все в его доме: ликеры, трубка, конфеты в золотых обертках и обязательный кофе в крошечных красных чашечках. И жена, бывшая танцовщица с маленькой и очень коротко стриженной головкой, высокая, худая, ходившая по квартире босиком. В память об Айседоре, у которой она могла учиться? Сашка глаз не мог оторвать от ее босых стоп и краснел, как пойманный на месте воришка. Она это замечала, усмехаясь.
Странными были картинки на стенах — с узкими вытянутыми женщинами и — густо обведенными черным — мужчинами в котелках. Странным было и приглушенно вспоминаемое прошлое в таировском театре. И настоящее — в провинциальном, — где он ставил Вадима Собко и Островского.
Мы ехали с мамой вроде бы на такое достаточно увеселительное мероприятие. Там прекрасно: фрукты, воздух, другая школа. Там будет вообще замечательно.
Скоро оказалось, что там вовсе не так замечательно.
Наброски из ненаписанного романа
Когда в финале Сашка будет сбегать из города — из этого своего Эльсинора, — он не узнает ту местность, которую он не так уж и давно проезжал вместе с мамой, — потому что он теперь другой, потому что прошла огромная жизнь, и местность изменилась так же, как изменился он, как изменился мир, как изменилось его представление о мире. Если дорога туда — это живые и доброжелательные пространства: степь, море, горы, то есть некоторые сущности мира, природы, то дорога обратно — это серые города цементного цвета, угрюмо и равнодушно дымящие вдали гигантские заводы, темные, низкие сырые села…
“Но перспектива путешествия слишком заманчива для всякого мальчика”.
Карло ГольдониНа билеты в Ереван нам с мамой денег не хватало. Мама то ли у кого-то одолжила, то ли что-то продала…
Проводы на Курском вокзале. Осень. Дождь. Дым. Провожают тетка Ирина, мамина младшая сестра, и мамина подруга Фира Маркиш, жена Переца Маркиша, уже посаженного, еще не расстрелянного, и мать двух сыновей — блистательного Симона и друга всей моей жизни — Давида. Мама была верная подруга. Когда многие шарахнулись от Маркишей, она даже подумать о таком не могла.
Трагедия! На перроне выясняется, что мама забыла дома мой портфель со всеми учебниками, которые тогда было не достать. Потом они долго добираются из Москвы в Ереван. “Словом, типично дамский отъезд”. Чья это фраза? Кажется, я нашел ее в маминой переписке с отчимом.
Вокзал утром в Тбилиси в 49-м году. Долгая стоянка. И еда в вокзальном ресторане — какие-то мясные шарики, что-то “по-гречески”, очень острое. И Ереван впереди. И мама.
Мама была прелестна овалом лица, нежной кожей, тихим кокетством и самостоятельностью молодой женщины, едущей к мужу на край света.
Мама была старше отчима на 10 лет. В 49-м ей было 37, ему 27.
А мне — 9.
Сашке в романе — 13. И это не 49-й, а 53-й год. Мне нужно было, чтобы в финале он отправился бы на поезде хоронить то ли Сталина, то ли — не удивляйтесь — Пушкина.
Навсегда утраченный свет, тот пленительный, неповторимый, какой-то бело-синий, какой-то песочно-рассыпчатый ночной свет моей первой в жизни дальней поездки из Москвы в Ереван в 49-м году.
Низкие молочно-синие станционные огни под металлическими веками.
Горбатое, скрежещущее, ерзающее под ногами железо переходов через тамбур из вагона в вагон, равновесие на горбатой площадке и страх, что сейчас вагоны расцепятся. И запах паровоза — жирноватый — липнущий к коже — запах дыма и гари — надолго остающийся в волосах и на рубахе — и превращающий — все это — в ощутимую носом, легкими, кожей — душой — памятью — реальность…
Особенно помню красный борщ с толстыми кружочками сосисок в металлических кастрюльках — поездных, ресторанных.
Не потому ли еще я так запомнил дорогу в Ереван в 49-м, что на верхней полке в купе читал Гайдара? Большой однотомник, а в нем “Чук и Гек”. А там было написано, конечно, про меня: “Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубоватым светом: и вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столе, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко”.
Апельсина — оранжевого — точно не было, но стакан в металлическом подстаканнике, наверняка с Кремлем, а может, с Ильей Муромцем, правда подрагивал, как он будет подрагивать и позванивать ложечкой много-много раз во всех моих поездках. И такая прелестная и такая испуганная мама, и этот свет ночника, скорее синий, а не голубоватый, который не дает мне покоя всю мою жизнь…
И все-таки он молодец. Аркадий Гайдар. Верил в ложь, прославлял ложь, военную силу, мировой обман. Но при этом пробуждал в нас, в основном, конечно, в мальчишках, “чувства добрые” и благородные. Как Дюма. И ведь, по правде говоря, нам было совершенно не важно, какая это власть — советская или королевская. Главное, чтобы Тимур вовремя доставил Женьку на мотоцикле в Москву. Как Д’Артаньян подвески королеве в Париж.
Современные дети не читают “Три мушкетера”, теперь это книга для стариков. Счастлив тот, кто сохранил волнение, рожденное некогда “Тремя мушкетерами”.
Нет, не помог Аркадий Гайдар советской власти. Ничего не получилось, не стала она лучше выглядеть. Но — человек очень талантливый — обманул он многих. Да и меня поначалу, пожалуй, тоже.
Именно Гайдар со всем своим талантом ввел в сознание советских детей, которые потом становились советскими взрослыми, советским народом, постоянное присутствие в нашей светлой краснозвездной жизни коварных, но обреченных врагов — шпионов, диверсантов, изменников, кулаков, мошенников, предателей. И не только это, конечно. Главное то, что он открыл какую-то тайну — военную тайну? — магии советизма. Все, кто сейчас тоскует по СССР, должны были бы скинуться и памятник ему воздвигнуть.
Сегодня мне показалось, что я вспомнил свое ощущение, когда, девятилетний, первый раз — в осеннем золотом и розовом Ереване — ел пудреный, вязкий рахат-лукум, которым Борис встретил нас на вокзале. Не вкусовое ощущение вспомнил, а реальное — южное, горное, водяное, воздушное — чувство — счастья и необычайности, новизны, объема существования, где я — в центре. Как солнце.
Был исход фруктовых месяцев, хурма лопалась и плавилась, вино было дешево, оно называлось красиво и как-то вежливо и восточно: Воскеваз… Вернашен…
Наброски из ненаписанного романа
На вокзале Борис встречает их вместе с Левашовым — тоже актер, старше Бориса, приехал из города Кинешмы, о котором он говорит как о каком-то рае. Там он работал в знаменитом провинциальном драматическом театре. Оставил его и город из-за несчастной любви. Двое веселых, остроумных, весело пьяноватых актеров, в меру развязных, встречают московскую молодую даму — с сыном — в другом городе. И мамино желание сразу же показать Сашке, что эта жизнь — хороша.
Гостиница — вроде как меблированные комнаты, где — “одной семьей” — живут актеры и военные. Здесь жили и циркачи, и однажды к самым дверям гостиницы подъехали цыгане на фаэтоне, с птицами в клетках — со всем этим разноцветным машущим и орущим цирковым — цыганским — безумием. Мальчишки, которые всегда шныряли в этом дворе и которых Сашка боялся, были потрясены, увидев, как он свободно и легко разговаривает с цыганами в красных рубахах, как со знакомыми. Ему было приятно, краем глаза, видеть, что мальчишки завидуют ему.
Очень большой номер — он был дан отчиму, может быть, даже в обход какого-то военного начальника. Борис скандалист, и, кроме того, он все-таки премьер, от него зависит репертуар, он специально приглашен на главные роли, поэтому он может капризничать, ставить свои условия. Поэтому еще я учусь в непростой — “русской” — школе вместе с детьми армянских министров и замминистров.
Классная руководительница — мужеподобная Евдокия Степановна — жаловалась на родительском собрании, что утром на первом уроке невозможно заниматься. Армянские дети пахнут армянскими завтраками и к тому же еще и пукают. Наверное, родители обещали принять меры. За провинности она лупила линейкой по головам третьеклассников. Меня, правда, никогда. Я был — москвич!
Наброски из ненаписанного романа
Сашка спит далеко от мамы и Бориса, за ширмой или занавеской. Место для готовки, где на табурете стоит керогаз, тоже отгорожено занавеской.
Соединение в одной комнате — в пространстве — трех тел, накрытых ночью, сбрасываемой, как сбрасывается простыня, толчком ноги — когда уже невмочь… И это любопытство, расширяющее грудь и покрывающее холодной, но потом вскипающей до жара, влагой — сразу все тело…
Иногда кажется, что Сашка готов полюбить Бориса, даже уже любит. Во-первых, потому, что он хочет, чтобы было хорошо, был мир, а во-вторых, Борис обаятелен, притягивает его к себе.
Мама особенно любила Сашку, когда он, как ей казалось, любил Бориса.
Лучшее состояние семьи — это состояние покоя, я бы сказал, метафизического покоя, который и превращает семью в целое, нераздробленное целое, даже несмотря на все тяготы и сложности быта и неизбежное разнодействие характеров. Худшее же состояние — центробежное действие эгоистических воль, которые семью раздробляют. Несмотря на какое-то внешнее благополучие и даже внешний блеск быта.
Трехэтажный дом филиала гостиницы “Севан” стоял во дворе, налево пойдешь — была баня, направо — пекарня. Запахи бани и пекарни смешивались над двором. Пахло по́том банщика и пекаря, жаром бани и пекарни. Сюда по утрам врывались безумные мальчишки с криками. Они продавали орехи и мацун. И меня ужасно смущало, что они преследуют отчима с криком: “Сирун дядя!” Что — наоборот, — оказывается, означало “Красавец дядя!”.
По прошествии тринадцати лет после первого Еревана, приехав туда с телегруппой, я нашел двор, где была наша маленькая гостиница, — по запаху. Хлеба и пара, пекарни и бани. Запах этот сохранялся здесь в воздухе все эти годы в ожидании моего прихода. Возможно, сразу после этого исчез, сделав свое дело. Как исчезли и сама гостиница — уже давно, — и двор, и соседние дома. В чем я мог убедиться в последующие мои приезды. А вот криков мальчишек, продававших орехи и мацун, и тогда уже в воздухе не было.
Орущих камней государство — Армения! Армения! Осип МандельштамЗапись 2013 года
Вдруг бессонной ночью — здесь, в Алматы — почему-то всплывает тот вечер в Араратской долине. Мы с Валькой Туром в командировке — он от журнала “Октябрь”, я от Союза кинематографистов, где мы все состоим в молодежном объединении под руководством Даниила Храбровицкого и Анатолия Гребнева.
Потом мы уже с Наташей Рязанцевой сами руководили этим объединением.
Да, сидим ночью недалеко от Октемберяна в каком-то маленьком духане — у радушного Нерсеса — при станции, пьем много дешевого вина и смеемся. Дует сильный ветер. Дверь распахивается, и видно, как деревья клонятся под ветром в одну сторону — черные кипарисы на черном диком небе.
Помню воздух и цвет вечера…
Если бы вспомнить все запахи, все звуки, все взгляды.
Чем занимается в Ереване мама? Она не имеет профессии. “Подрабатывает”. Печатает на машинке для театра ужасные пьесы местных авторов и роли из репертуара. У нее привезенный отцом, военным корреспондентом, “с войны”, большой канцелярский “Континенталь” с изображением западного города и фабрики — на металлической пластинке, закрывающей клавиатуру.
Молоденькая, беленькая Зоя, наша соседка по гостинице, жена подполковника Владимира Степановича, отправила меня вечером в ближнюю аптеку за минеральной водой. И я бегу назад по бульвару, отчаянно боясь темноты, прижимаю к груди зеленую бутылку “Арзни”, как пакет с “аллюром три креста”, и для смелости играю в Тимура. “Дочь командира в беде!” — “Жена командира в опасности!”
Прошло 65 лет, а я слышу, как бегу в темноте… В Армении…
Наброски из ненаписанного романа
Сашка очень любил это осеннее южное состояние — вроде бы увядания, на самом деле бесконечности, явленной в формах гораздо более изысканных и разнообразных в красках, чем в пору цветения, полноты и самодовольства природы.
Желтые и странно для москвича зеленые деревья бульвара, фонтанчики. Борис бьет Сашку ладонью по голове, потом бежит за ним и плачет. Он несильно, по-утреннему пьян. Сашке стыдно за него. Потом они шли куда-то днем, в театр, может быть, и он на лестнице, поставив ногу на ступеньку, завязывал шнурок, и Сашка увидел, что на нем нет носок. И ему стало уж совсем — мучительно — стыдно. И потом в театре, где Борис вел себя, как всегда, развязно и хмельно, он страдал и мечтал, чтобы никто не заметил его голые ноги.
Вспоминаю, что отчим Борис всегда возил с собой реквизит — складной шапокляк, раскрывающийся от удара о колено, шпагу с откидывающейся гардой, на которой был вензель “N”, принадлежавшей какому-то французскому офицеру наполеоновского времени, и совершенно бессмысленные твердые, вечно крахмальные пристегивающиеся манжеты, которые невозможно было пристегнуть.
Запах кочевья, подгоревшего аджапсандала, который мама неумело готовила на керогазе в углу нашего номера. Домашняя жизнь ей никогда не удавалась как постоянный уклад. Но она ее красила в дни праздников и гостей — в прямом смысле, в смысле милого персикового румянца — и возбуждала, но ненадолго. Остались выцветшие маленькие листочки с химическими расплывающимися расчетами и итогами трат.
Переписанные мамой на голубом почтовом листочке стихи песен Вертинского.
Видимо, Вертинский — в невероятной ереванской дали — первый открыл для меня ощущение лирики и чувства. А еще раньше мама пела мне на ночь “Желтого ангела”.
Разговоры о Вертинском — легенды. Бабушка видела его в Киеве в костюме Пьеро. “Вертинская” жизнь — как тоска по какой-то иной жизни, прошедшей, которая никогда уже больше не наступит. Но представляется как райская.
Наброски из ненаписанного романа
Вечер с Вертинским. Актер Левашов “поет Вертинского”. Взрослые слушают Вертинского — Левашова при свечах и пьют глинтвейн. Их тени на занавеске, отгораживающей Сашкину кровать.
“Я — Гамлет. Холодеет кровь, когда плетет коварство сети…” — слышит Сашка сквозь занавеску. Тени гостей-актеров перемещаются по гостиничному номеру. Звенят рюмки. Теперь Левашов читает Блока.
Сашка, затаившись, впитал и запомнил эти строки. Потом бормотал их постоянно. Под одеялом. На улице, убегая от злобных преследователей-бесенят. И спасаясь от коварных демонов-искусителей в собственной душе.
…И гибну, принц, в родном краю, Клинком отравленным заколот.Мамина тень на занавеске…
Постоянно: как мама освещена…
То светом движущегося моря — из окна поезда, светом надежды. То светом лампы, когда они втроем за столом, в одном случае светом семьи, в другом — светом драмы. То светом тьмы, когда Сашка ее не видит, а слышит в ночном подростковом ужасе — ее чужой голос, повторяющий Борису такие слова, что у Сашки под одеялом становится жутко и горячо.
Так все-таки я или Сашка?
Когда как. По мере художественной необходимости. Чтоб не очень смущаться и смущать.
Музыка. Какая? Из Дома офицеров — под дирижерскую палочку потомка Айвазовского с совершенно лысой головой, похожей на гранат. Не по цвету, а по устройству: гранат — грани. В зеленом парадном мундире с золотыми погонами генерала и золотым поясом он командовал музыкой.
Цвет воздуха, цвет этой жизни. Зеленый, как в тот день, когда нас в школе накормили хиной — против глистов. Да, тогда было небо зеленое.
Дорога из школы и дорога в школу. Влекущаяся по камням обмелевшая зимняя, лохматая Зангу. Театр, запах ремонта. Наш номер в старом “Севане”. И мамина пишущая машинка. И Новый год. И лица актеров. И зеленое пыльное стекло бутылок с “Джермуком” или “Арзни”, которые я несу из аптеки на углу. И огоньки на горах, которые до сих пор дружески подмигивают мне.
“Купила еще Пашке брюки, так как он день тому назад явился из школы с такими огромными дырами на коленях, что пришлось на другой день не пустить его в школу и срочно купить новые. Ботинки же он носит всё те же”. Мамино письмо — из Еревана.
Много лет спустя я с моими учениками с Высших сценарных и режиссерских курсов, Ваграмом Галстяном и Арманом Чилингаряном, буду искать мою школу. Все почему-то говорят по-разному, где эта школа имени Чкалова. Наконец, Ваграм находит ее.
Медицинский институт, мост, тогда деревянный, а сейчас металлический, река, которая тогда бурлила по камням, а сейчас спрятана под асфальтом, дорога, тогда обыкновенная, узкая, а сейчас — автострада. И сама школа, которая словно поднялась выше — над дорогой и над моей памятью.
Три этажа, серые стены, голые коридоры — имени Чкалова. А еще раньше была — имени Берии. Нам — Ваграму, Арману и мне — всё это рассказывает сторож, белобородый старик, который моложе меня на четыре года. Реки — оказывается, это был приток Зангу — давно нет, она под землей, нет и моста, откуда мы, дети, смотрели на трупик неродившегося младенца в воде.
Сине-красный, похожий на семядолю из учебника ботаники. Перламутровый, блестящий, с переливами, в тонкой росписи сосудиков, словно заменяющей ему кожу, под мелкой водой, бегущей по камням и несущей это крошечное тельце и ударяющей его о камни.
Но она же была — эта речка, этот мелкий, взлохмаченный на камнях поток, окрашенный кровью мальчишек, которые молча резали друг друга бритвами, стоя на большом валуне над водой. И была пионерская комната, где высокая комиссия и пионервожатый товарищ Алик с удивлением взирали на зеленого пластилинового крокодила, слепленного женой подполковника Зоей и принесенного мной в дар товарищу Сталину, который был тогда моложе, чем я сейчас.
Знать бы мне тогда, что без этого воспоминания не будет картины “Подарок Сталину”, где герой — снова Сашка, еврейский мальчик, еще одна ипостась.
Приезжаю в Ереван членом жюри на фестиваль “Золотой абрикос”. Отель “Royal Tulip”. Крошечный Шарль Азнавур неожиданно проходит у меня под мышкой навстречу фото- и кинокамерам. Отель рядом с кинотеатром “Москва”, на Абовяна. В 49-м году, когда я по утрам тащился по этой улице в школу, она, кажется, была Сталина.
Разве мальчик, в Останкине летом Танцевавший на дачных балах, — Это я, тот, кто каждым ответом Желторотым внушает поэтам Отвращение, злобу и страх? Владислав ХодасевичРазве девятилетний мальчик, зимним пронзительным утром — мимо Сиса и Масиса, он же Арарат, и овец, блеющих на площади, бредущий — со страхом — по проспекту имени Сталина — в школу имени Берии, — это я, тот, кого сейчас называют здесь “ваарпет” — мастер?
Я стою возле отеля на бывшей улице Сталина, жду Рому Балаяна и его Наташу, чтобы отправиться на очередной банкет. Мимо интеллигентный армянин ведет на поводке далматина, а тот несет в зубах корзиночку с желтыми цветами.
Здесь обязательно надо читать Мандельштама. И я читаю. По вечной своей привычке — сам себе. Вслух. В номере.
Ах, Эривань, Эривань! Иль птица тебя рисовала, Или раскрашивал лев, как дитя, из цветного пенала? Ах, Эривань, Эривань! Не город — орешек каленый, Улиц твоих большеротых кривые люблю вавилоны. Я бестолковую жизнь, как мулла свой коран, замусолил, Время свое заморозил и крови горячей не пролил. Ах, Эривань, Эривань, ничего мне больше не надо…И как же я раньше не догадывался, дурак! Синица Пушкина и синица Мандельштама не разные птицы, а одна и та же. Это именно ее, тихо живущую за пушкинским морем, думал посмотреть в Эривани поклонник вчерашнего солнца.
Нет, я, сидящий во дворце-ресторане на банкете и получающий игрушечное звание “почетного профессора”, суетный ловец иллюзий, не наследник Мандельштама…
Наконец, всё заканчивается — суета, обжорство, пьянство, просмотры.
А самая большая радость на этом фестивале — моя переводчица, пятнадцатилетняя Маша, Мариам. Она улыбается, похоже, как наша любимая внучка Манька — но только по-армянски, — светится, подпрыгивает и берет под козырек своей кепочки, подходя ко мне.
Забудет, забудет…
Как это прекрасно придумано Богом, что все люди — разных национальностей. И как это трагически не понято людьми.
Три главных Божьих дара человеку: душа, слово, национальность.
И что же он с этими дарами вытворяет!
С самого раннего детства мне ужасно нравилось, что люди могут быть грузинами, армянами, татарами, узбеками. У всех народов, а у русского, кажется, особенно, широкий набор прозвищ, унижающих чужую национальность: армяшки, черножопые, косоглазые, япошки, хохлы, америкосы, азеры, чурки, чучмеки… Среди них “жид” занимает достойное и едва ли не первое место.
Подождем до Страшного суда — раньше справедливости не добиться — может быть, там будет вынесено специальное определение: унижение чужой национальности — словом и делом — страшный и не искупляемый грех перед Господом.
Вы думаете, на Страшном суде вы будете предъявлять советские паспорта с любимой вашей графой? На Страшном суде наконец-то все узнают, кто и от кого произошел. Кровь знает о тебе всё. Да не сразу всё скажет.
Заслуживают также особого внимания некоторые пословицы, поговорки и афоризмы, посвященные жидам. Например: “За компанию и жид повесился”. Ведь и впрямь не сосчитать, сколько раз жид вешался за компанию — с самыми разными компаниями. Например: с такой компанией, как Россия. Сколько раз. Вешался и вешается по сей день. Сколько бы ни отвалило на ПМЖ.
Или вот еще: “Два еврея, третий — жид, по веревочке бежит”. Тут целое философское наблюдение. Вроде бы они все вместе: два еврея и третий из них — жид. Но они как-то при этом разделены, и не только пластически, не только положением в пространстве. Два еврея — в этом даже есть нечто солидное — стоят как бы в стороне, в то время как бедный жид, вроде гоголевского Янкеля, бежит — над ними? — по веревочке. Что это? Для чего? Для увеселения? Евреев? Неевреев? Для заработка бежит? По принуждению, во спасение? Шагалу позирует? Или просто так бежит — от нечего делать — жид по веревочке? А два еврея стоят и наблюдают. Видимо, все-таки это его судьба такая, обыкновенная, жидовская, — бегать по веревочке. Пока два еврея стоят и наблюдают.
Неужели мое место в “народной судьбе” в этой стране определено только тремя буквами на бетонной стене?
Иногда мне кажется, что моя душа — это мишень, куда летят оперенные стрелки, пущенные тысячей рук. Кто-то попадает в самый центр, а кто-то в дальний от него круг. Но попадают все.
Никакого Бога в моем детстве не было. Была мольба.
Странные и неосознанные поиски Бога в каких-то повторениях, заклинаниях, в детской, полуязыческой метафизике, в каких-то бормотаниях с просьбами, еще очень далеких от молитв, которые я тогда просто не знал.
Я молился странными словами, вздохами под одеялом, слезами. Чтобы мама снова жила с отцом. Чтобы мы не были бедными. Чтобы отчима Бориса взяли сниматься в кино — в фильм Ефима Дзигана, чтобы мы поехали в этом году на дачу. Чтобы меня не оставили на второй год. Чтобы меня не обижал Витька. Чтобы меня не бил жуткий одноклассник Борисов. Чтобы мама скорее родила…
Значит, в точности как Неточку Незванову, мучило и унижало меня наше положение и волновала мечта о возвышении ненавидимого Бориса?
Наброски из ненаписанного романа
Сашка слышит разговоры о себе.
Кто-то: мальчик очень нервный, все-таки у него было такое детство, эвакуация, болезнь, а разрыв? — это ведь очень отражается на них. (На них? — закричал внутри себя Сашка. Нас много? Нет уж! Я один!)
Но что его ждет? У него нет никаких интересов — это Борис?
Мама — про Сашку: он очень обидчив, у него очень обидчивая душонка. Это у него от меня… А характер — это от отца…
Ничтожные удары по самолюбию я переношу так же болезненно, как и в детстве. Хотя тогда я не понимал, как они ничтожны, а сейчас понимаю. Но ничего с собой поделать не могу. И ведь чаще всего этих ударов просто нет, и они только мнятся моему самолюбию.
Наброски из ненаписанного романа
Сашка не выносил это мамино слово: вещички. Он вообще не выносил некоторые ее слова. Особенно его раздражали слова с умалительными суффиксами — ему слышилось в них какое-то жалкое признание собственной бедности, ничтожности, униженности и неравноправности их состояния в том мире, о котором он пока еще только догадывался. Это было подлое чувство. И он понимал, что оно подлое, но ничего не мог с собой поделать. Только скрипел зубами. Но “вещички” было так же отвратительно, так же противно, как “душонка”, “человечек”.
Из всех летних месяцев я больше всего любил июнь — не потому, что там был мой день рождения, а потому, что от июня было все-таки чуть дальше до школы, чем от июля и августа.
В середине ночи проснуться, вспомнив, как пахнет мой пионерский галстук, только что поглаженный мамой темным, зимним московским утром, пока я собираюсь в ненавистную 59-ю школу. Галстуки были шелковые и сатиновые, для бедных. Я все-таки носил шелковый, хотя он и был нам не очень по карману. Но нельзя было опускаться так уж совсем низко.
Не с того ли времени пошла моя рабская зависимость от социальной суеты? Жизнь отучает, отучает меня от суетности, да никак не отучит…
Помню и тот запах, и то, что проглаженный чугунным утюгом алый шелк становился какого-то желтоватого, паленого оттенка.
С каким наслаждением мы, перейдя в восьмой класс, выбрасывали наши галстуки в чернильных пятнах и с изжеванными кончиками из окна физкультурного зала нашей 59-й школы в Староконюшенном переулке!
Просыпался от ощущения зимы, тоски, безнадежности. Как чернила, сильно разбавленные водой, светлело за окном небо. Шел проходными дворами, розовый, болезненный свет только что с трудом вылупившегося солнца, и скрип снега под ногами, и страх, что сегодня — спросят.
“…По дороге из дома в школу он или выбирал какого-нибудь прохожего впереди, которого надо было обогнать, прежде чем он дойдет до определенного места, или старался ступать так, чтобы каждый шаг приходился на плитку тротуара, и таким образом загадывал…”
Джеймс ДжойсО боже! Может ли быть совпадение более буквальным? И значит ли это, что где-то в то или иное время какой-то юный турок, или юный китаец, или юный эфиоп придумывали для себя точно то же самое? Или все-таки нас двое в этом мире?
Стивен Дедал, он же Джойс, и я.
Как бы мне хотелось взглянуть на того мальчика на бесплатной деревянной, кружащейся на железном кронштейне площадке в Парке имени Горького пятидесятых годов. Помню, как земля закачалась у него в глазах, а потом и под ногами, и стало тошно от кружения. Весело ему было, восторженно? Интересно жить?
Почему-то именно это я постоянно вспоминаю с точностью. Это было время “межквартирной” дружбы. Алёшка Габрилович, Вовка Вербенко и Нисик Вафа, сын писателяэмигранта, полуеврей-полуиндус. Все из одного подъезда. Все старше меня.
В парке я как-то, видимо, очень романтически засмотрелся на небо, наверное, что-то воображал и изображал. “Куда ты смотришь?” — спросил Алёшка. “Он смотрит в даль”, — насмешливо сказал худой полуиндус. Наверное, мне было десять лет.
51-й год, страшный, длинный ночной звонок в дверь, особенно страшный после рассказа, как в 49-м ночью брали Переца Маркиша.
Значит, я все это уже знал?
Не надо представлять себе жизнь того времени как полностью подавленную, раздавленную гнетом сталинизма. Уродливую, ужасную, кровавую — да, — но не раздавленную в тех обычных формах, в которых жизнь существует всегда, даже при самом страшном режиме. Увы, неладно бывает в любом королевстве, но все равно там живут, смеются, соединяются, радуются. Тем более, что большинству режим вовсе не казался страшным, не ощущался он как режим — что тоже было, конечно, страшно. При этом та жизнь была по-своему и живой и насыщенной, в ней многое тянулось от войны, от довоенного времени.
Сидели в большой комнате, “столовой”. Мама, Борис, я. Кто еще? Витька? Вряд ли… И я вслух из лохматой черной книжки читал Зощенко. Год, должно быть, 52-й.
Вообще я любил “острить” — это был стиль семейных разговоров. И я страшно гордился — особенно внутри себя — что я умею “острить”.
Почему-то вспомнилось, как я — маленький, лет двенадцати — тащу, изнывая от тяжести, чемодан с дачи в Москву. Дорога, станция, электричка, метро, Гоголевский бульвар, Гагаринский переулок, наконец, моя Фурманова, дом 3/5, тащу на пятый, последний этаж в нашу квартиру 67… Дотащил!
Я подробнее помню себя с тринадцати лет. Потому что это был 53-й, последний сталинский год?
Сталин и Пушкин. Действительно, кто еще был важнее для моего детства?
Наши дети всё дальше уходят от Пушкина.
Пушкин — это были тетрадки 37 года с таблицей умножения и с “На смерть поэта”, и вообще — всякое слово. А Сталин — война, героизм, греза о величии и справедливости. В моем — детском — сознании Сталин и Пушкин постоянно состязались в важности, величии, исключительности и притягательности.
Академик Луппол, впоследствии посаженный, написал: “Чествование Пушкина — это чествование ленинско-сталинской национальной политики. Сталин и Сталинская конституция дали народу Пушкина”.
Национальной политики? Что он имел в виду? Что Пушкин был из арапов?
Мы с мамой идем по нашему Гоголевскому бульвару, и я громко читаю наизусть “На смерть поэта”, выученное с тетрадной обложки. Тетради выпущены к юбилею 37 года, но они до сих пор в ходу. Цвет этих обложек. Блекло, выцветше-зеленый, с бледной желтизной.
“Невольник чести” — что может быть лучше, возвышеннее этих слов?
Одно из первых — пушкинских — стихотворений, даже до “Лукоморья”, — это “Песнь о вещем Олеге”. И тоже с тетрадки. Очень рано — “Евгений Онегин”. Но пока только началом, вступлением и первой песнью. “Мой дядя самых честных правил”. В этом было что-то детское, вернее, для детей — в этом “мой дядя”. До слов “молодой повеса” все было очень близко — дядя, болезнь.
Вообще, стихотворная форма, стихосложение, рифмование, ритм — особый, неразговорный, — воспринимается ребенком с рождения как абсолютнейшая данность. Ребенок рождается со стихами — в стихах. И только потом, позже, стихи начинают удивлять его несовпадением с реальной речью, с реальной жизнью. И вот тут — распутье…
Вот еще одно соединение: Пушкин особенно материален для меня — в смерти. Конечно, в драме отношений с Гончаровой, в дуэли с Дантесом, но более всего, рельефнее — в смерти. И Сталин тоже — в последних этих его таинственных днях.
Одноклассник Володька со сморщенным, как яблочко печеное, старообразным и очень некрасивым лицом. 9 марта 53-го года мы с ним приперли к стене коридора какого-то несчастного пятиклассника, который позволил себе смеяться в такой день.
Отец специально приезжает к нам на Фурманова, потому что Витька собирается идти в Колонный зал.
— Я запрещаю тебе. Ты знаешь, что такое масса?
— Я на “Динамо” ездил.
— Я запрещаю!
Все дни, пока Сталин был выставлен в Колонном, я провел в квартире Тоидзе. С балкона над Пушкинской площадью мы смотрели на черные толпы внизу.
Мы учились вместе с первого класса, кажется, по четверый.
Сандрик Тоидзе, сын художника Ираклия Тоидзе, четырежды лауреата Сталинской премии, знаменитого военным плакатом “Родина-мать зовет!” и росписью стен в ресторане “Арагви”. В его доме, особенно когда они переехали с Гоголевского бульвара на Пушкинскую площадь — напротив кинотеатра “Центральный”, я провел часть моего детства.
Мать Сандрика — красавица Тамара Теодоровна; это ее лицо на плакате “Родина-мать”. Ее тетка, матрона из Санкт-Петербурга, тогда твердо называвшегося Ленинградом, — родственница Бенуа? — привозит какую-то фамильную люстру, раскрывавшуюся над столом диковинным образом при помощи противовеса с дробью в мешочке.
В доме Тоидзе культ Сандрика был посильнее, чем культ Сталина.
Там не было демонстрации богатства. Там была демонстрация другой жизни, другого существования, других возможностей. Не было чванства, нет. Хотя все-таки недаром Ираклию Моисеевичу были отданы для натурщиков китель Сталина и фуражка Берии, которые мы надевали для игры в войну. Нет, что-то было иное. И вместе с тем была какая-то тайна во всем.
Сталин? Бенуа? Берия?
Когда я оставался там ночевать, я, конечно, садился за стол вместе с Сандриком. С тех пор я ненавижу вкус сливок. От которых меня тогда — молча — тошнило, с непривычки.
Как-то раз я был у Сандрика (а я бывал там постоянно, даже оставался на два-три дня с разрешения мамы), и мне сказали, что Сандрик должен уехать. Мы вышли вместе во двор дома, и я увидел, как Сандрика увозит черный “ЗиМ”. В этой машине сидела Нина Теймуразовна, жена Берии. Она очень любила Сандрика. Он был красивый мальчик, добрый. И очень способный.
Федор Константинович, бывший царский офицер, в галифе и мягких сапожках, учил нас с Сандриком — среди других — фехтованию на рапирах. Сандрик был к этому способен, а я нет. Он ко всему был способен.
Спортивная районная школа. Она действует по вечерам в помещении школы для дефективных детей, которые беззлобно бродят вокруг нас, пока мы разминаемся и фехтуем. Это улица Фрунзе.
Сандрика забрали из школы, но дружба не прервалась.
Мы с ним слушаем “Татьяну” Лещенко с “ребер” и танцуем вдвоем танго — он меня учит — в его комнате.
Напротив, через Пушкинскую площадь, дом с “памятником неизвестной бляди” — так в Москве называли уже давно уничтоженную огромную женскую скульптурную фигуру на крыше углового дома, где теперь магазин “Армения”. Ночью мы будем с помощью “настоящего” телескопа на штативе глазеть, как там в окнах — в синих и оранжевых глубинах — раздеваются женщины.
В этой же комнате Сандрика стена, на которой мы смотрели отснятую им летом в Пицунде цветную пленку — с помощью “настоящего” киноаппарата: немой, бесшумный белый табун на желтом берегу синего моря — в поместье Берии.
И как я, несчастный, врал, что провел лето у Молотова.
Мертвого Сталина в гробу нельзя было фотографировать. Трем художникам — кажется, Герасимову, Налбандяну и, уж точно, Тоидзе — было разрешено “писать с него” ночами в пустом Колонном зале. Ираклий Моисеевич приходил по утрам из Колонного и расставлял у стен эскизы. Наброски, на которых лицо Сталина было грубым, плоским и темнокожим, сделанным не из плоти, а из краски, из грязноватого цвета, из мазков, похожих на маленькие волны, застывшие вместе с пеной.
Эскизов мертвого Сталина было пять или шесть, от них сильно пахло масляными красками — он ставил их на пол, прислонив к стенам, и долго смотрел, тихий, маленький, широкий в груди грузин со спокойным и, кажется, добрым лицом. Смотрел, задумавшись.
В главной комнате квартиры, в мастерской, все стоим и слушаем по радио, как говорит Берия на панихиде. “Кто слеп, тот не видит, кто глух, тот не слышит…”
Кстати, что помешало сделаться негодяем?
А вот что. Правда о Сталине. И не мне одному.
Еще июль, но откуда-то, как танки из далеких казарм, с ворчанием приближается новость о Берии. Он шпион Югославии и Англии, развратник. Мы спасены от него. Кем? Булганиным, что ли? Жуковым? Хрущев как-то меньше запомнился.
Желто-зеленая — дачная — сцена, Женька — двоюродный брат, смуглый красавец — и Витя идут, по-моему, играть в волейбол. Я увязался с ними. Идем через лес. Солнечно. Они говорят молодыми голосами о слухах. Женька, кажется, слышал что-то по “такому” радио. Витя сдержан. Он пока еще сталинист. Говорят о марксизме. Я слушаю. Женьке двадцать пять, Вите двадцать, мне только-только исполнилось тринадцать.
Мне четырнадцать. Я прогуливаю школу у Сандрика. Матовый, красный — призрачный — свет. Фотоувеличитель. В черно-розовой прозрачности проявителя проступают под аккомпанемент нашего взволнованного дыхания голые груди, ноги…
Пачка влажных, чуть слипшихся фотографий, которые мы тихо и восторженно печатали в ванной комнате. Я принес фотографии домой под серой форменной гимнастеркой. Когда, забыв, расстегнул ремень, они упали на пол. Я испугался ужасно. Но все обошлось гораздо спокойней, чем я ожидал и боялся, — взрослые были педагогичны и насмешливо снисходительны.
“Ганс Блюер… определил однажды эрос как «утверждение человека независимо от его ценности»”.
Томас Манн, из письмаВот несчастье — вот этого нашего возраста — возраста подростков — что мы ЭТО ощущаем, как животные, и только потом приходит ощущение — человеческое. А до тех пор, пока это произойдет, такой огромный — такой катастрофический — провал, имеющий влияние на всю последующую жизнь. И чтобы избежать, чтобы избыть это влияние, нужны силы — воли и случайностей. Которые не всегда случаются.
“Любовь развивает характер”.
Дмитрий ВеневитиновИтак, любовь. Переделкино, Мичуринец, писательский поселок. Или “Литгазеты”? Сначала меня привозили туда Анастасьевы, у них был коттедж в Мичуринце.
Николка Анастасьев, тоже одноклассник с первого по четвертый, сын театрального критика Аркадия Николаевича, большого сибирского человека, с таким же большим отцом-врачом и большими братьями. Тогда, по-моему, он был членом редколлегии “Литгазеты” и у него был “персональный” “москвич”.
Тогда я был совсем маленький и на второй день тосковавший по маме.
Подрос. Подросток. Сам езжу на электричке с Киевского вокзала. Дачка Петровых-Катаевых, Илюша Катаев, будущий композитор. Его мама Валентина Леонтьевна. На дачном столике возле кровати книга “Три толстяка”, иллюстрации Добужинского. С посвящением ей и надписью рукой Олеши.
Женька Чуковский почему-то запускает шар-зонд. Где взял? Потом я всем врал, что видел, как Женька со своим огромным носом поднялся в воздух и улетел над деревьями, уцепившись за тросик шара-зонда.
Там же знакомство с ослепительным красавцем Мишей Казаковым, уже, кажется, снимающимся в кино. “Убийство на улице Данте” Габриловича и Ромма? Потом Миша снимется в роли Таирова в нашей с Бланком картине “Смерть Таирова”…
И, конечно, Таня Алигер.
Девочки. Таня. Рыжая Ира. Боксирование с Сашкой Рыбаковым в саду. Девочки смотрели с веранды дачи Виталия Озерова. Я намекал раньше на то, что занимался боксом. Встал в стойку и был немедленно побит.
Таня Алигер. О, как она была прелестна! Понимал я это?
Понял, но было поздно.
Она, девочка с библейским лицом и жесткими волосами, была тогда влюблена и приходила в Москве — в белых чулках — под мои окна на Фурманова. Как она сама потом мне рассказывала, смеясь. И мы оба знали, что уже поздно, и смеялись.
И совсем уже позже — библейская, как все говорили, красавица с сенбернаром, сочиняющая сказки.
У меня есть такое постоянное воспоминание — такая полулегенда. Мы договорились пойти в кино. Но оба что-то напутали. И она ждала меня у “Центрального”, а я ее у “Художественного”. Мне всегда казалось: встретились бы тогда — и вдруг наши обе жизни пошли по-другому.
Так что, возможно, к лучшему, что не встретились?
Отчего так дрогнуло сердце? Оттого, что вдруг увидел — в памяти — летнюю дорогу с поезда — от станции “Мичуринец” — вдоль заборов и писательских дачных участков — к коттеджу Маргариты Иосифовны Алигер, к Тане. Сейчас я влезу в дырку в заборе, чтобы не видела подслеповатая, всегда прищуренная Маргарита, не любящая меня, и лягу на траву под деревом. Сейчас от дома подойдет Танька в сарафане с голыми плечами и сядет рядом со мной…
Она была влюблена в меня, тогда, в белых чулках. За что? А потом я врал, негодяй, что у меня с ней “было”… Но это позже, позже, позже…
В детстве и в юности я очень много врал. Чтобы как-то выровнять свою жизнь по отношению к другим.
“В детях, одаренных живостию ума, склонность ко лжи не мешает искренности и прямодушию”.
Александр ПушкинВообще — вранье. Тут надо разобраться. Вранье и ложь. Вранье и обман. Вранье и фальшь. Вранье, правда и истина. Правда и реальность. Воображение и достоверность.
Путаница жуткая.
Значит, это был 54-й год, когда отец водил меня на “Турбиных”? В Театр имени Станиславского на улице Горького.
Пожалуй, в то время отец испытывал по отношению ко мне некоторую тайную брезгливость. Я был плохо одет, неряшлив, с дурацкими волосами. А он шил костюмы в Литфонде — “у Зингера”.
Хотелось бы все-таки понять, что за человек был мой отец. Может быть, я сейчас во многом — он?
У отца во Внукове появился радиоприемник “ВЭФ”. Иногда отец вечером уезжал в Москву до утра. Я оставался на большой, тихой “гусевской” даче. Сторожа жили в своем домике на участке, на дачу приходили только следить за паровым котлом. Ночь. Я один. Какое наслаждение. За черными блестящими окнами второго этажа деревья в снегу. В кабинете отца натоплено, пахнет крепким чаем из термоса, старыми книгами и журналами с полок. Я сажусь в кресло к приемнику и — без обычного страха — спокойно кручу круглую ручку, ловлю джазовую музыку. Шкала приемника светится в теплой полутемноте красным, желтым, зеленым. Я один. За окном скрипучая морозная зима. Впереди — жизнь.
Запись 2014 года
Мне семьдесят четыре года. Ночь. Всемирная печаль поет голосом Билли Холидей. Ночь — это мир. В котором много страшного и прекрасного, в котором перепутались корни страданий и корни воспоминаний. Ночь — шире, необъятнее сна. Сна, а не сновидений. Сон только лишь начинка ночи. Ночь многослойна. Сон, полусон, сновидения, мысль на границе сна и во сне, бред, улыбка внезапного пробуждения, страхи, бесконечность, зримая иллюзия близости и наслаждения, разочарование, погоня. Ночь — это роман.
Я помню, когда умерла бабушка — мамина мама — “Елочка”, как ее называл дед, не родной, Сергей Григорьевич Филиппов. Я стоял у окна в большой комнате на Фурманова и заставлял себя думать, что мне очень горько.
Мне было 15 лет. И тогда же — чуть ли не на моих глазах — родилась Олька, сестра. Мы были с мамой вдвоем дома, у нее стали отходить воды, я пригнал с ближней стоянки такси и повез ее рожать.
“Какая в Москве жара. Очень противно, пыль.
Я сидел днем у Паши. Была его сестра трех лет по имени Ольга. У нее такие удлиненные синие глаза, как на картинах Пикассо. Он так рисует глаза женщин. Я спросил:
— Оленька, что ты будешь делать, когда вырастешь?
— Я буду пудриться и одна гулять по тротуарам.
— А как ты будешь гулять?
— Налево — направо.
Вот такая девочка трех лет”.
Геннадий Шпаликов, “Разрозненные заметки”Филипповы — бабушка, дед и тетка — жили в доме на Смоленской площади.
Что-то было в нем для меня — необъяснимо — и тогда в детстве, но и сейчас — в памяти — праздничное. В этих посещениях дома на Смоленской, бабушкиной квартиры в конце длинного — коммунистического быта — коридора — в дурацком и веселом доме, где в первом этаже был Гастроном № 2.
Нужен талант Трифонова, чтобы написать об этом фантастическом доме и его обитателях. Казалось, что они все знакомы друг с другом.
Смоленский дом, длинные коридоры и “черные” выходы. Общие сортиры — Дом-то был коммунистический. И — как во сне — неясное воспоминание: я — маленький, мороз, жду взрослых — на воздухе — с изнанки дома, которая обращена на Садовое, и всегда терпко воняет рыбой — ее подвозили в Смоленский гастроном в грузовиках-фургонах.
Наверное, в таких же фургонах везли на Лубянку.
Был такой период жизни, когда мне часто (повторяющиеся сны) снилась лестница в Смоленском — “бабушкином” — доме, втором доме моего странного детства. Но не главная — к подъезду с Арбата, а на другую сторону дома — во внутренний двор и на Садовое кольцо. Она тоже была вонючая, как двор, и грязная, эта лестница, но я почему-то больше любил спускаться по ней. Наверное, я во что-то играл, прыгая через ступеньки и слушая эхо, — кем-то себя воображал.
Бабушка была тихая, в семье считалось, что она не может прийти в себя после самоубийства первенца Виктора. Тетка Ирина была властная и ненасытная, среди ее любовников — еще до войны — был ее ровесник, смазливый мальчик Борис Авилов, живший на пятом этаже с матерью-ведьмой. Позже он станет актером Малого театра, будет играть вместе с Яблочкиной в “Лесе”, а еще позже окажется моим отчимом и отцом моей младшей сестры.
Когда мама — в эвакуацию — уедет из Ташкента в Москву — к отцу, мы с Витькой останемся с теткой. И я буду называть ее мамой.
Кроме бабушки и тетки Ирины, в этой квартире жил еще и ее отец, мамин отчим, наш дедушка Сергей Григорьевич Филиппов, странное таки событие для семьи Гольдфельдов и Гайсинских. В детстве взятый из деревни Филипповка “мальчик” у булочника Филиппова, в 19-м году комиссар в красных штанах, сшитых из портьеры, потом студент Промакадемии, инженер-строитель, пьяница и развратник, старый большевик и гениальный грибник.
Значит, все-таки во мне — хоть и слабой струйкой — течет кровь скрипача — неведомого мне Бенедикта…
Но был у бабушки еще и первый муж, Бродский, туманный несколько, однако произведший на свет, кажется, в Женеве, бабушкиного старшего сына, ставшего троцкистом и писателем под псевдонимом “Виктор Дмитриев”. И познакомившего свою прелестную шестнадцатилетнюю сестру Жанну, мою будущую маму, с моим будущим отцом-писателем. И чуть позже вместе с любовницей, московской красавицей Ольгой Ляшко, застрелившигося в своей квартире — в этом же дурацком и веселом доме коммунистического быта.
Виктор Дмитриев был отцом моего обожаемого брата, двоюродного Женьки. Тот умер очень рано, в двадцать восемь лет — в Киеве. Там его хоронил Виктор Платонович Некрасов, всю жизнь влюбленный в его мать Раю Линцер. Переводчица с испанского и сама похожая на испанку, она уже была женой Игоря Саца. Он, брат Розенель — жены Луначарского и его секретарь, много позже заведовал знаменитой критикой в “Новом мире”.
Как я проклинаю себя, идиота, за то, что так и не расспросил Раечку о их дружбе с Платоновым. Все откладывал, откладывал…
Андрей Платонов в письме Игорю Сацу от 30 августа 1938 года передает привет “Рае и Жене”. Жене было тогда девять лет.
В примечаниях к письму написано: “Женя — неустановленное лицо; возможно, подруга Р. И. Линцер…”
Это он для вас “неустановленная подруга”, меня бы спросили. Но никто не знает об этом моем родстве.
Платонов бывал у Сацев, видел маленького Женьку, передавал ему привет. А я сидел у Женьки на закорках, когда в году 46-м он — после купания — переносил меня с одной дачи на другую.
Сацы тоже имели квартиру в том веселом и дурацком доме. Где у них часто пил Твардовский и иногда гостевал Солженицын. И куда — через того же Вику Некрасова — как-то раз попал общий любимец Шпаликов и под пьяную руку весело обошелся с Твардовским, но был прощен в связи с явной талантливостью, простодушием и безудержным обаянием.
В другой раз он отправился занимать деньги в квартиру Сацев, а я в ожидании таился возле дома, где знал всех и все знали меня с детства. Гена вернулся с добычей, и выпивку мы купили тут же — в Гастрономе № 2.
А сейчас я вспоминаю, как собирался на экскурсию — вместе с классом — в Планетарий — нам тогда в старших классах преподавали астрономию, — собирался перед зеркалом в нашей ванной на Фурманова — и пытался побриться, обдирая нежную кожу, когда кровь — толчками, точками — выступает из каждой поры, откуда потом вылезут волоски бороды, сначала мягкие, потом жесткие, потом седые…
Боже, как же тогда не терпелось быть старше, взрослым. Желание это буквально проступало из моих пор капельками крови, когда я в ванной перед зеркалом тайком корябал свои девственные щеки безопасной бритвой.
Интересно, какие сочинения писал в школе? Помню только одну фразу, написанную в тетрадке хорошо ко мне относившейся нашей литераторшей старушкой Домбровской. Фраза, вернее ее обрывок, застрявший в памяти, такая: “Вы пропели гимн русской березке…” Помнится, дальше было какое-то “но”. Гимн-то я пропел, но, видать, как-то не очень удачно — по мнению славной старушки. То ли ошибок нашмалял, то ли вообще не на тему пропел. Сейчас пишу и вызываю в памяти ее подвижное, с красивыми морщинами лицо и серебряные, коротко подстриженные волосы.
А в десятом литературу у нас преподавал Петр Георгиевич Волкоедов, фронтовик и пьяница, неврастеник. Он меня терпеть не мог — за собственное — наглое — мнение. Помню, как я с ним сцепился — с задней парты — из-за Зощенко. Надо думать, мы тогда “проходили” знаменитое постановление. Вот я и брякнул что-то наглое и невинно-крамольное. Все-таки это был 56-й или 57-й год. Вообще, надо сказать, при том, что был трус, я иногда был смелым.
Смелые поступки я всегда совершал со страхом.
До сих пор.
А в классе пятом другая учительница все той же литературы, большая и сырая тетка Александра Ивановна, после моего ответа у доски встает из-за кафедры, подходит ко мне со своим запахом, стукает костяшкой пальца по голове и восклицает безнадежно и торжествующе, на радость классу: “Темный лес! Темный лес!”
Пожалуй, испытываю — иногда — те же чувства, что когда-то в школе, на контрольной, за десять минут до звонка, — торопливости и безысходности.
Рыжий Вовка Бутов, одноклассник, неразлучный друг последних школьных лет. Хриплый гандболист, лучший ученик, поступил в Физтех, собиратель джазовых пластинок. Жил в “доме ЦК” в Староконюшенном. Отец — зам. Прокурора РСФСР.
Это был первый роман в нашем 10 “В” классе — его с Анькой Ильницкой. Потом поженились. Родился сын. Теперь он писатель — Михаил Бутов, лауреат Букеровской премии. Вовка и Анька развелись. Она до сих пор работает во МХАТе. Вовка почему-то стал военным специалистом, полковником, был в Афгане. Потом умер. Это было как раз накануне того дня, когда я после долгого перерыва встретился со своими одноклассниками на юбилее нашей 59-й школы имени Гоголя.
Я стою в Сивцевом Вражке на углу своей родной улицы Фурманова. Теперь она снова Нащокинский переулок и застроена произведениями бездарной — кондитерской — архитектуры. Напротив, на пересечении Нащокинского и Большого Афанасьевского, воздвигается здание Академии парикмахерского искусства “Долорес”. На этом месте когда-то стоял домик, в нем жила Милка Тарасова, высокая, прямая, успевающая, честная, ходила в коричневом платьице с белым воротничком и черном фартуке. Она была комсоргом класса, и под ее руководством меня не приняли в комсомол, за что я ей бесконечно благодарен. Мы встречаемся с ней на наших ежегодных сборищах.
Запись 2012-го года
Вот еще один мой грех. Толька Алферьев — одноклассник, шпана, мы с ним дружили, я ему сочинения писал — умер, оказывается, год назад. А я так ему и не позвонил, хотя он оставлял Ирине свой телефон. Бумажка эта до сих пор лежит в ящике моего стола… Пишу это и любуюсь собой, какой я искренний и честный — ведь мог же не писать…
“…Жизнь наша — постоянный стыд, ибо она — постоянная ошибка”.
Франсуа ШатобрианМне за многое в жизни стыдно, за многое. Часто это просто мелочи столетней давности. Но всё равно они — со слепой настойчивостью — лезут и лезут мне в память. И как в детстве, наказанный, в темной ванной, всхлипывая, говорю сам себе:
— Ах, если бы этого никогда не было! Ах, если бы я этого не делал!
Запись 2012 года
Встреча с одноклассниками. Все такие живые, слава богу. И галдят, как маленькие. А тем временем в этом году 55 лет, как мы окончили 59-ю школу в Староконюшенном переулке, напротив Канадского посольства. На которое некий злодей из седьмого класса совершил нападение. Кинул из окна на машину посла пузырек с красными чернилами — такие всегда стояли на учительской кафедре для отметок в журнале. Машина тотчас — задом — вернулась на свою территорию. А по всем классам, окна которых выходили на посольство, прошли в сопровождении директора школы чекисты. Но никто из нас не выдал злодея. Хотя он был гад тот еще, и по его наводке с меня — по дороге из школы домой — сняли часы, швейцарские, квадратные, старенькие, которые отец подарил мне на тринадцать лет. Видимо, тайно имея в виду бармицве.
Удивительная история! Перелистываю книгу Юрия Бродского, вывезенную мной с Соловков, “Двадцать лет особого назначения”. Нахожу: Энгельфельд Павел Петрович, внук Ганзена, с кавалерийской выправкой, танцор-фокстротист и прочее — довольно разноречивые сведения в разных воспоминаниях. Сиделец или охранник на Соловках, в одном из воспоминаний спасший от гибели заключенного. И понимаю — это же наш доброжелательный и ироничный военрук в 59-й школе, преподаватель “военного дела”, который навсегда утвердился в моей памяти с этой своей красивой фамилией и кривыми ногами кавалериста.
То, что он, оказывается, внук Петра Ганзена, мужа Анны Ганзен, с которой они перевели всего Ибсена, добавляет еще краску. Ведь Ибсеном я, школьник, тогда зачитывался.
Какое, видимо, впечатление произвел на меня в детстве Ибсен, и в первую очередь Пер Гюнт. Ведь он сопровождает меня всю жизнь. В чем тут дело? В идее “быть самим собой”. Или так меня поразила Кривая, которую даже сторонкой не обойти? А может быть, великая смерть матушки Пера?
55-й год. Меня не пускают в Пушкинский музей, где выставлялась экспозиция трофейной Дрезденской галереи, — не пускали до 16 лет. Впрочем, если бы мне и было 16, все равно бы не пустили, такой я был тогда. А туда же, на выставку подарков Сталину, пускали. И я с наслаждением прогуливал там школу среди каких-то совершенно диких предметов. От действующего макета шахты, занимавшего целый зал, подаренного польскими шахтерами, до зернышка, на котором была написана, кажется, не то Конституция СССР, не то речь Сталина.
Удивительно! Даже до сих пор мне все равно кажется, что все старше меня.
Сначала борьба с молодостью, потом со старостью. Вся жизнь в борьбе.
Интересно, что же я думал в отрочестве, стоя перед картиной Иванова “Явление Христа народу”? Ведь тогда я часто бывал в Третьяковке. Сначала любил Брюллова и Крамского, конечно “Неизвестную”, в карете. Потом Серова. То уже был шаг к очарованности импрессионистами.
Тогда как раз открылась та знаменитая выставка импрессионизма в любимом Пушкинском музее. 56-й? В те залы на первом этаже я потом часто ходил. И больше всего любил тогда Матисса и Гогена. Любил, конечно, всех — от Мане-Моне до Сера. Но дольше всего стоял перед “Рыбками” и “А ты ревнуешь?”. Как и в Эрмитаже перед “Танцем”. Восхищение Ван-Гогом пришло чуть позже. А вот к Дега и Тулуз-Лотреку всегда был равнодушнее.
Был я или не был на открытии выставки Пикассо в Пушкинском музее? Но не сон же это. Я помню, как мы, со всех сторон сбежавшись, жадно обступили Эренбурга, и он что-то говорил нам. Да, я помню толпу в зале на первом этаже — или в вестибюле? — и голос из центра толпы. Голос Эренбурга. Самого его я не видел, потому что он маленький и я маленький… Нет, все-таки, наверное, не сон…
Потом я увидел его, когда хоронили Михаила Аркадьевича Светлова. Он вышел из черной “Волги”, остановившейся у Бразильского посольства напротив ЦДЛ, и стал переходить улицу Герцена в домашних туфлях.
Фойе и буфет кинотеатра “Художественный”, пятидесятые годы. Певица. Бутерброды с копченой колбасой на подсохшем белом хлебе. Библиотека на втором этаже. Потом, попозже, я прогуливал там школу, незаметно оставаясь на вторые и третьи сеансы итальянского неореализма.
Зима. Стою в кассах кинотеатра на Цветном бульваре. Как он назывался?
Кто-то из моих друзей у окошка, берет билеты. И я волнуюсь — я всегда волнуюсь — а вдруг нам не хватит билетов? — такое тогда вполне могло быть. Вижу грязные лужицы на полу от растаявшего снега, нанесенного сюда нашими ногами. Чувствую, как мне зябко — потому что я, наверное, очень неважно одет. Слышу, как раз за разом хлопает дверь и вместе с новыми вошедшими вваливается новая масса холода.
Но почему сейчас? Почему именно это воспоминание?
Эти необъяснимые вспышки памяти с неожиданными адресами прошлого — совершеннейшая тайна.
В пятидесятых годах в киосках первым делом покупалась яркая “Польша”. Это был знак новой жизни. И как радовался я мальчишкой, когда луч — нет, лучик — света выхватывал из кромешной тьмы еще одно имя, еще одно лицо.
В 56–57-м самые романтические герои для нас были те, кто вышел из лагерей.
Нас в конце пятидесятых, во времена так называемой “оттепели”, невероятно интересовало прошлое. Мы жили этим. Прошлое вызывало у нас бурю эмоций, страстей, отвращения, негодования, сарказма и любви. Интерес рождал влечение к свободе. Властное ощущение необходимости свободы и справедливости породило диссидентство. А оно, в сущности, и расшатало советский строй.
И в те годы — особенно — постоянное ощущение, что всё еще только впереди, что всё только начинается и что-то хорошее еще обязательно будет.
Место действия: квартира Туров в доме 6 на улице Горького, Валькина комната. Я сижу у письменного стола, который у окна. Белла и Валька, два поэта, ближе к двери в прихожую — сидят рядом на тахте. Белла — толстая, в широкой цветастой юбке колоколом, такая была мода. Ей девятнадцать, нам с Валькой по шестнадцати. Что она думала тогда, глядя на меня? Надеюсь, что-то хорошее. Потому что последующие пятьдесят четыре года, когда мы виделись, она относилась ко мне с нежностью.
Какая все-таки радость так писать об Изабелле Ахатовне Ахмадулиной.
Начало 57-го.
— Только бы дожить до Фестиваля!
В нашем доме ниже этажом жили Габриловичи. И главный из них — Алёшка, студент сценарного факультета ВГИКа, у которого уже был роман со знаменитой Даей Смирновой, только что снявшейся в фильме “Солдат Иван Бровкин”.
Кино я обожал — именно это слово.
Куда мне было податься? Конечно, в кино, на сценарный.
Особой надежды на то, что сдам на аттестат зрелости математику и физику, не было. И мне наняли репетитора. При помощи соседки Веры Дмитриевны Богдановой.
Изысканный любитель поэзии Серебряного века и балета. Мы с братом довольно быстро разгадали еще одно его пристрастие, и это почему-то нас страшно веселило. Я же был от него прочно защищен. От меня так чудовищно воняло табаком “дуката” и перегоревшим в младой утробе портвейном “три семерки”, что, конечно, вожделение тотчас же должно было угаснуть в его тощих чреслах.
Сейчас — по “Орфею” — слова Рихтера: “Те, кто имел счастье слышать живого Софроницкого…” А между прочим, я имел это счастье. В музее Скрябина. Меня привел туда изысканный репетитор. Чуть ли не на последний концерт пианиста.
Никак не могу повернуть в памяти тот концерт. Влево, вправо? Никак не могу вспомнить мое положение в зале по отношению к играющему Софроницкому. Я вижу — смутно — как пятно: рояль… он… И все пытаюсь развернуть картинку, чтобы определить свое положение в этом воспоминании.
Не символично ли — для меня, — что когда-то на заре, в 16 лет, я влюбился в простенькую — тогда, правда, она казалась верхом формальной сложности — бельгийскую картину “Чайки умирают в гавани”. Сейчас я утверждаю, что в кино меня привела именно эта картина. И еще “Сорок первый” Григория Чухрая.
57-й год. Репетитор помог только отчасти. Кончил школу с двойкой по физике в аттестате. Уже получив сообщение из ВГИКа о допуске к экзаменам по результатам “творческого конкурса”.
После двойки бреду домой через двор. Алёшка Габрилович стоит на балконе. Мне страшно ему признаться.
Если бы не семья Габриловичей, я бы не был во ВГИКе. Особенно, конечно, Нина Яковлевна и Алёша. Евгений Иосифович, “старик”, был, как всегда, приветливо-равнодушен. Но Нина Яковлевна, которая меня любила с рождения, произнесла историческую фразу: “Пашка хочет быть во ВГИКе, и он будет во ВГИКе!”
Так что я поступил по блату.
Бывают семьи, которые точно ветром сносит с лица земли — всех, все листья одного дерева.
Семья Габриловичей, семья Туров…
Физик Сергей Макарович сквозь пальцы смотрит, как я на разрешенной — из милости — пересдаче списываю что-то по поводу оптики из учебника.
Это утром, а вечером уже выпускной. И замечательная математичка Татьяна Николаевна Фиделли отдает нам конфискованные полгода назад три бутылки вина “Телиани”. А почему “Телиани”? Не догадались? А потому что я уже любил Мандельштама.
В самом маленьком духане Ты товарища найдешь, Если спросишь “Телиани”…Началом жизни считаю 57-й год — Фестиваль молодежи и студентов, ВГИК…
Сокольники. Деревянный дом. Первая “не детская” любовь.
Эхо от бодрого стука босых пяток черных йеменских иудеев по настилу сцены в театре на площади Журавлева — в 57-м, во время Фестиваля молодежи и студентов — откликнулось — аукнулось — через пятьдесят лет — в Тель-Авиве, в закусочной возле рынка Кармаль — над тарелкой йеменского супа.
На выступление израильской делегации меня привела моя любовь из противоположного дома — Ира, с которой мы поступали на сценарный факультет ВГИКа. Тогда — яростная сионистка, много-много позже жена знаменитого советского разведчика, сотрудница радио “Свобода”. Умерла в Мюнхене. Я искал ее там и не нашел.
Черная гривка-шапочка еврейских волос над голым — до пояса — маленьким полненьким телом. И как снималась — скатывалась — в наклоне — с повисшими — так трогательно болтающимися в голубом искристом воздухе — нежными розовыми мешочками-грудками — матовая шкурка чулка с крошечной ножки — с соблазнительно шевелящимися влажными пальчиками. Оттиск металлической застежки на розовой коже бедра. Вечно-прелестные слова: не надо, я сама. Ну подожди, подожди. Я сама. Не торопись. Какой ты смешной.
Ох, какой же я был смешной!
И всё же! Я или Сашка?
Мы вместе с ней поступали на сценарный. Ее не приняли. А если бы приняли и мы бы вместе учились? Ничего того, что сейчас, — не было бы?
Опять же к вопросу о предопределении и зависимости судьбы.
Ранний сексуальный успех, ранняя сексуальная катастрофа или раннее сексуальное равнодушие — это как три надписи на камне при развилке дорог, уводящих в будущее твоей жизни и твоего характера.
Вспомнил вдруг плохо одетого возбужденного мальчика, ходившего в институт с одной только книгой под мышкой, но так, чтобы это было заметно, — “Пролегоменами” Канта. Тот мальчик был — я. А “Пролегомены” я так никогда и не прочитал. Все времени не было. Да и скучно.
Это было в то далекое время, когда я изо всех сил старался выглядеть умнее, чем был на самом деле. Впрочем, некоторые рудименты этого сохранились до сих пор. И по-прежнему мне это стоит труда.
Каждый живет еще и для того, чтобы стать частью чьих-то воспоминаний.
“Интересно, я существую в чьих-то воспоминаниях?” — писал я в 1982 году. Существую, оказывается. В Мамонтовке, на празднике у замечательного фотографа Миколы Гнисюка, выпускник ВГИКа моего года, художник, вспоминал, как в 1961 году он шел с кем-то — видимо, из моих знакомых студентов — по Гагаринскому переулку, тогда улице Рылеева. И я вроде бы бежал навстречу с криком: “Хемингуэй умер!” Не знаю, насколько это точная картинка, но нечто подобное вспомнилось и мне.
Надо еще знать, кем тогда для нас был Хемингуэй!
— Великий Пан умер!
Это было в те времена, когда “Фиесту” мы любили больше, чем “Прощай, оружие”.
Никогда не мог определить, кто же мой самый любимый писатель. Они все мои самые любимые. И я совершенно убежден, что они все — французы, англичане, русские, американцы, евреи, немцы — независимо от времени их существования, веры или неверия, независимо от того, кто из них плохой или хороший человек, — некоторые, может быть, даже воры и сумасшедшие, наркоманы и самоубийцы, даже отлученные от церкви, — они все в раю.
Куба, Гавана, 88-й. Прилетаем на фестиваль вместе с Галей Долматовской и Сашей Кайдановским. Дом Хемингуэя. Кабинет. Мебель. Книги. Чучела. Ружья. Фотографии. Спальня. Сортир с “библиотекой”. Могилы собак. Чувство необычайной растроганности. Деревня, где как бы жил Сьенфуэгос. Синяя лагуна, бедная яхта, такие же старики, такие же мальчишки. И сразу же, конечно, в памяти — Гена. Шпаликов. Кто бы мог подумать тогда, когда мы смеялись и подражали, что я буду через окно рассматривать дом Хемингуэя. И почему я, а не он?
Вот бы перечитать всего Хемингуэя! И вообще все любимое. Но любимого так много. Вряд ли можно успеть.
Вспомнил опять нашу квартиру на Фурманова. Молодой американец-ученый приехал к коллеге, брату Вите, а мне, как поклоннику Хемингуэя, привез книжку — “Зеленые холмы Африки” — на английском.
Прочитав по-русски, я выловил там фразу о Горном Алтае. О том, что это почему-то единственное место в России, где Хемингуэй хотел бы побывать.
Уговорил своего сокурсника Одельшу Агишева — все называли его Адик, — и после второго курса мы отправились — “на практику” — через Барнаул — в Горный Алтай. И налегке прошли на своих двоих — и на попутках — по Чуйскому тракту, чуть ли не до границы с Монголией. Конечно, не представляя тогда, как, спустя девятнадцать лет, пересекутся наши с ним судьбы. Пересекутся трагедия и счастье.
Он женится на красавице Норе Рудаковой, тогда редакторше с “Мосфильма”, старше его, а у нее будет маленькая дочка Ира, красотой в маму и отца — Владимира Николаевича. Дочка вырастет, и у нее уже тоже будет маленькая дочка. Катя. И я увижу Иру — на Кузьминском кладбище — на коленях над могилой матери в те трагические дни 78-го, когда мы хоронили ужасно нелепо погибшую Нору. С тех пор мы не расстаемся. И с Ирой, и с Катей.
А в ту безумную ночь, когда в Переделкине провожали Аксенова в Америку, Белла скажет про нас с Ирой: “Вот Паша и его ангел”.
Уезжаем с Адиком Агишевым в Барнаул.
Когда умер Гена Айги, я вспомнил, как в квартире Давида Маркиша на Лесной, в его комнате, я сидел на диване, Гена — он тогда назывался Лисин — маленький, стоял напротив. Мы пили водку. И он спросил меня, экзаменуя:
— А ты знаешь, кому всем обязан Пастернак?
— Кому?
— Иннокентию Анненскому.
И я подумал: дурачок, что он городит? Ан, дурачок-то был я.
Наверное, это был 57-й.
А в 59-м, летом, мы встретились на перроне, перед поездом “Москва — Барнаул”. Меня провожали друзья-операторы — Саша Княжинский и Юра Ильенко. И Белла Ахмадулина. Она обрадовалась Гене и говорила ему, какой я хороший.
Гена ехал тем же поездом до Чебоксар, домой в Чувашию. И мы, на какие-то наши бедные денежки, полночи пили водку в вагоне-ресторане. Он, Адик Агишев и я. Даже помню эту мизансцену: столик у перегородки, полутьма, все уже, кроме нас, покинули ресторан, пузатый графинчик с водкой. И как Гена быстро пьянел. И много говорил — замечательного, — со смешными шипящими звуками.
Потом мы разошлись по своим вагонам. Чтобы встретиться с Геной через много лет в Москве, на втором этаже Дома кино, на выставке работ художника Калмыкова, которую организовывал прилетевший из Израиля все тот же Давид Маркиш.
Потом я приезжаю в Чебоксары председателем жюри Кинофестиваля малых народов. На каком-то просмотре ко мне подходят сестра и дочь Гены. Сестра перевела Библию на чувашский.
Мы дружили с Адиком Агишевым, но спорили. А он дружил с Игорем Ворошиловым, который учился на киноведческом и все время что-то писал маслом. Однажды в общежитии — кажется, мы отмечали день рождения Наума Клеймана — я зашел в комнату Адика и Игоря и сел на палитру с красками… Серые единственные брюки…
Очень много в формировании поколения — его сознания, вкуса, идеологии — зависит от силы получаемых в самом начале впечатлений. Нет у нынешних впечатлений, равных по силе открытым нами в юности серебряному веку, обэриутам, американской литературе “потерянного поколения”, итальянскому неореализму, французской “новой волне”.
Для нашего поколения “авангард” был гораздо вместительнее. Авангардом было все то, что мы раньше не знали: от Хемингуэя до Мандельштама.
Как я благодарен молодости за любовь к поэзии…
Счастье наше, что в молодости были Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Заболоцкий… Именно — поэты. Поэзия.
В XX веке поэты, каждый вырвавшийся из своей стаи и далеко обогнавший ее в полете, перекликались друг с другом — каждый — своим неповторимым голосом.
Меня воспитали стихи.
Но сколько ни думаю, не могу понять, как возникают стихи. Как странно. Только сейчас понял, что совершенно не понимаю, как они рождаются.
Вдруг заболеваю строчками. Обычно ночью — вдруг! “И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…” Не забыть посмотреть целиком, говорю я себе, — и засыпаю. Но, проснувшись, вспоминаю. И эти строчки, как ключ, отпирает ларец с драгоценностью.
По “Орфею” сын Пастернака — его голосом — читает рождественские стихи отца. “Как гостья смотрела звезда Рождества…” И слезы, сразу же слегка затуманившие глаза, возвращают к тому, с чего когда-то начиналось. В молодости.
Тогда в той части Гагаринского переулка, которая левее, ближе к перекрестку с нашей Фурмановой улицей, на другой стороне, висели на вечном заборе газеты на стендах — “Правда”, “Московский комсомолец”, “Литературка”. И я по дороге к станции метро Дворец Советов, как всегда опаздывая во ВГИК, обычно останавливался посмотреть, почитать. Остановился и на этот раз, и увидел сообщение о вредительском и вражеском присуждении Пастернаку Нобелевки. Помню, я был счастлив. А больше ничего не помню.
Интересно, с кем первым я поделился этой радостью, когда прибыл в институт?
Мандельштам пришел чуть позже, хотя и стал, наверное, даже чуть ближе. Но первым моим учителем жизни был все-таки Пастернак, он постоянно требовался — и требуется до сих пор — для внутреннего пользования — для внутреннего бормотания — строками: бесспорно, бесспорно, смешон твой резон — например, или: здесь будет все, пережитое…
Молодость так пропитана русской поэзией, что хватило на всю жизнь.
Как удивительно жадно в юности впитываются стихи.
В этот день голубых медведей, Пробежавших по тихим ресницам, Я провижу за синей водой В чаше глаз приказанье проснуться. На серебряной ложке протянутых глаз Мне протянуто море и на нем буревестник. И к шумящему морю, вижу, птичья Русь Меж ресниц пролетит неизвестных. Но моряной любес опрокинут Чей-то парус в воде кругло-синей. Но зато в безнадежное канут Первый гром и путь дальше весенний.В юности я просто бредил этими стихами Хлебникова… В юности… На кухне у Вальки Тура. Иногда мне даже кажется, что Хлебников идет сразу после Пушкина.
А это!
Налей! налей, жених случайный, Морской прибой в мои стаканы…Мое поколение. Мой круг. Мои друзья. Мы всегда искали спасения у поэзии.
Нерусское лицо Блока, похожее на посмертную маску…
В тяжкий свой час, в страшный российский час, Блок воззвал:
Пушкин! Тайную свободу Пели мы вослед тебе! Дай нам руку в непогоду, Помоги в немой борьбе!Глава 3
Ровесники, не умирайте.
Г. Шпаликов, 1959 г.Приложить ухо к прошлому, как к раковине, и услышать шум времени…
Наши сборища пятидесятых… Шестидесятых…
Мы почти не спали тогда, у нас не было дома — всё было наш дом.
Это было обычно, характерно для того времени: открытые — даже распахнутые — дома и шляющиеся по гостям, по компаниям всякие перекати-поле.
Париж, например, город, по которому хочется ходить, а нынешняя Москва — нет. Хотя в моей молодости Москва была городом для ходьбы — в первую очередь. Днем и ночью, без страха и усталости.
Так было в молодости весело ходить — никуда не опаздывая и все время торопясь — быстро, легко. И от этого внутри была радость, даже казалось — счастье.
Все забытое представляется — как снится — в виде каких-то проходных дворов, странных двухэтажных особняков, в виде бесконечных коммунальных коридоров с выходящими туда дверьми и каких-то полутемных и бешенных квартир.
Был осязателен без фраз, Вещественен, телесен, весок Уклад подвалов без прикрас И чердаков без занавесок. Борис ПастернакПоток жизни несет и вносит людей в распахнутые двери, все входят, не зная, кого встретят. Нечто, какая-то стихия — этого Дома? — а может быть, стихия этого Времени? — захватывает их, закручивает — но они пока не знают, что оказываются вкрученными еще и в Историю.
Тогда возбуждены были не от пьянства, а от жизни. Это уже потом приходилось и возбуждать, и успокаивать себя водкой. А тогда еще пьянство было веселой и легкой подробностью жизни. Потом стало — жизнью. У многих.
Понял, почему в последнем сне о Шпаликове некто, уведший его, безвольно улыбающегося, пьянствовать, напоминал Шукшина. Дело-то во сне происходило перед входом во ВГИК, где ныне стоит скульптурная троица — Тарковский, Шукшин, Шпаликов. Тарковский, однако, в сон не попал. Хотя, думаю, он бы не отказался пойти вместе с ними.
А ведь можно было бы такое кино сделать…
Ночью всем троим представители молодого поколения мажут лица красной краской. От обиды они становятся живыми и решают уйти выпивать. Кстати, скульптурный Шпаликов смотрит в сторону гостиницы “Турист”, где в столовой на первом этаже мы были постоянными посетителями, и на харчо и бутылку водки легко тратилась стипендия.
Но потом все-таки они возвращаются на свои места?
Я не люблю приходить во ВГИК, да меня и не зовут.
Мой ВГИК — театр теней. Тени ушедших, но и тени живых. Всех не перечислить. “Душа моя, Элизиум теней…”
Вот Леня Файнциммер на мотоцикле, с ним — уже с Леонидом Квинихидзе — сделаем мою первую “художественную” картину “Миссия в Кабуле”.
Вот первый — операторский — этаж, куда я сбегаю со своего сценарного. Потому что здесь мои друзья — с курса Бориса Израилевича Волчека. Лучшая компания в институте. Саша Княжинский, Юра Ильенко, Гоша Рерберг, Виля Горемыкин, Юра Белянкин, Миша Ардабьевский.
На год их моложе — курс Александра Владимировича Гальперина. Толя Мукасей, как известно всему институту, влюбленный в Свету Дружинину. Потом мы трое вместе сделаем несколько фильмов. Володя Нахабцев, Коля Немоляев, Витя Шейнин, Дима Коржихин.
И, конечно, Митя Долинин. Оператор Авербаха на “Объяснении в любви” и Арановича на “Сломаной подкове”. И еще “мой” режиссер — “Миф о Леониде”.
Вот физкультурный зал, где играет в волейбол Рома Кармен. С ним в 62-м, увлеченные, как сиреной, авантюристом Давкой Маркишем, мы от молодежной редакции Центрального ТВ, что на Шаболовке, уедем снимать несуществующих овец, баранов и снежных барсов — в горы Киргизии.
В другой раз у волейбольной сетки красавица Света Дружинина, влюбленная в Толю Мукасея. Мне тоже очень хочется в нее влюбиться, но куда там!
На этом же этаже режиссеры и актеры. Когда я поступаю, уже снимают диплом Эльдар Шенгелая и Леша Сахаров. А чуть позже Миша Калик — вместе с Борисом Рыцаревым — диплом защищает — по “Разгрому” Фадеева. Со скандалом, доносами “старых партизан” и, кажется, запрещением. И еще ходят по институту Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Саша Рабинович, впоследствии Митта.
На общем комсомольском собрании в большом зале на последнем этаже, куда меня, некомсомольца, увлекла жажда развлечений, Шукшин в гимнастерке и сапогах кричит со сцены, точно как потом в “Калине красной”: “В то время, когда партия и правительство напрягают последние силы…” А собрание, между прочим, собрано по поводу постоянных краж в общежитии женских трусиков — между хорошенькими, но легкомысленными студентками первого актерского.
Молодой Андрей, каким я его помню во ВГИКе, мог бы сыграть Лермонтова. И когда он ходил по институту, презрительный — впрочем, может, это только казалось нашим молодым и самовлюбленным глазам, — и в пижонском “прикиде” — хотя тогда такого слова еще не было и, наверное, мы говорили “в стильных шмотках”, — тогда мы его терпеть не могли, а особенно Саша Княжинский, будущий оператор “Сталкера”. И только, пожалуй, Шпаликов сразу понял, с кем имеет дело. Я запомнил название сценария, который они придумывали вместе — в прогулках по бульварам и веселой трепотне. “С февралем в голове”.
На курс старше меня две параллельные мастерские. Льва Владимировича Кулешова и Григория Львовича Рошаля. Андрюша Хржановский, Витя Георгиев, Володя Дьяченко, Инна Туманян, Паша Арсенов…
С Хржановским едем к Кулешову. Он жил тогда с Хохловой где-то в Черемушках, в “красных домах”. Я написал курсовой сценарий, что-то романтическое из жизни, конечно, геологов. Андрей хочет его ставить, едем обсуждать.
Было это или не было? Кулешов, красавец девятнадцатого года, и Хохлова с фантастическим лицом и ногами, бывшие тогда в ссоре, в одной комнате, отвернувшись, смотрят каждый свой телевизор. На стенах фотографии Улановой…
Старше меня на два курса — Лариса Шепитько, Ира Поволоцкая, Рита Касымова, Отар Иоселиани, Георгий Шенгелая и Софико Чиаурели, Бадур Цуладзе, Витя Туров. Моложе меня на курс — Андрон Кончаловский, Андрей Смирнов, Боря Яшин, еще на один курс — Элем Климов. И, кажется, уже на последнем, дипломном — у Сергея Аполлинариевича Герасимова — Кира и Саша Муратовы.
Третий этаж, наш, сценарный. Кто остался от нашего курса — Каплера, Вайсфельда, Парамоновой? Адик Агишев, Боря Сааков, Женя Котов, Юра Аветиков да я, грешный.
Шпаликов на курс старше. Наташа Рязанцева (скоро она станет женой Шпаликова), Володя Валуцкий — на два. Женя Григорьев, так несправедливо забытый, на год нас моложе. Параллельно курсу Шпаликова на киноведческом — Наум Клейман, параллельно курсу Рязанцевой — Алик Медведев, Витя Демин.
У нашего набора свои киноведы. Ира Шилова, Мая Левитина, Галя Маневич, Володя Дмитриев, Игорь Ворошилов, Саша Васильев.
Редко, но все-таки видим в коридоре дипломников-сценаристов. Боря Андроникашвили, Алёша Габрилович, Дима Оганян, Андрюша Зоркий, Витя Лоренц. Все стали моими близкими друзьями. Никого не осталось.
Итак, добрались, наконец, до последнего — четвертого — этажа. Библиотека. Застряли там еще, наверное, с тридцатых, сороковых годов всякие неожиданности. И там, не могу не признаться, я, не дрогнув, зачитал, зажилил “Охранную грамоту” Пастернака.
Шпаликов в свою очередь спер “Охранную грамоту” у меня. Он вообще в отношении книг и фотографий не делал никакого различия между частной и общественной собственностью.
На мой день рождения в девятнадцать лет Белла Ахмадулина, кроме Хлебникова, собрания сочинений, приговоренного потом к продаже лихой моей компанией, подарила мне еще и замечательную фотографию Пастернака. Ее сделал молодой поэт Юрий Панкратов в Переделкине. Пастернак в полосатой пижаме, похожий “одновременно на араба и его лошадь”, как сказала Цветаева, стоит в соснах, опустив руки.
Фотография эта у меня пропала. Но была обнаружена спустя некоторое время в комнате на Арбате, которую снимали Шпаликов и Рязанцева, пока не расстались. Гена остался там один. И вот как-то, придя в эту коммунальную квартиру, я застал врасплох моего друга, с гордостью показывающего фотографию одной очень известной молодой актрисе, за которой он тогда ухаживал.
На обороте снимка было написано Генкиным — особым — почерком что-то вроде: “Геннадию Шпаликову, поэту и гражданину. Борис Пастернак”.
“Гена! — сказал я, когда звезда экрана ушла, — какой же ты гад и трепло! Когда это тебе Пастернак подарил мою фотографию?” — “Паша! — он смотрел на меня с таким радостным простодушием, с такой неотразимой честностью своего прекрасного лица. — Подарил! Нет! Правда, правда!”
Позже я придумал для него определение: простодушный обманщик.
Господи! Какой же это был свет в моей жизни! Ну почему он так скоро угас?
Однако с четвертым этажом мы еще не расстаемся. Мимо актового зала — часть этажа — владения художественного факультета. Или “запорожская сечь”, как я тогда прозвал этот пахнущий краской буйный коридор. Где мы, приходящие с других этажей, не теряли — не оправдавшуюся ни разу — надежду когда-нибудь увидеть голую натурщицу.
Валера Левенталь, от которого я набирался ума по части живописи. Миша Карташов, Миша Ромадин, Сережа Алимов, Ильдар Урманче. Приехавший из Парижа “француз” Коля Двигубский, который одевался еще более стильно, чем Тарковский. Две чудные девочки: Мариша Соколова — Бекки Тетчер, как ее называл Левенталь, — и Алена Спешнева. И конечно, Алик Бойм, тоже непременный и действительный член нашей — общей — большой компании.
Ну и, конечно, Боря Бланк. Тогда молодой коммунист из бедной еврейской семьи. С этим осторожным безумцем, ставшим еще и режиссером, мы сделали аж четыре безумных и хулиганских фильма — странная жатва девяностых годов.
Направо ли пойдешь к братьям-художникам, налево ли — в библиотеку, все равно не миновать площадку перед актовым залом. Там занимаются сцендвижением актрисы в черных трико. Проходить мимо них надо не задерживаясь, небрежно, делая вид, что тебе до лампочки их прелестные, рельефно обтянутые черным юные тела, их мускусный аромат, наполняющий наши ноздри.
И среди всех — невероятное лицо Ларисы Кадочниковой! Как-то мы курили с Юрой Ильенко между четвертым и третьим этажом, а она — в черном трико — пробегала мимо нас вниз по лестнице. Мы даже не были тогда еще с ней знакомы. “Через год она будет моей женой”, — сказал Ильенко. И, между прочим, так оно и вышло. И сколько же всего было потом в их квартире в доме на Дорогомиловской. Где в соседней комнате жил брат, Вадик Алисов, будущий кинооператор, которого мы почему-то считали маленьким. А он всего лишь на год был моложе меня.
В неэвклидовом пространстве нашей молодости мы двигались параллельно, но всегда все пересекались — под руководством Лобачевского.
Мы познакомились в 56-м году, когда Гене было девятнадцать, а мне шестнадцать. Дружить начали в 57-м. Расстались в 74-м, когда ему было 37.
Ему так и осталось 37. А я вот пока живу, старею, вспоминаю, раскаиваюсь.
Нас познакомил Саша Бенкендорф в ВТО на вечере памяти Ильфа и Петрова. Генка был очень веселый и на костылях. Но я сразу же об этом мимолетном знакомстве забыл.
Он радостно напомнил мне об этом сам, спустя год, на остановке 2-го троллейбуса возле ВГИКа. Он только вернулся с летней практики, а я уже месяц учился и весь этот месяц со всех сторон слышал о знаменитом Шпаликове.
Синий прорезиненный москвошвеевский плащ, кепка с гуттаперчевым козырьком — “лондонка”. Может, поэтому — хотя, конечно, не только — тот Шпаликов совпадает в моем представлении с Джеком Лондоном, даже с Мартином Иденом, ворвавшимися в жизнь с победной скоростью и яркостью.
И еще у Генки был металлический зуб во рту. Потом он от него избавился.
Вот если бы, как у Рабле, произнесенные некогда слова могли оттаять и зазвучать снова, я хотел бы услышать, о чем мы говорили тогда со Шпаликовым, осенним днем 1957 года. После встречи на остановке мы долго ходили, ездили и снова ходили по Москве и разговаривали, разговаривали, разговаривали…
Ах уж эти молодые, захлебывающиеся разговоры!
Я совершенно не помню о чем. Разговоры с другими вспоминаю — так или иначе, а с ним — нет. Возможно, потому что это была такая безумная стихия дружбы, молодости, очарования дружбой и временем.
Так до сих пор и не очень понял, почему Генка Шпаликов выбрал в друзья именно меня. До моего появления во ВГИКе в 57-м году он дружил со всеми и особенно ни с кем. После нашего второго знакомства на остановке возле института мы стали просто неразлучны.
Да, тогда мы бежали друг к другу на переменах, садились рядом на общих лекциях и писали всякую смешную чепуху в его клеенчатой тетради. Пили водку в “Туристе” под харчо, встречались на московских улицах, шлялись, ходили в разноцветный кинотеатр “Метрополь”. И много разговаривали, и много смеялись.
Почему-то вспомнил нашу с ним пародию на пьесы Горького, которую мы сочиняли, сидя рядом на совместной для первых и вторых курсов лекции, кажется, по диамату. А может, истмату. Я до сих пор не вижу никакой разницы.
“— Монахи были?
— Были.
— Чай пили?
— Пили”.
В другой раз там же мы создали наше единственное — соавторское — произведение. “Разговор о чебуреках поведем”. Потом мы это пели. Как и другие его стихи. Вернее, пел он, под гитару. А мы подпевали…
Вижу я, горят Стожары, Южный Крест Над снегами Кильманджаро и окрест. И река течет с названьем Лимпопо, И татарин из Казани есть апорт. Засыпает, ему снится Чингисхан, Ю. Ильенко и Толстого Льва роман, И Толстого Алексея кинофильм, Ахмадулина, Княжинский, Павел ФиннКомпания, конечно, увеличивалась, разветлялась. Княжинский и Ильенко весь мой первый курс, до нашей встречи на целине, в Кустанае, относились ко мне более чем прохладно, но присматривались издалека, потому что постоянно видели меня рядом со Шпаликовым, которого они обожали. Потом мы все соединились.
Правда, после встречи 59-го на правительственной даче у заместителя Хрущева, на ночь отданной большой компании сына, нас с Сашей и Юрой несколько перекосило в сторону Беллы.
Пусть всё снова будет тем декабрьским вечером, кануном нового 59-го. Улица Горького. “Зимы, Зисы и Татры, сдвинув полосы фар…” Мы отчаливаем. Электрическая белая метель. Это первая метель, городская. Мчимся. За город. “А за городом заборы, за заборами вожди”. В прямом смысле. И тут начинается вторая метель, загородная, кружевная. В этой метели кружилась, плутала и завязывалась жизнь.
Правительственная дача с бильярдом и бирками на мебели. Стол уже накрыт, всем распоряжается сдержанно-презрительная экономка в чине капитаншы. Я люблю Наташу В. Так мне кажется, дураку. Наташа В. любит Валю Т. Валя Т. любит всех и в том числе Наташу В. Володя З. любит А. Но она уже, кажется, любит К. Свет повсюду полупогашен.
Потом Володя З. в Москве вскрывает вены — просто так, посмотрел на А. и К., сидящих рядом, махнул рюмку, вышел из комнаты, где мы вчетвером выпивали, и вскрыл. Вовкина мама с белым лицом на кухне. Я встаю на раковину и через окошко, соединяющее кухню и ванную комнату, вижу Вовку в одежде в ванне, полной мутно-бурой кровавой воды, и руку, свесившуюся вниз через бортик. Саша топором взламывает дверь. Мчимся в Склиф. Жить будет.
Но жизнь переменилась.
Сумасшедшее время окрашено в памяти красным цветом.
Белла. Красные волосы с челкой, красный “москвич”, красное пальто, присланное из Америки ее мамой Надеждой Макаровной. Тоже красной — она врач в советском посольстве в Вашингтоне.
Жизнь, завязавшаяся в новогодней метели, бешено заклубилась в комнате, где на стене висело большое полотно художника Юрия Васильева. Комната Беллы в коммунальной квартире на Новоподмосковной. Недавно эту квартиру покинул Евтушенко.
Белла когда-то в пору той, особенной — “ремарковской” — дружбы рассказала — придумала? — как на Новоподмосковной во сне нежно произнесла: “Ма-а-ленький самолетик!” Евтушенко разбудил ее: “Я знаю, кто этот маленький самолетик! Это Финн!” Увы! Если “маленький самолетик” и был действительно я, то совсем не в том смысле. А потом она подарила мне маленький белый пластмассовый самолетик на булавке. И я носил его во ВГИК на груди, как орден.
Окно вылетело в 59-м году на Новоподмосковной — на третий день крутого выпивания. В мрачности и тишине. Само по себе, мистическим образом. Ошеломленные мистикой, мы — Белла, Княжинский, Ильенко и я — даже не двинулись с места. Однако за звоном разбитого об асфальт стекла снизу не раздалось предсмертных воплей и даже криков негодования. Но в комнату вошел милиционер — квартира была коммунальной, кто-то из соседей впустил его. Скорее всего, военком Владимир Петрович, милейший подполковник, очарованный Беллой, которым она обычно стращала меня. “Пашенька, будешь плохо себя вести, не будешь маме звонить, — мы тебя с Владимиром Петровичем в солдаты отдадим…” Милиционер через несколько минут, глубоко потрясенный Беллой, уже сидел с нами за столом и ел пельмени.
А то все повально влюбленные в Беллу грузинские поэты поют под окнами.
Или Евтушенко, не порывающий отношений, вдруг привозит Светлова и Кривицкого. Мы втроем — Княжинский, Ильенко и я — тем временем злобно отсиживаемся в ванной, чтобы не встречаться со справедливо не любящим нас поэтом. Но когда он увезет Светлова, мы все-таки легализуемся. Оказывается, Кривицкий остался, и он всю ночь — со смердяковским выражением лица — рассказывает нам настоящую правду о воспетом им подвиге 28-ти панфиловцев.
А то откуда-то, как-то сам по себе появляется одноглазый поэт Досталь и учит нас песне “Цветет сахалинская рожь, бежит под деревьями еж, а вот разъедемся мы, а вот тогда ты от горя запьешь…”…
Очень скоро мы привели на Новоподмосковную Шпаликова, и, конечно, он не мог Белле не понравиться.
На Песчаной — все песчанно, Лето, рвы, газопровод. Белла с белыми плечами, Пятьдесят девятый год. Белле челочка идет.Почему на Песчаной?
Но “Песчаной — песчанно”, как и “Белла — белыми”, как же это пропустить?
Первая строфа там замечательная:
То ли страсти поутихли, То ли не было страстей, — Потерялись в этом вихре И пропали без вестей Люди первых повестей.На мой взгляд, Гена не очень умел писать стихи. Рифмовал, как хотел, переиначивал слова, если надо было срифмовать, произвольно ломал ритм. Но ему это и не было нужно. Он был талант, он был поэт, и всё тут. И он был поэт не только потому, что писал стихи.
Иногда думаю: может, это его и погубило?
Конечно, я, “мальчик из интеллигентной семьи”, был поначитаннее, чем бывший суворовец и недоучившийся курсант пехотного училища.
Декабрь 2014-го. На Никитском бульваре, между “Жан-Жаком” и Домжуром, обнаружилась букинистическая лавочка. Купил книжку 24-го года, Михаила Степановича Григорьева. Был секретарем Брюсова. Преподавал отцу на Брюсовских литературных курсах в двадцатых и мне — во ВГИКе.
Маленький, он был похож на очень старого утенка. Жена его Фарида, высоченная татарка, тоже преподавала нам — английский язык. Когда в 1960 году во ВГИКе отмечался семидесятилетний юбилей Григорьева, отец приехал поздравлять его от Союза писателей. Придумали так, чтобы и я тоже вышел на сцену. За год до этого в Доме кино мы также вместе поздравляли Габриловича. Больше никогда в общественных мероприятиях мы с отцом совместно не участвовали. Если, конечно, не считать панихиду по нему в 1975-м в “парткоме” в ЦДЛ.
Тогда же, в 60-м, когда мы ушли со сцены, к отцу подошел майор Никифоров, бывший узник немецкого концлагеря в Норвегии и секретарь парторганизации института, и сообщил ему, что меня собираются исключить. За что в тот раз? Уже не помню.
Зато помню, что Михаил Степанович опубликовал в нашей институтской газете “Путь к экрану” статью, в которой укорял студента Шпаликова в том, что тот никак не прочитает “Преступление и наказание”. И приводил ему в пример его однокурскника: “Даже студент китаец Вань Ди…”
Профессора Вань Ди я встретил в Пекине на каком-то приеме, и он меня узнал. И мы вспоминали Гену. А еще на курсе у Гены был вьетнамец Ву-Тхи-Хиен, тоже его друг. Потом Гена рассказывал мне о его любви и трагической судьбе. И, кажется, на этот раз ничего не придумал…
Я же читал, как глотал, и кое-что новое Гена узнавал от меня. До ВГИКа, когда он — суворовцем, подростком, юношей — начинал писать стихи, безраздельным кумиром его был Маяковский. Которого он, впрочем, порицал за самоубийство. Знал ли он эти его строки?
Был вором-ветром мальчишка обыскан. Попала ветру мальчишки записка. Стал ветер Петровскому парку звонить: — Прощайте… Кончаю… Прошу не винить…Наверняка знал. Ведь они с Михаилом Абрамовичем Швейцером сочиняли сценарий про Маяковского.
Но он недаром позаимствовал у меня “Охранную грамоту”. Пастернак стал для него главнее всех поэтов, главнее Маяковского. И даже Мандельштамом мне удалось его заинтересовать только в самом конце, в тот последний год в Болшеве.
И все же о рассказе Анатоля Франса “Жонглер Богоматери” я впервые услышал от него — в коридоре ВГИКа.
История простая, но очень красивая.
“Во времена короля Людовика жил во Франции бедный жонглер…”
Он был чист душой и простодушен и стал монахом. И очень расстраивался, потому что в монастыре, где ревностно преклонялись пресвятой Деве, “каждый употреблял Ей во славу все знание и умение, которое даровал ему Господь”. А жонглер не умел ничего, кроме как проделывать всякие фокусы. И однажды настоятель и старцы через щель подглядели, как “у алтаря Святой Девы он, держась на руках, вниз головой, подняв ноги кверху, жонглировал шестью медными шарами и двенадцатью ножами”. Они решили, что у него помутился разум. Но увидели, “что пресвятая Дева сошла с амвона и вытирает полою своей голубой одежды пот, струящийся со лба жонглера…”.
— Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят!
Гена был “жонглером Богоматери” каждой своей стихотворной строчкой, иногда, кажется, пробормотанной не до конца, каждой своей песней под гитару.
И ведь неспроста он обратил мое внимание именно на этот рассказ Франса. Как будто задолго до смерти хотел объяснить мне, кто он на самом деле такой.
— А знаешь, — весело сказал он, отходя от телефона, висевшего у нас на Фурманова в коридоре. — Самолет, на котором я должен был лететь во Владивосток, разбился.
Как разбился? Не может быть! Соврал бы, тоже недорого взял.
— Может, может. Они знают. Пойдем-ка сейчас лучше в магазин на Метростроевскую, — предложил он, — и купим бутылку водки.
Боже, как давно это было.
Ни коридора, ни телефона, ни дома. Вместо дома — воздух.
И Генки нет.
Во Владивосток он все-таки улетел, в другой раз. И привез из командировки рассказ “Зеленая река У-ки-кит-кон”.
Это было еще то время, когда мир казался ему прекрасным, доброжелательным, забавным. Мысль о том, что его персонаж, его героиня может сжечь себя на вершине мусорной груды, чтобы люди — советские люди — обратили внимание на несправедливость, просто не могла прийти ему в голову.
Он еще был с жизнью заодно и даже — более того — подгонял ее.
Какие они вернулись из Гагры красивые, загорелые, яркие. Гена и Наташа Рязанцева. Мы сидели в бело-голубом кубе насквозь просвеченного осенним солнцем кафе в “Пекине”, казалось, на высоте неба, над всей Москвой. Потом пошли напротив в художественный салон на первую выставку Эрнста Неизвестного и Мая Митурича.
Мы ссорились редко, но один раз надолго. Я бродил вечером по городу в тоске и одиночестве. Не выдержал, позвонил с Телеграфа из автомата. Он, сразу, услышав меня, сказал: приезжай. Они жили тогда с Наташей у ее родителей, недалеко от Трех вокзалов. У них сидел Тарковский. Они пили сухое вино и играли в карты открытками с репродукциями великих художников. Серов, например, бил Крамского. Андрей, подражая Урбанскому, который только что у него снялся в “Катке и скрипке”, пел: “Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела…”
Я стоял у “Националя”, кажется ждал кого-то. Вдруг мимо идет веселый, хороший Шпаликов. И не один. С ним высокая девушка с замечательным лицом.
Гена, не здороваясь:
— У тебя есть записная книжка?
И как раз она у меня была. В кармане. Может, это был год, когда я подвизался в журнале “Спутник кинофестиваля”?
Он взял у меня книжку и на одной из страниц написал примерно так: Катя Васильева, телефон такой-то. Она замечательная актриса, запомни ее и снимай во всех своих фильмах.
Фильмов тогда не было и не предвиделось. Но Катю я запомнил. Ни в одном фильме по моим сценариям она, увы, никогда не снималась.
Через много лет после этой встречи у “Националя” она будет опекать дочку Гены — Дашу.
Окончив ВГИК, мы встречались часто, но так же часто и не встречались. Однако “Лобачевский” постоянно и надолго сводил нас в нашем Болшеве, на берегу “судоходной реки Клязьма”.
Было два “болшевских периода” со Шпаликовым — один смешной, другой печальный.
Ко времени первого периода я уже, наконец, прорвался в кино. Правда, не без посторонней помощи. В моей нищей и практически безработной жизни возник (и довольно прочно — пять картин, подписанных двумя нашими фамилиями) Владимир Петрович Вайншток. Известный в кино и как режиссер, сделавший две знаменитые картины — “Дети капитана Гранта” и “Остров сокровищ”, и как исключительно ловкий и толковый администратор, организатор. Кроме того, все подозревали его в связях с КГБ. Нет, что значит — подозревали? Он и сам это не скрывал, даже афишировал и преувеличивал. И надо сказать, ему это очень помогало в его разнообразных делах.
И отчасти и мне тоже. Потому что ко мне никто и никогда не подкатывался с приятным предложением о сотрудничестве с “конторой”. Как это было, например, с Мишей Казаковым, по его собственному печатному признанию. Или, к несчастью, с Димой Оганяном.
Как-то Миша Калик, тоже живший тогда в Болшеве, в ответ на мои стенания по поводу мучителя Вайнштока полушутливо сказал: “Держитесь его, Паша! Он гениальный специалист по советской власти”. И я продержался! До “Объяснения в любви”. Нет, сначала еще были “Новогодние приключения Маши и Вити”. Но это уже особая история…
Действительно, я только писал и работал с режиссерами. А придумывал идеи, пробивал, устраивал, ходил по кабинетам, льстил, интриговал и делал всякие любезности начальникам кино — Вайншток.
В то время слово “продюсер” совсем не было таким ходким, как сейчас. Но он был истинный и очень хороший продюсер. И умел то, что почти не умеют называющие себя так сейчас, — не только тратить государственные деньги с пользой для себя, но и, в первую очередь, безошибочно находить, открывать именно тех — единственных — людей, кто лучше других сделает для него работу и сценариста, и режиссера. Так он сначала открыл для себя Сашу Шлепянова, и получился знаменитый “Мертвый сезон”. А на смену Саше, с которым мы подружились, пришел я.
Так что при всем том, что я временами видеть его не мог, выл и бился в его маленьких коварных ручках, я все-таки поминаю его добром. Где бы я был сейчас без этой встречи?
Надо признаться, я его тоже мучил. Долго терпел, работал, работал — кажется, сочинялась тогда “Сломанная подкова”, — трезво гулял по болшевским дорожкам. С Гребневым, который меня дружески привечал, иногда с Юткевичем, которому больше не с кем в этот день было говорить о литературе. И, конечно, со Шпаликовым — то я его провожу до коттеджа, “домика”, то он меня до главного корпуса. Или спускался в бильярдную, где играли — с разной степенью мастерства — лучшие люди на свете — Дунский и Фрид.
Но иногда не выдерживал и срывался в Москву.
Сохранилась, как документ, свидетельствующий об этом, записка, найденная мной в номере, куда я трусливо и незаметно прокрался, вернувшись после трехдневного отсутствия. Напечатано на моей пишущей машинке, правописание Шпаликова сохранено:
“Павлик, павлуша, павлинчик, павел!
Я забрал — по просьбе Вайнштока и по чувству социальной безопасности — машинку и приемник из твоей незапертой комнаты.
Так что — все в полном порядке.
Домик ты знаешь.
Привет!
Салют!
Банзай, — Гена”
И от руки:
“Пишу от руки (так демократичнее). Паша, ты бы хотя б позвонил Вайнштоку — он серьезно расстроился — и не так уж по делам вашим, а твоим трагическим исчезновением… P. S. Говорят, — (последний человек, видевший тебя живым), что ты шел к Клязьме. Это страшно представить — но — видели!”
Тогда, в начале семидесятых, в Болшеве, кроме нас с Вайнштоком, сошлись и другие “творческие пары”.
Александр Аркадьевич Галич — с проказником Марком Семеновичем Донским. Он писал для него сценарий о Шаляпине. Мы с Галичем жили на одном — втором — этаже, дверь в дверь через коридор. И я иногда, на пути в сортир, с упоением подслушивал под дверью его номера, как Донской учит Галича писать сценарии и поет басом, изображая Шаляпина.
Другая пара — Лариса Шепитько и Гена Шпаликов. Они работали над режиссерским сценарием фильма “Ты и я”. Раньше этот сценарий назывался у Генки “Кривые чемоданы”, и мне это больше нравилось.
Это был важный и серьезный для Шпаликова сценарий. Не зная ничего друг о друге, он и Вампилов — в “Утиной охоте” — открывали в современной жизни нового героя, хоть и безвольно, но по-своему бунтующего против инерции и низменности всеобщей безнравственности, выдающей себя за всеобщую нравственность.
В Доме творчества Лариса поначалу появилась вместе с Элемом. Они усадили меня на диванчик у входа в столовую. И, тесня с двух сторон, сказали:
— Не пей со Шпаликовым!
— Какое там! — с тоской воскликнул я. — Здесь же Вайншток!
— И не давай ему денег! Как бы ни просил! Ни копейки! Не то убьем!
И убили бы, между прочим. Такие ребята… Я поклялся!
Но была еще и четвертая пара. Скорее, как сейчас бы сказали, виртуальная. Потому что это был один Валентин Иванович Ежов, начинавший писать — тогда для Григория Наумовича Чухрая — то, что потом стало — уже вместе с Рустамом Ибрагимбековым — “Белым солнцем пустыни”.
Я всегда вспоминаю Валю с любовью. Он был замечательный и совершенно свой парень — именно так — при весьма существенной разнице в возрасте.
Познакомились мы раньше. Я еще учился во ВГИКе. Вместе с сокурсниками — все старше меня, я вообще был самый молодой на курсе — мы на последние шиши посидели в “Туристе”, но этого нам показалось мало. Что делается в таких случаях? Ищутся и отдалживаются деньги. И тут на стоянке такси возле гостиницы возник Валентин Иванович Ежов, только что вместе с Чухраем награжденный Ленинской премией за “Балладу о солдате”.
— Пойди и попроси, — сказал мне Виталий Гузанов, коммунист, капитан 3-го ранга, юнга Северного флота. — Скажи, так и так, мы молодые сценаристы, поклонники вашего таланта…
— Хотим выпить за ваше здоровье, — поддержал его Женя Котов, коммунист, секретарь комсомольской организации факультета, будущий директор студии имени Горького.
— Почему я?
— Потому что нам не очень удобно. Мы коммунисты, а ты даже не комсомолец.
С этим спорить было трудно, и я пошел. И попросил.
— Старик! — приветливо сказал Ежов. — Дал бы, но у самого последняя трешка осталась. Только на такси, до Кремля доехать — Ленинскую премию получить.
В отличие от Галича, Шпаликова и меня, Ежов ничем и никем не тяготился. Ходил по коридору первого этажа, останавливаясь с каждым, чтобы поговорить, а главное, рассказать. Рассказчик он был выдающийся, а историй у него был миллион. Потом немного выпьет у себя в номере и ляжет спать, совершенно не задумываясь о сроках сдачи сценария. В крайнем случае сценарий он спокойно мог надиктовать прямо на машинку за две ночи. Я сам видел.
Кино чувствовал великолепно, выдумщик и изобретатель был первоклассный.
Я думаю, мало кто понимает, что означают строчки Шпаликова, опубликованные в книгах и висящие в интернете: “О, Паша, ангел милый, на мыло не хватило присутствия души…”
Гена жил тогда в “домике”. В соседней комнате — Лариса, чтобы контролировать. По утрам, до завтрака, он приходил в корпус и подсовывал мне под дверь то написанные только что стихи, то вырезанные из журналов картинки с изображениями спутников — космосом он был потрясен.
Но в то утро загадочные стихи про мыло еще не были подсунуты.
Шпаликов разбудил меня и сказал, что у него кончилось мыло. Само по себе это не представляло никакой жизненной сложности. Мыло легко можно было приобрести в магазине на “фабричной девчонке”. Так в просторечии именовалось это место — через мостик и в горку. На пятачке были сосредоточены жизненно важные институты. Магазин с широким выбором товаров, от черного хлеба и водки до средств против вредителей сада и огорода. И пивнушка, тесная, прокуренная и пропахшая.
Но, во-первых, на мыло у Гены не было денег, а во-вторых, Лариса не отпустит его на “фабричную девчонку”, которая в Доме творчества среди приличных людей была известна как место злачное и опасное. Деньги были у меня. И как раз со мной Лариса может его отпустить. Потому что, сказал он, глядя на меня серьезно и убедительно, тебе, Паша, она доверяет, как никому. Разве я мог отказать?
А на улице был восхитительный — юоновский — март! С чернеющим уже, колючим снегом, голубым небом и солнцем. И как только мы глотнули, вдохнули в себя этот март, этот воздух, — в наши родственные души сразу проникло тайное весеннее возбуждение, когда все на свете трын-трава. Но мы еще друг другу в этом не признались.
Господи! Прямо как сейчас вижу! Две кровати, на одной лежит Лариса, на другой улыбается мне Наташа Рязанцева, уже бывшая жена Гены, приехавшая накануне к подруге Ларисе в гости.
— Только мыло, только туда и обратно на завтрак, — говорю я Ларисе, прямо и честно глядя ей в глаза, абсолютно убежденный, что говорю истинную правду.
— Паша! Ты помнишь, что мы с Элемом тебе сказали?
Я помнил. Мы вышли, легкие, утренние, весенние, нараспашку. Разговаривая о том о сем и рассказывая друг другу и себе, как мы вернемся с мылом, позавтракаем и сядем работать.
Дорога от нашего забора, спуск к реке, мостик. И тут мы увидели Ежова. Рыжая дубленка горела на мартовском солнце. Он уже купил в киоске газеты, шел назад, но по обыкновению задержался на мосту с какими-то нашими дамами, чтобы потрепаться и что-то рассказать. Мы шли мимо. И он как-то так склонился к нам своим крупным носом и негромко, но внушительно произнес:
— Сценаристы! В пивной горячие пирожки с капустой и коньяк “Плиска”.
Гена молча посмотрел на меня глазами раненого оленя.
— Ну, вот что! — сказал я. — Съедим по одному пирожку, чтобы не перебивать аппетит. Выпьем по пятьдесят грамм коньяка…
— По сто, — сказал Ежов.
— По сто, — согласился я с лауреатом Ленинской премии. — Вернемся, позавтракаем — и работать!
В пивной нас встретили как родных. Буфетчица уже давно была очарована Ежовым. А все опохмелянты были свои в доску. Особенно знаменитый болшевский карлик, которому кружку с пивом приходилось давать вниз, под столикстояк.
Ежов тут же сообщил, что он автор “Баллады”, взаимопонимание еще больше укрепилось, Валя грянул несколько фронтовых историй подряд, кто-то запел, и время полетело незаметно. За окнами уже чуть потемнело, солнце было уже не так высоко. Впрочем, я еще сохранял некоторое чувство ответственности, хотя ощущение опасности и неминуемой расплаты уже как-то притупилось.
— Ну, еще по пирожку, еще бутылку, и все, — сказали мы бесстрашно. — Придем, поспим, пообедаем — и за стол! По машинкам!
И понеслась! По новой! И снова незаметно.
И тут буфетчица с прискорбием сообщила, что кончились пирожки. Но это еще полбеды, самое страшное, что кончился коньяк. Весь! До следующего завоза.
На улице было темно.
— Ничего страшного, — сказали мы. — Сейчас вернемся, немного поспим, поужинаем и… Работать! Работать! В ночь! Как Оноре де Бальзак!
Сразу же за мостиком, по правую руку — баня, такое небольшое строение. Днем здесь довольно оживленно, мужики входят со своими тазиками и вениками, распаренные, красные бабы сплетничают на скамеечке у входа.
Когда мы в темноте неверными шагами проходили мимо, железный Ежов, с сомнением поглядев на нас, сказал:
— Сценаристы! Лучшее средство против опьянения — хороший пар! Как говорится, какой русский не любит деревенскую баню!
Я охотно с этим согласился.
Внутри, естественно, уже никого не было. Взбодренный нами пространщик, который, как оказалось, воевал с Ежовым на одном фронте, немедленно был послан за поллитрой и копченой рыбой.
— Все хорошо складывается, — успокаивали мы друг друга, раздеваясь. — Сейчас попаримся, придем, ляжем спать, а уж завтра утром…
Но пока мы закусывали копченой рыбой, а Ежов рассказывал пространщику о том, как две недели назад в Италии Франко Дзефирелли осыпал его лепестками роз, в Доме творчества тоже происходили интересные события.
Ужин уже давно прошел. Вайншток и Шепитько в ярости и тревоге метались на площадке перед столовой. Участливыми кинематографистами, проживающими в то время в Доме, высказывались разные предположения. Даже и трагические. И тогда кто-то вякнул — как я потом узнал — что ничего страшного, с мальчиками все-таки взрослый человек, Ежов Валентин Иванович, лауреат Ленинской премии.
— Кто взрослый, это Ежов взрослый? Да он еще хуже их!
Тут же метался Галич, почему-то одетый в свою короткую дубленку. Он волновался больше всех. Речи его были страстные и полные гражданского пафоса.
— Вы равнодушные люди! — вроде бы кричал он. — Где наши друзья? Что с ними? В какой они беде? Я немедленно отправляюсь в милицию и начинаю поиск!
— Ты никуда не пойдешь, Саша! — завопил Донской.
За несколько дней до этого, во время прогулки по территории, Марк Семенович, разыгравшись, закинул шапку Галича на высокую сосну. Тогда еще были морозы, и, пока не принесли лестницу, Галичу пришлось замотать уши шарфом. Видимо, поэтому сейчас он сразу же снял шапку, решительно отстранил прыгающего вокруг Донского, воскликнул:
— Мне стыдно за тебя, Марк!
Открыл дверь и канул во тьму. Только его и видели.
…Увидели его только дней через десять. Покинув территорию, он немедленно направился в противоположную сторону, поймал на дороге такси и укатил в Москву, где у него в то время был роман с одной известной дамой.
Нас увидели гораздо раньше. Со стороны это, наверное, выглядело так, будто бы старый солдат вынес из боя двух молодых. Я мрачно, не сказав ни слова Вайнштоку, проследовал к себе на второй этаж. Лариса увела радостно улыбающегося Шпаликова. А Ежов остался. Разговаривать и рассказывать.
О, Паша, ангел милый! На мыло не хватило Присутствия души. Известный всем громило Твое похитил мыло Свидетели — ежи. Эсер по кличке Лера, Два милиционера, Еще один шпажист И польский пейзажист, Который в виде крыльев Пивную рисовал, Потом ее открыли, и они действительно Улетели, В пивной, так что — свидетелей не осталось.И все-таки пока еще остался свидетель…
Второй период в Болшеве со Шпаликовым — а это уже его последний, 74-й год — был совсем иным. И тут уже совсем иное “подсунутое” мне стихотворение.
Друг мой, я очень и очень болен, Я-то знаю (и ты), откуда взялась эта боль! Жизнь крахмальна, — поступим крамольно И лекарством войдем в алкоголь! В том-то дело! Не он в нас — целебно, А напротив, в него мы, в него!..Тяжелый для меня был этот год.
Сначала неожиданно для меня умерла Таня Алигер. Писала она и выпускала детские книжки, прелестные сказки, и свои и переводы, под фамилией Макарова.
Кое-кто позаботился зачем-то нас раздружить. Правда, та же “кое-кто” рассказала мне, что в больнице перед смертью — Таня умерла от острого лейкоза — она вдруг произнесла: “Я бы хотела сейчас увидеть Пашку”. До этого она подарила мне свою книжку “Снег отправляется в город”, которую оформляли Валера Левенталь и его жена Мариша Соколова. И написала на ней карандашом: “…когда я тебя вижу, я тебя люблю”.
Был март. Сначала ее отпевали в церкви на Преображенском кладбище. А я и не знал, что она крестилась. На несколько лет раньше меня. Отпевал и проповедь читал ее духовник, сначала просто известный, а позже печально известный отец Дмитрий Дудко.
Хоронить ее повезли в Переделкино, где когда-то мы по очереди влюблялись друг в друга. Теперь они там все вместе — Маргарита Иосифовна Алигер и две ее дочери — Таня и Маша. Недалеко — Пастернак.
С кем-то я сидел в ресторане Дома кино, уж и не помню с кем, подсел Шпаликов. Он был в плохом виде, ночевал где придется. Я сказал ему, что умерла Таня. Он сделался еще печальней и сказал:
— Теперь я.
— Генка, не сходи с ума!
Он быстро ушел.
Он жил тогда какой-то странной и неуловимой — для меня — жизнью. Виделись иногда в том же самом ресторане. Он всегда был пьяненький, а иногда и пьяный. Мы с Княжинским очень сердились на него. Мы уже догадывались, что он “очень и очень болен”, и знали, что пить ему нельзя.
Он никогда не обижался, улыбался. У него была такая особенная — конфузливая, виноватая и доверчивая улыбка. Которая говорила: да, ребята, вы правы, но ведь мы же друзья, лучше давайте выпьем… И сейчас вспомнить эту улыбку — сердце рвется. Но пить он никак не переставал.
С Инной Гулая они тогда уже расстались, дома не было. Мать Гены, Людмила Никифоровна… Как-то, в эти дни, я выводил его из ресторана и не знал, куда деть, — сам я тоже тогда дома не ночевал. Позвонил Людмиле Никифоровне, она отказалась его пустить. Никогда не вникаю в такие отношения. Но жалко, жалко было, хотя и злил он меня. Все в конце концов как-то устроилось, я посадил его в машину вместе с приятелем, знаменитым боксером, тот взял его на себя, поклялся мне суровой боксерской клятвой Генку не бросать.
Когда его уже не было, я все вспоминал, как в его любимой “Охранной грамоте”, так и оставшейся у него, Пастернак пишет о смерти Маяковского. Это в том месте, когда к мертвому Маяковскому приходит младшая сестра, “пройдя, как по мусору, мимо всех…”.
“Баню им! — негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контральто. — Чтобы посмешнее. Хохотали. Вызывали. А с ним вот что делалось. Что же ты к нам не пришел, Володя? — навзрыд протянула она…”
Выделяясь из текста воспоминаний, эта фраза — “Что ж ты к нам не пришел?” — до сих пор не дает мне покоя. Навзрыд.
Хотя это было и не совсем так. Он приходил.
Раза два или три он ночевал на чердаке в моем подъезде на Фурманова. Дома тогда я бывал редко, и он знал об этом. Но дом-то ему был хорошо знакомый, и на чердак дорога проложена — один марш ступенек с моей лестничной площадки наверх к никогда не запиравшейся двери. И все же как-то раз, и еще раз, он все-таки преодолевал смущение и звонил в квартиру.
Мама открывала ему. Мама любила его. Человек необычайно добрый, она не всех моих друзей любила так же. Что-то не нравилось, наверное, ей в их отношении ко мне. А Генку любила. А он относился к нашим матерям с трогательной и веселой нежностью и совершенным свойством. Он даже называл их по именам, без отчества. Маму Саши Княжинского Веру Григорьевну — Вера. Мою, Жанну Бенедиктовну, — просто Жанна. Правда, возможно, еще и потому, что трудное отчество в некотором состоянии было трудно выговорить.
Когда я наконец появился дома, мама показала мне блокнот, там ее почерком было написано: “Спасибо, Паша, маме, молодости, спасибо жизни, что она была”. Он это почему-то написал не сам, а продиктовал ей, а она кротко и послушно исполнила. Глагол “была” в соединении с “жизнью” тогда я пропустил без внимания. Напрасно.
Не ходи в дома чужие На чужих кроватях спать. Если сладко положили, Можно с белого и спасть…Веселились как-то вечерком у Алёши Габриловича на Аэропорте. Во мне проснулась совесть, я позвонил маме. “У нас Гена”, — сказал она. Наверное, я все-таки что-то такое почувствовал тогда в ее тоне. Расставаться с весельем очень не хотелось, но я уехал.
Я поставил Генке раскладушку рядом с моей кроватью. Вот этот ночной разговор я помню. Со стыдом. Он ушел из черемушкинской квартиры, оставив ее Инне и дочери Даше. Я — с неожиданной для себя, не свойственной мне рассудочностью — убеждал его, что квартиру надо разменять, ведь нельзя же ему до бесконечности скитаться и спать на чердаках. Наверное, я был прав. Но у него была другая правота, правее обычной, бытовой.
К слову сказать, через четыре года я ведь и сам поступил так же, как он.
Свадьбы, коим мы не судьи, Все там если да кабы, Суета сует и судеб Или же одной судьбы. Ссоры, споры, разговоры Ложкой вертят ерунду. Конуры свои и норы Разделяют по суду. Вечно только подвенечно, Если даже нет венца, Это весело и вечно Без начала и конца.Вспомнил я, о, как еще вспомнил этот разговор и эти строчки четыре года спустя, в знаменательном 78-м. Когда мы с Ириной, пренебрегая любым осуждением, недоверием и недоумением, от всех уйдя и всё оставив, без имущества и квадратных метров, с маленькой Катькой и большим белым котом, наследством погибшей Норы Агишевой, взяли да и начали новую жизнь.
И я говорил Ире, когда нас расстраивала несправедливость некоторых знакомых: “Генка бы нас поддержал”.
И вот мы, как и прежде, встретились в Болшеве. Он работал тогда с Сергеем Павловичем Урусевским.
За три года до этого они уже сделали вместе картину “Пой песню, поэт”. С Сережей Никоненко в роли Есенина. А на этот раз работали над экранизацией “Дубровского”. Кажется, вообще первая для Шпаликова экранизация.
Я был опять-таки с Вайнштоком. Но уже в последний раз. Теперь это был сценарий “Вооружен и очень опасен”. Такой вроде бы вестерн. И тоже экранизация. Но не простая. Я придумал тогда метод, которым потом часто пользовался. Да и не я один. Коллаж из разных сочинений Брет Гарта. Ставить должен был сам Вайншток. Так сказать, лебединая песня.
И опять все стало повторяться. Урусевский — через Вайнштока — попросил меня быть со Шпаликовым осторожней. Тогда я и узнал, что у него развивается цирроз.
Конечно, Шпаликов меня сразу же подвел к Урусевскому. Я вообще с восторгом смотрел на него. Еще бы! Урусевский! “Летят журавли”! Даже трудно описать, чем была для нас, вгиковцев, эта картина. А я к тому же еще и дружил в основном с операторами.
После обеда в столовой, когда наступало такое расслабленное время, полчаса-час для общих разговоров и прогулок, я обычно подсаживался за столик к Урусевскому, Бэлле Фридман, его жене, и Шпаликову. И он обычно просил: “Расскажите Паше, как вы снимали, ему интересно…” В основном имелось в виду или “Неотправленное письмо”, или “Я — Куба”.
Вдруг, не дослушав, Гена срывался и убегал. Урусевский и Бэлла печально переглядывались, и кто-нибудь из них говорил: “Он очень болен. Паша! Его надо беречь”. Потом как ни в чем не бывало, вытирая губы, возвращался Гена, как мы понимали — из сортира, где его рвало. Недоглядели, не то что-то съел.
Впрочем, он и сам тогда берегся — не пил ничего. Был даже спокоен. Потом, правда, выяснилось — это мне сообщил тоже тогда живущий там Саша Миндадзе, совсем еще молодой, который очень почитал и любил Гену, — что он горстями ест таблетки транквилизаторов…
Когда-то я — в ожидании своей очереди перед телефонной будкой в болшевском коридоре — трепался о чем-то с Толей Гребневым. Мимо нас прошел серьезный и мрачноватый мальчик, похожий на грузина. Он нес, держа перед собой на весу, большую пишущую машинку. Я так и спросил Гребнева: не знает ли он, кто этот мрачноватый мальчик, на грузина похожий? “Знаю, — ответил Анатолий Борисович. — Это мой сын Сашка”.
Мы все “росли” в Болшеве.
Потом уже Саша появился там со своей женой Галей, красивой, очаровательной, смешной, с которой он учился во ВГИКе — но она на актерском. А еще позже Евгений Михайлович Вейцман, учивший нас всех во ВГИКе философии, привез в Болшево Вадика Абдрашитова с его студенческим фильмом “Остановите Потапова” — по рассказу Гриши Горина.
По-моему, именно с тех пор они дружили и работали с Миндадзе.
Миндадзе — Абрашитов! На мой взгляд, наиболее яркие и умные выразители того периода нашей “советской жизни”, когда всеобщий конформизм все-таки стал немного отступать — в кино — перед напором талантов, решивших сказать о человеке и о времени не то, что предписано идеологией, а то, что они — свободно и независимо — думают и чувствуют.
С Вадимом — кроме всего прочего — у меня есть еще одна связь. Небольшой — розовый — черноглазый — пуховой шарик, лет пяти-шести, с каковым я — тринадцатилетний — танцевал, улыбаясь, под звуки танго, что заводил для нас Сандрик Тоидзе в большой мастерской его отца — Ираклия Моисеевича.
“Шарик” — двоюродная сестра Сандрика Нателла Тоидзе, теперь действительный член Академии художеств. Во как! И — по прекрасному совместительству — жена Вадима Абдрашитова.
Я дружил и дружу с ними обоими. С Миндадзе и Абдрашитовым. Но ныне уже — порознь.
Копаюсь в Google, вдруг нахожу — “За экраном”, ранее мне неизвестная, неоконченная и опубликованная после смерти книга Иосифа Михайловича Маневича.
Иосиф Михайлович — элегантный и остроумный Жозя — Маневич. Известный в кино человек, писал сценарии, был главным редактором “Мосфильма”, преподавал во ВГИКе. Википедия почему-то умалчивает, что он работал в “Известиях” при главном редакторе Бухарине.
Он-то и был одним из тех, кто по просьбе — скорее, приказу Нины Яковлевны Габрилович — всунул меня в институт. Спасибо ему!
Во вгиковское время он вел мастерскую курса Шпаликова. Позже был соавтором его по сценарию “Декабристы”, который хотел ставить Бондарчук. Сценарий они с Геной переделали в пьесу, она называлась “Тайное общество”. Спектакль по пьесе был в конце 60-х поставлен Леней Хейфецем. Я не успел его увидеть — он был стремительно запрещен.
Гена рассказывал, как придумал начало спектакля, пролог. На сцене кровать, на ней спит Герцен. Удар колокола. Герцен просыпается, вскакивает — декабристы его разбудили. И пошло-поехало… По Ленину.
То ли было так в постановке, то ли нет, но, в общем, неудивительно, что ее тогда запретили.
И вот что читаю у Маневича в главе “Болшево, 1974”:
“Бэлла Фридман с Урусевским стерегут Шпаликова. Он строчит «Дубровского», вроде прошли до конца и сейчас идут по второму разу. Мечтают, чтобы Шпаликов дотянул. Говорят, что в первых числах дадут читать. У Паши Финна болят зубы, писать второй день не может — советуем ему разные лекарства. Больше его страдает Вайншток. Они экранизируют Брет Гарта. И Вайнштоку иногда, наверное, кажется, что Паша симулянт. Все сроки проходят”.
Не зря казалось Вайнштоку. Зубы первый раз у меня заболели много позже.
Гена “дотягивал”. Был увлечен “Дубровским”, что-то они все время придумывали с Урусевским, ходили по коридору — под присмотром Беллы — обсуждали, радовались.
Гена печальный был и какой-то светлый, беззащитный. По вечерам смотрел, как я бездарно играю на бильярде и проигрываю Саше Миндадзе. Или приходил ко мне в номер.
У меня была желто-зеленая пластмассовая “Спидола”. Великий транзистор, я бы памятник ему поставил. Из него с хрипами и перерывами прорывались к нам через заглушку и “Голос Америки”, и Би-би-си, и “Дойче велле”. Бывало, пройдешь по коридору, а чуть ли не из-за каждой двери знакомые звуки и знакомые голоса. А уж из номеров авторов картины “Коммунист” Габриловича и Райзмана — обязательно.
Кстати, Маневич прозвал меня тогда “ФиннТасс”. У него приемника не было, и я каждое утро вполголоса пересказывал ему то, что выловил ночью из эфира.
Генку как будто бы никогда особенно не интересовало все это. Но в последнее время он приходил ко мне именно в час “сеанса связи”. Слушал сначала внимательно, но недоверчиво, потом внимательно и серьезно. Что-то в нем происходило, я это чувствовал. Тогда ли рождалась идея сценария “Девочка Надя, чего тебе надо?” с финальной сценой самосожжения депутата Верховного Совета Нади Смолиной на вершине мусорной пирамиды?
Не верю ни в бога, ни в чёрта, Ни в благо, ни в сатану, А верю я безотчетно В нелепую эту страну. Она чем нелепей, тем ближе, Она — то ли совесть, то ль бред, Но вижу, я вижу, я вижу Как будто бы автопортрет.В 65-м году, после всех хождений по мукам, под названием “Мне двадцать лет” все-таки вышла “Застава Ильича”. Власть, как всегда, не ведала, что творила. Ей бы не гнобить эту картину с таким названием, а, наоборот, прославлять.
В этом же году мы с Наташей Рязанцевой, то ли отколовшись от компании, то ли прийдя вдвоем, оказались за столиком в шуме и дыме ресторана ВТО. И пока мы печалились друг другу над скромным заказом, за столик неожиданно сел Евтушенко. Надо полагать, привлек его не я. Он что-то еще заказал. Мы скоро поняли, что расставаться как-то неохота, и он позвал нас к себе домой. Где, как он утверждал, нас ждет не дождется его жена Галя. Я ее знал. Подруга Беллы и бывшая жена поэта Михаила Луконина, друга Евтушенко.
Тогда напротив памятника Пушкину возле здания редакции “Москоу ньюс” и общественного туалета в арке была стоянка такси. Не найдя “зеленый огонек”, Евтушенко остановил “левака”. Старый “москвич”. Мы с Наташей сели на заднее сиденье, Евтушенко рядом с водителем. Молодой парень с большим носом. Всю дорогу он молча слушал, что, вдохновленный присутствием Наташи, говорил Евтушенко. Когда же мы приехали и поэт полез за деньгами, носатый парень отстранил его руку и сказал:
— С автора “Бабьего Яра” я денег не возьму.
Несколько удивленная и уже собиравшаяся ко сну Галя на скорую руку накрыла “выпить-закусить”. И мы сразу же стали обсуждать самое на тот момент главное событие “в культурной жизни столицы” — выход в изуродованном виде картины Хуциева и Шпаликова.
Мы трое были к ней причастны.
Наташа и я снимались в знаменитой и роковой сцене вечеринки, ставшей основной причиной безобразного и губительного хрущевского разноса.
Сейчас смотреть на это без улыбки и растроганности невозможно. Наташа с сигаретой в мундштуке, красивая, серьезная и ужасно смешная, говорит медленным голосом:
— Среди своих всегда так скучно…
И я — совершенное дитя, с дурацкой челкой на лбу по тогдашней моде и с сигаретой, — десять раз подряд — меньше дублей Марлен обычно не снимал — поднимаю вверх, как на ринге, руку тоненькой, в сереньком платьице Оли Гобзевой.
А она десять раз подряд нервно и отчаянно — за циничное высказывание — по-настоящему — хлещет по щеке Андрея Тарковского, то есть того из разряда “золотой молодежи”, кого он довольно похоже изображал.
Хозяйкой квартиры, где мы собрались, по-нынешнему — на тусовку, была восхитительно юная и красивая Маша Вертинская. За пределами декорации, занимавшей почти весь большой павильон на студии им. Горького, одиноко блуждал Шпаликов. Он переживал за меня как за актера. Время от времени его лицо появлялось в проемах между какими-то полками и карнизами, он республиканским жестом поднимал вверх руки и подбадривал меня:
— Паша! Давай!
К восьмому примерно дублю я, стоявший очень близко, вижу слёзы в глазах у Оли. И у Андрея. Который таким счастливым приехал на съемку с Гнездниковского переулка, где узнал, что “Иваново детство” отправляется на Венецианский фестиваль.
Евтушенко, конечно, фигурировал в не менее знаменитой — и не менее роковой — сцене выступления поэтов в Политехническом.
Обе эти сцены приказали как-то правильнее доснять.
Но тем вечером Евтушенко совершенно неожиданно сказал: “А ведь картина с самого начала была конформистская”.
Тогда я, настроенный весьма вольнодумно, с этим согласился. А сейчас сомневаюсь. Хотя и по-прежнему настроен не менее вольнодумно.
В этой картине для меня совершенно явно то, что идет от Хуциева и что от Шпаликова. Конечно, в целом все это было больше желаемым, чем действительным, но с очень точными и поэтическими подробностями времени, блистательно срежиссированными Хуциевым.
Замечательно талантливы там пластика и музыка режиссуры, с помощью камеры Риты Пилихиной отрывающие эту картину от других картин той “новой советской волны” режиссеров военного поколения.
Голос Шпаликова слышен наравне.
Культ мужской дружбы, верных и простых — “солдатских” — отношений, неприятие никакого, даже оправдываемого предательства. Всем делиться, ничего не скрывать и приходить на помощь по первому зову, откуда бы — из какой беды, из какого бы дна — он ни донесся.
Тут было и влияние прошедшей войны, и влияние правды о 37-м годе, и недолгое влияние республиканских идей, Хемингуэй, Испания. Тут было то, что если и не говорилось нами открыто — пафоса мы чурались, — но постоянно ощущалось в духе нашей компании. То, что переживалось и пелось. Особенно тогда, когда в нашу жизнь пришел Окуджава.
Тремя-четырьмя годами позже сидели в Ленинграде за столом на праздничной какой-то пирушке у моих друзей Володи Венгерова и его жены Гали. Окуджава с гитарой во главе стола. Товарищ его, Гриша Аронов, режиссер, попросил:
— Булат, спой “Комиссары в пыльных шлемах”.
Пауза. И Окуджава сказал:
— Знаешь, Гриша, я пересмотрел свое отношение к Гражданской войне.
Но тогда пока еще, могу сказать, не стесняясь, мы были последним оплотом романтизма. А он тем и отличается, что желаемое превращает в действительное — хотя бы ненадолго, хотя бы на время одного застолья, одного объятия, одного стихотворения.
Романтизм и конформизм? Да, они совместимы. Иногда, к несчастью, именно романтизм и является причиной конформизма и еще кое-чего похуже. В лучшем случае конформисты — это еще и те, кто радуется, когда удается не совершить подлость.
Я не оправдываю, но и не осуждаю конформизм советского времени. Я, вместе со всеми переживший это время, понимаю его. Понимаю, что порой он был необходим и спасителен для сохранения огня. Однако в любом своем виде конформизм всегда лукав. Так или иначе, он все равно имеет в виду ту или иную выгоду — то ли личную, то ли общественную.
Шпаликов был прежде всего романтик, а не конформист. Он был совершенно искренен и бескорыстен. И действительно верил безотчетно в нелепую эту страну, и действительно верил в “картошку, которой спасались в военные годы”.
Однако страна как-то в последнее время не очень отвечала ему взаимностью, и это было совершенно ему непонятно. Страна, правда, распевала “Я иду, шагаю по Москве”, но знать не знала о том, как худо автору этих романтических слов.
Во все времена в этой стране под легкий плащ Моцарта надо поддевать грубый свитер Сальери.
В болшевском номере он ставил перед собой на столе фотографию дочери и подаренную Некрасовым маленькую — в рамке — репродукцию с картины Утрилло. Зимний денек, Монмартр… Париж, где он не был и никогда не побывает. Надевал на голову красный вязаный — детский — колпачок. И писал.
Среди всех “подсунутых” свидетельств нашей жизни в Болшеве — в последний год — нахожу и такое. Узкая бумажка, и на ней адрес — оранжевым фломастером: “26 июля. В. П. Некрасов. Крещатик, дом 15, кв. 10”.
Вспоминаю и не могу точно вспомнить, зачем он мне дал адрес Некрасова? Скорее всего, ему в голову пришла идея, что я немедленно должен ехать в Киев и увидеть “Вику”.
В Киев я приехал много лет спустя — к сыну в гости. И действительно пришел по этому адресу. Дом 15 в Пассаже — мемориальная доска. Виктор Платонович с вечной папиросой.
Некрасова я узнал гораздо раньше, чем Гена. Еще в детстве. Это опять все тот же дом на Смоленской, квартира моей бабушки, квартира моих некровных родственников — Раечка Линцер, Игорь Сац. И двоюродный брат Женя.
Гена крепко подружился с Некрасовым во время “Заставы”, конечно, через Марлена Хуциева, которого он называл Мэн.
Мне рассказывал мой сокурсник Женя Котов, он снимал тогда комнату в домике на Волхонке, напротив Музея… На рассвете, проснувшись, подошел к окну. По совершенно пустой улице идет на руках Гена Шпаликов, а Некрасов поддерживает его за ноги. Это они отпраздновали первый — дохрущевский — рабочий просмотр уже готовой “Заставы”.
Ночь, проливенный ливень только что прошел. Я веду от себя к Илье Нусинову совершенно пьяных Некрасова и Шпаликова, я почему-то трезвый. Мы идем по черному, мокрому асфальту по центру Сивцева Вражка, я между ними, держу их под руки. Вдруг — запоздавшая молния, и над нами ослепительно взрывается какой-то троллейбусный, что ли, провод и падает, раскаленный, на нас. Я толкаю их, и успеваем шарахнуться в стороны. А они даже не заметили, продолжали смеяться и нести какую-то пьяную остроумную чепуху.
62-й или 63-й? Точно конец июня, потому что это день рождения нашей общей подруги Юли Ануровой — в “квартире без взрослых”, на улице Горького ближе к Маяковской, рядом с магазином “Грузия”.
Компания собралась тогда под вечерок та еще.
При мне в маленькой комнате, почему-то заваленной томами “Британской энциклопедии”, знакомятся Виктор Некрасов и Владимир Максимов. Кира Гуревич, жена Генриха Сапгира, танцует с Аликом Гинзбургом. А сам Генрих читает кому-то стихи. Был ли там Холин? Здесь же и Валя Тур, и Олег Целков, и Давид Маркиш, и еще, еще, кого уже и не вспомню.
К рассвету стоим и курим на балконе, над двором, напротив служебного входа в Театр Моссовета. Маркиш и я. И вдруг решаем немедленно увидеть Шпаликова. Некрасов горячо поддерживает нашу инициативу.
Звоним Гене, будим, он в восторге. Ловим машину, едем в “экспериментальный квартал”, в Черемушки, где он живет с Инной, — в их квартире никто из нас еще не был. Выходим из машины, Гена, в трениках и тапочках на босу ногу, радостно улыбаясь, идет навстречу. Полшестого утра, на улице, кроме нас, никого. В одной руке у него бутылка пива, на ладони другой — огромный красный вареный рак.
Тут есть некоторая странность, с той запиской с киевским адресом Некрасова — она помечена 26 июля, а ведь 10 июля Некрасов с женой подали документы на выезд из СССР — о чем Гена прекрасно знал — и уже 28 июля получили разрешение.
Сейчас, подумав, я объясняю эту странность так. Гена — хотя даже пытался через некоторое знакомство содействовать отъезду — подсознательно не верил в это, не хотел верить, не хотел расставаться. Для него тогда этот замечательный человек, настоящий фронтовик из “лейтенантов”, годившийся ему в отцы, значил очень много.
И может быть, если бы Некрасов не уехал…
В августе я вырвался из Болшева — ура! “Вооружен и очень опасен” закончен и даже принят. Я наскоро покидал свои вещи в чемодан…
…И нелепо ли бяше! — а лепо, Милый Паша, ты вроде Алеко И уже не помню кого, Кто свободен руками, ногами, Кто прощается с Соловками! А к тебе обращается узник, Алексеевский равелин…Он печально стоял вверху лестницы, а я — скотина — весело сбегал по ступенькам с чемоданом.
— Возможно, больше никогда не увидимся, — сказал он.
Я остановился. Что говорится в таких ситуациях? Что-нибудь банальное.
— Гена, прекрати! Не сходи с ума!
— Ты не знаешь, я тебе не говорил, у меня цирроз печени.
Я, положим, знал.
— Гена, перестань! Ничего с тобой не будет.
Верил я в то, что говорил? Удивительно, но верил. Я ни на секунду представить не мог, что его может не быть.
Был конец лета. Он тоже наконец покинул “Алексеевский равелин” — Болшево — и перебрался в Москву. Я в то время почти всегда был в Ленинграде, на “Ленфильме”. Мы редко, но встречались. В основном всё в том же ресторане Дома кино. Он вроде бы не пил, но “на люди” его, видимо, тянуло.
Как-то вижу — со своего столика, где сидел с Княжинским, — он напротив, на банкете. Застолье в связи с выходом картины “Последняя встреча”, которую снял режиссер Бунеев по сценарию Адика Агишева.
Самого Адика почему-то не было. За столом сидела его падчерица Ира, красивая девочка, моя будущая жена, о чем ни она, ни я не подозревали. А банкетом руководила ее мама, Нора Агишева, моя будущая теща, о чем она никогда не узнала. Нора очень любила Гену, да, собственно, как и все. Он сидел рядом с ней. И, увидев наши с Княжинским взгляды, поднял вверх бутылку вина и жестом показал, что к вину не притрагивается. Так ли это было на самом деле?
И надо же, какое подходящее название — “Последняя встреча”.
И всё же — не последняя. Я увидел его в мрачный день панихиды по Шукшину. И даже тогда он удержался. А ведь это было уже в первых числах октября. Значит, оставалось меньше месяца.
31 октября вечером мы, несколько друзей, решили вести отныне исключительно культурный, а не богемный образ жизни. В связи с чем и отправились в Малый Гнездниковский переулок, где находился Госкино СССР. На втором этаже в зале Председателя наши друзья-переводчики Леша Стычкин и Гарри Статенков устроили для нас полулегальный просмотр “Крестного отца”. Первую часть, первый раз.
Вышли под большим впечатлением. Некоторое время топтались на улице, борясь с желанием отметить это впечатление в ресторане Дома кино. Побороли. И разошлись. В разные стороны.
Жил я тогда дальше всех — на Сиреневом бульваре. Я сел в метро на “Площади Революции” и минут через сорок позвонил в дверь квартиры. Мне открыла Нора, моя вторая жена, уроженка города Одесса. И сразу же — я еще был на пороге — сказала:
— Шпаликов повесился. Тебе звонил Горин. Сейчас будет звонить еще раз.
— Да? — сказал я спокойно, зафиксировав только звук первых двух слов, но не их чудовищный смысл. Ни мозг, ни душа не могли еще допустить, чтобы Генки больше никогда не было.
Я прошел на кухню, где на пластиковом голубом столике стоял телефонный аппарат. Сел к столу. Звонок. Я снял трубку. Да, Гриша Горин, из Переделкина, из Дома творчества писателей…
Когда человек умирает, он становится чужой собственностью. Тогда было другое время, и смерть знаменитого человека была просто горем. Сейчас она приносит доход и рейтинг. Вокруг памяти Шпаликова и Инны Гулая неугомонно шакалят и беснуются до сих пор. Сколько неправды, сколько лживых фантазий, достаточно только окунуться в интернет.
Я верю только взволнованно-покаянному “Письму восслед” Оли Сурковой, свидетельнице предпоследних часов Гены, сначала на Новодевичьем кладбище, где открывали памятник Михаилу Ильичу Ромму, потом в кафе в гостинице “Юность”. Она пишет, что он пил сухое вино. Заказал две бутылки.
И, конечно, верю тому, что рассказал Гриша Горин. Его удивило, что Гена не был на завтраке в столовой Дома творчества и не вышел к обеду. И он вместе с поэтом Игорем Шкляревским пошел в коттедж, двухэтажный “охотничий домик” — постучать в дверь к Шпаликову на втором этаже.
Потом они принесли лестницу, приставили к стене дома. Гриша Горин, медик в прошлом, работавший на “скорой помощи”, заглянул в окно…
Когда взломали дверь, то, кроме всего немногого прочего, обнаружили на столе выпитую до половины бутылку сухого вина. По-видимому, вторую бутылку из кафе “Юность”, сунутую в карман его зеленой брезентовой куртки, после того как он остался один и отправился в Переделкино. Но я еще знаю, что он одновременно с вином принимал сильнодействующие индийские транквилизаторы.
И еще, конечно, там был этот шарф, длинный, которым он обматывал шею, когда выходил на улицу в холодную погоду. И обмотал последний раз, привязав другой его конец к крюку в стене рядом с умывальником.
Смертельный шарф. Который окажется потом в моих руках.
Мы все в те ноябрьские дни существовали как в каком-то тумане, в бреду. Но — словно автоматически — делали всё, что полагается в таких случаях.
Место у Генки было — на Ваганьковском. Тогда там были похоронены его любимая бабушка и отчим. Правда, секретарь партийной организации Союза кинематографистов СССР, отставной полковник Паша Котов выразился в том смысле, что, вообще-то, самоубийц хоронят за кладбищенской оградой. Но мы с мнением партии не посчитались.
И без этого бреда было достаточно, причем даже в шпаликовском стиле, словно он сам, как обычно забавляясь по поводу жизни и смерти, придумывал все это для какого-то сценария.
Нам — мне и нашему другу Юре Хорикову — тогда еще военному переводчику, офицеру, что, конечно, нравилось Гене, — было поручено обеспечить гроб.
Но было это совсем не простое задание. По чьему-то опытному совету меня снабдили бумагой на бланке Союза за подписью кандидата в члены ЦК, депутата Верховного Совета, Первого секретаря Союза кинематографистов Льва Александровича Кулиджанова. Юра Хориков должен был сыграть роль силового прикрытия.
Тогда, как войдешь за ограду Ваганьковского кладбища, налево была контора ритуальных услуг. Тесное пространство было буквально набито плачущими, кричащими, возмущенно скандалящими родственниками и друзьями, рвущимися без всяких специальных бумаг к стойке, за которой стояла уже совершенно обалдевшая ритуальная тетка.
Хориков, в обход очереди, прокладывал дорогу в плотной массе тел, я сжимал бумагу и мужественно переносил оскорбления, в основном социального характера. Но пробились. Бумага с чьей-то резолюцией подействовала. Тетка начала оформлять. “Рост?” Как-то я никогда не задумывался, какого он роста. Посоветовались с Юрой. “Около ста восьмидесяти”. — “Запишем сто семьдесят девять”.
Получили квитанцию и, стыдливо пряча глаза, стали пробиваться назад к двери. Вдруг слышу:
— Мужчины! Вернитесь! Вы! Вы!
Вернулись. Что-то в последний миг — к счастью — остановило тетку.
— Вы что? — спросила она. — Ребенка хороните?
И оказалось, что из ста семидесяти девяти сантиметров нужно вычесть сто сантиметров — по пятьдесят от головы и от ног. Значит, когда она спрашивала, то имела в виду не рост покойника, а рост, размер гроба. И значит, если бы она нас не остановила, — спасибо ей! — в морг при МОНИКИ, откуда предстояло забрать Генку, был бы доставлен детский гробик.
И это был еще не последний эпизод гиньоля тех дней. Когда уже на кладбище мы длинной вереницей сопроводили каталку — слава Богу и тетке: с полноценным гробом, — выяснилось, что могильщиков нет, а могила еще не вскрыта. Так и простояли не меньше часа под ноябрьским тусклым дождем с гробом на руках, в ожидании, пока найдут, конечно же пьяных, могильщиков.
Незадолго до того, как я “попрощался с Соловками”, подходил от конторы — к главному корпусу нашего Дома творчества.
Спуск в котельную был справа от входа — от веранды…
На этой веранде один раз сидели — на солнышке — в креслах и шезлонгах — все наши самые главные болшевцы — Райзман и Юткевич с женами, Утесов — Райкина, кажется, тогда не было, зато мог быть Крючков. И вдруг — телега, старая лошадь и мужик с вожжами, очень веселый, — подъезжает прямо к веранде.
На телеге — собственной, немного пьяной, но в меру, персоной — Шпаликов, босой и мокрый. Потом он рассказывал, что они с мужиком-возницей всю дорогу хорошо говорили. Генка ему про кино всю правду открыл — уж представляю, что он нес — во вдохновении.
Все главные так и притихли от удивления. А Генка взял туфли, слез с телеги, пожал руку вознице и спокойно пошел мимо сидящих, очень мило со всеми здороваясь и пятная бетонный пол следами ног. Почему он был такой мокрый, я так толком и не понял — у него же никогда правду от фантазии отличить было невозможно. Вполне мог сказать, что ему захотелось испытать — для литературы, — как плавается человеку в одежде. Но он — попроще — объяснил, что в какой-то водоем свалился по дороге со станции. Протрезвел и очень развеселился. Пошел выпить немного портвейна в столовой и крепко задружился там с мужиком на телеге.
“Ему можно было пить, — глядя на меня правдивым и ясным взором, говорил мой друг, — он же не за рулем…”
Тогда — возле спуска в котельную — Шпаликов не видел меня, а я его почему-то не окликнул. Потом он мне объяснил, что решил избавиться от лишних бумаг, черновиков, тетрадей и сжечь это все разом в топке. Наверное, при этом пошутили про Гоголя.
Но эту сгорбившуюся под притолокой фигуру человека с кипой бумаг в руках, уходящую под землю, я запомнил. И это как-то странно — так мне, по крайней мере, показалось — рифмовалось с тем, как мы четверо — Саша Княжинский, Юлик Файт, Юра Хориков и я — спускались за ним в подвал морга.
На самом деле это был подъем — к его посмертной известности, такой даже при жизни не было. И особенно широкой в нашу эпоху интернета.
Но ведь не ради же этого…
Мне кажется, это было воскресенье. Во всяком случае, этим могло объясняться, что в ледяном подвальном морге была всего одна дежурная служительница. Совершенно, как полагается, дантовская старуха в синем халате.
Ребята выносили гроб, а я этот самый проклятый шарф.
— Брось его! — крикнула мне старуха сердито. — Брось! Не надо его трогать!
Я бросил. Она добавила:
— Не убивайтесь, что удавился, он у вас был не жилец.
Раннее стихотворение Гены, наверное, еще “суворовского времени”:
Дни люблю пить, Буду сухарь грызть, И все равно — любить. Даже без рук и ног И с пустотой впереди Я б добровольцем не смог В небытие уйти…Я до сих пор не могу понять — почему он это сделал?
Искал самые разные объяснения. В разные времена думал по-разному.
Его любили все, думал я, его поначалу легко и приятно было любить. Но по-настоящему в его жизни не было любви, которая могла бы его спасти и удержать?
Но любви-то, в общем, не хватает всем. Любви, сколько бы ее ни было, никогда не может хватать.
Я даже стал писать пьесу об этом. Героем ее был некий Лейтенант, неизвестно откуда появляющийся в шальной и многолюдной “квартире без взрослых”, которую я так или иначе скопировал с квартиры нашей подруги Юли Ануровой.
Герой был такой — Орфей, спускающийся в ад, и вместе с тем, отчасти, — Лука из “На дне”, утешитель и обманщик. В финале он не кончал с собой, а просто исчезал. Оставив в странном недоумении и одиночестве всех, кого он смог и успел увлечь за собой в придуманную им для каждого реальность.
Было время — ему всячески благоволило начальство. Особенно после “Я шагаю по Москве”. Я даже шутя называл его “большая русская надежда советского кино”. Ему тогда позволялось многое. По тем временам сценаристу получить для собственной постановки картину — это было событие. А он получил и очень хорошо снял “Долгую счастливую жизнь”, как своего рода дань непреходящему увлечению картиной Жана Виго “Аталанта”.
Я думаю, что, если бы тогда он удержался в режиссуре, все могло бы пойти по-другому. Но режиссура — это ведь не просто профессия, а еще и образ жизни. И этот образ он менять не собирался. Что, по доходящим до меня из Ленинграда слухам, он и подтверждал — разнообразно — во время съемок.
Из стихотворения “Воспоминание о Ленинграде 65-го года”:
Ах, Черная речка, Конец февраля И песня, конечно, Про некий рояль. Еще была песня Про тот пароход, Который от Саши, От Пресни плывет. Я не приукрашу Ничуть те года. Еще бы Наташу И Пашу — туда.У начальства картина любви не вызвала. Даже получение премии на фестивале в Бергамо его не смягчило. Видимо, Гена становился неудобен.
Он захотел поставить “Скучную историю” по Чехову — ему не дали.
Свалить его самоубийство на затравленность властью и временем, как делают сейчас какие-то очередные “исследователи” и “биографы”?
Начальники его и забавляли, и злили, и удивляли, хотя он всегда был готов оправдать любого. Но не более того. Отношения с начальством и отношение начальства к нему не занимало в его жизни того места, как, скажем, у Тарковского.
Я не помню, чтобы мы с ним в 68-м году обсуждали события в Чехословакии.
Из Югославии я вернулся в Москву 18 августа 1968 года. Тогда там все было рядом. И Чиерна-над-Тиссой, и простуженный Дубчек, и Брежнев, укрывающий его шинелью. Каждое утро я покупал “Борбу” или “Политику” и жадно — по складам разбирая сербский — узнавал то, что не смог бы знать в Москве.
В Белграде Вайншток договаривался со студией “Авалафильм” о совместной постановке “Всадника без головы”. Все лопнуло, конечно, в один этот день — 21 августа, когда танки вошли в Прагу.
Когда — за два-три дня до этого — мы ехали по Венгрии, навстречу шли платформы с танками. И цыганята забрасывали наш поезд камнями.
В начале сентября я встретил Гену на Новослободской улице, на пороге студии “Союзмультфильм”. Он делал тогда вместе с Андреем Хржановским “Стеклянную гармонику”.
“Фильм-аллегория о судьбе искусства (чиновник разрушает мир, населенный деятелями искусства, взятыми со знаменитых портретов) построен на превращении образов мировой живописи”.
Из интернетаМы тогда у “Союзмультфильма” невесело пошутили и разошлись. Конечно, в 68-м он был уже не тот ясный и солнечный Шпаликов, как во ВГИКе и во время “Заставы”. Но все же до 74-го года было еще шесть лет.
Незадолго до смерти он написал подряд два категорически непроходимых сценария. Безденежье, бездомье? Ну да, да! Травило его и это, загоняло в тупик, но не было, думаю, главной причиной.
Каждая эпоха со времен еще очень давних разными способами убивает хотя бы одного своего поэта. Одного? Не мало ли? Бывало, что и поболе, особенно если вмешивались очередные императоры, вечные хозяева нашего хлеба и наших зрелищ. Но веревка, пистолет, бритва всегда в собственной руке.
И, конечно, болезнь. Та старуха в морге недаром ведь каркнула про то, что не жилец, значит, видела результаты вскрытия. И, кроме дежурного свидетельства об асфикции, там было, видимо, нечто безнадежное о его несчастной печени, в которую он столько лет безжалостно впрыскивал алкоголь.
Я просто физически чувствую иногда, как его постоянно мучила тоска, та, что “с костями сгложет”. Тоска — это ведь только твое, ее никому не поведаешь до конца, ни с кем не разделишь. Тоска его растворяла, наверное, все причины и следствия, все бессознательное и сознательное. И просто глодала, глодала…
“Мысль о самоубийстве помогает переживать мучительные ночи”.
Фридрих НицшеНочь — пустыня, в которой ты совершенно одинок.
Самоубийство — иллюзия, которая кажется выходом.
И обида. И вызов, и месть, и бессилие. И сила отчаянной воли, которая все сильнее и неотвратимее натягивает шарф, привязанный к крюку в стене.
И все равно я виню время. Нет, конечно, не время спаивало наше поколение. Но всё же всё было бы не так, если бы всё было не так.
А себя? А нас? Тоже. Винил и виню до сих пор.
Точно злой ветер носил нас в ту ночь по Москве.
Начали, конечно, в ресторане Дома кино. А где ж еще было поминать Гену? За длинным — основным — столом было много народа. Но поминали его за каждым столом в ресторанном зале, все больше и теснее объединяясь. Плакали, говорили речи со спазмом в горле, ссорились, мирились, клялись…
А потом как-то так стали разбредаться по городу, кто куда.
Я каким-то образом оказался где-то возле Большого театра в мастерской художников. Коли Серебрякова и Алины Спешневой? Бори Алимова? Здесь тоже все объединялись, и пили, и горевали, и смеялись, и пели.
Но и оттуда меня вынесло — уже ближе к утру.
В квартире Вали Тура на Лесной была Белла Ахмадулина со своим тогдашним мужем Эльдаром Кулиевым, он, правда, уже спал в соседней комнате. Еще там были Катя Васильева и Миша Рощин. Если мне не изменяет память — Таня Лаврова. И Боря Мессерер.
С того дня я уже всегда видел Беллу и Борю вместе.
Выпивка кончалась. Горькая стихия прошедшего черного дня и хмельной ночи не давала расходиться. Решили идти в ресторан Белорусского вокзала — то еще местечко по тем временам, — который открывался в шесть утра.
Зал был почти пуст. Два-три уголовника.
Наш вход был предельно экзотичен. Впереди шла Катя в Беллиной белой балкарской папахе — подарок отца ее мужа Кайсына Кулиева. И с моей сигарой. Тогда я, перекурившись сигаретами чуть ли не насмерть, по совету Илюши Авербаха перешел на сигары, причем очень хорошие, кубинские, которые в Москве были на каждом шагу в табачных киосках.
Сели. Катя, уже без папахи, положила головку на решетку, закрывающую батарею, и задремала. Подошла злая — утренняя — официантка. Заказ наш был скромный — сообразно со средствами, но выразительный. Официантка молча слушала, косясь на спящую Катю. И, наконец, сказала:
— Ничего не принесу! Ни селедку, ни картошку, ни водку! — кивок в сторону Кати. — Пока эта… не проснется!
Мы не успели возмутиться, а Белла уже произнесла этим своим единственным чарующим — Беллиным — голосом:
— О, что вы? Что вы! Сон женщины священен.
Действие этого голоса, и этих слов, и этих глаз было такое, как если бы с пропитой официанткой ресторана Белорусского вокзала, привыкшей в основном к блатной фене, вдруг заговорил ангел. Она как будто бы даже на мгновение впала в транс и, тихо воскликнув что-то вроде “О Господи”, исчезла. Просто растворилась, оставив наши жаждущие души в полном недоумении.
Но очень вскоре возникла вновь с закусками и бутылкой, кроткая, тихая и не отрывающая взгляд от дружески улыбающейся ей Беллы.
Может, она потом поступила в Литературный институт?
Смерть — главное событие в жизни поэта, как считал Мандельштам.
Смерть как высшее проявление индивидуальности. Все, что угодно, может быть сравнимо, даже мысли, сны, привычки. Но смерть — только твоя.
До этого мы вели себя так, словно не знали, что умрем. Смерть Шпаликова была первым ударом по бессмертию, в котором мы не сомневались. Со временем этих ударов становилось все больше, но постепенно мы как-то притерпелись.
И, как всегда, смерть спешит доказать, что жизнь не имеет никакого значения. И, как всегда, судьба опровергает все ее доказательства.
Закрывает человек глаза, умирает с ним любовь. Или не умирает? Или бессмертная душа — это и есть любовь?
Запись 74-го года
Снова Болшево, перепечатываю Генкины стихи. Для книги, которую собирает Рита Синдерович.
Рита… Тогда она работала в сценарной студии, потом в Союзе — в Комиссии по кинодраматургии. Сколько сценариев она напечатала на своей машинке в своей коммунальной квартире! Помощница и подруга. Шпаликова, Андрона Кончаловского, братьев Ибрагимбековых, моя.
Первой книги Шпаликова 79-го года в суперобложке с картинкой работы Миши Ромадина, давно ставшей букинистической редкостью, не было бы без нее. И без Анатолия Борисовича Гребнева. Он уступил Шпаликову свою очередь в издательстве “Искусство”. И этим тоже пусть будет помянут.
Да и вообще книжка проходила нелегко. Все-таки “самоубийц над хоронить за церковной оградой”.
Тогда была пущена в ход тяжелая артиллерия. Евгений Иосифович Габрилович в этом 79-м году получил звание Героя Социалистического труда. Для сценариста это была невероятная награда. Я созвонился с Алёшей и поехал к ним на Аэропорт. Старик, ни на секунду даже не задумавшись, не читая, подписал написанное мной — осторожное, чтобы не спугнуть, — предисловие.
“Он умер неожиданно и рано…” — написано там, чтобы не преступить табу.
Просто умер. Что в этом удивительного? Каждый советский человек имеет право умереть. И даже неожиданно.
“…Петр Тодоровский… это прежде всего его стараниями Геннадий Шпаликов стал посмертно знаменит как поэт…”
Журналист Олег Кашин, рецензия на сериал Валерия Тодоровского “Оттепель”Прежде всего этому легкомысленному заявлению удивился бы сам Петр Ефимович, наш любимый Петя. И покойная Рита Синдерович. И мы все.
Запись 1975 года
Читаю Генкины дневники: 55–57 гг. Какой славный, чистый и простодушный мальчик, как он хотел успеха. Перепечатал для журнала “Искусство кино” и все время перечитываю. В них есть Генка. Когда печатал, вдруг в каком-то месте сжало горло… Так вдруг остро стало жалко Генку, до слез.
Запись 2005 года
Все последние дни что-то в голове, в душе это Генкино “Спой ты мне про войну, про солдатскую жену, я товарищей погибших, как умею, помяну”. Все время. А сегодня стало так вдруг его не хватать — поговорить бы с ним…
Спой мне, Гена…
Отвлеченные мысли, навеянные воспоминаниями о Дмитрии Мережковском
П. К. Финну
Живет себе, не дуя в ус, Героем “Энеиды”, Не в ГПУ — при Гиппиус, На средства Зинаиды. А тут — ни средств, ни Зинаид, Ни фермы и не фирмы, И поневоле индивид Живет, закован фильмой. На языке родных осин (На “Консуле” — тем паче) Стучи, чтоб каждый сукин сын Духовно стал богаче. Стучи, затворник, нелюдим, Анахорет и рыцарь, И на тебя простолюдин Придет сюда молиться. Придут соседние слепцы, Сектанты и пижоны, И духоборы, и скопцы, И группа прокаженных. И боль и блажь простых людей — Доступна, ты не барин. Хотя ты, Паша, иудей. А что — Христос татарин? Я не за то тебя люблю, Что здесь — и не однажды! — По юбилейному рублю Всегда получит каждый. Ты не какой-то имярек — Прошу без возраженья! — Ты просвещенный человек, Почти из Возрожденья…Вот нет ни Гены, ни Беллы. Я открываю личный — виртуальный — музей реликвий, которыми горжусь больше всего на свете — и хвастаюсь. Эскпоната всего два. Маленький самолетик — от Ахмадулиной. И это стихотворение — от Шпаликова.
Сон про Шпаликова. Он стоял с микрофоном на каком-то возвышении и читал свои стихи. В кепке. Как тогда — на остановке возле ВГИКа. Увидел меня, улыбнулся, как улыбался только он. Радостно и конфузливо. И позвал меня. Я думаю, он звал меня из рая, а не из ада, где ему вроде бы полагается пребывать по статусу самоубийцы. Потому что Бог гораздо милостивее и справедливее, чем все толкования Его намерений и решений.
Глава 4
Ах, юность, юность, ты что дым! Беда быть тучным и седым! Велемир ХлебниковЕсли бы я мог написать воспоминания о себе за других! Какие бы это были прекрасные, остроумные и трогательные воспоминания.
Друзья… Всегда надо иметь другое пространство для жизни и творчества души, если первое — ты сам. Как говорила бабка маленькому Бабелю? “Не имей друзей…. Не отдавай им сердца”.
Невозможно.
Те ужасные полтора года, когда они уходили один за другим, когда рассеялась почти вся моя компания…
Это такая игра — на выбывание. “Дети, дети, а кто остался в темной комнате?”
В молодости казалось, что мы, мы, мы населяем всю землю. А вот теперь земля постепенно пустеет. Вначале думаешь, что жизнь — это площадь, на которой все собираются, а в конце понимаешь: жизнь — это дорога, на которой ты один.
Ты тихий сумрак мой, Которым грудь свежеет, Когда на западе заботливого дня Мой отдыхает ум И сердце вечереет, И тени смертные снисходят на меня. Павел ВяземскийПрошлое реально, но герои его бесплотны.
“Утешительная мысль, если воспоминание живущих может быть приятно душам бесплотных”.
Алексей Вульф, близкий друг ПушкинаИ вот, наконец, мы все в раю. В легкости, в болтливости похмелья, осеннего золотого восторга дружбы и праздности. Под липами московского парка.
Внезапно увидел их — всех — нас — всех — сидящих за одним большим веселым и пьяным столом, — и тоска сжала мое сердце. Но это было лишь на мгновение. В раю тосковать строго запрещено.
Компания — очень важная для того времени — важнее, чем сейчас? — единица нашего существования. “Компании нелепо образуются…” — писал тогда про нас поэт. Он был сердит на нас.
Нет, компании образовывались очень даже лепо. Это были своего рода общества поддержки друг друга. Пиры во время чумы? Ну что ж! А если и так. Многие выжили и не заразились чумой только потому, что пировали именно за этими столами и именно с этими собутыльниками.
Надо помнить и о тех, кто сорвался в бездну — рабского приспособления и прямой продажи, прямого предательства.
Я стукачей и стука всегда боялся, но никогда не обращал на это никакого внимания. Ну, может быть, только “по утру проснувшись”. Боже! Что я вчера нес? При этом! При том! Но выходил вскоре из дома и забывал сразу же — во время или после пива. А они? Забывали или записывали? Вот бы почитать!
Конечно же, мы, с младых ногтей завороженные стилем чужого существования, копировали форму своей жизни с формы жизни чужой, предыдущей. Потому так много совпадений. Но мы подражали, я настаиваю на этом глаголе, а не эпигонствовали. Мы копировали, но одухотворенно. Как ученики старых мастеров — бокал, лимон, фазан, курчавая даль, нагая натура, — мы делали — один за другим — эскизы большого полотна, которое должно было быть — наша будущая жизнь.
Мы теряли невинность задолго до того, как ее теряли. Даже мечтая о богатстве, гордились бедностью. Она была веселой.
Правда, веселье нам чаще заменяло нравственность. Мы радостно учились друг у друга быть грешниками. Собственно говоря, наша яркая и безнравственная молодость — вся как веселая, самодовольная, простодушно-циническая — неосуждаемая? — пушкинская строка из письма: “Сегодня, с Божьей помощью, у…б Керн”. А потом — ба-бах! — и — “Я помню чудное мгновенье…”.
Реальность могла быть абсурдной, невыносимой, развеселой, опасной, предательской, грустной, гнусной, двусмысленной, лирической, романтической, черт-те какой, но это была наша реальность, и она устраивала нас, как черепаху панцирь, хотя порой мы могли ее ненавидеть и тяготиться ей.
Мы искали свою радость в погребках и духанах. Чем питался романтизм? Светлым армянским вином, рубль двадцать большая бутылка, чебуреками и колбасой суджук. В кафе “Арарат” была бамбуковая занавеска — так я до сих пор слышу звук, как будто сухой перезвон, который издавали все свободно соединенные коричневые суставы этой трепещущей занавески, когда мы, отодвигая ее рукой, входили в зал под низкими ребристыми сводами. Ура! Мы здесь, ребята!
Как же я любил эту дымную шашлычную у Никитских, даже сердце защемило, вспомнив. Она была — моя. И “Националь” с Олешей, Светловым и Веней Рискиндом. И тогда же — тоже, но реже — проход был затруднительнее — ВТО.
То самое ВТО, вспыхнувшее и сгоревшее в начале девяностых и дьявольским костром осветившее Новое Дивное Время — время пожаров и убийств. Мне кто-то рассказывал, что на пепелище одним из первых примчался Саша Абдулов и ходил там в тоске, ярости и недоумении.
И, наконец, ресторан Дома кино, уж совсем мое.
В молодости было интересно просыпаться по утрам. Потому что каждый день мог оказаться неожиданностью…
Поплавок на Москве-реке, цыгане. Венгерский цыган Янош. Темный, восторженный, хмельной цвет этого воспоминания.
“Все, что было сердцу мило, все давным-давно уплыло, все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело, только ты, моя гитара, прежним звоном хороша”. Безвозвратно… безвозвратно… “БАсан, бАсан, басанА…”
Как там у Шпаликова? “Тишинский рынок! Ах, княжинский рынок!”
И некого спросить, как звали ту нашу любимую дамуофициантку из кафе “Север” на улице Горького, к которой мы с Сашей Княжинским ходили выпивать — тайно — запрещенный для подачи коньяк — часто в долг. Потом мы привели туда Беллу, и она написала про нее стихотворение “Королева”.
Как высока ее осанка! Держа поднос над головой, Идет она — официантка В кафе под крышей голубой.Много лет назад Белла подарила мне свою фотографию, а на другой ее стороне нарисовала маленький домик, рядом девочку из палочек, больше домика, и написала: “Пашенька, все будет хорошо и даже еще лучше”. Она оказалась почти права: все было не очень хорошо, но все-таки стало лучше.
И уже гораздо позже — 12 марта 1978 года — подарила тоненькую книжку стихов “Метель” и написала на ней ясным, почти школьным почерком: “Паша, я всегда твой брат и друг и почитатель. Белла”.
Ну, “почитатель” — это от ее всегдашнего желания возвысить, уравнять с собой, а “брат и друг” — это да… Это радость.
— Пока! — товарищи прощаются со мной. — Пока! — я говорю. — Не забывайте! — Я говорю: — Почаще здесь бывайте! — пока товарищи прощаются со мной. Мои товарищи по лестнице идут, и подымаются их голоса обратно. Им надо долго ехать — до Арбата, до набережной, где их дома ждут.Набережная — это Фрунзенская набережная, это Юра Ильенко, еще наш с Княжинским друг и брат, еще московский малый, удивительно талантливый кинооператор, еще не деятель украинского националистического движения.
И как же только его угораздило так перемениться?
Хотя, между прочим, и тогда — иногда — мы в шутку называли его “гетьман”.
Арбат — это я. Вроде бы поначалу в стихотворении было “до улицы Фурманова, где их дома ждут”. Но тогда был бы обделен строчкой Юра.
Дома и ждали, и не ждали. На самом деле домом было то место, где мы были вместе. Бывали чаще, чем не бывали.
Дружба началась в Казахстане, в Кустанае.
Слева от моего стола на стене под фотографиями Княжинского и Риты Синдерович на могиле Гены Шпаликова в десятую годовщину его смерти, молодого Отара Иоселиани в кепке, Евгения Иосифовича Габриловича, Наташи Рязанцевой, Юры Клепикова — вместе, и моя тоже. Ильенко снимал. Я на верблюде, в ковбоечке, с записной книжкой и авторучкой. Типа молодой журналист. Юрка с Сашкой сделали деревянную рамку и написали на ней печатными красными буквами: “Хорошему, интеллигентному и воспитанному Паше от грубых операторов. 1958”.
Настоящая любовь к великой казахской степи пришла позже. Уже не Алма-Ата — Алматы. На этой земле прошлый раз я был сорок семь лет назад. Мусульманская рогатая луна в окне гостиничного номера.
В те дни я влюбился в казахстанскую степь. Горы и моря — их много было в моей жизни. Но степь — если вот так, как я сейчас, ехать, ехать, ехать — вдоль и через — обладает какой-то фантастической магией и силой однообразия, среди которого, как у великого пейзажиста, разбросаны тут и там — без всякого влияния на общий сюжет — лошади, верблюды и одинокие всадники.
День… Лошади, спасаясь от жары, стоят тесным кругом — плечом к плечу, голова к голове, обращенные к центру круга.
Вечер… Огромный, как солнце, медный лик луны и огромные белые верблюды с клокастыми вытертыми боками в полутьме. Страшен был внимательный взгляд верблюда мне в глаза и его губастый рот, набитый чем-то зеленым и перетирающий это зеленое ужасными зубами. Я играл с ним в “гляделки” и проиграл.
Доехали наконец, ночевка. Чунжа, уйгурское село. Гостевой дом национального заповедника. Недовольный ворчливый старик-уйгур со связкой ключей. Похоже, что “под анашой”.
А утром снова Актау — Мангышлак — Мангыстау — сковородка, как, усмехаясь, называют здесь эту степь с горами. Верблюд медленно, с достоинством переходит шоссе перед носом нашего “вэна”, а я читаю Бахтина. Через несколько метров другой верблюд, брезгливо оттопырив нижнюю губищу, что-то прошептал нам вслед, догадываюсь что…
Мазар, сухой бессолнечный жар, разносимый ветром. И этот неописуемый белый каньон в степи, который только неприязнь к банальности не позволяет сравнить с поверхностью Луны. Но все-таки сравниваю. Едем по Луне… Уже сорок…
За окном нашей “тойоты” сдвигаются и раздвигаются горы, сужается и расширяется пространство. И я думаю о том времени, когда возникали горы и исчезали моря. Какие же нечеловеческие муки испытывала земля!
1958-й. Кустанай. Целина. Наш сценарный курс, перешедший на второй, приезжает на практику. Но не на сельскохозяйственные работы, как актеры или режиссеры. Практика — литературная, журналистская. Это тот жизненный опыт, который потом поможет нам создавать глубокие реалистические и своевременные киносценарии о жизни и труде советской молодежи.
Я зачислен в газету “Кустанайский комсомолец” на свободную штатную должность переводчика с казахского языка.
Мы уже освоились, живем всем табором почему-то в обкоме партии. И тут приезжает вгиковская съемочная группа — снимать документальный фильм о целине. Режиссер — Миша Богин, операторы — Саша Княжинский и Юра Ильенко. Мы становимся друзьями. С Сашей навсегда, с Юрой — сложнее, но все-таки надолго.
“Я давно живу на свете, — говорила Анна Андреевна Ахматова, — и я не раз видела, как люди превращаются в свою противоположность”.
После какого-то скандала из обкома нас попросили. Теперь живем в школе, кровати составлены в классе. Но здесь мы только ночуем. Женя Котов, числящийся, кажется, ответственным секретарем газеты, и я, “переводчик с казахского”, проводим время в основном с операторами. Летим с ними в Тургай. Едем в “молодежный” город Рудный. Страшная дыра в земле — карьер, внутри — по террасам — двигаются гигантские жуки — многотонные самосвалы.
Снова Кустанай. Городской парк, по-местному — “горпар”. Танцплощадка, музыка. “Шеф нам отдал приказ лететь в Кейптаун…” Задрались с компанией боевых армян. У нас тоже два своих армянина. Бакинский, Боря Сааков, и сухумский, Юра Аветиков. Бакинский по-армянски не говорит, зато, к счастью, сухумский на армянском уговаривает нас не резать. Не режут.
Тир — хозяин тоже армянин — любимое место. Однажды дверь закрыта. Оказывается, пришли четверо и, вместо того чтобы стрелять пульками по зайчикам и мишкам, расстреляли хозяина. То ли конкуренты, то ли просто сволочи.
“Ресторан второго разряда”, швейцар в зеленом кителе и фуражке, чудовищно сопливые дети в ногах у женщин за столиками, бешеные мухи. Ухаживание за девицами из СМУ. Нас приглашают в гости к дамам, запах пудры и пота. Неширокая река Тобол на окраине города, который весь — окраина. Высланные в Кустанай проститутки, корявые, толстопятые пьяные тетки, заходили-заплывали далеко в воду в нижних белых рубахах — писали, хохотали и совокуплялись в воде с желающими. Презервативы плавали в Тоболе, как медузы.
Кстати, не такая плохая метафора: презервативы как медузы.
А само это “кстати”, пожалуй, в стиле великого мастера метафор — Олеши.
Я убежден, что вообще в начале всего была Метафора.
Кто придумал первую метафору? Христос, говоривший притчами? А что же это, если не развернутые метафоры всего сущего?
Самый шик метафоры, когда она вызов. Когда она насильно объединяет в образе несравнимое и добивается полной победы. “Прямые лысые мужья сидят как выстрел из ружья” — у Заболоцкого.
Есть метафора Бабеля, жаркая, жирная, бросающаяся в глаза, как вывороченные еврейские губы. “Зразы, пахнущие как счастливое детство”. Есть метафора Олеши, пластичная, подбегающая на цыпочках к зеркалу и любующаяся сама собой. “Девочка величиной с веник”. И если Бабель с размаху метафору шлепает на прилавок, как кровавый, сочащийся кусок мяса, Олеша, хозяин магазина метафор, бросает ее вдогонку, как цветок.
59-й год, конец зимних каникул, мы только что вернулись из Ленинграда — мой первый в жизни Ленинград. Мы — это Юра Ильенко, Давид Маркиш и я. Сидим в “Национале”.
Подходит Олеша к столу — он знает Давида. Похож на старую птицу с мощным грудным килем, вельветовый пиджак. Давид представляет нас ему. Его это совершенно не интересует. Сейчас думаю, у него уже была готова фраза, он просто хотел ее проверить на трех веселых молодых обалдуях.
— Старики! — говорит он. — Я только что из сумасшедшего дома. Сумасшедшие приняли меня, как родного.
Я никогда не боялся влияний, ни литературных, ни человеческих. Я даже искал их. Правда, скорее интуитивно, чем сознательно. Я всегда подпадал под влияние любого, кто мне нравился, в кого я — когда-то — влюблялся — а я был влюбчив в людей. Я и сейчас влюбляюсь, потрясаюсь и хочу немедленно подражать — но уже это касается только книг. Закрываю китайский роман и хочу писать так, как писал неведомый китаец первой половины восемнадцатого века.
Но все же я никогда особенно не подражал Олеше, разве что чуть-чуть. У меня просто особый слух, музыкального нет вообще, а этот — как его назвать? — видимо, есть. Я всегда — прежде всего — слышу голос читаемого писателя, говорящий только со мной, и, если этот голос доходит до моего ума и сердца, если он завораживает меня, я сразу — подсознательно, конечно, — хочу повторить его — для себя — эту интонацию, эту мелодию. Некоторое время я живу этим, потом это проходит.
И при этом проза Олеши не вызывала у меня такого восторга, как бабелевская. Гораздо больше волновали его “Ни дня без строчки”.
Утвердившаяся при соцреализме иерархия прозаических форм — роман, повесть, рассказ (роман — генерал, повесть от полковника до майора, рассказ — от капитана до сержанта) — как будто и не предполагала иных форм высказывания.
Но есть какая-то вечная потребность в такой, как у Олеши, форме литературного существования. Все такие произведения более или менее одинаковы: мысли о жизни и смерти, сомнения, оценки, печали, сны, планы, наброски, откровения, остроты, выписки, метафоры. Воспоминания.
Сейчас я понимаю, что он был не первый на этой стезе. Но я же тогда ничего этого не знал. Кроме дневников Ренара.
Литература — кукольный театр, писатели — кукловоды. Только свободное упражнение в языке без утомительной обязаловки “создавать героя” дает лучшую форму для самовыражения.
Высшее достижение — Розанов.
“…Василий Розанов — автор, сделавший расчленение собственного «Я» основным приемом собственного письма, отказавшийся от аксиологической иерархии смыслов в пользу монтажного калейдоскопа лишенных привычного порядка фрагментов реальности”.
Илья Калинин, “Виктор Шкловский как прием”Сейчас, когда я читаю не так давно изданную “Книгу прощания” Олеши, то есть полные “Ни дня без строчки”, я вдруг чувствую себя перед ней таким же готовым к подражаниям мальчиком, открывающим — не свою, с трудом где-то добытую — с рисунком Левы Збарского на обложке — книжку.
Вспомнил, у кого я взял эту книгу. Валя Тур. Мы стали дружить еще подростками, познакомившись, кажется, на встрече Нового, 54-го, года у Николки Анастасьева.
Валя был очень известный в нашей среде мальчик. А потом и московский молодой человек, чертовски обаятельный, всегда с деньгами в кармане, на родительской голубой “волге”. Сын “Пети” Тура, одного из братьев-драматургов, и красавицы Ады, которая потом тоже стала драматургом. Валька так ее и называл всегда — Ада. Она его обожала. Я видел в Дубултах, в Доме творчества писателей, как они играют в теннис. Можно было со стороны предположить, что эта красивая и очень спортивная женщина играет со своим молодым человеком.
“Туренка” знали все в литературной — и не только — Москве. Каждый год, как правило, он уезжал в Коктебель и привозил оттуда, как мы говорили, “ньюфрендов”. С которыми потом так или иначе сдруживался и я. Юлик Семенов, Гриша Горин, Толя Макаров, Женя Малинин, Боря Пархоменко, братья Вайнеры…
Долго были вместе. “Там, где Тур, там и Финн”. Родители наши — советские театральные драматурги — с виду тоже были приятели, хотя, как я догадываюсь, терпеть друг друга не могли.
Он был замечательно одарен. В начале. Когда писал стихи. Они нравились Пастернаку, Олеше и Светлову. И мне. Очень. Потом он бросил поэзию и по примеру родителей и под их влиянием тоже стал писать пьесы, они даже ставились некоторое время. В театрах Юного Зрителя, в Театре Советской Армии. Но и это кончилось. К горящему в тебе огню надо относиться бережно.
У него был очень яркий ум и замечательный поэтический вкус. Мы дурачились, веселились, шлялись, пили, но и говорили о поэзии. Постоянно. Я ему многим обязан. Например, он научил меня сразу же видеть — чувствовать — ту единственную строчку-образ, которая, как вспышка, озаряет все стихотворение.
Как он мог — при такой безвкусности в одежде, в отношениях с “нужными” людьми, с женщинами, с друзьями, с деньгами — иметь такой абсолютный и благородный вкус и слух в поэзии?
Мы вместе поступали во ВГИК, на сценарный. Он провалился, а я нет, чем был по-настоящему потрясен, потому что был совершенно уверен, что должно было быть наоборот. Потом он поступил в МГУ, на филфак.
Вообще, мы были на редкость разные. И это при том, что за годы постоянных встреч выработали общий стиль разговоров на людях и острот. Шутки, остроты, дурацкие наши стишки мгновенно “уходили в народ” и встречались с нами, когда мы уже забывали о своем авторстве.
Он был тогда в молодости такой московский плейбой, хотя так это еще не называлось. Я про него придумал, что он — гибрид Дон Жуана и Подколесина, сбегающего от женитьбы в окошко. А сбегать было от кого. Не было тогда, кажется, ни одной молодой актрисы, которая не надеялась стать его молодой женой. И ни одна не стала. В последнюю минуту всегда раскрывалось спасительное окошко.
Познакомил с ним своих новых друзей-операторов. Они его не любили, но иногда терпели — из-за меня. А я его любил тогда.
За всю жизнь — два моих лучших собеседника: Валя Тур и Илюша Авербах. С которым, кстати, он меня и познакомил. И с братьями Ибрагимбековыми тоже.
Умер Валька Тур… Утром — в половине седьмого примерно — подумал: надо бы Вальке позвонить, что-то он давно не звонил. А он умер в половине восьмого. Может быть, тогда его душа постучалась ко мне?
Сожгли Вальку.
Он похоронен рядом с Адой на Донском кладбище недалеко от моей мамы, Там раньше был крематорий, а теперь церковь.
Как заноза сидит во мне эта судьба.
Постоянно думаю о Вальке, о его идиотской судьбе и смерти. Вспомнил и в связи с Тарковским. Был короткий период их приятельства и компанейства. Конечно же, Андрей, как и многие обоего пола, подпал под Валькино обаяние. Дело было тогда в Репине, в Доме творчества. Тарковский с Мишариным работали над “Зеркалом”, тогда еще, видимо, это был “Белый день”. Ну и пили. Особенно Валька с Мишариным. Валька уехал в Ленинград, по амурным, конечно, делам. И оттуда прислал Саше телеграмму: “Я знаю, как поутру тяжко /Как тяжко в середине дня / Мишарин, не ходи в «стекляшку»! / Товарищ! Подожди меня”. “Стекляшка” — забегаловка на подходе к станции “Репино”. Потом я там тоже немало выпил.
Валька познакомил меня с Бродским. Сначала со стихами. В списках ходила по Москве гениальная “Большая элегия Джону Донну”. Валька получил ее на ночь. Старшие Туры были на даче в Переделкине, мы были одни в квартире. И читали друг другу — завораживая друг друга — звуком строк, колокольными ударами перечислений: “Джон Донн уснул, уснуло все вокруг, уснули стены, пол, постель, картины, уснули стол, ковры, засовы, крюк, весь гардероб, буфет, стена, гардины…”
Потом Бродский сам пришел к Вальке. Слухи ходили, что характер ужасный, нетерпимый, задиристый. Он был замечательно мил в тот вечер. Мы — втроем — пили вино из какой-то оловяной баклаги — Валька утверждал, что оно монастырское, — слушали Баха, “Страсти по Матфею”. Попросили его прочитать “Джона Донна”. Он почему-то не захотел, но взамен предложил — равный подарок! — только что написанную поэму “Исаак и Авраам”. “По-русски Исаак теряет звук…”
Я долго сопротивлялся манере его чтения. Только много позже, после его смерти, понял совершенную ее необходимость, ее слиянность. Произошло это вдруг — в церкви. В каком-то молитвенном чтении, в этой певучей, чуть гнусавой отрешенности я непостижимым образом услышал голос Бродского. Он, кажется, не верил — или верил как-то по-своему, — но молился. У великих русских поэтов стихи были молитвами. Пушкин, Языков, Лермонтов, Мандельштам, Бродский…
И последний раз встретился с Бродским у Авербаха. Середина мая, 72-й год. Приехал Илюша из Ленинграда, остановился, как всегда, в квартире родителей жены, Наташи Рязанцевой, — на Плющихе. Я еще не знал, что лет через восемь поселюсь поблизости, в Четвертом Ростовском.
Илюша вообще отличался фантастичностью идей и планов. На этот раз — с обычным его восклицанием “Восторг! Восторг!” — Томас Мэлори, “Книга о короле Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола”. Время для этого выбрано исключительно подходящее: Брежнев на дворе. Да и жанр для советского кино “передовой” — что-то с зонгами, с музыкой. Зонги должен писать Бродский, сценарий — я. Для того и встретились. Делаем гениальное кино!
Бродский — Авербаху: “Илюха”, а тот — ему: “Ося”. Ленинградцы, в общем, одна компания.
Окно открыто на Москву-реку, май в окне, солнце, ветерок, на зеленой насыпи над набережной резвятся два ярко-рыжих щенка-боксера. Илья босой полулежит на диване, Бродский ходит по комнате. Обсуждаем серьезно, воздвигаем очередной замок Фата-Морганы. Сейчас думаю: а может, это сон?
Илья — вдруг: “Ося, что у тебя за часы?” Бродский снимает с запястья часы. Действительно, какие-то особенные, военные, что ли? Объясняет: “А это мне Спиро Агню подарил”. Вот те на! Спиро Агню — вице-президент США!
Договариваемся о следующей встрече. Он уходит. И всё. Через две недели он улетает из Советского Союза.
Могла быть и еще одна встреча. С Ириной собираемся в Нью-Йорк, где я уже был не раз. Повод прекрасный, праздничный — “круглый” день рождения жены нашего общего с Бродским друга Ромки Каплана, прелестной красавицы Лары, давно, еще с Ленинграда нежно любимой. Сбор, конечно, у них в “Самоваре”. Там должен быть — и был — Бродский — со стихами, написанными в честь Лары. Но нас там не было. Очередное гадкое время в отношениях с Америкой, визы не дают почти никому. Мне дали, а Ире — нет. С тех пор я не был в Америке. Обиделся.
Бродский и Тарковский были одинаково нетерпимы — брезгливо-нетерпимы — ко всему, как сказал однажды Бродский, “засоряющему” искусство, ко всему, что не по их, не щадя никого, до Аксенова и Годара включительно. Что это? Свойство характера? Или “синдром жреца”?
Выходит “Мартиролог” Тарковского. Ну, вот и про меня, печатными буквами: “14 июня. Воскресение. Святая Троица. Прочел сценарий П. Финна для Кости Лопушанского. Слабо”.
Конечно, все-таки приятно, что читал в день Святой Троицы. Однако милосердия не проявил. Милосердием вообще не отличался.
Фрижа Гукасян, главный редактор 1-го Объединения “Ленфильма”, свела меня с выпускником Высших курсов, мне понравился его дипломный короткометражный фильм “Соло”, мы начали работать.
То был какой-то рабочий, промежуточный — возможно, действительно еще не готовый вариант сценария “Воспоминание о Плотникове Игнате”, через много лет в частично измененном виде ставшего фильмом “Роль”. Костя Лопушанский без моего ведома и, тем более, разрешения сволок его Тарковскому.
Но сейчас думаю, тут еще вот что примешалось. “Двадцать шесть дней из жизни Достоевского”! Только что вышла эта картина Зархи. И он не мог не знать об этом, там же еще “его” Солоницын, которого он сам хотел снимать в роли Достоевского. Может быть, потому он так официально меня называет: “П. Финн”. Хотя мы называли друг друга иначе.
Сидим с Княжинским в ресторане Дома кино, в другом конце зала Андрей и Отар, крепко уже пьяные. Андрей подходит к нашему столику, стоит, улыбается, о чем-то говорит. Я всегда чувствовал себя при нем несвободно. Потом они идут с Иоселиани к выходу, поддерживая друг друга. И я говорю Княжинскому: “Саша, вот сейчас они, не дай бог, попадут под машину — оба, и исчезнет в нашей стране великое кино”. Это был последний раз, когда я видел Тарковского в России.
Почему многие не принимают — не понимают — “Мартиролог” Тарковского? А ведь там подробно — по дням и годам — и предельно честно — записана трагедия. Подробности откровений, даже если они касаются подсчета потраченных денег, не снижают, а делают трагедию — его и времени — еще глубже и печальнее.
А самое печальное — кем-то снятый приход кинооператора Нюквиста к умирающему Андрею в пиратской повязке на обреченной голове, чтобы скрыть последствия “химии”. Париж, квартира Марины Влади. Андрей на кровати, в подушках. Говорит о земном и даже как бы оживляется при этом. Скорее для остающихся на земле, чтобы им не было так неловко перед ним, уходящим.
Я просто не мог смотреть эти кадры… И эта последняя запись в дневнике, на рисунке дома, который они собирались построить с Ларисой. “Дом, который я так и не увижу”.
Какой все-таки подарок сделала мне судьба. Ушедшие и живущие, слава богу. Параджанов, Тарковский, Герман, Авербах, Муратова, Иоселиани.
И между прочим, я благодарен Лопушанскому. Вместе с Машей Чугуновой они записали от руки то, что говорил Тарковский слушателям на Высших курсах, — “Лекции о режиссуре”. Костя принес мне их в больницу, где я лежал с открывшейся язвой, и эта глубокая — в некотором смысле даже вызывающая — “философия кино”, с которой я не во всем сразу согласился, все-таки во многом изменила мое отношение к этому искусству.
Меньше всего я думал и рассчитывал в юности, что в конце концов окажусь автором почти шести десятков картин. И какие-то люди, которых я придумал и написал, теперь, словно посторонние и чужие, толпятся где-то вне меня, разговаривают, что-то делают, переживают, выясняют отношения — кто на экране, кто до экрана так и не дойдя.
И только мой несчастный неудачник Сашка болтается, как неприкаянный, всю мою жизнь — ни туда ни сюда. Всю жизнь он, бедолага, в лесу, всю жизнь в поисках просвета за деревьями, где под несчастливой березой в домике из палочек страдает от тоски он сам, старый дурак…
Все черновики и наброски ненаписанного романа я загнал в самый дальний угол компьютерной памяти. И в самый дальний участок мозга, где прячутся также мое честолюбие и моя нерешительность. Но иногда какие-то фразы, фрагменты, персонажи вдруг отчаянно вырвутся на волю. И тогда…
Наброски из ненаписанного романа
Я слепил сосланного в этот город — выдуманного — шестидесятилетнего режиссера Загорского из разных реальных людей.
Загорский еще до революции играл и режиссировал в провинции и был известен. Но мне не нужно было, чтобы его вышвырнули из Москвы “за политику”. Мне нужен был на этом месте некий андрогин — безусловно мужественный и мудрый в искусстве, но всеядный в своей всеобъемлющей чувственности. Мне нужен был этот очаг соблазна, коварно объединяющий талант с пороком, чтобы мой Сашка в своем неведении мог миновать его, даже не узнав об опасности.
Встреча Бориса с Загорским в этом городе, где он, талантливый, умный и презрительный, как черт, живет до поры одиноко и нелюдимо на жалкие гроши ссыльного, совершенно случайна — на улице.
Роман вообще лучшее место для случайных встреч и пересечений, выгодных автору.
В номере, по ту сторону занавески, выпивка, вопросы, восторги, сомнения — заговор, шепот, таинственность. Недаром Левашов декламировал стихи про Гамлета. Идея поставить Шекспира вдруг взорвалась неожиданно. Сашка, в кровати притворяясь спящим, слышит это.
Кто Гамлет? Конечно, Борис!
— Я чувствую, что смогу.
Но начальство театра и слышать не хочет о “Гамлете”. Но почему, собственно? Разве он был тогда под запретом? Может быть, из-за одной фразы Розенкранца:
— Так весь свет тюрьма?
Мамино предложение: а что, если Сталину сообщить о запрете “Гамлета”?
“Родная моя девочка, живем в счастливую эпоху. Вам, молодым, должно работать и крепиться, а мы будем жить вашим счастьем”.
Письмо бабушки Елены Марковны к маме в Ереван, январь 1950 года“Шекспир великий писатель, но надо учиться писать лучше, чем Шекспир”.
Иосиф Сталин“Джойс — Вишневскому: Шекспир, вероятно, пользуется у вас успехом, потому что в последнем акте убивает всех королей?
Вишневский: В числе ряда свойств Шекспира мы ценим и эту его склонность”. Откуда-то, не помню — откуда.
Наброски из ненаписанного романа
…Он жил тогда в городе Измена на улице Большое Коварство…
Актеры — под предводительством Бориса — начинают ходить к Загорскому. Сашка, на то время прирученный молодой, с губами негритенка актрисой Танькой, рассчитывающей на Офелию, как-то так увязывается с ними.
Сашка знает, Танька любит ходить без чулок. Зайдет он за ней, чтоб сопроводить на рынок, или в театр, или к Загорскому, она сунет босые ножки в туфли — и бежать. Сердце его колотится.
“Твой хвостик”, — говорят Таньке актеры про Сашку. И при этом он все еще пробирается, как тать, смотреть на голую Зою-соседку, и — при этом — еще снисходительный, но какой-то царапающий интерес к дочке главного режиссера, с ее босыми, как у матери, грязноватыми лапками. Но только думая о Таньке, представляя ее себе, он шепчет под одеялом: “Люблю! Люблю!”
Огромный нахмуренный Загорский, с рыже-седой неопрятной гривой, со слезящимися, голубыми, мутноватыми глазками, с веснушчатыми лапами, лежащими на протертых до ваты подлокотниках вольтеровского кресла. Отлакированные внутри шлепанцы с отдавленными тяжелой походкой задниками. Накинутая на жирные плечи пижамная куртка с оборванным витым шнурком…
Обычно в такие приходы актеров к Загорскому Сашка устраивается в углу за книжными полками и тихо слушает.
— Шекспир — вечное оправдание театра, — говорит Загорский. — В Шекспире я люблю то, что не имеет отношения к словам и в словах почти не выражается, но чувствуется и есть. Бури. Развевающиеся волосы. Гигантские тени. Скрежет заржавленных засовов на огромных замковых воротах. Призраки, великаны и ведьмы. Волны и ветры. Циклопическая кладка трагедий и полный озона воздух после грозы, разрушившей полмира.
Гамлет — трагедия о выборе. Трагедия о свободе воли. Ведь выбор и есть столкновение свободы и несвободы воли. Быть или не быть? Не быть вообще или не быть тем, кем был прежде.
“Гамлет” при всем трагизме происходящего — вещь праздничная. Как, собственно, и весь Шекспир. В Эльсиноре не было тоски и угрюмости, вовсе нет. Вот когда начали твориться все эти дела, заваренные Гамлетом, тогда начинают распространяться по переходам и залам ужас и предчувствие, тогда темная туча встанет над Эльсинором, пока не прольется кровавый дождь, пока не наступит кровавое разрешение всех противоречий.
This time is out of joint! Время вышло из своих суставов.
Гамлет всегда ошибочно кажется злободневным, всегда кажется удобным поводом для размышления о данном времени — но он на самом деле есть размышление о жизни и смерти, о христианстве и язычестве, о возмездии и мести.
Месть — чрезвычайно эгоистическое чувство, бесплодное чувство, замыкающее человека в некой клетке. Мне отмщение, и Аз воздам, помните?
Сашка не понимал половины, он как будто вдруг переставал слышать, почти засыпая под приливом катящихся на него слов. Но что-то вновь возвращало его из краткого, как сновиденье, забытья. Что-то заставляло его прислушаться, ловя обрывок мысли. Что-то, что как будто касалось его самого.
— Существует мнение, — говорил Москвин, — что Гамлет рожден с презрением — к человеку, к лжи человеческих отношений, причем к человеческим отношениям на самом высоком их уровне: мать и сын, жена и муж… Клавдий-отравитель и Гамлет-мститель. Но играть надо не короля и принца, а отчима и пасынка. Отчима, заинтересованного в том, чтобы пасынок ему поверил, перестал хмуриться и воображать из себя невесть что и не мешал ему наслаждаться властью, троном и его матерью-королевой…
“Что? Что? — пробудившись, крикнул внутри себя Сашка. — Гертруда — мама, Клавдий — Борис?.. А я? Я Гамлет? О! Я Гамлет! Холодеет кровь!”
Загорский говорил, теперь глядя на взволнованную, с приоткрытым ртом Таньку и на Бориса рядом с ней, сидящего на полу у ее ног.
— О несовершенствах. Начнем с Офелии, с того, что никогда не получалось ни у одного из режиссеров и не получится впредь, потому что никто не понимает, что, собственно, произошло, в чем вина Офелии, именно то, что не понимает и сама Офелия. И что не понимает и сам Гамлет. А значит, это не поймут и зрители, что совершенно не важно, потому что эффект можно извлечь и из непонимания. Но в чем вообще вина женщины перед мужчиной? Неужели в том, что она из его ребра?
Внезапное страстное движение! Борис алчно обнимает Танькины голые коленки — не по указанию Загорского, а по приказу своего чувствительного — актерского — животного — нутра. Загорский одобрительно хмурится.
Борис — Гамлет вскакивает, будто хочет убежать, но снова садится, как падает, у ее юных ног.
— Я вас любил когда-то.
— Теперь давайте подумаем, — говорит Загорский, — когда Гамлет в глубине, а когда на авансцене? Трагедия постоянно указывает, что он крадется, прячется, пробирается на втором плане, возникает неожиданно из-за угла, из-за занавеса, из замковой тьмы, из тайны, путаницы и холода каменных переходов. Но это когда он внутри сюжета, внутри своей цели, своей мести. Вместе с тем главное для роли — его взаимодействие с некой метафизической силой, которая, собственно, и есть единственный его партнер и поддержка — ведь он космически одинок. И чтобы не терять связи с этой силой, он должен выходить вперед… на авансцену.
Гул затих, я вышел на подмостки. Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку. Борис ПастернакСашка, пожирая взглядом Бориса и Таньку, внутри себя: “Измена! Измена! Рапиру мне, рапиру! Полцарства за рапиру!”
Гибельный восторг предчувствия поворота сюжета и необходимости выбора!
— Чистый мальчик, — скажет Загорский про Сашку, провожая актеров и задерживая в дверях Бориса. — Мил он моему сердцу.
Когда мне было девятнадцать, я мечтал, чтобы мне скорее стало двадцать. Тогда я очень уважал этот возраст — двадцать лет! Мне всегда почему-то не хватало одного года, чтобы сделаться окончательно взрослым.
Дурак! Окончательно взрослым человека делает только смерть.
…Прошлое поет под гитару, прошлое поет голосом Окуджавы и Высоцкого. Говорит голосом Беллы…
Новоподмосковная, мы за столом. Пельмени, в синих рюмках плавает размножившаяся лампа, повисшая над столом.
— Пашенька, позвони маме.
— Мама, я в институте. У нас ночная съемка.
Я был тогда лучше, чем сейчас. Невиннее. Время подпортило меня.
Запись 1959 года
Что же делать в этой жизни? Мне открылось в ней нечто щемящее и грустное. И слезный ком тревоги повернулся в груди и подвинулся к горлу…
Запись 2015 года
Действительно грустил или напускал на себя? Черт его знает, того меня…
Есть самые глубокие тайны, которые не дано раскрыть ни человеческому уму, ни даже человеческому сердцу. Среди них — тайна печали, настигающей нас неожиданно и непонятно. Тайна рождения печали из ничего — из воздуха…
Возникновение дома из ничего. Из воздуха. Призрак родного дома. Голуби, собирающиеся возле несуществующих окон и балконов, где их кормили. Сначала возникают голуби, потом окна, потом тени в окнах, потом… Дыра в балконе, пробоина после немецкой бомбы, вокруг нее возникает балкон с рухлядью, выходят люди, пускают мыльные пузыри…
На балконе Белла, Саша, я. Юра снимает нас из комнаты, через окно.
В скрученную из плотной бумаги трубку набирается жидкое мыло и осторожно дуется в эту трубку, пока от ее разлохмаченного раструба не оторвется сияющий шар. Можно было добавить в мыло немного одеколона, тогда трепещущие и, как в кривом зеркале, меняющие форму, пронизанные солнцем шары получались с разливом нежных, переливающихся красок. Шар отрывается, на несколько секунд повисает над двором и, подгоняемый ветерком, улетает все выше и выше, куда-то за пределы нашей молодости, нашей жизни.
Моя комната на Фурманова, бывшая “детская”, а теперь уже более или менее — “взрослая”. Разрисованные друзьями стены, расписанные и просто процарапанные по штукатурке. Окно на балкон.
Наш балкон и нижние два были пробиты насквозь немецкой бомбой, но бомба чудом не взорвалась, оставив жить этот дом, чтобы по прошествии времени его уничтожили в угоду советским генералам, приглядевшим себе это дорогое московское местечко — Фурманова, угол Гагаринского.
Я часто подолгу стоял на своем балконе, рассматривая пятиэтажный, как и наш, дом напротив. И двор, соседний с нашим, отделенный полуразрушенной стеной, каменной и, можно сказать, социальной. Тот двор, выходивший и на Фурманова, и на Гагаринский, окружали старые московские домишки, кирпичные и деревянные, были цветнички перед ними, картошечка тоже цвела в свой срок, у кого-то паслась коза. Можно было наблюдать за козой. Народ проживал там все больше бедный и простой, в меру скандальный, пили, гуляли, орали и дрались там гораздо чаще, чем в нашем “писательском” дворе. Но главный интерес для меня представляла жизнь в окнах противоположного дома, в его квартирах, — бесконечный общий план с событиями на дальнем плане.
Оттуда, из этого дома напротив, я фестивальным летом 57-го года получил свою первую — “настоящую” — девушку. Окна ее коммунальной квартиры выходили на Афанасьевский, а одно, в общей ванной комнате, во двор. Мы гуляли по Гоголевскому бульвару, целовались на скамейке, я нагло врал ей о своих победах над женщинами, она не верила, и я злился, когда она называла меня “Бэмби”. Расставались поздно и шли по домам, и она появлялась в своем окне. Как царица Тамара на иллюстрации к стихотворению Лермонтова. Только коварная Тамара была все-таки одета во что-то.
Вообще-то, моя царица была замужем.
Набегавшись, наговорившись, насмеявшись — надружившись, засыпал в своей ободранной и разрисованной друзьями норе на Фурманова, баюкая себя честолюбивыми сказками, где я всегда был герой.
Квартира четвертого этажа, под нами. От них постоянно пахло борщом, как будто он, как в немецкой сказке, варился всегда. И оттуда же доставал меня скрип виолончели. На ней играла дочка полковника. Конечно, я сообразил, каким образом папаша попал в наш протухающий писательский дом. Он вселился в квартиру кого-то посаженного. Кого? На чье место внедрился полковник? Ясно, что он был чекист, хотя, кажется, ко времени проживания подо мной служил в МВД. Однако дочка была вполне терпима, вежливая, полненькая и очень похожая на отца-полковника. О, если бы только она не пилила каждый день на этом ужасном инструменте под названием виолончель. Как-то она потеряла ключ от своей квартиры и маячила на четвертом этаже в тоске. Сначала я пытался отомкнуть ее замок с помощью своего ключа — не получилось. Потом на площадке, где мы обсуждали с ней сложившееся положение, появился мрачный большелобый мальчик, живущий в бывшей квартире Габриловичей, под номером 56. Буковский. То ли он еще учился в моей 59-й школе, то ли уже его вышибли за антисоветскую вроде стенгазету, и он уже знал Есенина-Вольпина, о котором мой старший брат Витя говорил, называя его Алик и понижая от пиетета голос, — не помню. Но дело не в этом. А в том, что Буковский круто надавил плечом на дверь полковника, и она открылась.
Наш подъезд, первый в доме ближе к углу Гагаринского, был как бы вписан между двумя знаменитыми иностранными журналистами. Через два подъезда много лет жил Генри Шапиро, корреспондент агентства ЮПИ. Тот, который “два мира — два Шапиро”. Происхождение этой ходившей по Москве остроты и принадлежавшей то ли Светлову, то ли Олеше, связано со вторым Шапиро, советским. Второй Шапиро был заместителем директора ЦДЛ. Я его помню, тоже маленький, как и первый, и очень суетливый.
Возле подъезда американского Шапиро стоял его большой черный “шевроле”. Зимой автомобиль заносило снегом. И я не раз, возвращаясь домой в веселом состоянии, писал пальцем по снежной поверхности: “Янки! Гоу хоум!” Что совершенно не действовало на Шапиро, ему нравилось в Москве.
Недалеко от нашего дома в Гагаринском переулке, тогда улице Рылеева, в особняке, бывшем доходном доме начала века, жил с женой и дочерью Эдмунд Стивенс, тоже американец, корреспондент “Christens Sainz Monitor”, лауреат Пулитцеровской премии. Особняк был почему-то отдан ему во владение. Там был известный московский салон, где собирались знаменитости, поэты и художники. Однажды я вернулся домой поздно вечером, наша улица была совершенно пуста. И вдруг услышал мелодичный перезвон, он все приближался и приближался из темноты со стороны Сивцева Вражка. И наконец, мимо меня прошел Илья Глазунов. Это он звенел. Вернее, маленькие колокольчики, приделанные к голенищам щегольских иностранных сапог. Он шел к Стивенсу.
В тот поздний вечер, когда я уже не один, а с женой Норой вернулся из ресторана Дома кино, улица Фурманова была перегорожена автомобилями и со стороны Шапиро, и со стороны Стивенса. Дверь подъезда была открыта. Сексоты, как кариатиды, выстроились вдоль стены с первого до четвертого этажа. Нас пропустили совершенно молча, без вопросов — видать, прекрасно знали, кто такие. Квартира Буковских на четвертом этаже была распахнута, входили и выходили гэбэшники. На площадке стояла и нервно, зло курила его худая сестра. Самого Буковского уже увезли. В квартире шел обыск. На Корвалана его обменяли позже.
Читаю давний роман Толи Макарова “Жилплощадь”. Вспомнил, как до последнего цеплялся за свой обреченный на снос дом на Фурманова. Уже и свет отключили, и воду, а я еще приходил туда по ночам — выпивать в бедном одиночестве и спать. Один из всей семьи, я таким образом боролся за наш дом, как капитан на мостике уходящего под воду судна.
Кстати, в одну из таких ночей я привел Толю с собой, наверное из ВТО, в темную страшную квартиру, освещенную одинокой свечой, стоявшей на стуле возле кровати, и мы выпивали вдвоем. Наверное, закусывая плавлеными сырками. Я до сих пор помню, как кусочки серебряной бумажки приставали к жирной желтой поверхности и надо было их отрывать ногтями. Выпивка тоже стояла на стуле.
74-й год. Мы идем с Княжинским по улице Фурманова. Через дома — с Гоголевского бульвара — могучими струями из брандсбойтов гасят поднявшуюся над разрушеным, сотрясенным моим домом гневную, темную тучу пыли. Каким дождем судеб и воспоминаний могла бы пролиться эта туча…
Сколько посаженных, погибших, процветших…
Советские писатели. Когда расстреливали и ссылали друзей, как они жили после этого? Жили. И встречали Новый год.
Шумным и напористым председателем писательского кооператива, надстроившего этот дом над двумя старыми этажами, был Мате Залка, генерал Лукач, венгерский еврей, сын трактирщика, военнопленный в 16-м году и красный командир в 18-м. Погиб в Испании в бою под Уэской. Прочитайте о нем стихотворение Константина Симонова “Генерал”.
Давно уж он в Венгрии не был, С тех пор, как попал на войну, С тех пор, как он стал коммунистом В далеком сибирском плену…Отец и мама жили в этом доме с 1934 года — брату был год, — но в другом подъезде, в другой квартире, в двухкомнатной. В таких же точно квартирах — над и под — жили Мандельштамы и какой-то венгерский пролетарский писатель. Пролетарского писателя, как водится, посадили, квартира пока стояла опечатанная. И вот ночью прозвенел звонок, родители пробудились в ужасе. Ночной звонок тогда обычно звучал как приговор. Что-то накинув на себя, они пошли открывать дверь. Так и есть! За дверью чекисты, двое. Почему-то со смущенным видом. Днем невозможно вырваться — извиняясь, объяснили они, — такое количество неотложных дел. (Можно себе представить!) Но одному из них предстояло въехать в освободившуюся квартиру, точно такую же, как наша, но опечатанную. И они хотели бы, если можно, посмотреть планировку.
Когда в 40-м, за год до войны, появился я, отец обменялся квартирами с вдовой известного пародиста Александра Архангельского, и у нас стало уже три комнаты.
Мы тогда любили и повторяли Слуцкого:
У меня была комната с отдельным входом, Я был холост и жил один. Всякий раз, как была охота, В эту комнату знакомых водил.Вход был не отдельный вовсе, но знакомых водил.
Всех — исчезнувших — собрать бы в исчезнувшей квартире на Фурманова…
Остался один осколок дома — наш подъезд. Мы с Княжинским осторожно — справа воздух, провал, не дай бог оступиться — поднимаемся по лестнице на пятый этаж. В моей квартире номер 67 выломан паркет, под ним открылась накопившаяся за тридцать четыре года жуткая труха, сор — артефакты семейной жизни. В этой трухе нахожу мамину фотографию с уголком, на паспорт, молодую.
Я сетую на то, что новый, вальяжный, самоуверенный домина встал на месте моего? Но ведь мой дом 3/5 тоже возник на чьем-то месте, и так же ворчали и злобились те, кого выселяли — куда? — подальше нас, наверное, — и те, кого оттеснили в первые два бедных, коммунальных этажа. Но вот беда, и они, эти обиженные жильцы, тоже, выходит, не были правы, ведь и они когда-то после революции заняли чье-то место.
Жизнь — это запутанная и загадочная комбинация самых простых и самых сложных взаимных несправедливостей. Итак, кто же действительно вправе сказать: “Я не виновен перед братьями своими”? Никто.
Ни среди бедных, ни среди богатых мне никогда не было по себе. Ну, разве что с бедными было попроще. Я равнодушен к бедности и богатству, но я не выношу психологию бедности. В детстве, в юности во мне многое испортила бедность. Но богатство, уверен, испортило бы больше.
Проклятье моей вгиковской поры — “опыт жизни”. Буквально у всех на курсе его хоть ложкой ешь, а у меня, в семнадцать лет поступившего вчерашнего школьника, не было и в помине.
Тогда как раз входило в моду выражение “комплекс неполноценности”. А у вас на моем месте не развился бы этот комплекс? Если один сокурсник застал Великую Отечественную вроде даже как участник, другой воевал в Корее, третий был офицером-вертухаем в лагере, четвертый матросом какой-то статьи и ходил в плаванья, пятый… И так далее… Врали, конечно, много, но все-таки что-то же было правдой? А у меня правдой были только сплошные переэкзаменовки и распитие портвейна в подъезде.
За этим проклятым опытом я при первой же возможности лез во все дыры жизни. Не хотел ужасно, но лез. Выпивал для храбрости, но лез. И однажды утром, очнувшись и поспешно выбравшись из одной такой несусветной дыры, где провел грешную ночь, я поднял глаза и увидел табличку с названием “Последний переулок”! Остановило это меня? Пожалуй, нет. Разве только что на несколько мгновений похмельного раскаяния и обещания — самому себе — впредь жить по-другому. Но обещания, данные самому себе, не выполняются еще чаще, чем обещания, данные другим.
В конце второго курса мы уже сами выбирали место творческой практики.
Под влиянием Хемингуэя я возмечтал о Горном Алтае и сманил своего сокурсника Адика Агишева.
Барнаул, потом Горно-Алтайск, Чуйский тракт…
Записная книжка, июль 59-го года
Завтра должны выехать в Бийск. Шесть часов езды по железной дороге, а пароходом — против течения Оби — двое суток.
Поезд “Барнаул — Бийск”. Автобус “Бийск — Горно-Алтайск”.
Река Катунь. Шебалино. Оленесовхоз. Рога маралов вырастают из высокой травы, как осенние голые деревья.
Онгудай. Писать ярко, сдержанно и напряженно.
Семинский перевал. “Водитель! Проверь трансмиссию, тормоза…”
Телецкое озеро. Катер “Спокойный”.
Товарняки. На ночь заперли в комнате с большим сейфом и плакатами на стенах.
Барнаул. Ночевка на вокзале.
Благодарен Алтаю — товарнякам и милиционерам, сдернувшим нас с Адиком с платформы, груженной щебенкой, и засадившим под замок, откуда мы благополучно бежали. Благодарен вокзалу в Барнауле, где спал на заплеванном полу, и опять же милиционерам, будившим и гнавшим меня и других, бесприютных братьев. Благодарен скамейке на бульваре рядом с гостиницей “Алтай”. На ней я, изгнанный за неуплату из общежития Выставки народного хозяйства, проводил дни в ожидании перевода денег от друзей из Москвы, а деньги всё не переводились и не переводились. И особенно я благодарен тому мужику, который, из сочувствия “москвичу”, доброжелательно угостил одеколоном “Тройной”, купленным в соседней аптеке и — только для меня — все-таки разбавленным простой газировкой из сатуратора.
Телеграмма от Княжинского — в Барнаул: “Держись!”
Наконец деньги от ребят приходят. Дорога домой. Общий вагон. Иногда подкармливают солдатики-дембеля, угощают чем-то теплым и отвратительным, что могло считаться водкой. Не выдержав, пошел в вагон-ресторан, заказал борщ. На все оставшиеся деньги. Только пятак спрятал — на метро до Дворца Советов. Глотая голодную слюну, перчу борщ. Крышка перечницы, неплотно завинченная, отваливается и весь перец — горкой — в тарелке. Съел.
Бродя по Горному Алтаю вместе с Адиком, по тайге и через горы, вдоль зеленых рек, ночуя в юрте у гостеприимного ойрота и скорчившись на вокзальном полу, я еще не знал, что в Москве завершается эпоха. Белла уже не с нами, она жена Юрия Марковича Нагибина.
Теперь я понимаю, что еще не было ни скандала в общежитии Литинститута на Бутырке, ни исключения ее из института и восстановления с помощью Сергея Сергеевича Смирнова, ни поездки в Хакасию от Литгазеты с писателями, среди которых был Нагибин, а она уже заранее прощалась с нами:
Я здесь живу. И памятны давно мне все приметы этой обстановки. Мои товарищи стоят на остановке, и долго я смотрю на них в окно. Им летний дождик брызжет на плащи, и что-то занимается другое. Закрыв окно, я говорю: — О горе, входи сюда, бесчинствуй и пляши! Мои товарищи уехали домой, они сидели здесь и говорили, еще восходит над столом дымок — это мои товарищи курили. Но вот приходит человек иной. Лицо его покойно и довольно. И я смотрю и говорю: — Довольно! Мои товарищи так хороши собой! Он улыбается: — Я уважаю их. Но вряд ли им удастся отличиться. — О, им еще удастся отличиться от всех постылых подвигов твоих. Удачам все завидуют твоим — и это тоже важное искусство, и все-таки другое есть Искусство, — мои товарищи, оно открыто им. И снова я прощаюсь: — Ну, всего хорошего, во всем тебе удачи! Моим товарищам не надобно удачи! Мои товарищи добьются своего!Я и сейчас будто слышу ее неповторимый — детский — голос, выпевающий стихи. Ведь это как будто о ней — пастернаковское: “Соловьи же заводят глаза с содроганьем, осушая по капле ночной небосвод…”
Будем считать, что “человек иной” — это некий собирательный образ. А вот “товарищи” — вполне конкретный. И будем считать все-таки удачами — для Ильенко “Тени забытых предков”, для Княжинского “Сталкер”, для меня “Объяснение в любви”. Хотя… Добились ли мы своего?
Удача, удача… О господи! Что такое удача? Наша жизнь — это единственная удача, а неудача — смерть.
…И вот тогда, вернувшись с Алтая в Москву, я решил жениться.
Звали ее Лена. Из Риги. Она была очень красивая. На три года старше меня. Не поступила на актерский во ВГИК. Но задержалась в Москве. Шаландалась по разным компаниям. Меня с ней познакомил Мирон Черненко. Хулиганила. Говорила глупости об умном. Бегала босая по Гоголевскому бульвару. Но я еще и вообразить не мог, что она станет моей женой.
Большой компанией заваливаемся в квартиру Светловых, к Сандрику. Неожиданно возвращается пьяненький Михаил Аркадьевич — с лицом, в профиль, как точно заметил кто-то из карикатуристов, похожим на месяц. Увидев красивую Ленку:
— Кто эта молодая жаба?
Садится на колени к Сандрику. Сын обнимает его, мы смотрим, слушаем с восторгом.
— Саничка, — спрашивает ласково, — любишь меня?
— Люблю, папа.
Срабатывает безотказный светловский механизм иронического остроумия:
— А кого ж тебе еще любить, Бабаевского, что ли?
Бабаевский — один из самых отвратительных советских писателей-антисемитов, лауреат Сталинской премии за роман “Кавалер Золотой звезды”. Райзман снял по этому роману картину, оператором был Урусевский, в главной роли Бондарчук. Мы смотрели эту картину во ВГИКе и издевались.
Шпаликов стоял на вгиковской лестнице, на площадке четвертого этажа. Я, только что объявивший ему о моих планах и отлете в Ригу, шел вниз, как тореадор на арену. “Паша! — кричал он сверху. — Отдай мне паспорт”.
Никогда уже не быть тем таинственным, малознакомым — мне — сейчас — молодым человеком девятнадцати лет, который мог, забыв обо всем — наедине с самим собой — упоенно лететь, мчаться — на маленьком самолете — куда-то, зачем-то — в Ригу. Жениться! Безоглядность мне всегда была присуща.
Отлет, серый сентябрьский внуковский аэродром и сидящий на хвосте советский “Дуглас” — “ЛИ-2”. Рига. Меня встречают Лена и Наум Клейман, гостящий у каких-то своих родственников. Потом он будет с нами и в загсе возле Академии художеств — вроде как свидетель.
С аэродрома едем в магазин “Особторг”, там на втором, кажется, этаже ресторан. Полутемно, музыка, другие лица — у всех, у официантов, у людей за столиками — заграница, блин! Торговые моряки, в хлам бухие, швыряют бешеные бабки. Чтобы пела знаменитая хромая Мирдза. Поет и пьет. К концу уже стоять не может, поет сидя. Замечательно поет.
Рижская парадная грязная лестница. Огромная рижская, пахнущая пустотой переезда — на дачу — квартира. Кабинет ее отца, рижского писателя, приемник ВЭФ с черной, красной, зеленой шкалой, “Радио Люксембург”. Наспех застеленный диван.
Мое! Мое! Теперь мое! Если часто повторять слово, оно теряет смысл. Мое! О, как я терял смысл. На этом диване…
Утром звонок маме — в Москву:
— Мама! Только не пугайся. Я женюсь.
На том конце телефонной связи — трагическое молчание.
И моя новая жизнь — у пленительно серого — в дожде — в этом мелком, бисерном, графическом дожде — моря. Первое в жизни море, если не считать промелькнувшего за окном поезда — по дороге в Ереван — всего десять лет назад, в 49-м.
Жемчужное очарование Балтики — очарование первой юношеской свободы.
“Именно с морем так крепко и печально сопряжены память и сожаление о первой юности. О прозрачности жизни перед начинаемым будущим, о жизни, которая еще неизвестно как будет выглядеть…”
Лидия ГинзбургОсенняя фиеста в старом городе. Кафе, столики на улице, всё не как в Москве. Пирожки со шпеком — теплые, — коньяк в узких рюмках, прохожие, проходящие совсем рядом — медленный, взрослый, равнодушный — скошенный — “писательский” — взгляд, — панорама за ними. И комиссионный, куда мы весело сносили ее вещи, чтобы рвануть в Дзинтари, в ресторан “Лидо” — она ведь ничего не жалела, как и я. Ну, Брет, чистая Брет Эшли. Моя жена, девочка. Красавица в черном свитере. И как же гордо было идти рядом с ней по улице и, единственному, знать, что под свитером — ничего.
В одной из комнат квартиры — огромный мраморный дог Зуар, лежащий, как лев, на вонючих рижских газетах — кажется, “Ригас Балс”. Зимой в Риге, в старом городе, все топилось дровами, и я — диснеевским гномом — вздымал — по черной лестнице — мешки с дровами — из кладовки в сером снежном дворе. Маленький муж, принимающий солидное участие в жизни семьи, — дурачок — в холодную квартиру взносил. Всё весело топилось, но к утру квартира остывала и становилась ледяной.
Но всё это уже потом, после сентябрьского загса. И после рижского узенького золотого колечка на моем пальце, гордость моя, проданная позже — после разрыва — за стоимость перцовой поллитры в ювелирной скупке на Пушкинской улице в Москве при активном содействии моего друга Давида Маркиша.
Поллитра — под хороший разговор о женщинах и путешествиях и нехитрую закуску — была выпита с Давидом в любимой 619-й столовой по соседству — рядом — со знаменитым “полтинником”, отделением милиции, где пришлось разок побывать, и городским ломбардом, где пришлось побывать не раз, и еще не сгоревшим театром “Ромэн”. И вот смотрите, что произошло за это время. Маркиш в Израиле. Золото подорожало в десятки раз. Первая жена, неожиданно вступившая в партию, давно в Канаде. А той “перцовки” в магазинах нет и в помине.
Когда в конце июня 59-го года, незадолго до Алтая, мне исполнились девятнадцать, у меня были подарки. Мама и брат подарили мне большой желтый портфель с двумя отделениями, двуспальный, как мы его сразу прозвали. Белла Ахмадулина подарила первое полное собрание Хлебникова, четыре салатных тома, и на каждом расписалась. А Танька Алигер подарила светлые бумажные вьетнамские штаны, которые почему-то считались джинсами. Конец всех этих предметов был ужасен.
Я уже признавался здесь — с раскаянием, — что под давлением лихих друзей, Саши Княжинского, Юры Ильенко и Леры Вайля, — Хлебников был продан какому-то умному человеку возле букинистического на Горького, рядом с овощным магазином и Театром Ермоловой, за цену двух поллитровок, килограмма докторской колбасы и белого батона. Все это мы погрузили в желтый двуспальный и отправились на хату к одному бывшему офицеру, который был вчистую уволен из армии за то, что по пьяному делу провалился в говно по шейку через дырку в солдатском толчке. Но значения этому не придал и весело явился танцевать на офицерский вечер с женами.
На гражданке он немедленно стал водителем у банды грабителей, о чем мы, конечно, не подозревали. На следующий же день после нашего вечера памяти Велемира Хлебникова его взяли на хате. Причина была уважительная: за день до этого банда грабанула банк и бывший офицер рулил с добычей. Все бы ничего, если бы я не забыл у него свой новый портфель, и забрать его было невозможно. На хате муровцы устроили “мышеловку”. Попрощался я и с портфелем.
Теперь штаны. Они были у меня единственные, и к тому времени, когда я, уже женатый, в очередной раз прилетел в Ригу, они резко поменяли цвет и стали черными. В соединении с двубортным пиджаком бывшего голубого цвета, утратившим все до единой свои пуговицы, ансамбль этот произвел такое впечатление на метрдотеля ресторана “Малая Рига”, что он негромко и очень тактично — по-латышски — попросил меня покинуть ресторанный зал, чтобы не шокировать окружающую публику. Витя Лоренц перевел мне его просьбу. Я спросил, не могу ли я для спокойствия окружающих остаться в трусах, но метрдотель не понял моего московского остроумия.
Отец целый год не знал, что я женился. Мама и брат тоже ничего ему не сказали. А я каждый раз, приходя на Лаврушинский, перед дверью стягивал колечко с пальца и прятал в карман. Но наконец настало время признаваться. Мы с Леной собирались к нему на “смотрины”. Накануне, вернувшись домой на Фурманова, где мы жили одни — мама и брат сбежали, оставив квартиру в полное владение нашей компании, — она запулила свои туфли под тахту. И теперь я, со спичкой, полез их искать. И произошло то, что и должно было произойти. Тахта загорелась. Сначала веселая искорка побежала по ее провисшему чреву, набитому сухой морской капустой, а потом… Боже! Какой это был ужас! Как она полыхала! Особенно после того, как я в приступе решительного идиотизма вспорол ей брюхо ножом. Мы боролись с этим огненным чудовищем, как могли. И наконец, выволокли ее на балкон, кое-как, обжигаясь, перевалили через перила и сбросили вниз, во двор. Пятый этаж! Как и почему я остался после этого на свободе — полная загадка. В чем-то все-таки мне иногда везло. Событие стало мгновенно известно всем друзьям, и Шпаликов сразу воспел его — в прямом смысле — под гитару — в незабываемых строчках, посвященных П. К. Ф.
Что за жизнь с пиротехником — Фейерверк, а не жизнь, Это адская техника, Подрывной реализм. Он веселый и видный, Он красиво живет, Только он, очевидно, Очень скоро помрет…Маленькая комната в квартире Алигер — по коридору налево — где жила, кружась и бегая сама за собой, в клетке с колесом, белка и где несколько дней жили мы с Леной — когда, бегая от себя и безуспешно пробуя окончательно не рассориться, ушли из дома на Фурманова.
Через два года, в 64-м году, в этой же комнате жила Ахматова. Вот как об этом у Чуковской: “Анна Андреевна повела меня по коридорчику вперед и налево. Маленькая уютная комната. Машина? Танина? Не знаю”.
Машина комната была прямо по коридору, а эта — с балконом, выходящим в Лаврушинский двор, была Танина. Машина комната всегда была заперта, когда мы там жили, потому что Маша нас очень всех не любила.
В том последнем для нас с Леной 62-м — рижском — году — осенью — я косил от военных лагерей и, давясь от смеха, нагло слал на военную кафедру дикие телеграммы, ссылаясь на болезнь несуществующих детей.
Но как-то так после ресторана “Малая Рига”, где пел с эстрады Бруно Оя, еще не снявшийся у Жалакявичуса в “Никто не хотел умирать”, все вдруг повернулось, что я в праведном — так уж мне казалось — мужском гневе рубанул ребром ладони по стеклу в двери, запертой Леной для обороны. Рифленое, толстое стекло, как ни странно, разбилось. К большому удивлению старичка-латыша в лавке на нашей улице, у которого мы искали замену уникальному стеклянному изделию, чтобы не заметили родители, которым настанет же время вернуться в город с дачи. В этой жизни таких стекол уже нет, грустно сообщил старичок, не делают, их делали только при Ульманисе.
В результате — по взаимной договоренности — Лена уехала в Москву на улицу Фурманова, а я остался в Риге на улице Петра Стучки, и мне — хоть и без копейки — было очень весело. Впрочем, ей, по слухам, тоже.
Однажды поздно вечером в дверь позвонили. Я стоял в ванной в трусах и стирал в раковине носки. Пошел открывать. На пороге Савва Кулиш и Варя Арбузова, через кого-то нашедшие меня в Риге. Им, влюбленным, деться было некуда. Кажется, именно тогда они решили пожениться. Вот ведь, люди влюбляются, женятся, а я стираю носки!
Тут самое время вернуться к “роману”. Может, еще и потому, что тогда, в той нашей молодости, измены хоть и ранили, в общем, не надолго, но были словно цитатами из литературы. См. “Фиеста”, Эрнест Хемингуэй. См. “Три товарища”, Эрих Мария Ремарк.
Этот изменяет той, та изменяет тому, тот изменяет другой. И так до бесконечности. Цепочка измен опоясывает земной шар, дотягивается до Луны…
“Автор прекрасно знал, что «Я» в романе обычно бывает свидетелем, а действующим лицом «ОН»… Местоимение «он» формально удостоверяет, что перед нами «миф»…”
Ролан БартНаброски из ненаписанного романа
Как Сашка узнает об измене Бориса? Увидит их с Таней? Да, это, конечно, эффектней всего. Увидит. В гримуборной, в выходной день, в пустом театре. Допустим, придет туда пить портвейн со старшим другом, рабочим сцены. Первый раз в жизни. И, проходя знакомым путем за кулисами, услышит их шепот и увидит — через неплотно прикрытую дверь, — как она, чуть наклонясь вперед и держа тело на одной босой ножке — уже вдетой в отверстие трусиков, — вторую, улыбаясь негритянскими губами, отрывает, как лошадка, от пола. Ужас, обида, ярость слепо сорвут его с места и погонят по коридору.
Задача была написать так, чтобы я сам поверил в то, что я это видел. Пережить придуманное, как реальность.
Наброски из ненаписанного романа
Обычно в выходной, ближе к вечеру, они ходили в баню. В мыльной, намеренно потеряв Бориса среди голых тел, он мрачно смотрел на струящиеся по наклону каменного пола переплетения, на свои ноги, просвечивающие в этой чистой, настоянной на камне воде. Опрокинуться бы спиной в воду, стать такой же — равной другим — движущейся в общем движении, переплетающейся, прозрачной струйкой, исчезнуть бы за пределы парного жаркого мира и безмятежно, бесплотно утечь до впадения в море. Чтобы больше никогда ничего не было. Ни Бориса, ни Таньки, ни мамы. Ни самого себя.
Когда появилась эта фигура, еще более белая, чем белый туман, Сашка решил, что это женщина, неведомо как взявшаяся в мужском отделении, так велики и мясисты были груди, два сплющенных мешка, подпираемые снизу огромным раздутым брюхом с вывороченным наружу, выпертым узлом пупка. Мясистое, дрожащее, трясущееся при каждом шаге и движении тело опиралось на две крошечные детские ступни. Фигура приближалась, прошла границу тумана. Это был Загорский. Было совершенно непонятно, как все это тяжелое, тяжкое, оплывающее вниз мясо могло держаться на таких маленьких опорах.
“Потри мне спину”, — протянул Сашке мочалку, оперся обеими руками о мраморную полку, так что брюхо сразу как будто ухнуло вперед и вниз, между ляжек. Сашка, держа в руке мочалку, старался не глядеть на гигантское родимое пятно, коричневую ноздреватую нашлепку выше поясницы, похожую на размятый хлебный мякиш. Боясь дотронуться, отворачивался, отступал, скользя на полу. “Пойди-ка сам ополоснись”, — мрачно наконец отогнал его возникший из тумана Борис и взял у него мочалку. Он сильно и сердито стал натирать спину Загорского, расцветшую сверху вниз широкими бело-розовыми полосами. И негромко, чтобы не слышал Загорский, сказал, покосившись на Сашку — вниз:
— А эту свою штучку больше не трогай, понял?
Обычно, выйдя из бани, после “маме не скажем”, шли в сомнительный шалманчик, погребок. Там встречались и другие непременные завсегдатаи. Один предлагал раков с чудовищно грязной ладони, другой за небольшую плату съедал целиком граненый стакан. В этом воняющем вином и людьми, тесном и опасном мире Борис чувствовал себя свободно, вел себя бесстрашно, как свой. Сашке нравилась его смелость, обаятельное уличное хамство, дворовая находчивость, когда все сходит с рук, что бы ни сделал, что бы ни сказал.
Борис, стакан за стаканом, дул “смесь” — портвейн пополам с белым вином. Сашке — полстакана этого вина. Но в этот раз Борис быстро проговорил, как-то слишком прямо и искренне глядя ему в глаза: “Иди-ка домой, я в театр, пока там никого, хочу один на сцене поработать над Гамлетом”.
Чтобы выследить Бориса, чтобы не упустить его из виду, ему нужно было каким-то образом миновать забор. Перелезть через него он бы не смог, значит, отодрать доску, чтобы образовалась дырка — в мир, откуда уже ему возврата нет, — и в эту дырку протиснуться с трудом, царапаясь и разрывая одежду — настойчиво, наперекор судьбе. Потому что он уже принял роковое решение.
Оказалось, дом, куда зашел, оглянувшись по сторонам, Борис, был Сашке знаком. Здесь жила Сказочка. Так за глаза называли пожилую и незамужнюю актрису, премьершу, гордость провинции, негласную и ненавидимую хозяйку театра, пережившую всех главных режиссеров. Она была партнершей Бориса в “Лесе”, где, конечно, играла помещицу Гурмыжскую, а он ее молодого любовника Буланова. И это было довольно двусмысленно, потому что все ехидно знали, что она, как кошка, всеми фибрами своей души и очень немолодого тела безответно влюблена в Бориса.
Однажды Сашка был послан к Сказочке взять одолженные Борисом деньги — он был единственный, кому она, скупая до безумия, давала в долг для поддержания семейного бюджета. Она открыла дверь в красном кимоно. Из-под него видна была розовая нижняя рубаха, доходящая почти до туфель с помпонами без задников на голых, раскрашенных яркой венозной кровью ногах. Лоб ее был стянут широкой эластичной повязкой, разглаживающей морщины.
В этом же доме, выше этажом, квартировала Танька. Предположить, что Борис пришел к Сказочке, было трудно, но возможно — он уговаривал ее сыграть Гертруду, что сильно подкрепило бы позиции подпольной постановки.
Сашка быстро в этом разуверился. Бесшумно поднимаясь за ним по кружевным ступеням железной лестницы, он видел, как Борис проходит мимо Сказочкиной двери, поднимается на этаж и стучит в другую дверь.
Значит, не боится встретить Сказочку? Значит, заговор! Измена! Измена!
Открылась дверь, и счастливый голос Таньки произнес тихо: “Нельзя! Сумасшедший! Уже поздно”. Голос Бориса: “Я сгораю от любви”. Дверь закрылась.
“Он сгорает от любви, сволочь!” Сашка рубанул ребром ладони по металлической ржавой трубе, стояку батареи. Но этого было мало для ярости и обиды. И он шарахнул по батарее кулаком и сразу же, заныв, стал зализывать окровавленные, с лохмотками кожи костяшки.
Вдруг встречаю на улице Риги трех красавцев — Виля Горемыкин, оператор, Алёша Габрилович, режисер, Дима Оганян, сценарист. Приехали от Молодежной редакции телевидения на Шаболовке снимать первую режиссерскую картину Алеши. Про детскую кардиологическую больницу. Даже название фильма помню — “Пусть сердце стучит”. Я немедленно радостно вливаюсь в коллектив на правах друга, консультанта, собутыльника и нахлебника. Потому как голодная смерть была уже близка.
Помню прекрасно, как после трех-четырех съемочных дней пошли на Рижскую студию смотреть отснятый материал. Метров сто одних проездов и проходов. Но волновались создатели ужасно. И смотрели с ожиданием на меня. Почему-то я, хоть и самый младший, проходил среди своих простодушных друзей как мудрец и ценитель. И тогда, помолчав для важности, я произнес фразу, которую до сих пор иногда слышу без всякого намека на мое авторство:
— Ну, что ж, ребята… Ощущения провала нет.
После возвращения в Москву Алёша привел меня на Шаболовку. Тогда там подобралась неслабая компания веселых операторов. Рома Кармен-младший, Юра Белянкин, Миша Суслов, Виля Горемыкин, Володя Грезин…
Я писал короткие сценарии для каких-то передач, сейчас уж не вспомнить — каких. Ездил в командировки. Например, в Ереван. И все было замечательно. Но до поры до времени.
1962-й. Время вновь выводит на сцену Давку Маркиша. Чьему беспримерно обаятельному авантюризму и вранью я никогда не мог противиться. Так и на этот раз. “Надо! — говорит он. — Надо лететь в Киргизию, на сырты!” Что такое сырты? Отгонные пастбища в отрогах Тянь-Шаня. Что такое отгонные пастбища? Это миллионы овец — Давка вдохновенно закатывает глаза, как будто читает стихи, — это тысячи в высшей степени съедобных горных козлов, это страшные снежные барсы с бесценными шкурами и лязгающие зубами волки, это с нетерпением ожидающие нас гостеприимные чабаны и охотники, каждый день закалывающие в нашу честь упитанного тельца, он же баран, это резвые скакуны.
Быстро придумывается эффектное название сценария — “Страна Чабания”, быстро уговаривается оператор Рома Кармен, быстро, подкрепленный авторитетом Алёши Габриловича, принимается Молодежной редакцией сценарий, быстро выписываются командировки, быстро получаются командировочные и так же быстро пропиваются. Но нас уже ничто не может остановить.
Дожидаясь прилета группы в лице Кармена и ассистента-осветителя Васи, живем во Фрунзе — в гостинице недалеко от вокзала. Здесь же живет Лариса Шепитько, она снимает фильм “Зной”. Звукооператор у нее молодой Толомуш Океев.
Через несколько лет он — уже режиссер — снимет великую картину “Лютый”. А тогда — весело идем к нему по каким-то глиняным кривым улочкам в его по-черному прокуренную комнатушку.
Вспоминали мы с Толомушем об этом, когда он стал послом Киргизии в Турции?
Наконец, из весеннего Фрунзе поднимаемся над Иссык-Кулем в грязный, но веселый Пржевальск, где и застреваем. Арендованный нами самолет не может вылететь на сырты Джеты-Огузского района — погода не позволяет. Но мы времени даром не теряем — дружим с нашими летчиками, едим на базаре стеклянистую дунганскую лапшу “ашлямфу”.
На этом же базаре нанимаем охотника дядю Жору. Он нужен нам для твердо обещанного Давидом отстрела волков и отлова барса. Одного. На двух разрешения, к сожалению, не получить, нужно спецуказание из Фрунзе. Давид настаивает на двух, но мы не может терять драгоценное время.
Снимать, снимать, скорее снимать! Это будет великое произведение!
Дядя Жора сразу же просит аванс. За это готов налево и направо поражать козлов, волков, кого угодно. Нас, правда, несколько смущает отсутствие у него ружья и сетей для ловли барса. Он легко успокаивает нас, пряча аванс: зачем тащить в самолете, все будет на месте, на сыртах, у него там все киргизы кореша.
Он ведет нас в домик, где помещается Охотоуправление, и там, изучив наши многочисленные ксивы центрального и республиканского значения, нам выдают лицензию на отстрел стольких-то волков и отлов барса. Правда, извиняясь, всего лишь одного. Паспорт на тот момент только у меня в кармане. Лицензию выписывают на мое имя. И меня настоятельно просят барса взять живьем. Я обещаю.
Сырты. Периметр брошенной пограничной заставы. Граница с Китаем переместилась куда-то. Ограда по периметру, коновязь со старыми кавалерийскими, оставленными пограничниками лошадьми. В маленьких клетушках-ячейках живут председатель колхоза, почтальон, завмаг на деревянной ноге. И всех почему-то зовут Шарше. Ассортимент в магазине неплохой — питьевой спирт, три рубля бутылка, и бумажные мешки с овечьим дустом.
Недалеко от заставы загон для овец, их там штук пятьдесят. А где же многочисленные отары? Как где? Ведь это же отгонные пастбища, вот их и отогнали — весна! Нет, туда сейчас не добраться. Давка делает удивленный вид, но по выражению его лица отлично понимаю: он все знал заранее. Но уж очень ему хотелось в горы.
Ладно, не страшно, снимем пятьдесят овец, как-нибудь оправдаем дикторским текстом. Значит, основной художественный упор сделаем на эпизоде охоты. Волки и барсы нападают на колхозных овец. Наши герои-чабаны с винтовками в руках защищают народное достояние.
Когда мы прилетели и дядя Жора, слегка покачивающийся в связи с получением аванса, вышел из самолета, местные очень развеселились, узнав, что он главный наш охотникорганизатор, гроза барсов и волков. Они насмешливо поговорили с ним по-киргизски, а по-русски объяснили нам, что дядя Жора да, охотник, но только на грызунов, преимущественно сурков. Из ружья по ним не стреляют, от них просто ничего не останется, их ловят. Как барсов? Почти. Для них не сети нужны — сеточки, ма-а-ленькие, ловушечки. И куда ж теперь его девать, этого дядю Жору? В пропасть, что ли, сбросить? Жалко все-таки.
Мы долго, встав до рассвета, ехали по горным тропам в ущелье, где уже раньше загонщики ожидали козлов. Волки, обещали нам, там тоже могли появиться. А на барса мы уже не рассчитывали, даже не вспоминали. Отпустив поводья, предоставив лошадям выбирать для нас жизнь или смерть, спускались в ад, снова поднимались и снова спускались. Ружье дяде Жоре всё же выделили по нашей просьбе. Он расположился за валуном сзади того места, откуда я в качестве режиссера должен быть руководить грандиозной съемкой. Понемногу стало припекать мартовское солнце, дядя Жора задремал, вздрагивая и роняя головку, держа палец на спусковом крючке направленного мне прямо в затылок ружья…
Единственным трофеем грандиозной охоты был маленький и действительно серенький козлик. Когда на него с двух сторон, страшно завывая, ринулись загонщики, он от ужаса свалился с кыра, края ущелья, взбежал по противоположной его стене, ножка его попала между двумя камнями и сломалась, он все же геройски — на трех копытцах — доковылял до другого кыра, перевалил за него, но далеко не ушел, был настигнут отважными охотниками.
Вечером нас позвали на бешбармак к одному из Шарше. Рядом со мной сидела странная киргизская дама, которую я раньше здесь не видел. Лицо у нее было в каких-то оплывах. Мы пользовались с ней — руками — одним жестяным тазом для стирки белья, куда, как и другим, нам навалили вкусную лапшу. Потом мы с Давидом вышли покурить под звезды. “Слушай, — сказал я. — А что у тети с лицом?”. “Проказа, — легко объяснил путешественник, выпуская дым. — Ранняя стадия, “львиное” лицо. Не очень опасная. Ее даже в лепрозорий не взяли, направили сюда. Здесь исключительно целебный воздух…”
Ах ты, гад!
Я еще долго подходил к зеркалу и рассматривал себя. Когда кончились семнадцать лет инкубационного периода, вздохнул облегченно. Но очень скоро прочел в газете “Известия” радостное сообщение, что ученые сдвинули этот период с семнадцати лет до тридцати.
В Москву мы привезли сорок полезных метров и стали посмешищем редакции. Расправа была короткой. Мне был временно заказан вход на студию, Кармен должен был отчитаться за пленку.
Давид уже собирался на Памир.
Мы часто встречаемся с ним. То в Израиле, где он, известный писатель и участник войн, живет с 72-го года, то в Тбилиси, который мы любим, то в Баку, то в Казахстане, где он, кстати, снимался в “Подарке Сталину”, изображая старого Сашку, то есть в некотором смысле меня. И я напоминаю ему историю нашего кинопутешествия. Он утверждает, что все было не совсем так. И снова — в мечтах — собирается на Тянь-Шань или на Памир. В седло ему хочется, в седло…
Как-то раз на сыртах к вечеру мы возвращались верхом с метеостанции, где нас подкармливали жалостливые русские женщины. И не только подкармливали. После спирта и бозы мы устроили скачки наперегонки. Посмотрев на меня, в это трудно поверить, но это правда, клянусь горами Тянь-Шань и пиком Джангарт. Великий путешественник Маркиш может свидетельствовать в мою пользу.
Вечер, плато перед погранзаставой. Я скачу к открытым воротам периметра с толстой поперечной балкой поверху — точно на уровне моего лба.
Кто в последний миг пригнул мою голову своей могучей десницей?
Всю жизнь меня не оставляет надежда на эту сильную, властную руку, которая в последний миг скачки железной ладонью надавит на затылок, и моя голова пройдет под смертельной перекладиной.
Глава 5
Во мне… многое погибло из того, что, мне казалось, будет существовать всегда, и возникло много нового, родившего новые горести и новые радости…
Марсель ПрустНастало время рассказать всем всю правду. Я не тот, за кого я выдаю себя всю жизнь. Моя внешность не моя, все мое тело не мое. На самом деле тот, кто и был настоящий “Павел Финн”, исчез много лет назад.
Тот — другой, настоящий — Павел Финн был удивительно не похож на меня, которого вы знаете. Высокий, с холеными руками, с синевой на щеках. Замечательно плавал. Курил трубку. Знал три языка. Когда он входил, все смотрели на него с приятными и радостными улыбками.
Миф о тождестве, о двойничестве, возник потому, что человек генетически и онтологически неудовлетворен самим собой и всегда чувствует себя виноватым.
И не каждый ли из нас Савл — на пути в Дамаск? Но произойдет ли решающая встреча?
— Савл! Савл! За что ты гонишь меня?
Станет ли он “Павлом”? Вот вопрос.
Два самых грандиозных символа, объясняющих всю мировую историю и весь человеческий характер — испуг, предательство и все-таки прощение Петра и преображение Савла в Павла.
Вечное стремление отделить от себя все странное, дурное, несчастное, передать другому “Я”. Так рождаются двойники — в литературе и в воображении.
Гордыня, фатовство, презрение к людям, поза, самовлюбленность, намеренный и расчетливый самообман, лазейки самооправдания, обман ближних, тайная и явная надменность, нарциссизм, похоть, тщеславие, честолюбие, обидчивость, злоречие, злопамятность, трусливость, постоянный поиск в людях худшего…
Это не я! Не я! Это все он! Вон тот!
Сашка? Весь неописумый ужас одиночества, смуты, обиды и желания — всё свалить на его хрупкие плечи? Всё запечатлеть и навсегда отделаться от того подростка.
Это не я! Не я! Это все он!
Смелый эксперимент. Как на подопытном, испытать на нем некоторые возможности и варианты существования, неизбежно драматической экзистенции.
Наброски из ненаписанного романа
Когда Сашка уличил Бориса в том, что тот изменил маме, он сразу же захотел написать об этом отцу. Зачем? Может быть, в его кругом от отчаяния идущей голове возникла сложная комбинация, в результате которой мама возвращается к отцу? Но письмо так и осталось ненаписанным. Сашка принял другое решение, имевшее ужасные последствия…
Скандалы сопровождали уход мамы от отца в 45-м. И как он кулаком разбил стекло в двери в “большую комнату”, спасавшей от него маму. Когда он протрезвел, ходил с забинтованной рукой. Как и я в Риге, через семнадцать лет в точности повторивший его подвиг. Видимо, уничтожение дверных стекол у нас в генетике. Надо бы спросить сына Алешу, как у него с этим делом.
Отец спал в кабинете на черном кожаном диване, отвернувшись к стене. Как и я сейчас, отдыхая от компьютера, дремлю в моем кабинете, на своем кожаном диване, коричневом. Тогда я, пятилетний, пришел отца жалеть — я точно помню это чувство. Он повернулся ко мне, обдавая перегаром и, наверняка, страдая, сказал: “Никогда не пей”.
Я любил его, любил маму. Но тогда я любил и двадцатитрехлетнего мальчика Борю Авилова, которому предстояло стать моим ненавидимым отчимом. Он водил меня гулять на Гоголевский бульвар — к нашим друзьям львам, несшим службу по периметру площадки, где, сгорбившись под шинелью, сидел Гоголь.
Барельефы на постаменте памятника — вереницей — Хлестаков, Тарас Бульба, Добчинский-Бобчинский, Коробочка и другие. Их всех можно было рассматривать и трогать. Они все были карикатурные, забавные. А Гоголь очень печальный, скорбный даже. За это его и поменяли на другого Гоголя, советского, прямого, как солдат на посту у Мавзолея. Может, еще и потому, чтобы Сталин, проезжавший мимо из Кремля на дачу через Арбат, не расстраивался, глядя на согбенного Гоголя.
Новый памятник торжественно открыли в 52-м году. Я был при этом со своей 59-й школой, которую назвали тогда “имени Н. В. Гоголя”. Конечно, мы всем рассказывали, что Гоголь в нашей школе и учился.
С Борисом мы выходили с бульвара на Арбатскую площадь. Где теперь вход в “новое” метро напротив кинотеатра “Художественный”, там были сквер и фонтан с фигурой нагого мальчика, возможно, Амура. Я называл этот фонтан с мальчиком “памятник имени меня и Бориса Авилова”. В каком-то смысле я был прав — памятник, хотя этого мальчика нет на площади уже тысячу лет.
Лева Мендельсон, приятель отчима, когда вышел из тюрьмы, где недолго сидел за какие-то операции с чужой московской жилплощадью, спал у нас на газетах, а потом на диване в столовой. Он был отчасти Остап Бендер, но уже переквалифицировавшийся в “управдомы”. Однако я помню и проявления “бендеризма”. В той же нашей столовой на столе-“сороконожке” красного дерева он, сняв с него скатерть, делал одну за другой типовые стенгазеты к праздникам. Писал — или переписывал откуда-то “заметки”, прыскал на них из пульверизатора краской и клеил вырезанные из журналов фотографии социалистической действительности. Стенгазеты эти он загонял в продуктовые магазины и парикмахерские. Потом приносил к нам на Фурманова поллитру и закуску, и они выпивали с Борисом под разговоры о политике. Меня он любил.
Однажды выпивали втроем: мой отец, в очередной раз временно сбежавший от Нины Гусевой, мой отчим и Лева. И вдруг отец и Лева заговорили на каком-то языке, похожем на немецкий. Лева отвечал как-то коротко и немного сконфуженно. Когда отец ушел, Лева объяснил нам: это еврейский язык — идиш, на котором пьяный отец ругательски ругал Нину Петровну и заодно советскую власть. Так я впервые узнал, что отец говорит по-еврейски и что вообще он больше еврей, чем я думал. А значит, и я тоже. До этого, да и после, пока не вырос, до окончания ВГИКа я совершенно себя евреем не ощущал.
Я, чистокровный еврей, в некотором — метафизическом — смысле полукровка. Вера, язык, культура имеют в судьбе — моей — материнское значение. Они у меня теперь в моей еврейской крови — вот какой парадокс.
Моя единственная — внешняя — связь с Божьим миром — язык, русский язык.
Внутри языка, как в храме, нет врагов. Здесь Державин стоит — на коленях — рядом с Бродским, Гоголь рядом с Бабелем. И все молятся своими словами, но одному и тому же.
Иногда думаю о том, что миром правит магия антисемитизма. И победить его словом и нравственностью невозможно. Еврейское — нееврейское: фантастическая, роковая антиномия, навечно, вплоть до Страшного суда, закрепленная за человечеством, намертво вшифрованная в его генетический код.
Когда исчезнет последний антисемит? Тогда же, когда исчезнет последний еврей. Возможно, правда, они исчезнут вместе, взявшись за руки, и в этот миг на земле не останется вообще никого.
“…13 марта 1952 года Министерство госбезопасности приняло решение начать следствие по делам всех лиц, имена которых в любом контексте фигурировали в ходе допросов по делу ЕАК (Еврейский антифашистский комитет). Список включал 213 человек, которым тоже предстояло пройти через истязания и пытки, ГУЛАГ, а многим из них (вероятней всего — большинству) оказаться в расстрельной яме.
Среди этих обреченных были: писатели Илья Эренбург, Василий Гроссман, Самуил Маршак, Борис Слуцкий, Александр Штейн, Натан Рыбак, братья Тур (Леонид Тубельский и Петр Рыжей), Александр Крон, Константин Финн, Иосиф Прут, композиторы Исаак Дунаевский, Матвей Блантер, кинорежиссер Михаил Ромм, артист Леонид Утесов (Вайнбейн), академик Борис Збарский…” Аркадий Ваксберг, “Из ада в рай и обратно”
Отец, когда еще мы виделись, рассказывал мне, выросшему, — и я не очень верил, он, вообще-то, был фантаст — о ночном телефонном звонке в 53-м году. С улицы, из автомата. Ночной голос сказал: “Константин Яковлевич, будьте готовы, вас могут забрать”. По времени звонок совпадал с “московским делом”, которое вроде бы готовилось незадолго до смерти Сталина. Список был уже составлен.
Мне все казалось, отец придумал этот звонок. Но много лет спустя подтвердилось — правда. И как-то всё сходится на том, что ночной голос был — Николай Аркадьевич Анастасьев, театральный критик, отец моего школьного друга Николки. Отца и его пьесы он терпеть не мог. Но вот вышел ночью к телефону-автомату.
Так ли это? Хотелось бы, чтобы было так.
54-й. Через два года после того списка. Мы с отцом, оставшиеся в живых — ведь помер бы я наверняка, как помирали чеченские дети на пути в Казахстан, — на премьере — “Дни Турбиных” в Театре имени Станиславского — в первом ряду.
Ставил спектакль Яншин, знаменитый, любимый Москвой мхатовский Лариосик. Сейчас на сцене Лариосик — дивный и трогательный Леонов.
— Не целуйтесь, меня тошнит!
И я горжусь тем, что могу спросить отца так, чтобы слышали соседи по креслам: “Папа, ты знал Булгакова”?
Уж конечно, знал, были соседями в доме по улице Фурманова. До 40-го года жили чуть ли не в одном подъезде. Ну, уж здоровались наверняка. Но, по-моему, не более. К Булгакову был вхож другой драматург на букву “ф” — Алексей Михайлович Файко — его ставил Мейерхольд, а спектакль “Человек с портфелем” в Театре имени Революции с Бабановой в роли Гоги был одним из самых модных в Москве. Он жил на одной площадке с Булгаковым, и ему тот сказал перед самой смертью: “Не срывайся, не падай, не ползи. Ты — это ты, и, пожалуй, это самое главное… Будь выше обид, выше зависти и выше всяких глупых толков…”
Я видел Файко на нашей улице и в кафе “Националь”, где он был “своим”, членом “национальной гвардии”, и сидел за одним и тем же столиком, уже старый, грузный, со вторым подбородком. Муся, метрдотель, красивая женщина и наверняка “оттуда”, всегда останавливалась у его столика. Но любила она Олешу; когда он умер, говорят, на похороны самый большой букет принесла она.
Булгаков умер в 40-м. Мы — уже со мной, родившимся, — поселились в другом подъезде. Ниже этажом жили Габриловичи. Квартиры этой линии делили балконы с соседним подъездом. Балкон Булгаковых и Габриловичей был разделен перегородкой, и можно было — через нее — увидеть соседа, вышедшего покурить или подышать.
По этому поводу есть воспоминания у Евгения Иосифовича. Он — тогда уже успешный писатель, прозаик и очеркист, известен настолько, что Архангельский написал на него пародию. Булгакова же, как всегда, преследуют запреты. И Габрилович, на восемь лет моложе, испытывает к нему если не снисходительность, то, во всяком случае, некоторое превосходство. “Что сочиняете, Михаил Афанасьевич?” — спрашивает он соседа, вроде бы раскуривая трубку на балконе. “Да так, — скромно отвечает Булгаков, — одну вещичку”. В виду, конечно, имелся, объясняет Габрилович, всего-навсего роман, который потом назвался “Мастер и Маргарита”.
Обсуждая это воспоминание, мы с Авербахом сходились на том, что старик чего-то соврал. Он вообще, наш любимый старик, любил приврать, нафантазировать, умаляя себя, подчеркивая уже с высоты возраста и положения свою малость, свою незначительность в этом мире. “Нет, послушай, Пашка! Какая знаменитость? Вот Зощенко был знаменит, Бабель… Вот это были знаменитости”.
Мы с Ильей знали за ним эту игру. И образ Филиппка в сценарии “Объяснение в любви” во многом произошел именно из этого. Мы хотели, чтобы Филиппком был Калягин, только что блистательно снявшийся в “Механическом пианино”. Он даже приезжал на “Ленфильм” поговорить с нами. Но в конце концов отказался.
И тогда у меня зазвонил телефон. “Ты стоишь? — спросил Илья. — Тогда сядь. Филиппком будет Юра Богатырев”. Что там “сядь”! Я чуть в обморок не упал.
Но на самом деле это было замечательное, в высшей степени оправдавшее себя решение. Именно это парадоксальное сочетание “филиппкизма” с фактурой огромного и очень талантливого Юры Богатырева дало неожиданный эффект, в общем и сделавший всю картину.
А самоумаление? Что ж, это неплохое свойство, если оно не от гордыни.
Но от габриловической “вещички” мы отделаться не захотели.
Сцена в ресторане. Зиночка, Эва Шикульска, знакомит Филиппка с любовником своей подруги, а в дальнейшем, возможно, и ее самой, Гладышевым, известным и влиятельным советским писателем и журналистом. Играл его Кирилл Лавров. И тут все меняется. Это уже Гладышев, раскуривая трубку, покровительственно говорит робкому, огромному, нелепому Филипку:
“— Так вот, запомните: лирическая ахинея, описание чувств, пейзажей удалились от нас вместе с господами Буниным и Зайцевым. Сегодня литература — это инженерная работа. Вы согласны со мной?
— Да, наверное, — не слишком уверенно сказал Филиппок.
— Ориентируйте себя только на крупную тему, — продолжал Гладышев. — А вообще-то, вы хотите писать?
— Филиппок все время пишет, — сказала Зиночка.
— Что же? — спросил Гладышев. — Что-нибудь серьезное? Повесть? Роман?
— Да так… — замялся Филиппок, глядя в сторону, — одну вещичку…”
Я любил стоять на балконе Габриловичей. Он был ниже нашего — пробитого фашистской бомбой — на этаж, и с него двор приближался ко мне со всеми своими подробностями, как в кино с помощью трансфокатора.
Давным-давно — это был 43-й или 44-й — через открытую дверь этого же балкона мы с Алёшкой смотрели на ночное небо над Москвой, исполосованное шарящими прожекторными лучами и расцвеченное вспыхивающими далекими огоньками. Последняя бомбежка Москвы.
Выход на балкон был из Алёшкиной комнаты, где наша компания из подъезда проводила много времени. Там мы играли. Из Германии военный корреспондент Габрилович, дошедший, между прочим, до Рейхстага, привез среди прочего замечательную игру, детскую рулетку. Над разделенным на разноцветные сегменты полем картонного ипподрома раскручивались, укрепленные на штыре, маленькие лошадки, каждая под своим номером. Мы крутили их до самозабвения, проигрывая и выигрывая конфетные фантики и копеечки.
Но это позже, а пораньше — бесконечная игра в трех мушкетеров. Я, самый маленький, не подходил ни под одного из героев, все были разобраны старшими товарищами. А хозяин исполнял даже две роли — Д’Артаньяна и Атоса. Мне же доставался максимум Планше, слуга Д’Артаньяна. Бесились мы ужасно, фехтовали палками, орали. Наконец в стену, отделявшую квартиру Габриловичей от Булгаковых, раздавался стук. Выведенная из себя нашими безобразиями, била кулаком Елена Сергеевна Булгакова, она же — Маргарита, похоронившая своего Мастера.
Наш отдаленный родственник и жилец, разделявший в 54-м году со мной комнату, журналист, кажется, тогда из “Гудка”, Валя Манион, каким-то образом стал вхож в дом Елены Сергеевны и даже вошел к ней в доверие. Он приносил от нее — тайно полученные — в кокетливой коробке из-под иностранных почтовых конвертиков — узкие листки плохой синей машинописи. И это были рассказы, и это была “Дьяволиада”. Именно это, а не “Мастер и Маргарита”, прочитанная позже и уже вполне законно на страницах журнала “Москва” с розовой, как будто заранее выцветшей обложкой.
Не помню где, но в каком-то, видимо, фольклоре, я встречал ситуации, когда Бог просил дьявола о какой-то услуге. Собственно, идею, что сатана разбирается в людях лучше Бога, Булгаков тоже, возможно, унаследовал — от Гёте. Но вот то, что добро бессильно против зла и только само зло может противостоять злу, — это уж такое свое, такое выстраданное бывшим белогвардейцем, которому уже невмочь переносить мучения и издевательства невыдуманного дьявола, воплотившегося на этот раз в рябое и сухорукое обличие Иосифа Сталина.
Траурный март 53-го. Вернулся тогда домой от Сандрика Тоидзе. Там мы с ним, время от времени забывая о мировом горе, даже веселились и радовались из-за того, что отменили уроки и я могу еще побыть у него. Но вот Сталина уже уложили в Мавзолей. Вполголоса рассказывали о страшных жертвах на Трубной, о ручьях крови, о трупах, которые свозили на грузовиках. И только один вопрос, как мене, текел, фарес на небе, светился перед всеми — что теперь будет, что с нами будет?
Собственно говоря, мы так до сих пор и не разобрались — что же с нами есть, что же с нами будет?
А тогда еще какую-то музыку передавали по радио невыносимую. Я убегаю в бывший отцовский кабинет, плачу в темноте на кожаном диване.
На первых — вгиковских — порах я больше учился кинематографу не у мастеров, сценаристов, а у друзей-кинооператоров.
О, сделать так, как сделал оператор — послушно перенять его пример и, пристально приникнув к аппаратам, прищуриться на выбранный предмет.Это в пору нашей молодой дружбы, как раз пришедшейся на вгиковскую пору, Белла Ахмадулина написала в стихотворении “Чужое ремесло”.
Мы с Сашей Княжинским и Юрой Ильенко были постоянно рядом. А они все свои студенческие работы снимали вдвоем, соавторы. И мы не только пили и шлялись вместе, мы говорили о кино и хотели что-то сделать — вместе. Естественно, замечательное.
Вернувшись из Казахстана, я написал обязательный отчет о практике. Получилось даже что-то вроде повести, помню только название — “Целина плюс целина”. Ребята, однако, очень вдохновились и захотели это снимать как диплом. Тогда Ренита и Юра Григорьевы заканчивали у Сергея Апполинариевича Герасимова режиссерский курс. Их тоже увлекла эта идея. Но нужно было получить одобрение мастера. Я переделал повесть в сценарий, и мы всей компаний пошли к Герасимову.
Сергей Апполинариевич и Тамара Федоровна жили в той высотке, где гостиница “Украина”, — с другой стороны.
Сейчас трудно представить — в связи с заметным изменением общего уровня, — кем для нас тогда были эти мастера, ходившие по коридорам ВГИКа. Герасимов, Макарова, Кулешов, Габрилович, Райзман, Ромм, Кармен, Юткевич, Козинцев, Головня, Тиссе, Волчек, Косматов, Богородский, Иванов-Вано… Боги! Взглянуть в их сторону было страшно!
А тут дома у богов — горничная в наколке, кофе на маленьком столике, передо мной Герасимов и Макарова, и я, погибая от страха, читаю — нет, лепечу им — сценарий. И, лепеча, понимаю, что написал нечто ужасное и бездарное. Собственно, скорее всего, так оно и было.
Но гибельное чтение наконец закончилось, перерыв на кофе и легкие разговоры. Я в тоске встал с антикварного диванчика и отошел к антикварному столику в углу большой гостиной. На столике, под портретом Тамары Федоровны на стене, лежала большая круглая медаль с выбитым на ней каким-то рисунком Пикассо. А еще утром этого дня, пробегая по Гагаринскому переулку, я прочитал в “Литературке”, что группа выдающихся борцов за мир награждена Всемирным комитетом мира вот такой сверхпочетной медалью. Так что я знал, что это за штука.
И тут подходит ко мне Герасимов. Мы с ним один на один.
— Ну что, дружок? — спрашивает он меня со своей характерной интонацией, как говорят, вроде бы заимствованной у Фадеева.
Растерявшись и совершенно не зная, что ему ответить, я вдруг с трусливой развязностью брякнул:
— Сергей Апполинариевич! А что нужно сделать, чтобы получить такую медаль?
И он, проведя рукой по лысине ото лба к затылку — тоже его характерный жест, совершенно серьезно — или нет? — отвечает:
— Ну, что тебе сказать, дружок? Борись за мир — и получишь.
И все же у нас было с ребятами совместное детище, правда, не оставившее яркого следа в истории мирового кинематографа.
Как я сейчас понимаю, хитроумный “гетьман” Ильенко, уже кругами ходивший вокруг Ларисы Кадочниковой, затеял эту — курсовую — работу, чтобы уговорить ее сниматься. Он подбил на это соавтора Княжинского. А я написал сценарий “Голос и глаз” — экранизацию рассказа Александра Грина с таким же названием.
Первая моя работа на экране!
Режиссером операторской курсовой позвали Пашу Арсенова. “Обладающего нечеловеческой физической силой”, как в заявлении в суд написали про него некие студенты-старшекурсники после того, как он в общежитии защитил от них юную актрису-первокурсницу. Заявление ходило по институту, и все помирали со смеху. Паша действительно был очень силен и мужествен, тбилисский армянин, уличный парень. Но душа у него была нежная и романтическая. Карло Гоцци снимал — “Король Олень”, в переложении Вадима Коростылева, с музыкой Микаэла Таривердиева, с которым потом я очень подружусь.
Мы идем — большой вечерней, летней компанией, с бутылками вина в руках — мимо “Метрополя” к памятнику первопечатнику Ивану Федорову. Видимо, там за столиками уже не работающего кафе под небом предполагалось открыть бутылки.
По дороге компания распадается. Впереди — с кем-то — идет Лариса, увлеченная нами на прогулку. Я — с кем-то — сзади. Юра Ильенко подходит ко мне. “Слушай! Я хочу предложить Кадочниковой стать моей женой”, — говорит он, как будто спрашивая у меня совета. “Конечно! — воодушевленно и радостно отвечаю я: Лариса мне ужасно нравится. — Иди! Предлагай!”
Все это я пишу о том Юре, с кем я дружил, а не о том, с кем я когда-то, задолго до его смерти, расстался навсегда.
Неожиданно покинув своего соавтора и друга Княжинского, Юра раньше условленного между ними времени защищает свой диплом, снимает для Якова Сегеля картину “Прощайте, голуби”. Дружба моих друзей тогда не прервалась. Хотя задним умом понимаю — трещинка уже появилась.
“«Прощайте, голуби» — советский фильм-мелодрама 1960 года, снятый в духе оттепели”.
ВикипедияА в 61-м киевский режиссер Артур Войтецкий, работавший тогда на Ялтинской студии, позвал Юру снимать фильм “Где-то есть сын”, по сценарию писателя Дмитрия Холендро, с Николаем Симоновым, Светой Дружининой и Витей Авдюшко в главных ролях. Довольно странная для 62-го года, когда дух оттепели уже понемногу начинал улетучиваться, картина об одиночестве.
Юра был не просто очень талантливый оператор, он еще все время экспериментировал. Я до сих пор помню в этой картине невероятную — на целую “часть”, на десять минут, — ни разу не разрезанную панораму, когда он вытворял с камерой черт-те что, заставляя ее перемещаться в пространстве и при этом неотступно следить за героями.
Но ему всего этого было мало. Он уже намеревался стать режиссером. Для начала, чтобы поглубже проникнуть в суть профессии, заделался актером.
Фильм назывался “Улица Ньютона, дом 1”, по сценарию Эдварда Радзинского, снимал Теодор Вульфович. Тогда он был женат на Полине Лобачевской, красивой женщине, преподавательнице ВГИКа. Когда училась Лариса в актерской мастерской великих педагогов Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова, она работала на этом курсе. Потом — на режиссерском — Якова Сегеля. А там тогда учился наш друг Женя Фридман, с лицом и повадками американского актера из вестерна. Он был старше нас всех.
Лариса и Юра стали играть в фильме Вульфовича главные роли, Женя Фридман тоже кого-то играл. И все — и я с пишущей машинкой — оказались на дагестанском острове Чечень в Каспийском море. И с нами, тоже снимавшиеся в каких-то небольших ролях, приятели Тэда Вульфовича, замечательные скульпторы и ребята Володя Лемпорт и Коля Силис. Мы подружились с ними сразу и надолго.
Вот я их так легко называю “ребята”, а ведь Володя Лемпорт был с 22-го года, Борис Балтер, с которым я скоро встречусь в Ялте, даже с 19-го.
И вот теперь я думаю: почему же я — да и все мы — так легко сходились с теми старшими? Особенности характеров? Нет, скорее, свойство времени. Мы тянулись к ним, как Шпаликов тянулся к Некрасову. В этом была доля романтизма и преклонения. Слушать рассказы Некрасова или Лемпорта о настоящей войне, позже — Фрида и Дунского о лагере.
Все-таки это была неповторимая ситуация. На одном пятачке Истории сошлись два поколения с заметной разницей в возрасте, но объединенные одной идеей — свободы. А свободой тогда дуло из всех щелей того времени. Но недолго.
Может, потому и завелось такое паскудство в датском королевстве, что рано покинули землю те замечательные ребята, которых война и лагеря учили правде. “Одни в никуда, а другие в князья…”, как у Галича. Впрочем, те, кто в князья, тоже уже в никуда. Всякие были среди них, но все равно они, как победившие когда-то Наполеона и Нерчинские рудники русские офицеры, были солью времени.
Что бы там ни думать об их заблуждениях, об их характерах, о власти от Бога — все равно окажешься на стороне декабристов и выйдешь на Сенатскую площадь…
От Сенатской площади до Болотной — какой все-таки удивительный путь проделала наша Россия.
Остров, выбранный для съемок одного из эпизодов за редкую выразительность пейзажа, экстерьера и фактур, был странный. Умирающий, почти исчезающий как человеческое поселение — половина домов брошена, бежит народ на материк. В другой половине живут рыбаки и коротающие свой век вдовые старухи-рыбачки. У некоторых в чуланчиках бочки с дожидающейся в рассоле своей спелости черной икрой. Черной икрой! Бочки!
За домами пространство, ровное, как пустыня, занесенное песком, который наносит жестокая осенняя моряна. Но она же гонит к нам осетра, севрюгу, белугу.
Когда Лариса Кадочникова отравилась столовской едой, было принято решение кормиться своими силами. Рыбу продавал киногруппе рыболовецкий колхоз “Память Чапаева”, и ее везли нам на двух грузовиках. Но и не только рыбу пригоняло к нашему берегу. Выйдешь утром к морю — обязательно в прибое колышется туша мертвого тюленя. И чайки орут.
Что же на этом острове делал я со своей машинкой?
Я писал сказку. Киносказку под названием “Стрелок из лука”. Для режиссера-постановщика Юрия Ильенко, он же соавтор сценария. Первый в моей жизни договор — с Ялтинской киностудией — на сценарий полнометражного художественного фильма. Цветного. В этом-то и была вся фишка, говоря по-современному. Потому что Юра напридумывал что-то совершенно невероятное по линии цвета и его трансформации на экране. Уж очень, видимо, ему хотелось затмить знаменитую тогда картину “Человек идет за солнцем” Михаила Калика, снятую неподалеку от Ялты, в Молдавии, оператором Вадимом Дербеневым.
Сказку я бы и сейчас написал с радостью. Я люблю сказки: и читать, и рассказывать — в кино. У меня их было еще две, вернее, полторы. “Новогодние приключения Маши и Вити” с музыкой Геннадия Гладкова — это немудрящее кино со знаменитым котом Матвеем в исполнении молодого Боярского идет по телевизору в зимние праздничные дни уже сорок лет, да еще и играется на утренниках в десятках театров. Но вообще-то самое главное — в памяти, — что без “Маши и Вити” не было бы “Объяснения в любви”.
Но об этом — после, согласно хронологии.
Другой моей сказке повезло гораздо меньше.
В 2001 году на моем “творческом пути” в очередной раз возник великий и ужасный Боря Бланк. Мы уже сделали вместе три картины. “Месть шута”, то есть “Риголетто”, “Шейлок” и “Карьера Артуро Уи. Новая версия”. “Смерть Таирова” сделаем тремя годами позже. Все это было, конечно, чистой воды хулиганство, что, собственно, и привлекало меня в сотрудничестве с этим уверенным в собственной гениальности безумцем, очень талантливым художником кино и живописцем, нахально плюющим на режиссуру как таковую. Но ведь тогда — в девяностые — мы все как с цепи сорвались. Что, в общем, так и было — с цепи.
На этот раз Бланк предложил сделать сказку о Масленице. Я перечитал мою любимую книгу Лихачева, Панченко и Понырко “Смех в Древней Руси” и написал сценарий… в стихах! В стиле площадного райка. Назывался сценарий “Чудеса, да и только, или Щука по-московски”.
Главные герои — Емеля-дурак со своей печкой, Царевна Несмеяна, которая поначалу только и делает, что смеется, царь Ерема, алкаш, ведьма Машка, евонная полюбовница, и Черт, ейный полюбовник. Чудесная Щука в проруби. И над всеми летает Госпожа Смерть.
Бланк построил в мосфильмовском павильоне замечательную декорацию городской площади, на которой должны были безумствовать скоморохи.
Веселись, веселись, У кого деньги завелись. А у кого перевелись, Тот тоже веселись! А у нас их нету сроду, Веселимся вам в угоду! Поклон московскому народу!Оператором был Саша Антипенко, выдвиженец Сережи Параджанова, замечательно снявший знаменитую “Мольбу” Тенгиза Абуладзе. И актеры были приглашены, как говорится, что надо, перший класс. Толя Ромашин изображал Щуку, совсем еще молодой Сергей Безруков — Емелю, Слава Невинный — царя Ерему, Кристина Орбакайте — царевну Несмеяну…
Начали снимать, всем было весело и интересно, пошел первый материал. И тут — экономический кризис! Потому-то я и написал: “полторы сказки” — на середине съемок все остановилось, навсегда. Декорацию разрушили, а материал… Где-то был поначалу, а сейчас его уже и не найти, конечно.
После ВГИКа, когда я мучился с этим “Стрелком из лука”, я вообще не умел писать сценарии. В 69-м году первая — уже снятая — картина “Миссия в Кабуле” стала распадаться буквально на куски, и мы начали заново выстраивать ее с Леней Квинихидзе — бок о бок — за монтажным столом. До тех пор я не учился ремеслу по-настоящему. И потом продолжал учиться на других картинах того, первого периода. Впрочем, учиться не поздно и сейчас.
“Кроме всего прочего, теперь я знаю одно: искусство больше нуждается в ремесле, чем ремесло в искусстве”.
Франц КафкаТогда на острове Чечень, в октябре 1962 года, я больше всего на свете не хотел писать сказку.
Мы с Женей Фридманом жили — в основном только ночевали — в домике с жестяным флюгером в виде рыбы — у хозяйки, вдовы. Рыбаки, дружки ее мужа, не вернувшегося с моря, такие же браконьеры, как и он, поддерживали одинокую женщину. И мы не раз видели, утром выходя, сваленных на земле перед крыльцом осетров. Толкая друг друга, они то засыпали, то просыпались, страдальчески вытягивая свои почти человеческие, ернические рыльца.
Пока все заняты съемками в какой-то части острова, выйти одному на берег.
За ночь море ушло далеко, даже не видна граница между водой и обнажившимся дном, сырым и жирным, как высыхающая лужа. Ветер-верхач скоро вернет море. Стоишь, зачарованно смотришь в мрачную даль морскую и представляешь, как здесь же, где сейчас я, стояли рыбачки. Тогда ветер, хозяин острова и моря, вдруг посередь зимы дунул теплом, и оно съело весь лед, по которому должны были прийти с дальнего лова их мужья и сыновья. Суров батюшка Каспий.
Потом, замерзнув, податься на площадь в центре поселка. Пусто. В дощатом щелястом павильончике дядя Яша, рябой, рыжий, в зимней шапке, нальет тебе из бутыли розовое виноградное, двадцать копеек стакан. Сначала будет холодно внутри, в животе, потом все потеплеет, и плевать на ветер, беснующийся вокруг павильончика дяди-Яшиного, вокруг розового виноградного.
Правда, говорят, он настаивает винцо на табаке, чтоб крепче взяло. Вполне возможно, если посмотреть на его хитрую рожу. Но это нас не остановит!
— Повторить, дядя Яша!
Наповторявшись, но в меру, веселыми уже ногами — всё дальше — прощай, работа, ты не волк! — и дальше от сценария. По острову — туда, где Женя Фридман снимает свою курсовую. “Конвас” в руках у Юры, он сегодня свободен от актерской игры.
Мы называем это место “кладбище кораблей”. Потрясающее место! Отслужившие свое фелюги и бударки, даже старинные мачтовики, ржавые остовы, фантастические скелеты на фоне неба. Мечта оператора! Просто нормальный кинематографический клад. Причем, именно для Жени, который через девять лет снимет свой единственный фильм “Остров сокровищ” с Борисом Андреевым в роли Сильвера. После чего вскорости навсегда уедет в Америку с этим его прекрасным — ковбойским — лицом и несбывшимися надеждами снимать кино.
А к вечеру все соберемся в брошенном доме, который мы оккупировали и прозвали “домом кино”. У нас там весело, шумно, разговорчиво, розовое виноградное льется рекой и даже местный “сучок” — жуткий напиток — тоже идет под воблу.
Все стекаются к нам, в наш клуб. Хорошие ребята осветители, ленфильмовцы. Милые и отзывчивые девушки из киногруппы — “среднее звено”. Однажды забредет Ролан Быков. Сначала мы с ним поссоримся ненадолго, потом помиримся — навсегда.
А тем временем мировая История оказалась в роковом тупике.
“Карибский кризис продолжался 13 дней.
Он имел чрезвычайно важное психологическое и историческое значение. Человечество впервые в своей истории оказалось на грани самоуничтожения…”
ВикипедияВыбежал из “дома кино” за девушкой с польским именем. И вдруг она, обидевшись, что ли, куда-то делась, сквозь землю провалилась, и я стою на площади один-одинешенек, фонарь скрипит и раскачивается надо мной из стороны в сторону, то на миг освещая меня, то оставляя во тьме. И вдруг включается громкоговоритель на столбе.
Мне понятно ваше волнение и беспокойство. Хочу заверить Вас, что Советское правительство не даст спровоцировать себя неоправданными действиями Соединенных Штатов Америки и сделает все, чтобы ликвидировать чреватую непоправимыми последствиями ситуацию…
Н. С. Хрущев. Письмо английскому философу лорду Бертрану РасселуЯ один на острове. Необитаемом? В эти мгновения — да. Сейчас я один в центре всего мира, который вот-вот полетит к чертям. Где-то еще есть Хрущев, где-то Кеннеди, где-то на Кубе стоят наши ракеты, куда-то идут американские военные корабли. И все чревато, все непоправимо, и сейчас немедленно начнется война. Погаснет фонарь, заткнется на полуслове диктор в громкоговорителе. И наш остров бесшумно уйдет на дно морское.
Надо бы наложить на это изображение фонограмму — дьявольский голос Шаляпина-Мефистофеля, издевающегося над человечеством:
В угожденье богу злата Край на край встает войной, И людская кровь рекой По клинку течет булата. Люди гибнут за металл! Сатана там правит бал!Если бы я тогда был такой, как сейчас — после всего, что мы пережили за эти годы, — я бы подумал, возможно: Господи, Твоя воля, не наша. Заслужили!
А тогда — какой я был? Под качающимся фонарем, освещаемый, как истерическим стробоскопом, — шутка ли! — светом мировой Истории. Темное и светлое, темное и светлое…
…Вернулся в “дом кино”. Там было по-прежнему весело. Вобла и “сучок”. Не помню, рассказал ли я о том, что услышал на площади под фонарем, или нет.
Март 63-го. Ялта. Гостиница “Ореанда”.
Я уже не первый раз в Ялте, привык к тому, что здесь всегда и в любой момент есть море, о котором я так мечтал в детстве. Я не пловец, но это уже мое море, законное, не выдуманное, не в мечтах шумящее, не из окна поезда, спешащего в Ереван, слепящее.
Наброски из ненаписанного романа
Утром Сашка, поджав ноги на верхней полке, первым в купе — где-то на подъезде к Туапсе — увидел море. Сначала было только предчувствие — в цвете и воздухе пространства, потом море блеснуло — слепяще — сразу всей расплавленной солнцем плоскостью и заняло все окно.
Майор-пограничник с полки напротив, спавший в майке и галифе, чтобы не показываться маме в трусах, крестом, как гимнаст, оперся руками, обозначив мускулы, об обе полки и деликатно опустил большие босые ступни на коврик.
Весь день дороги накануне майор ненастойчиво ухаживал за мамой, и ей это нравилось. Он пил коньяк и танцующий в стакане боржом, угощал конфетами “Мишка” в синих фантиках и хрустящих серебряных обертках, обнимал Сашку за плечи — глядя на маму — и звал его к себе на заставу.
Поезд встал вдруг, с мощным толчком прозвенев всеми стаканами и ложечками во всех купе, и замер напротив моря.
— Надолго, отец? — спросил майор у проходившего по коридору проводника.
— Пемзу набрать успеете, — ответил тот.
Бежали вдвоем с майором, спрыгнув с подножки и даже не взглянув на куски рыжей, дырчатой пемзы между шпалами, через полосу песка и мелкого каменного крошева. Сидя на берегу, на песке Сашка, нервничая и торопясь, распутывал шнурки, майор стянул сапоги. Подвернуть наспех брюки, тронуть босыми белыми ногами пенящийся, покорный, теплый — каждым дыханием прибивающий к берегу чистый морской сор — прибой. Войти в море. Первый раз в жизни. Сразу же — откуда-то снизу из живота и к горлу — задыхание восторга и страха.
Страх и наслаждение. Страх и наслаждение!
Шаг, еще шаг по дну, напрягая, поджимая пальцы, чтобы не скользнуть, — вода выше, уже брюки намокли, а восторг влечет туда, где впереди темнеет полоса обрыва, — к зачаровывающей глубине.
Сзади крики, мамин, что ли, испуганный голос из тамбура. Скорей, скорей! Подхватив обувку, назад. Тетка, подвернув подол, полный крупных кусков пемзы, никак не взберется на ступеньку. И в последнюю, как показалось, секунду майор сильно и спокойно подхватывает Сашку и поднимает — вперед босыми ногами — к тамбуру. А уже прошла по всему составу судорога, тронулись, и это медленное, но нарастающее с каждым тактом могучее паровозное движение — вдоль моря.
Сидели на полке, рядом — мама, напротив, улыбаясь — оба, не обуваясь, глядя вниз на свои шевелящиеся пальцы, нежно и сухо стянутые солью. Майор пьет коньяк.
— Еще успеешь, — говорит он, — еще накупаешься. Там, где будете жить, наверное, есть море?
— Как? — говорит мама удивленно. — Разве там есть море? Откуда там море?
Конечно, там не было моря. Но Сашка еще не знал, что, когда оно понадобится в роковой и решительный момент, оно придет, прикатит — в грозе и буре, без зова и спроса, зная и любя, — ему на помощь — утешать и омывать стопы.
Поклялся Юре Ильенко, что за этот месяц в Ялте, один, совершу подвиг и закончу наконец сценарий. Да и время по договору идет к концу.
Однако больше энергии затрачиваю на то, чтобы вырвать недовыплаченный еще гонорар у главного бухгалтера, важно выступающего почему-то в полувоенном прикиде. Хотя, думаю, кровь на фронтах он не проливал. Жулик он был такой, что легенды о нем докатывались из Ялты до Киева.
— Ты же поссотри на себе, — доброжелательно говорил он мне с мягким акцентом, когда я с несчастным лицом и голодным блеском в глазах в очередной раз безнадежно являлся к нему в кабинет. — Ты ж совсем молодой хлопец. Ну кажи, для чого тебе такие гроши?
Кремень был человек!
Действительно, на что гроши? А белое сухое “ркацители” на набережной и чебуреки даром, что ли, дают? А кофе и коньяк в кафе “Ореанда”, где за большим окном, как счастье, сияет море и хочется говорить, как в рассказах Хемингуэя? А вечером пойти в ресторан? Там, навевая лирическую приятную тоску, лабает местный джаз, и прыщавая певичка, жена толстого трубача, поет — всегда на бис, но за бабки: “Здесь под небом чужим я, как гость нежеланный…”
А номер в гостинице, хоть и паршивенький, он ведь тоже денег стоит. Когда еще студия мне их вернет? Надеюсь, что вернет. Ведь я, гениальный молодой сценарист, сочиняю для нее гениальный сценарий будущей гениальной картины…
В том-то и дело, что гениальный сценарий не очень-то сочиняется.
Но все равно сажусь за стол, на котором стоит машинка. Окно выходит не на набережную, как в номерах подороже, а в мрачный серый внутренний двор. Сюда же выходят окна музыкального училища напротив. В открытом окне постоянно вижу девушку со скрипкой и знаю, что она видит меня.
Уверен, она стоит у окна и играет для меня. Но как познакомиться, если я на расстоянии даже не различаю ее лица? Вижу только некий образ, который, естественно, настраивает лирически. Может, это судьба? Молодой сценарист и юная скрипачка. Они жили счастливо и умерли в один день. Крикнуть? Но лица-то ведь не вижу. Не решаюсь. Пусть воздушный этот роман так и останется — воздушным.
В “Стрелке из лука” действие, конечно, происходит в сказочном городе. Низкий поклон “Трем толстякам” Олеши, “Городу мастеров” Тамары Габбе, пьесам Шварца. Но в нашей истории всё в основном ради цвета. Например, голые мальчишки, которые, оказывается, городское войско, скачут на красных, зеленых, желтых, фиолетовых конях.
Кстати, Юра с идеей раскраски живых млекопитающих не расстался. И пятью годами позже, уже окончательно став режиссером, для картины “Ночь накануне Ивана Купалы” разрисовал корову. Цветочками.
Некоторые эпизоды этой картины он будет снимать все в той же Ялте, а я приеду туда писать “Двадцать шесть дней из жизни Достоевского”.
Провожать меня из “Внуково” в семь утра будет Отар Иоселиани, с которым мы расстались накануне ночью в “Национале”. Веселые были проводы….
В результате провожания он доставит меня и семейную пишущую канцелярскую машинку “Континенталь”, запеленутую мамой в одеяло и перевязанную веревкой, на тележке — прямо к трапу самолета. Тогда было как-то попроще…
В Ялте я поселюсь на горе в Доме творчества писателей и по вечерам буду спускаться в “Ореанду”, где после съемок уже заседает славная компания. Юра, и его старший брат, оператор картины Вадим Ильенко, и его “второй” Виля Калюта, впоследствии прославившийся как оператор Балаяна и Михалкова, и Боря Хмельницкий, актер “Таганки”, Хмель, общий милый друг и любимый собутыльник.
Цвет, собственно, и погубил в “Стрелке” драматургию, о которой тогда я имел крайне слабое представление, несмотря на диплом. Сейчас бы я знал, как все написать, но — поздно. А тогда бился, злился, матерился. И вдруг, все еще не пережив недавние впечатления, вместо сказки сочинил рассказ “На краю света”.
“Сейчас ему совершенно все равно, узнают ли, о чем он думал тогда, в темноте, в октябре, на острове Чечень, когда вокруг была ночь, разрываемая лучом прожектора с маяка, когда со всех сторон было слышно бегущее к берегу море, а слева, и справа, и сзади были деревья без листьев с белеющими стволами, и слабо светила желтая лампочка со столба, и на этом же столбе был громкоговоритель, гремевший изо всех сил”…
Журналиста, застрявшего на острове, звали в рассказе Сашка. Видимо, в этом уже было какое-то предчувствие будущего рождения моего меняющего разные образы главного героя написанных и ненаписанных произведений. Но, может быть, даже из-за этого рассказик, сочиненный с явным перебором эмоциональности и излишне красивых словесных сочетаний, не заслуживал бы упоминания, если бы не одно важное для биографии обстоятельство. Он оказался первым в цепочке событий, которые в конце концов привели к полному — и уже навсегда — разрыву с отцом.
Волнуясь необычайно, я отчаянно прочитал рассказ Борису Балтеру и Борису Заходеру. Жили они оба в Доме творчества. Балтер в Ялте оказался не случайно. Первоначально фильм по его сразу всем полюбившейся книге “До свидания, мальчики” должен был ставить не Миша Калик на “Мосфильме”, а киевский режиссер Артур — Артуша — Войтецкий на Ялтинской студии.
А я еще раньше — в один из приездов в Ялту — познакомился с Артуром и подружился с ним и Яшей Базеляном, учеником Ромма, тоже киевским режиссером, в то время числившимся художественным руководителем Ялтинской студии. Вместе с Артуром он снял “Рожденные бурей” по роману, якобы написанному Николаем Островским. А до этого, в 54-м, — общий с Сережей Параджановым дебют на Киевский студии — сказка “Андриеш”.
Яша был необычайно интеллигентен, просто чеховский персонаж во плоти, недаром одна из его картин — “Дом с мезонином”. Да и много позже, когда он уже переехал в Москву и работал на студии Горького, я сделал для него коллаж из всех детских рассказов Чехова и рассказов, где дети рядом со взрослыми.
Сценарий был очень неплохой, правда. Но его зарубили — он был уж очень чужой для студии Горького с ее трафаретными детьми, на которых мне всегда было неловко смотреть.
Тогда я — вместо того, чтобы послать подальше всю эту редактуру, — написал еще один сценарий по тем же рассказам, но с другим приемом и сюжетом. Уж очень мне хотелось помочь Яше, потому что положение его на студии было весьма неважное. Они зарубили и этот вариант, ссылаясь на заключение какого-то — специально для этого выкопанного — занюханного чеховеда.
Яше я не помог, кино он уже больше никогда не снимал.
Однако, несмотря на чеховскую интеллигентность, выпивал он в ялтинский период очень даже неплохо, достойно, что нас тоже объединило. Вот они с Артуром и познакомили меня с Балтером и Заходером.
Хотелось бы понять сейчас, что же такое было во мне, довольно дурацком мальчишке, в тот безумный и прекрасный месяц в Ялте в 63-м году. И за что Балтер и Заходер, оба старше меня больше чем на двадцать лет, дружили, пили, смеялись и откровенничали со мной.
И как же мне радостно и гордо вспоминать этих двух людей, подаривших мне замечательный — незабываемый — месяц дружбы.
Началось это с того, что я вдруг осмелился и прочитал им в Доме творчества свой рассказ. И они его похвалили. Оба. Причем характеры очень разные.
Балтер — прошедший Финскую и Отечественную, начав, по его же словам, с “ваньки-взводного”, получивший от судьбы литературную славу, всё же — на поверку — был хороший, верный, сильный евпаторийский пацан. “До свидания, мальчики” — это он, весь. Когда мы выпивали, он научил нас евпаторийскому, как он говорил, тосту: “И шоб они сдохли!” И мы всегда знали, кто и что в этот момент имеется в виду.
Прямой, искренний, смелый, очень обаятельный, мягкий с теми, кто был ему по сердцу — очень больному, к несчастью. Но однажды он так двинул кулаком одного известного кинорежиссера, затесавшегося к нам в компанию, когда тот обидел женщину, что тот рухнул под стол.
Заходер — совсем другой. Тоже прошел две войны, добровольцем. Мне запомнился толстый, но тогда легко ходивший, всегда посмеивающийся, молчаливый и очень остроумный человек. Как бы удержаться и не сравнить его с Винни-Пухом, созданным им для нас вместе с Милном? И при этом смешке, который невозможно передать, в нем была какая-то смущавшая меня сложность. Я думаю, что его тяготило то, что он был “детский”. Хотя, скажем, “Кот и Кит” — на мой взгляд, блестящая поэзия. А уж за “Винни-Пуха” и “Мэри Поппинс” дети Советского Союза должны были бы памятник ему поставить. И я до сих пор иногда повторяю сам для себя любимые стихи, перевод с польского, но совершенно заходеровский:
Энтличек-пентличек, Коробочка спичек, Сидела на яблоньке Стайка синичек. На яблоне яблоко, Красный бочок, А в яблоке этом Живет червячок…Яша Базелян, который узнал его лучше и ближе, говорил, что Заходер читает ему очень хорошие “взрослые” стихи. Наверное, это и было для него главным, от этого, видимо, и происходила “сложность”.
Конечно, они оба не могли не почувствовать манерность моего рассказа с чрезмерно ритмизированными фразами, но, решительно приняв меня под крыло — уж чем я им угодил, право, не знаю, без кокетства, — они очень хотели, чтобы рассказ Паши был хорошим. И он вдруг таким стал — волшебным образом.
“Ведь каждый человек (так же, как и любое божество) нуждается в том, чтобы в него верили”.
Макс БродРадость и гордость от того, что могу запросто, как равный, идти по набережной между Борей Балтером и Борей Заходером — у меня есть право называть их так, по именам, — и обсуждать, куда мы направимся. В ресторан “Ореанда”, где Борю Балтера заинтересовала певичка? Или в званые гости к одной пожилой и одинокой даме, вдове расстрелянного комкора и самой не так давно вышедшей на свободу и после реабилитации поселившейся в Крыму?
Неужели это я иду рядом с этими двумя туда, куда они?
И, боже, каким горем было для меня увидеть у кого-то из них в руках “Литературку”. Они договорились мне не показывать, что там напечатано, но кто-то из знакомых остановился с нами, перекинуться и обсудить — с той же газетой. И я увидел в ней фамилию моего отца, подписанную вместе с другими писателями под очередным гнусным, кого-то из хороших людей осуждающим письмом.
И как я рвался из рук Балтера и Заходера на почту, мимо которой мы шли, — немедля дать телеграмму отцу. Но дружеские руки увели меня в “Ореанду”, и оркестр играл, и певичка пела — что? — “Журавли”? “Здесь под небом чужим?” Наверное, ради Балтера.
Я ведь тогда ничего не знал о списке Министерства госбезапасности для “московского дела”, в котором была и фамилия отца. А знал бы — простил? Думаю, нет. Такое у меня тогда было настроение. И такой возраст.
Мы расстались поздно вечером. На утро было назначено обсуждение сценария Балтера и Войтецкого в кабинете директора на студии. И я тоже был туда приглашен как молодой перспективный автор из актива сценарного отдела. Заведовал этим отделом Юра Турчик, писатель, ялтинец, очень славный человек, тоже фронтовик, что тогда в моих глазах было знаком качества. С одной стороны — главный редактор, а с другой — наш, свой на все сто.
Боря и Боря пошли к себе наверх, а я — с некоторым трудом — повел в гостиницу еще одного из “наших” — Витю Авдюшко. Актер тогда знаменитый и хороший. У нас с ним была такая игра… Как-то во время веселого застолья я сказал: “Витя! Ты мне так нравишься, что я тебя усыновляю”. И с тех пор он, 1925 года рождения, называл меня исключительно “батей”. И неискушенные новички, оказавшиеся вместе с нами, совершенно обалдевали, когда знаменитый Авдюшко, старше меня и выше, если ему надобилось в туалет, серьезно обращался ко мне: “Батя! Дозволь выйти из-за стола”.
Но сейчас он меня совершенно не слушался — шумел, буйствовал и жаждал героических подвигов. На площади, где река Учан-Су, рожденная у подножия Ай-Петри, впадает в море, было укреплено большое сферическое зеркало, видимо для каких-то целей регулирования движением транспорта. И что же я вижу? Мой “сынок”, раскинув широченные объятия, пытается сорвать это зеркало с крепления. Я понимаю, конечно, что это не под силу и Портосу, но все-таки отделение милиции совсем недалече. А с ялтинской милицией шутки лучше не шутить.
— Витя, — говорю ласково и терпеливо, как отец любимому ребенку-шалуну, — зачем тебе оно?
— Батя! Бриться буду! В номере! — на всю площадь отвечает мне сынок — русский богатырь.
Все-таки сила убеждения подействовала. Отвел его спать, а самому неохота было забираться в утлый и равнодушный номер, решил пройтись еще немного по ночной набережной, послушать море. На набережной был тогда ювелирный магазин. В витрине на черных бархатных подставках — со слабой ночной подсветкой — выставлены какие-то браслеты, серьги, кольца. И, проходя мимо, вдруг вижу, как прямо на меня с такой подставки-подушки, через стекло, холодно и спокойно смотрят чьи-то маленькие глаза. Крыса! Огромная крыса. Я их не выношу. Но остановился, загипнотизированный. Потом постучал по стеклу. Не уходит, смотрит…
Дурной знак. А наутро обсуждение в кабинете директора.
Тут, как написал бы Зощенко, ночная крыса сразу и подтвердилась.
Кабинет директора Ялтинской киностудии Владимира Сергеевича Алешина. Высокий, худой, сухой. Предыдущее место работы — начальник Крымского областного управления культуры. Но, кажется, не совсем злодей.
Мы все расселись вдоль стен — по периметру. Я сижу рядом с дверью, через стул от меня какая-то неизвестная мне невозмутимая тетя в строгом костюме и с косой вокруг головы.
Скоро становится понятно — худсовет при участии редактуры и представителей ялтинской общественности понемногу гробит режиссерский сценарий. Опыта тогда у меня не было, но, видимо, было уже какое-то чутье — я чувствовал, что сценарий слабоват. Ну и что? Во-первых, и прежде всего, это сценарий Балтера! А во-вторых, не за то гробят, что там непорядок с драматургией, в которой они сами разбираются, как в апельсинах, а потому что — боятся.
“1 декабря 1962 года Никита Хрущев посетил выставку художников-авангардистов студии «Новая реальность». Руководитель СССР, будучи неподготовленным к восприятию абстрактного искусства, резко критиковал их творчество, использовав нецензурные выражения…
В декабре 1962-го и весной 1963 года состоялись несколько встреч Хрущева с интеллигенцией…”
ВикипедияЗапись 2015 года
В России всегда самой уязвимой и беззащитной была “культура” — что при царях, начиная с битого Тредиаковского, что при Сталине, что при Хрущеве, что сейчас…
Сталин уничтожал не только свидетелей его преступлений, но и “свидетелей культуры”. Создание нового человека “методом исключений”, кровавой, безжалостной, но чудовищно осознанной, осмысленной селекцией было вовсе не так уж и глупо. Он все же во многом добился своего. Причина многих наших бед разного рода — разрушение культуры. Даже не во внешних ее формах, а в сознании.
Нет, сценарий друзей надо защищать! У меня бывает — скорее, бывало, но тоже нечасто — состояние, когда мне все равно, где я и перед кем.
Напротив меня рядом с окном на стене календарь, такие тогда выпускало Бюро пропаганды киноискусства — с актрисами и актерами. Я смотрю на Скобцеву, на колонку цифр-чисел и понимаю, что сейчас скажу. Алешин дает мне слово.
“Видите, — спрашиваю, показывая на календарь, — какое сегодня число рядом с прекрасной Скобцевой?” Все смотрят, почему-то ни о чем пока не догадываясь. А я продолжаю: “Девятое марта тысяча девятьсот шестьдесят третьего года, день будний — цифра черная. А надо бы — красная. Ведь это праздник! Ровно десять лет, к счастью, похоронили Сталина, палача людей и культуры. Так неужели мы отметим этот праздник очередной ложью о нашем прошлом?”
Ну, и так далее…
Юра Турчик вздыхает и опускает голову. Балтер смотрит на меня с интересом и улыбается. А неизвестная тетя, сидевшая до этого с непроницаемым лицом, лупится в мою сторону с недоумением и тихо, но внятно произносит: “Кто это?”
Как я скоро узнаю, тетя — из Киева, из Госкино УССР, начальница, здесь в роде ревизора. Конечно же, она знала, кто я такой, заочно. Но, видимо, я уж очень не соответствовал в тот момент ее представлению об образе советского сценариста.
И ее можно было понять. С собой у меня была только одна рубаха, я ее сам стирал в ванной в номере. Но вот до глажки дело не доходило. Когда же манжеты, выглядывавшие из рукавов пиджака, понемногу темнели — по естественным причинам, — я их совершенно спокойно просто подворачивал. До следующей стирки, с которой не слишком торопился.
Сценарий “До свидания, мальчики” зарубили. Наверняка это вызвало очередное повторение тоста “И шоб они сдохли”.
Сквалыга бухгалтер, кряхтя, выплачивал мне по частям — копейками, которые тут же тратились, денег на обратную дорогу не было. Узнав об этом, Балтер, он уже тоже собрался в Москву, сказал, что забирает меня с собой, и купил мне билет на поезд. На самолете он не летал — из-за сердца.
— Получите Ленинскую премию — отдадите деньги, — сказал он мне, когда мы расставались на Курском вокзале.
Думаю, вы не удивитесь, узнав, что Ленинскую премию я так и не получил.
Ночью вдруг у меня на Фурманова междугородный звонок. Юра Турчик — из Ялты. “Паша! — трагическим голосом. — Я только что вернулся из Киева…”
Ну конечно, тетя с косой все аккуратно донесла вышестоящему. И это оказалось очень кстати. По всем республикам тогда — волной, по московскому образцу — пошли идеологические совещания и встречи с интеллигенцией. В Киев немедленно была затребована стенограмма моего выступления. И я “прозвучал”.
— А в чем дело? — говорю я глупо. — Ведь культ личности осужден.
— Паша, — слышу, как в Ялте вздыхает Турчик. — Ну, вы же всё понимаете…
Ох это наше вечное “вы всё понимаете”!
Все понимаем, только ничего сделать не можем. Или не хотим?
Киев о нашем с Ильенко сценарии приказал забыть, а меня на Ялтинскую студию — не пускать.
Последний раз в Ялте был в 2006 году. Приехали с Ириной к сыну Алёше, невестке Ане и совсем еще маленькому внуку Женьке. Алёшка арендовал тогда на лето дачу на Ай-Петри. Были дожди. Он уходил охотиться куда-то еще выше за Учан-Су и брал с собой любимую мачеху Ирулю, как он ее называет. Я остаюсь со своим компьютером.
Все время ветра шум, шумит вся зеленая масса. Здесь, в нашем дворике, не отрываясь взглядом от верхней линии, где горы соединяются с облаками, где начинается яйла и где сейчас моя жена и мой сын, я думаю о том, как я их люблю. И невестку-красавицу Аньку люблю, и ее мать, веселую нашу подругу Нигору, и ее отца Игоря, с которым мы хорошо будем пить текилу вечером, когда вернутся охотники, и маленького террориста Женьку. И дожидающуюся нас в Москве дочку Катю с ее двумя девочками и двумя мальчиками. И брата Витю, и сестру Ольку с их детьми…
Вот ведь могло ли это прийти в голову тому мне, бесприютному, в неглаженой рубашке с вылезающими манжетами, что я стольких буду любить?
А может, думаю я, ради этого и стоило всё вынести, всё пережить, всё перемолоть — все неудачи, все разочарования, все предательства? Не ради успеха и денег, даже не ради всемирной справедливости, а только ради любви.
“Да, лучшее средство к истинному счастью в жизни — это: без всяких законов пускать из себя во все стороны, как паук, цепкую паутину любви и ловить туда всё, что попало: и старушку, и ребенка, и женщину, и квартального”.
Лев ТолстойК вечеру спустимся в Ялту, на набережную. Встретим — с радостью — Рому Балаяна с Наташей, они здесь на каком-то фестивале.
Но это всё же не та набережная, по которой я некогда шел с Балтером и Заходером. Та и не та, она как будто другого цвета, другого шума и похожа на попугая. А ту Ялту, мою, и ту набережную — мою, со всеми ее звуками и милыми призраками, я, не спросясь ни у наших, ни у не наших, не считаясь ни с какой юрисдикцией, но исходя из высшей договоренности — с морем, с дружбой и безумием молодости, — я, лично Павел Финн, год рождения 1940-й, беспартийный, давно уже аннексировал для одного себя. Раз и навсегда.
И что вы со мной сделаете?
А к “Стрелку из лука” мы с Юрой еще раз вернулись — он уже снимал в Киеве “Тени забытых предков”. И я тогда впервые приехал в Киев, зимний, заснеженный… Но это другая история.
Но донос на меня из Ялты оказался не единственным.
В 64-м году на студию — с каким-то сценарием о плотогонах — прибыл писатель Николай Евгеньевич Вирта, близкий друг отца, знавший меня с рождения.
У него это был уже не первый опыт в кино. В 49-м “Сталинградская битва” по его сценарию, в 50-м — жуткий фильм “Заговор обреченных”, к несчастью снятый Михаилом Калатозовым. Сталинская премия первой степени.
Сам Вирта родом из-под Тамбова, сын сельского священника по фамилии Карельский, расстрелянного в 21-м году за участие в Антоновском мятеже. И участие это было вроде бы даже довольно заметное. Отец как-то пересказал мне — с пьяных — “достоевских” — слов Николая Евгеньевича, как тот, пятнадцатилетний подросток, ползал по полу на месте расстрела и собирал мозги родителя-священника.
“В 1943 году в СССР было разрешено издать Библию. Специальным цензором издания был назначен Николай Вирта. В результате проверки как Ветхого, так и Нового Заветов Вирта не обнаружил в них отклонений от коммунистической идеологии и утвердил к печати без каких-либо изменений”.
ВикипедияВ романе Вирты “Одиночество” про мозги, конечно, написано не было. Но роман в детстве мне чем-то даже нравился. Все-таки в пятнадцать лет он многое мог увидеть и запомнить.
Сталин почему-то очень возлюбил Вирту — на некоторое время, — и все это знали. Четыре Сталинские премии тому подтверждение. Ходили даже слухи, что его фотокарточка висела у вождя на стене в спальне на даче, прилепленная вроде бы хлебным мякишем.
“…Его незначительная, приказчичья, нагловатая мордочка выражала полное самодовольство, и щегольской военный костюмчик сидел на нем очень складно”.
Из воспоминания Евг. Шварца о финской войнеВот от него-то отец и узнал о моей вольнодумной эскападе на худсовете. Кроме этого Вирта, как настоящий писатель с воображением, добавил мне кровожадное заявление о том, что поколение отцов-коммунистов надо уничтожать безжалостно. Это было наглое вранье. Но отец поверил, однако молчал до поры. Он вообще был постоянно раздражен моей “революционностью”, но еще позволял мне с ним спорить.
И тут я загремел в милицию. История была совершенно дурацкая, вины моей — на тот случай — не было никакой, но я все равно провел ночь в отделении.
Утром, когда выпускали, мне предъявили опись отобранных предметов. “Платок — один, деньги в количестве — один рубль…” Следующим предметом были четки, подаренные мне Сережей Параджановым. Они задумались, но вышли из положения, написав в описи: “безделушка — одна”.
Паспорта у меня при себе не было. В наличии единственный документ — на бланке журнала “Москва” — “Поручение”: сбор материала для очерка о ЗИЛе.
Добродушно обещав не фиксировать задержание как привод — “раз ты у нас такой журналист”, — они, не успел я выйти, позвонили в журнал. А оттуда позвонили отцу. А отец позвонил мне. В ярости. И потребовал, чтобы я немедленно приехал к нему. Они с Ниной Петровной жили уже тогда на “Аэропорте”.
Сначала я жалко врал, что был задержан на всю ночь, потому что перешел улицу на красный свет. Но разговор становился круче. Слово за слово, помянута была Ялта. И все было бы ничего, если б в разговор не вступила Нина Петровна. И это уже взворвало меня, я попросил ее не вмешиваться. “Попросил” — это, конечно, слишком мягко и, в общем, не слишком красиво. Отец меня выгнал.
Следом за мной на “Аэропорт” — заступаться за меня — приехал мой старший брат Витя — в высшей степени положительный человек. Отец крикнул ему, что он меня проклинает. Брат ушел.
С тех пор ни он, ни я с отцом не встречались. Никогда. Хотя попытки были. Мои. Дважды. Первый раз, когда я прислал ему билеты на премьеру “Всадника без головы”, на что не последовало никакой реакции.
А второй… Через десять лет после проклятия. Наш с Туром друг Женя Нечаев, тогда главный врач поликлиники Литфонда, переглянувшись с Валей, осторожно сообщил мне о болезни отца. И я понял, что это за болезнь.
Отец уже лежал в больнице. Оставалось ему, похоже, совсем немного на этом свете. Мы поехали вместе с Валей. Я ждал в вестибюле, Валя поднялся к нему в палату. И вернулся с отказом.
Поистине, прав был Ягве. Все-таки мы, евреи, — жестоковыйный народ.
Запись 2015 года
Почему так часто сейчас думаю об отце? И снится он мне даже чаще, чем мама. И все мне кажется, что нам бы стоило объясниться, что он так и не понял, кто я такой на самом деле.
Все будет хорошо, К чему такие спешки? Все будет хорошо, И в дамки выйдут пешки. И будет шум и гам, И будет счет деньгам, И дождички пойдут по четвергам.Распевалось нами тогда довольно часто. Именно когда был шум и гам очередного сборища шестидесятых. Но пока было все не слишком хорошо. Пешки совершенно не спешили в дамки. Счета деньгам не было, потому что нечего было считать. Дождички, правда, шли. И не только по четвергам. И после дождя в Москве пахло арбузом и морем.
Наброски из ненаписанного романа
Промозглым сумеречным днем, какие бывают вдруг в южных городах, Сашка остановился на углу. Улицы города делились для него на те, где был страх, и где можно было пробираться без оглядки.
На пути к дому греха, как он, культурный мальчик, читавший Шекспира, прозвал в постоянных разговорах с самим собой место встреч отчима с Танькой, миновать опасность было невозможно.
На окраине рынка гнездились бесенята. На какой-то перекладине, как птицы. С нарочито равнодушными, но цепкими взглядами по сторонам. Обнявшись за плечи. Раскачивая босые ноги с черными подошвами, с длинными обезьяними пальцами-когтями. Один мальчишка совсем лысый. Именно, не бритый под ноль, а с блестящей, круглой безволосой башкой. Вожак.
Они уже не раз безжалостно били и гнали Сашку. Но тяга, такая же нерассуждающая, как и та, что приводила его в гостиничную умывальню глядеть на голую Зою, неудержимо влекла к этому дому. Чтобы еще и еще раз, представляя, что там сейчас происходит, почувствовать ненависть, но и эту проклятую — позорную — нетерпеливо ожидаемую — томительную сладость в низу живота.
Способ спастись от бесенят был. Надо только выждать и высмотреть какого-нибудь взрослого мужчину, лучше всего — офицера, прибиться к нему и вместе пройти несколько шагов под насмешливыми, злобными взглядами. И сразу же дать деру, да так стремительно, чтобы стая не успела расправить крысиные крылышки и подняться в воздух.
Во всем этом была, конечно, какая-то бессмысленность. Ведь он же ничего не видел. И, занимая свой постоянный пост наблюдателя за ни за чем, он почему-то не думал, что могут увидеть и его самого. И потому даже не особенно прятался. Но в тот раз так и случилось. Борис стоял в окне третьего этажа и смотрел прямо на Сашку.
Отчима я выставил из дома на Фурманова — кажется, это был десятый класс, мне было шестнадцать, — когда уже не в первый раз увидел синяки на мамином лице. Он и она, конечно, помирились, мама все прощала. Я вышел из своей комнаты в “большую”, встал напротив него и сказал: “Уходите, я вас здесь больше не хочу видеть. Это мой дом, дом моего отца”.
Борис смотрел на меня удивленно и насмешливо. Он умел драться и бить, я это хорошо знал. И я его, в общем-то, боялся. Но не в тот момент. А он молчал. И чем могла кончиться эта пауза, было пока не понятно — ни ему, ни мне. Я только знал, что отступать не буду. Тогда вошел Витька и встал рядом со мной.
Особенно противостоять Борису он бы тоже не смог. Хотя всегда был очень смелый, даже до некоторого бешенства. Существовало воспоминание, как он, вернувшись из эвакуации, из-за какой-то уличной обиды напал на приемного сына Булгакова Сережу Шиловского — старше его на семь лет, — да так, что Елена Сергеевна приходила из своего подъезда в наш — жаловаться на него маме.
Увидев выросших на его глазах братьев, школьника и студента, рядом, Борис понял — надо уходить. И ушел.
Потом всякое было. Мама с маленькой Олькой перебралась к нему в Смоленский дом, в квартиру его матери-ведьмы. Я приходил туда, и мы даже с ним выпивали. Однажды он в Парке имени Баумана — на моих глазах — легко и весело разоружил милиционера, незаметно вытянув его пистолет из кобуры.
Пистолет он сразу вернул. Когда потрясенный милиционер пришел в себя, мы бежали в темноте парка, пробиваясь сквозь кусты. На Смоленской мама слушала наш восторженный рассказ и смотрела на нас счастливая, думая, наверное, что все наладилось в отношениях. Ничего не наладилось. Очень скоро Борис бросил ее и ушел к какой-то тетке, они вместе выступали на эстраде, ездили по клубам. Потом он окончательно спился, заболел, и кто-то рассказал маме, что его из жалости держат курьером в Мосгосконцерте.
А ведь был способный актер. Хоть и никогда не собирался играть Гамлета. Не его амплуа.
Наброски из ненаписанного романа
В гостинице в номере молча обедали за столом. Сашка, глаз не поднимая, рядом с Борисом. Веселый был Борис, неприятно веселый. Мама это чувствовала и не знала, в чем причина. А он вдруг покосился вниз, под стол, и потянул носом.
— Что? — спросила мама испуганно.
— А то! Что у нашего сынка ножки воняют, так что противно рядом сидеть. Наверное, много ходит, куда не надо.
Сашка, красный, ниже голову. У мамы слезы сразу в голубых глазах. Тихо:
— Какой ты злой, Боря. Зачем?
Борис встает из-за стола
— Ну, я побежал. В храм искусства! — целует маму и, проходя, с улыбкой Сашке — в самое ухо, шепотом: — Во-о-нючие но-о-жки! Ау?
Гроза и буря. Буря и шторм. Море бьет в берег, кидается на скалы. Откуда оно здесь, в этом городишке? Явилось на зов? В ответ на его тоску, на его страдания, на его желания. Сюда, сюда, свободная стихия! Ко мне! С волненьем лечь! К моим вонючим ногам!
Кипит, сверкает, бесится, ревет в простреле улицы — ждет, зовет, манит…
Стащить в подворотне ботинки, носки, поднести к носу — с наслаждением — отвращения и жалости к себе. “Ну и пусть! Пусть я буду вонять! Пусть! Я так хочу!” Затолкнуть липкий комок между кирпичами в стене. На босые ноги натянуть ботинки, и — к морю. Оно в нетерпении — страсти и сострадания — протягивает навстречу руки.
Ступням склизко в ботинках, падает, встает, бежит. Берег. Моря. Какого? Черного? Средиземного? Красного? Мертвого?
Ноги в воду, с остервенением и — песком их, песком, камнями. Тереть, сдирать этот запах. Навсегда он, неистребим он, что ли, этот запах беды, сиротства, бедности? Сунуть горящие ноги в ботинки, и в море — все дальше, все глубже…
Теперь как раз тот колдовской час ночи, Когда гроба зияют и заразой Ад дышит в мир; сейчас я жаркой крови Испить бы мог и совершить такое, Что день бы дрогнул…Запись 2017 года
Сейчас я думаю — может, я ошибся с Сашкой? Мог ли он в свои тринадцать так чувствовать? И не слишком ли намеренно и подходяще к моменту сюжета выбран этот монолог Гамлета?
Наброски из ненаписанного романа
В ботинках хлюпает. Решение принято. Словно крови полны. Он все расскажет. Мама! Уходи! Пусть живет со своей Танькой, предательницей, вернемся в Москву, там отец, он нас любит… Море вдруг успокаивается, укрощается, исчезает, как сон. Но запах остается. Запах моря. Только запах моря.
Запись 1964 года
Комната с голубыми разрисованными стенами. Свидетельница моих разочарований, обид, радостей и мечтаний.
Ночью читаю Дневники Блока, ем руками холодные макароны. Второй час. Внизу во дворе начинает бешено играть гармошка. Пение. Пляшут. Пляшут.
Перебивался — уже два года после ВГИКа — по-всякому.
То помогал Вале Туру сочинять его первую пьесу, инсценировку американского романа “Убить пересмешника”, для ТЮЗа. Не совсем бесплатно и совсем бесфамильно. То писал очерки для журналов. То вдруг Миша Казаков, уже примериваясь к режиссуре в кино, предложит экранизировать вместе с ним “Пиковую даму” для телевидения. Тогда наша заявка не прошла, что неудивительно. Но, неугомонный, он в семидесятых на “Ленфильме” снова взялся за это роковое для него произведение. И, по его словам, “лег в психушку, после того как провалил фильм «Пиковая дама»”.
Но слабая моя связь с кино все же не прерывалась. Немного зарабатывал поделками для киноотдела АПН. Но когда Ирина Анатольевна Луначарская, очень милая и красивая дочка наркома и актрисы Розенель, попробовала меня устроить туда на постоянную работу, меня не взяли. Не взяли и редактором в Госкино РСФСР, была такая славная структурка на Китайском проезде. Похожая на внутренность валенка, как я тогда пошутил.
Мне только и оставалось — шутить.
Причина обоих отказов была одна и та же, и четко прописана она была в моем паспорте.
Как же так? Идешь рядом, выпиваешь за одним столом, смеемся остротам друг друга, язык чувствуешь одинаково, любишь тех же поэтов, треплешься о том о сем, созваниваешься. Его берут, тебя — нет. Но ведь тебе всегда казалось, что ты ничем не отличаешься, ты среди своих. Ан нет, ты все-таки не такой, ты — сякой, посторонись-подвинься.
Впрочем, это счастье, что меня никуда не взяли. И это позволило судьбе тайно подготовить будущий поворот жизни.
А с теми, кого взяли, продолжаешь выпивать, созваниваться — шутить…
“Достатков нет — вот беда”, — как говорил Аксентий Иванович Поприщин.
“Всё это не беда, были бы деньги”.
Пушкин, из письма Года бегут, как воды Немана, С теченьем лет стареют люди. А денег нет, и денег не было, И говорят, что их не будет. Геннадий ШпаликовКак-то раз мы с Давкой Маркишем привели ко мне на Фурманова Веню Рискинда. Того самого Веню, которого Михаил Аркадьевич Светлов спросил: “Веня, знаете, чем вы отличаетесь от знаменитого американского сценариста Рискина?” И сам же себе ответил: “У вас лишнее «д» в фамилии, а у него лишний дом в Калифорнии”.
Веня, близкий друг Бабеля и Олеши, потрясающий персонаж того времени. Гений, не написавший ничего, существующий в собственном устном творчестве — лучшего рассказчика я не слышал — в остроумии — в образе “Венярискинд”. Нищий, обтрепанный, веселый — печальный, когда на него не смотрят, — бездомный. Сейчас я понимаю, на кого он был похож. На Карлсона, живущего на крыше.
Так вот, тогда на Фурманова распивая с нами, молодыми, поллитру, Веня сказал гениальную фразу, которую я запомнил на всю жизнь:
— Для чего мы живем? Мы живем для юмора.
И все же я не мог тогда никак понять — для чего я живу?
Нет, внешне все как будто нормально. Выпускник ВГИКа — это марка. Кой-какая работенка, долги по мелочам, друзья — “братство таборное”, — веселый, умный и остроумный треп, выпивка, мимолетные обманчивые романы, обмен откровенностями и выдумками…
И что? Этим связан с жизнью? Для этого живу на свете? Постоянно шутить, играть, дурачиться? Забавлять других, забавляться самому?
Я сам себе корежу жизнь, Валяя дурака. От моря лжи до поля ржи Дорога далека. Николай ГлазковТомился, тревожился, скрывая от всех свою тревогу, тяготился ей. И не понимал еще, что тревогу жизни нужно поддерживать в себе, как огонь. Этот огонь не греет, он только жжет. Но иначе…
“Я бы сказал, что познание тревоги — это приключение, которое должен испытать всякий человек, чтобы не погибнуть — либо от того, что он не знает тревоги, либо от того, что тревога его поглотит…”
Сёрен КьеркегорЗнал, конечно, что есть такое трудное для произношения слово: экзистенциализм. Но никакого представления о том, что это такое и с чем его едят, не имел. И про Кьеркегора не знал. Хотя в доме, где старший брат был студентом философского факультета МГУ, всяких умных книг было достаточно. Однако в то время экзистенциализм я познавал только чисто эмпирическим путем, даже и не подозревая об этом. И лишь гораздо позже узнал, что все довольно просто — “сущность экзистенции: рождение, смерть, любовь, отчаяние, раскаяние и т. д.”.
До раскаяния дело тогда доходило редко и все больше — правда, не надолго — с похмелья. А вот отчаяние… О, отчаяние частый был тогда ночной гость.
В “Национале”. Знаменитый Книжник, неопрятный старик, живший на углу Гоголевского бульвара и Сивцева Вражка, собиратель книг с великими автографами. Подсев за столик, спрашивает про меня: “Кто этот вдохновенный мальчик?”
Правда, вдохновение заметных результатов на бумаге не давало. И вообще, как говорится, из вдохновения шубу не сошьешь.
Досидев в “Национале” до закрытия, придешь ночью домой, после очередного суетного и бессмысленного дня, взойдешь к себе на пятый, откроешь квартиру своим ключом. Один. И, как у Мандельштама:
Квартира тиха, как бумага — Пустая без всяких затей, — И слышно, как булькает влага По трубам внутри батарей.Тиха, пуста… И квартира, и бумага…
Встанешь у зеркала, смотришь на себя и спрашиваешь громко — в пустоте:
— Кто я? Кто я?
Раньше казалось, что подростком быть всего труднее, но теперь выходило, что не так. Сейчас-то я уже хорошо понимаю, что каждый возраст нужно проживать и переносить, как испытание.
Любви не было, вот в чем беда. И пока я нашел дорогу к любви, прошло полжизни. Но почему все же я не погиб тогда, замерев на границе между тревогой и отчаянием?
Да, было, было, всяко было! Слезы в одиночку, и приступы гордыни, и смех дурацкий перед зеркалом — над собой, и чокнуться с собой в зеркале, и чекушка из горла́, и завещание на канцелярской машинке “Континенталь”, и выход на балкон, выход на карниз…
Кстати, о “завещании”. А что сейчас оставлю детям? Несколько тысяч книг, которые они не будут читать, и чувство юмора?
Запись 1964 года
Если, скажем, кончать самоубийством, то непременно надо сжечь все то жалкое, что лежит в столе. Пустой стол наводит на размышления — а может, он три романа сжег? Так и сделаю. Сожгу на газовой плите за неимением камина.
И на следующей странице:
Хотелось бы прожить хотя бы пятьдесят лет.
И дальше:
Я хочу писать о том, что думаю. Я знаю, как это нелегко, писать, что думаешь… Ох! Всё планы, планы… Не строить никаких планов, отказаться от всех иллюзий, от маниловщины…
Писать? Легко сказать. Как глубокомысленно и с уважением замечала домработница Туров, вологодская Мастраша, глядя, как сочиняют вдвоем братья-драматурги, Леня и Петя: “Пясать — не в ж…е чясать”. И она была права.
Об чем писать-то? Что знаю такого, чтобы писать? Что? О чем? Об одиночестве? О тоске? О любви, которой нет? Или — соответственно требованиям времени — о советской молодежи? Но зачем для этого переживания, страхи, разочарования, грехи, сострадание?
Но ведь была и целина, и алтайские шоферюги, и рабочие ЗИЛа, и чабаны-киргизы, и каспийские браконьеры… Все вроде бы оставляли след. В записной книжке. Но не более того. Мне было интересно с ними — пытаться говорить на одном языке, вникать в нелегкую жизнь, материть власть, рисковать, пить, брататься. Но писать обо всем этом? Нет, неинтересно. Вот в чем беда. Моя.
Кстати, у меня так и не было за всю жизнь — почти, за небольшим исключением — ни одного сценария, ни одной картины, где бы действовали мои современники, мои ровесники.
“Неумение найти и сказать правду — недостаток, который никаким умением говорить неправду не покрыть”.
Борис ПастернакВечер. Сидим с Валей Туром за столиком в ВТО. По залу с загадочным лицом ходит Игорь Ицков. Он тогда, как написано в воспоминаниях Сергея Хрущева, друг его племянницы Юлы Хрущевой. Через несколько столов от нас — с компанией — Роман Лазаревич Кармен. Видит Вальку, подзывает его. Они о чем-то говорят стоя. Через пару минут Валька возвращается, садится, молчит. Я понимаю: что-то произошло. Что? “Никиту свергли”, — говорит он.
“…История, когда ей нужно, умеет использовать посредственных и даже ничтожных людей для выполнения самых грандиозных замыслов своих”.
Лев ШестовНет, посредственностью он не был, скорее, это определение относится к тому, кто наследовал советский трон в эпоху “перестройки”. А Хрущев был, безусловно, человек яркий, штучный. И, как ни странно, шекспировский персонаж. Может быть, там, в его трагедиях, среди его шутов, королей и убийц, нашлось бы место и вот такому простонародному круглоголовому самодуру, затесавшемуся в Историю.
Но хотя после выставки в Манеже, после оскорблений молодых поэтов и пожилой Маргариты Алигер, после изуродованной картины Шпаликова и Хуциева, мы зло издевались над ним, как могли, — в тот октябрьский день мы простили его, решив, что с его уходом все кончилось.
Мы ошибались. На самом деле ничего не кончилось, потому что ничего по-настоящему никогда еще не начиналось.
Был декабрь. Юра Ильенко закончил в Киеве снимать “Тени забытых предков”. Сережа Параджанов, которого я к тому времени хорошо знал, сидел за монтажным столом. Положение Юры на провинциальной студии было уже солидное — все поняли, что это серьезный и яркий художник, мастер. И он еще больше возжелал стать режиссером. Тогда-то и вспомнился ялтинский “Стрелок из лука”. Мне было смертельно скучно снова играть в цветные кубики, но не отказываться же, и я привлек к работе Валю Тура в качестве соавтора и поэта. Вдвоем как-то веселее. И мы приехали в Киев. Все было в снегу, и киевский снег казался теплым. “Шапка белого генерала” была надвинута на лоб.
Древний город словно вымер, Странен мой приезд. Над рекой своей Владимир Поднял черный крест. Анна АхматоваМного, много позже, когда у меня родится сын, а у него уже родятся мои киевские внуки, когда произойдет столько всего “в личной и общественной” жизни и Киев станет для меня намного большим, чем еще один город на карте моих путешествий, мы будем гулять с моей женой Ирой на Владимирской горке. И она сфотографирует меня. За моей спиной Владимир поднимает черный крест.
А тогда снова — привычно — ничего не вышло. Повеселились, попили, походили по Киеву и вернулись в Москву. Снова безденежье, неприкаянность.
И как-то уже весной 65-го, в марте, у меня зазвонил телефон.
Наташа Рязанцева. “Паша, не хочешь пойти поработать?” Я — спросонья — недовольно: “Работать? Где? Кем?” Наташа объясняет: “Да вот какой-то такой журнальчик появился, временный — «Спутник кинофестиваля». Московского фестиваля, который летом. Кино будешь смотреть”.
Я, уже дважды обжегшийся на молоке, недоверчиво: “А меня возьмут?”
Наташа: “Там друг Илюши Саша Шлепянов — заместитель главного редактора. Есть место”.
И, между прочим, этот звонок развернул мою жизнь в другую сторону.
“Судьба — это именно единство необходимости и случайности”.
Сёрен КьеркегорГлава 6
Если человек не становится лучше, он становится хуже.
Равви Аарон из КарлинаЯ, заблудшее дитя советской эпохи, воспитанник клопов и тараканов, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю! Не сетовать на прошлое, не обольщаться настоящим, не унывать от него, не надеяться на будущее. Жить своей жизнью, быть самим собой.
“…Ибо быть героями — значит, быть самим собой, только самим собой… Это желание быть самим собой и есть героизм”.
Ортега-и-ГассетЧаще всего единственное, что поддерживает нас в жизни, — это самообман.
Пижон, лихой забулдыга, кабацкий цветок… Кем я был в собственных глазах? Или кем воображал? Хотелось быть веселым бродягой бездомным, оскорбленным и благородным нищим, но чтобы потом всем открывалось, что ты принц.
“Рано виднелось в нем то помазание, которое дается немногим, — на беду ли, на счастье ли, не знаю, но наверное на то, чтобы не быть в толпе”.
Александр ГерценПостепенно узнавал, что набросали макбетовские ведьмы в котел моей судьбы. Главные открытия, конечно, были впереди.
“Первая ведьма: Хвала тебе, Макбет, Гламисский тан!
Вторая ведьма: Хвала тебе, Макбет, Кавдорский тан!
Третья ведьма: Хвала Макбету, королю в грядущем!”
“…Потому что худшая трагедия — быть Гамлетом и не быть при этом принцем”.
Жан ЖенеНаброски из ненаписанного романа
Кстати, какие новости из Эльсинора? Что дают нынче в Эльсинорском драматическом театре им. Полония? Ах, Шекспира! Опять? Да кому он нужен, этот ваш Шекспир?
Это было в тот год, когда Сашка утопил в несуществующем море томик Шекспира, принадлежащий отчиму Борису, учившему по нему роль Гамлета.
Страшный от Рождества Христова 1953 год. Год измен, предательств, бегства куда глаза глядят. А куда они глядели? Скоро узнаем.
Сашка — Борису, коварный вопрос:
— А Клавдий изменял Гертруде?
Они поднимаются на гору. Сашка, мама, Борис. Светящаяся гора возвышается над городом. В одном из домов живет главный режиссер, они идут к нему.
Борис — Сашке:
— Наверное, тогда, в эпоху Шекспира, все друг другу изменяли. Надо спросить у Загорского.
“У Загорского? — громко рассмеялся Сашка внутренним смехом. — Ты у себя спроси, сволочь!” Но Борис — актер все-таки — сделал вид, что смех не услышал, и глаза Сашки, несчастные и злые, не увидел.
“Сцену, где Гамлет заставляет короля пить яд, надо играть медленно и с жестокими подробностями”.
Уистен Хью ОденНаброски из ненаписанного романа
Сашка ненавидел и ждал эти походы на гору. Потому что знал наперед, что будет. Атмосфера красной пахучей духоты с лампой, покрытой красной шалью с бахромой, и Лариса Ивановна, жена Главного, как всегда босая, в длинной юбке, подсаживается к маме на диван, обнимает ее за плечи и говорит:
— Вы чудная, вы прелесть с вашими голубыми глазами, похожими на озера.
И, выставив вперед ногу, напрягает стопу, собрав пальцы в горстку и оттянув так, что они почти прячут свои алые окончания. Сашка даже как будто слышит легкий хруст ее балетных суставов, а стопа превращается в лодочку.
Главный тонко улыбается и наливает зеленый ликер в узкие маленькие рюмочки. Десятилетняя девочка-дочка просит, чтобы им с Сашкой тоже налили. Все смеются.
По-видимому, такое поведение было абсолютно естественно для этой семьи, никто бы и подумать не мог сделать девочке замечание. Гостей это смущало. Но они, конечно, старались сделать вид, что очень мило и уместно.
Разница в возрасте была заметная — десять и четырнадцать. Будто бы сводили детей — немного на забаву взрослым. Такая милая, умилительная игра — двое интеллигентных отпрысков, разного размера и пола, каждый со своими детскими странностями, ужимками и смешащими взрослых словечками.
— Пойдите, дети, по…
“…играйте”, — хотела было сказать Лариса, но запнулась, увидев угрюмый Сашкин взгляд. Уставившись в пол, он на самом деле не мог оторвать взгляда от ее ступни-лодочки. Он успевал заметить отколовшийся краешек лаковой поверхности ногтя на мизинце и выпирающие, натягивающие красноватую сухую кожу балетные косточки. Он не мог понять, видят взрослые то, что он смотрит на ее ноги, слышат ли его тяжелое, взволнованное дыхание или слышит его только он сам.
— Пойдите, — наконец говорит Лариса Ивановна, прижимаясь к маме, — мы вас позовем, когда будем есть пирожные.
Потом на обратном пути, с горы, когда Сашка уйдет вперед, Борис скажет, как будто удивляясь:
— Какая же все-таки она сучка, Лариска. И дочку такую же готовит.
— Тебе виднее, какая она, — улыбаясь, скажет мама, заглядывая ему в глаза. И он на ходу обнимет ее за плечи и прижмет к себе.
А у Сашки глаза на затылке. И ушки на макушке.
“Особая роль в композиции книги отведена подслушиванию, составляющему столь же неуклюжий, сколь и органический элемент повествования.
Что касается подслушивания, то его можно рассматривать как разновидность более общего приема под названием случайность; другой разновидностью, например, является случайная встреча”.
Владимир НабоковНаброски из ненаписанного романа
— Пойдем, — говорит девочка и тянет его за руку в кабинет отца, — я тебе покажу, что мы в прошлый раз с тобой не досмотрели.
Она пальчиками тащит с полки толстую книгу и, присев на диван, кладет ее себе на коленки. “Pierre-Auguste Renoir” написано на обложке. Округлая дымная розовая нагота — через пепельную — папиросную дымку. Двумя пальчиками приподнимает тонкую полупрозрачную бумажку.
Подперев щеку полной рукой, эта молодая женщина сидела, кажется, на берегу моря, во всяком случае, там за ней была какая-то синь и какие-то камни. Взгляд ее прелестного округлого личика с какой-то таинственной усталостью был чуть скошен вбок из-под опущенных век и направлен куда-то вниз мимо ее голых наивных ножек. Рыжая грива покрывала широкую голую спину.
Взгляд рядом сидящей, плечиком его касающейся девочки, следящей за его реакцией, был чуть снизу, ее головка была рядом с его плечом. “Если бы она знала, что видел я в своей жизни”, — чувствуя на себе этот взгляд девочки, подумал Сашка и покраснел.
“При известной степени самопознания и при других благоприятствующих наблюдению за собой условиях неизбежно будешь время от времени казаться себе отвратительным”.
Франц КафкаВремя незаметно напрягается перед прыжком. Прыжок, как всегда, без предупреждения. Замрет на месте, прижав уши, потом — вдруг… прыг-скок! И ты уже другой! И тут тебе предлагается новая жизнь — сразу, без примерки, на вырост. Рукава как всегда длиннее нужного, штаны спадают без ремня. Все равно, костюмчик мой, мой! И на любой случай — можно и в какую-нибудь редакцию пойти — безуспешно, — и в КПЗ переспать на желтой лавке. Мой костюм, моя жизнь.
Словом, мыкался до тех пор, пока не позвонила Наташа Рязанцева. Был март. И я, облачившись в серую куртку из негнущегося серого кожзаменителя, отправился в Гнездниковский переулок, где в двух комнатах помещался временный журнал “Спутник кинофестиваля”. Он должен был выпускаться летом. Главным редактором был Владимир Петрович Вайншток, его заместителем Саша Шлепянов. Он — в таком же относительном соавторстве с Вайнштоком, как и я позже, — писал “Мертвый сезон”. Ни того ни другого я до этого дня не видел. Один суетливый, маленький, с пузиком, с крошечными ручками и ножками. Другой — сдержанный до определенной даже холодности ленинградец с чрезвычайно выразительной лысиной — хотя и на молодом лице. Очень обаятельный, что чувствовалось сразу. Позже, подружившись, не раз слышал, как он говорит, знакомясь с девушками: “Понимаю, что отвратителен…” Действовало, надо сказать, безотказно.
“Первый признак умного человека — с первого взгляда знать, с кем имеешь дело…”
Александр ПушкинВ конце июня, перед началом Фестиваля, мне стало двадцать пять. Денег ни шиша, близкий друг Валя Тур что-то наврал, бросил, смылся в Коктебель на автомобиле вместе с пианистом Женей Малининым. Я стою один вечером на улице Горького.
Небо посылает мне Шлепянова.
— Что вы такой грустный, Паша?
Вот забавно… Дружим всю жизнь, бывали в разных переделках и ситуациях, бывали достаточно откровенны друг с другом… И всю жизнь на “вы”…
Тогда он отвел меня в “Националь”, заказал коньяк и обязательную ветчину. И мы вдвоем отпраздновали мой юбилей.
Запись 2011 года
Париж. На вокзале Сен-Лазар сели с Иришей в поезд — через полтора часа зеленого и желтого — прохладная Нормандия. Саша Шлепянов в твидовом пиджаке кирпичного цвета и с тростью.
Запись 2014 года
Лондон. Шлепяновы, Саша и милая Галя, устраивают нам потрясающую экскурсию по вечернему городу. Лондон ни с чем не сравним. Только с Лондоном.
Запись 2016 года
В ночь с 18-го на 19 декабря в Лондоне умер Саша Шлепянов. Трещит и обваливается жизнь.
В Гнездниковском на первом этаже веселая комната главных художников. Их-то я хорошо знал, любил и дружил с ними уже не первый год — Володя Левинсон и Эрик Аронов, которого все называли Макс. К ним приходил знаменитый Лева Збарский, которому была заказана обложка для первого номера журнала. Знаменит он был в Москве и как художник, “книжный график” — книга Олеши “Ни дня без строчки”, — и как playboy. На этом направлении с ним постоянно соперничал славой еще не знакомый мне Микаэл Таривердиев, в будущем — чудный Мика. И оба верхом на “Волгах”.
К концу рабочего дня заместитель главного редактора строго и категорично сообщал главному, который заметно — для меня — побаивался своего зама-соавтора и ревновал, что он отправляет Финна на задание. Мы — порознь — спускались в комнату к художникам, а оттуда — все вместе — прямиком в пивной подвал Дома журналистов есть раков, а порой и на ипподром, на бега.
Мы с Сашей всегда при встречах вспоминали некую благородную кобылу Архангелку, которая привезла нам, вдвоем зацепившимся в “одинаре”, не слишком большой, но все-таки “котел” в “дубле”. Всей компанией, вместе с художниками, отправились пропивать “котел” в ВТО, а уже потом каким-то непостижимым образом оказались в новой квартире Жени Урбанского, которому оставалось жить очень недолго, до ноября.
В ВТО в одиночку я проходить не мог, как бы ни унижался перед старым садистом швейцаром дядей Володей. Но слышал от него только роковое: “Театральное удостоверение!” Однажды ночью, выйдя из ресторана, куда попал, наверное, с Валей Туром, членом всех мыслимых Союзов, я увидел Володю на улице и льстиво предложил подвезти на такси. Он милостиво принял предложение. В машине я его спросил с надеждой: “Ну, что, дядя Володя? Будешь теперь пускать?” И что он ответил? Правильно! Голосом попугая:
— Театральное удостоверение!
И вот по ночам, засыпая, я представлял, как получаю Ленинскую премию — неважно, за что, — прихожу в ресторан с золотой медалью на груди и дядя Володя распахивает передо мной двери рая.
И кружилась-вертелась, как воздушный шарик, дивная, легкая — недолгая — веселая жизнь. То, что я потом, сочинив какую-то заявку, назвал “вольная городская жизнь”. Наша молодость бросала нас, как Иванушку-дурака, из котла с кипятком в котел с ледяной водой, да еще и в кипящую смолу, да еще и в кислоту. Кое-кто сварился, кое-кто растворился. Но, к счастью, некоторые вышли если и не красавцами, но все же в силах подбочениться, заломить шапчонку набекрень и топнуть ножкой.
Фестиваль. Редакция “Спутника”. Кафе “Националь”. Типография “Известий”. Пресс-бар в гостинице “Москва”, куда, на седьмой этаж, поднимаешься в лифте с Джиной Лоллобриджидой, не в силах отвести взгляд от ее груди, или с Раджем Капуром, которому кто-то веселый и пьяненький напевает по дороге — в лифте — из “Бродяги”: “Авара му, авара му…”
И не знал я тогда, не догадывался я, что одна из гарпий-ведьм уже кинула в котел какой-нибудь там корень мандрагоры, на котором особыми каббалистическими знаками была обозначено: “Шлепянов — Вайншток — Кино”.
Кино, кино! Проклятие мое! Обольщение и разочарование!
Напророчила, сука!
Какую картину увидел первый раз в жизни? Да, “Первая перчатка”! С Переверзевым и Володиным. “Если хочешь быть здоров, закаляйся”.
Мы шли втроем — в кино — Василиса, дядя Шура и я, шестилетний. Василиса, маленькая пожилая красивая хохлушка с раздвоенным на кончике острым носиком. Еще девочкой служила у бабушки Елены Марковны в Елисаветграде, так и осталась с нашей семьей. Дядя Шура, огромный добрый пожарный, ее муж. Жить им в Москве было негде, и они жили у нас на кухне. За это Василиса помогала маме. Как дядя Шура, который был в два раза больше трехметровой кухни с газовой плитой и столом, помещался в этом ограниченном пространстве — загадка. Или природы, или науки.
Я любил дядю Шуру. Я просил, чтобы он меня купал, мне с ним было хорошо и весело. В ванную ставилась жестяная ванночка, туда наливалась вода, мама пробовала температуру локтем. Могучий дядя Шура снимал с себя зеленую гимнастерку, раздевался до пояса. И я восторженно объяснял ему, что он Геркулес.
Он болел за “Локомотив” и раза два брал меня на стадион “Сталинец”, что в Черкизове. Но чаще он уходил на футбол без меня и возвращался невероятно пьяный. Сколько же нужно было влить в себя, чтобы опьянить такую массу? Дома он сразу в знак полной покорности и раскаяния ложился на пол. Маленькая Василиса прыгала ему на грудь и танцевала на нем с пронзительными криками: “Ах, убейте вы меня железным камнем!”
Никак я не мог тогда понять, почему нужно было убивать ее, а не провинившегося дядю Шуру. Но спросить ее об этом стеснялся.
Будучи от природы человеком более или менее смышленым и впечатлительным, я имел возможность приспособить свои способности, естественные для интеллигентного человека, к различного рода гуманитарным занятиям. Я приспособил их к кино. Только и всего.
“Что Бог ни делает, все к лучшему”. К лучшему для кого? К лучшему для Него, для Бога? Но “лучшее” для Бога совершенно не обязательно “лучшее” для человека, как и наоборот — “лучшее” для человека вовсе не “лучшее” для Бога. Вот тут и разберись!
Еще до того, как я, уже ангажированный Вайнштоком, отправился в Ялту писать первый после окончания ВГИКа — полнометражный — сценарий — о женитьбе Достоевского, я женился сам, во второй раз. На этот раз в Одессе, сменив прохладное Балтийское на теплое Черное. И это был хороший выбор. На целых тринадцать лет. Я имею в виду море.
Главным достижением “одесского периода” явился сын. Явился он, надо сказать, с большим трудом. Мы с его дедушкой Коншиным рано утром сидели в машине перед роддомом и, ненадолго объединенные равенством переживания, гадали — родится или нет. Нора была маленькая, а у будущего чемпиона СССР по стрельбе была на редкость здоровенная башка. Врач, огромный одесский бугай, просто сел могучим задом на Нору и выдавил его на свет. К моей непреходящей радости.
Я жил тогда в Одессе пыльной, Там долго ясны небеса, Там хлопотливо торг обильный Свои подъемлет паруса; Там все Европой дышит, веет, Все блещет югом и пестреет Разнообразностью живой. Александр ПушкинПрокисший и холодный запах одесских бодег по дороге в приморский парк Шевченко — на футбол. За копейки там можно было получить стакан убийственной “смеси”, то есть напополам портвейна и белого вина. Однажды там некто с уголовной страшной рожей — при общем немом восхищении, — опрокинув в себя граненый стакан, мрачно схрумкал его на закуску и спокойно заглотил все до последнего осколочка, до последней смертельно острой крошки. А на стадионе над блатными местами, где располагалась наша компания, обычно витал легкий наркотический туман. Надышешься после стаканов пяти “смеси” — и такой приятный получается футбол.
Но мы, ребята без печали, Среди заботливых купцов, Мы только устриц ожидали От цареградских берегов. Что устрицы? пришли! О радость! Летит обжорливая младость Глотать из раковин морских Затворниц жирных и живых, Слегка обрызнутых лимоном. Шум, споры, легкое вино Из погребов принесено На стол услужливым Отоном; Часы летят, а грозный счет Меж тем невидимо растет. Александр ПушкинУстриц нам заменяли раки. В рыбном ряду на Привозе ведро раков — хотите черных лиманских? Таки они ваши! — трешка всего. Не говоря уже за мелкие черноморские креветки, они же “рачки”, и за сухой “бичок”, что шел по пятьдесят копеек снизка.
Дорога на Привоз по нашей Красноармейской, то есть Преображенской. Ближе к рынку, по левую руку — в ряд мебельные комиссионные. Тяжелая мебель со слоновьими ногами выставлена на улицу. Грузчики и возчики, потомки балагул, королей извоза, огромные евреи с кирпичными рожами и ручищами, закусывают с вином тут же, развернув газеты с черными, жирными пятнами масла.
На Привоз идем с тестем, который терпит меня только ради любимой дочки. На ходу стопроцентно русский Коншин, которого в Одессе знали все, перебрасывается с возчиками и грузчиками какими-то насмешками на идиш, я в нем не понимаю ни слова. Кроме общеупотребительных “зай гезунд”, “лехаим” и “тохес”.
И конечно же, я искал среди возчиков Мендела Крика.
Бабель. Волшебство его прозы! Мне не нужно было ждать его реабилитации до 54-го года, чтобы насладиться ей. Я уже с детства, с первых полузапретных книг существовал в его Одессе и воевал вместе с его “конармией”.
Его лицо. Сильный еврейский тип с мощной, выразительной некрасотой, которая, как у него или Михоэлса, привлекает едва ли не сильнее, чем ангельские черты.
Много позже я догадался, что “Закат” — это пьеса не столько о том, как человек хотел преодолеть старость, а о том, как еврей хотел стать русским и не смог. Потому что это невозможно, “жидовский суп” в жилах — это, оказывается, слишком сильно.
В 1989 году молодой и очень способный, как я понял по двум его короткометражкам, Саша Зельдович, с которым меня свели на “Мосфильме”, предложил мне экранизировать “Закат” для его полнометражного дебюта.
Я-то с вгиковских времен мечтал о “Конармии”.
Мне почему-то кажется, что Бабель подписал себе смертный приговор не тогда, когда вольно жил в Париже, не когда дружил с Мальро и наставлял рога наркому Ежову. А когда писал “Конармию”. Мало кто за невероятными ее строками почувствовал тогда страшную печаль, трагизм и обреченность.
Особенно в опубликованных его дневниках “конармейского” периода постоянен этот с трудом скрываемый ужас перед гибелью еврейства — как в хмельнитчину — от рук и сабель всех цветов и языков.
Я так никогда и не получил “Конармию”, очень жаль. Но на предложение Зельдовича откликнулся сразу. И мы с ним стали работать на мосфильмовское объединение Вали Черных — киностудия “Слово”, где главным редактором был Валерий Семенович Фрид.
Саша был очарован постмодернизмом, который тогда победно врывался в постсоветское кино, я был очарован Бабелем. Совместить это было не так просто, и потери от этого заметны. Но молодая наглость Зельдовича, дивная музыка Лени Десятникова, виртуозная камера Саши Княжинского и потрясающее рукоделье художника Марксена Гаухман-Свердлова все же сделали кое-какое свое дело. И конечно, актеры. Рамаз Чхеквадзе — Мендел Крик и Виктор Гвоздецкий — Беня.
Фильм-фантазия — так в “Википедии”. Ну, что ж, нехай буде фантазия.
Ужасно вдруг захотелось в Одессу! “Ах, Одесса, жемчужина у моря!”
Всю Молдаванку, пыльную и орущую, исходил собственными ногами, когда писал очерк для “Смены” об одесском партизанском подполье. И, между прочим, в катакомбах провел ночь вместе с ребятами из группы “Поиск”. Жил так же и на знаменитой Мясоедовской, жемчужине Молдаванки. “Есть у нас в районе Молдаванки / Улица отличная, друзья”…
У меня была своя компания. Гарик… Толик… Вадик… Меня забавляло, что у них, как вообще у одесситов, нет комплексов неполноценности. А их забавлял мой “московский акцент”, и они никак не хотели поверить, что я знаком с Высоцким.
Ходил в знаменитую Оперетту на Водяного и Крупника и в Русский драматический театр им. Иванова, а в Оперный не ходил. Жарился на солнце в Аркадии по десять часов кряду, бездарно играл в преферанс на пляже и бесстрашно прыгал с пирса. Спускался в сомнительные подвалы, где заседали одесские опасные уличные звезды, друзья моих друзей. Войдешь и не выйдешь, если не понравишься. А я таки мог не понравиться.
Попадал в ментовку на Греческой. И, пока моя компания шла в Лондонскую пить мускатное шампанское под сенью платана, помнящего Пушкина, томился с Алёшкиной коляской в садике на Кирова, где стоял, как я его прозвал, “памятник неизвестному голубю”.
Я был одессит, черт возьми!
Как много воспоминаний приносит ветер, особенно если он вдруг пахнет морем — тем морем — желаний, — любимым одесским морем.
И как купались ночью голые — на Бугазе — в светящейся, насыщенной синей тьме с белым курчавым прибоем и прожекторными — пограничными — лучами, препарирующими тьму. Как смотрели на голые яркие тела своих смеющихся подруг, стоящих по колени в черной морской массе, беззлобно бросающейся на них…
“В Одесской области на пляжах Каролино-Бугаза установлены противотанковые ежи…”
Из последних сообщений 2014-гоНаброски из ненаписанного романа
…И он опять был на Светящейся горе. В дом Главного режиссера Сашку “подбросили” с вечера, чтобы девочка-дочка не оставалась ночью одна. Взрослые вчетвером — пик, кульминация дружбы семей, которая потом разрушилась вмиг, — отправлялись в Дом офицеров. Новый год? Старый год?
“Итак, случилось это в незапамятные времена, когда на склоне Нелепостей в горах Великих вымыслов…”
Цао Сюэцинь, “Сон в красном тереме”Наброски из ненаписанного романа
Девочка сидела, обхватив ножки обеими руками, кольцом, сцепив пальцы, положив щеку на коленки, такая лягушечка. Ему ужасно хотелось потрогать ее бритую головку, он даже знал, какое будет ощущение — в одну сторону шелковое, в другое колкое. От соприкосновения ее головки с его ладонью могло произойти что-то необычайно нежное и прекрасное. Но она доверчиво шепчет ему на ухо: “Я пописать”. И опускает босые лапки на пол. Ему почему-то показалось, что у них — между белыми пальчиками — возникают — вырезанные одним мгновенным полукруглым движением ножниц — перепонки, как у водоплавающих, из той же белой — высшего сорта — кожицы. И когда он останется один, ему вдруг захочется плакать. Почему? Может быть, потому, что они оба такие маленькие и одинокие в этой жизни.
— Мама говорит, я худая до ужаса. Ты тоже худой.
Он стоит к ней спиной, расстегивая рубаху. Ее глазок любопытно смотрит на него через щелку в двери.
— Спи! — мрачно, не обернувшись.
Выключил свет, в темноте сел на диван, расшнуровал ботинки, посмотрел на свои белеющие на коврике ступни, пошевелил пальцами, расправил пальцы, чуть потянул носом — усмехнулся и лег, накрывшись с головой пледом.
— Храни тебя Господь, — голос девочки из соседней комнаты.
Удивился, улыбнулся и опять захотел заплакать.
И они заснули кротко, как друзья, как близкие. Девочка и мальчик, два отделенных от всего мира только тонкой — обнаженной — шкуркой, кожицей, два худеньких, длинненьких послевоенных кранаховских тельца под одеялом темноты.
Под утро в двери осторожно начал поворачиваться ключ. И темнота, в мгновение распавшаяся на короткие, хищные осторожные движения, сняв туфли, стала тихо шагать к ним, спящим, по квартире. Журавлиное — будто нарисованное — движение в темном воздухе. Поднятое колено и посылаемая вперед нога, гладящая темноту своей стопой в блестящем скрипучем чулке. Тяжеловатый запах вина, уже успевшего перебродить в желудке, из приоткрытого накрашенного — темной — черной сейчас — помадой рта. А ноздри, чуть раздуваясь, по запаху надеются определить, что здесь что-то было — необычное, запретное, пахучее, порочное, что на самом деле она любит больше всего. Когда же она споткнется о забытую детьми на ковре монографию Боттичелли, она увидит, как, разочарованно улыбаясь, уползает и прячется внутри змей…
И когда она ворвется в их гостиничный номер со скандалом и криком — в испуганное лицо мамы: “Посмотрите, какие у него синяки под глазами! Он порочный! Я должна оградить от него свою девочку!” — Сашка почувствует ужасную тоску. Тоска безнадежности будет охватывать его всякий раз, когда к нему будут так же отвратительно и лживо несправедливы.
— Ничего он не порочный, — тихо и решительно скажет мама. — Он просто мальчишка. Вы понимаете, что это значит?
“Да, я, наверно, очень порочный, — думал Сашка в этот момент. — Поэтому я им всем не нужен, я никому не нужен. Меня никто никогда не полюбит”.
Наверное, тогда он и принял свое роковое решение. Тогда или в тот день, когда Борис стриг ногти на ногах? Но это мы узнаем позже…
Как перейти к Грузии?
Никакой связи с ненаписанным романом. Ведь Сашка родится гораздо позже — в неснятом сценарии “Ожидание, или Деревенский футбол 1949 года”. Сашка — мое несчастье, мой крест. Моя ошибка. Потому что, прочитавшие в этих заметках о нем, обязательно будут считать, что Сашка — я.
V МКФ, 67-й год. Вайншток вдруг звонит мне с предложением снова работать в журнале “Спутник кинофестиваля”.
Мы с Норой шли из ломбарда, что на Пушкинской улице. Там — увы, навсегда — мы оставили ее золотую цепочку. А шли в кафе “Националь”, где нашего появления — с тугой мошной — уже за столиком ждали Ия Саввина, Таня Бестаева и Алёша Габрилович. И я был очень горд, что мы не обманули их ожидания.
По дороге я, богатырь на распутье, решал, куда пойти, на что согласиться. На предложение Вайнштока? Или на предложение журнала “Смена” — отправиться с выездной редакцией на Дальний Восток, а потом вступить в штат журнала, в отличие от “Спутника” не временного, а постоянного. Но, видать, Вайншток действовал не самостоятельно, а по наущению той ведьмы, которая — в одну душу, как говорят в Одессе, — тянула меня в кино. Она была явно против моей карьеры журналиста.
Кем бы я был сейчас, выбрав “Смену”? — интересно…
Порог “Националя” я переступал уже сотрудником “Спутника” — с правом на аккредитацию при фестивале и возможностью проводить всех жаждущих друзей в будущий пресс-бар. Позже узнал, что даже получил повышение, потому что Вайншток, расставшийся с Сашей Шлепяновым, уже имел виды на меня.
Пользуясь своим новым положением в редакции, придумал себе командировку. В Армению, в Ереван, чтобы взять интервью у знаменитого уже Сережи Параджанова, который начинал на “Арменфильме” новое кино под названием “Саят Нова”.
Из Еревана — продолжение командировки — в Грузию, в Тбилиси, чтобы взять интервью у Серго Закариадзе, всячески прославленного и награжденного “отца солдата”. Дальше — в Баку… Но в Баку — после любимый на много лет город — в тот раз я не попал, хватило Еревана и Тбилиси под завязку.
Ереван был мне не внове, я уже — после детства — побывал там не раз и как-то даже нашел ту самую гостиницу во дворе, куда потом поселил Сашку в ненаписанном романе.
Новым был только неожиданный Ереван, который ночью показал Параджанов.
Вдруг вспоминается двухэтажный особняк из туфа в ночном Ереване, словно освещенный изнутри таинственным желтым светом. Светом опасности? Светом неверной памяти? Тут Параджанов, затащивший меня туда и горячо уговаривающий хозяина особняка, подпольного богача, купить у него для жены какое-то невероятное кольцо. Жена хочет. И Параджанов хочет. Даже я хочу, чтобы только поскорей выбраться отсюда. Но богач не хочет. Параджанов старается изо всех сил, очаровывая все вокруг себя — каких-то смешливых и мрачных старух в черном, сидящих по углам. Тут и я почему-то — в одиночестве пьющий коньяк и закусывающий суджуком в пустой комнате, где стоит кроватка со спящим жирным младенцем. 1967 год. Интересно, где ныне тот младенец? И сейчас вдруг понимаю, что я — единственный человек, который все это помнит. Единственный на всем свете, который зачем-то связывает собой во времени нечто несвязуемое.
Утром Параджанов проводил меня на автостанцию и, запугав пассажиров маршрутного ЗИМа, направлявшегося в Грузию, фантастическими историями, героем которых был я, усадил меня на заднем сиденье рядом с огромным толстым азербайджанцем, который тут же заснул, положив мне на плечо огромную голову. Так Сергей отправил меня в Тбилиси, взяв с меня слово, что я побываю на Авлабаре.
Я не приду к тебе… Не жди меня! Недаром Едва потухло зарево зари, Всю ночь зурна звенит за Авлабаром, Всю ночь за банями поют сазандари…Все они, от автора этих строк Полонского до Мандельштама и Пастернака, как сговорившись, заманивали меня в Тбилиси. И заманили наконец.
Когда сама душа — сама душа не знает, Какой любви, каких еще чудес Просить или желать — но просит — но желает — Но молится пред образом небес…Моя молитва тоже. За Грузию.
Ох, недаром, когда в самом нежном детстве наш сосед Андрей Андреевич Вербенко, директор Московского ликеро-водочного завода, друг Габриловичей и отец моего друга Вовки, спрашивал меня, кем я хочу стать, когда вырасту, я, не задумываясь, отвечал: “Маршалом и грузином”.
Азербайджанец так, кажется, и проспал на моем интернациональном плече всю дорогу. Много позже, аж через сорок шесть лет, я совершил то же путешествие из Еревана в Тбилиси на такси иностранной марки, в котором теперь я был один. Но дорога была уже другая — новая.
Еду по Армении… Запах гор, гари и лавра.
Публично радоваться красотам природы мне всегда казалось пошлостью. Наедине с самим собой — да, смотреть, радоваться, что я там, куда Бог меня привел.
Севан… Дилижанское ущелье… Граница с Азербайджаном.
— Здесь иногда стреляют, — сказал водитель равнодушно.
Ужас не в том, что мы разделены по национальному признаку — ужас в том, что мы сочувствие к людям разделили по национальному признаку. Несчастье народов в том, что драгоценное время, отпущенное им Богом, вечностью, они тратят на ненависть к инородцам. Самое лучшее время родившегося человека, пока он не знает, кто он по национальности. Плохо то, что это всегда знают другие.
А теперь едем по Грузии. Поменяли армянский шрифт на грузинский.
В последние годы, когда приезжаю в Тбилиси, останавливаюсь в районе Авлабара в одной и той же гостинице “Копала”, причем именно в старой ее части, где меня уже запомнили. Она действительно старая — все скрипит и хрустит. Но выйди на балкон! Напротив святая гора Мтацминда, крепость Нарикала, направо — Кура. То, что снится. То, что теперь всегда со мной.
Тогда, в 67-м году, сняв со своего плеча азербайджанца и покинув ЗИМ, я — на своих двоих — потащил чемодан по адресу на бумажке: ул. Барнова, 12.
Тогда были живы мама Отара Иоселиани и отец, на которого он стал теперь — в моем воспоминании — невероятно похож. Отцу было за восемьдесят, но он чуть ли не каждый день спускался на площадь по крутой Барнова, чтобы поговорить с такими же, как он, стариками-друзьями о футболе. А маленькая дочка Нана вставала ночью пописать, шла по темной, запутанной квартире и осторожно говорила “мяу… мяу…”, чтобы напугать мышей, которых боялась больше, чем они ее.
Тогда дверь мне — с чемоданом — открыла Рита, ее мама, жена Отара, говорившая уже с легким грузинским акцентом, хотя до того, как встретиться с Отаром на факультете МГУ, жила в Сибири. Она сообщила мне, что Отар в городе вместе со своим другом и актером Гоги Харабадзе и, если я пойду не спеша по проспекту Плеханова, я их наверняка встречу где-нибудь возле пива. Что я и сделал.
И началась фантасмагория, в вихре которой два заведующих отделами ЦК компартии Грузии вселяли меня ночью в гостиницу “Тбилиси”, утверждая, что я второй секретарь ЦК ЛКСМ Молдавии. Но это было только начало. Вихрь забрасывал нас то в Гори, то на Мцхету к великому цветоводу Мамулашвили, о котором Отар снял кино, то в мастерскую художника Авто Варази, играющего Пиросмани в картине нашего друга Георгия Шенгелая, то на студию “Грузия-фильм”, где сам Отар, между прочим — параллельно с вихрем — монтировал “Листопад”.
И от всего этого, как ключевая фраза, навсегда осталась сентенция Отара, которую он, подняв вверх указательный палец, произнес рано утром в хашной, несколько раз заставляя официанта менять сорт и цвет чачи:
— Человек с похмелья должен быть капризен, мамочка моя!
Но интервью у Серго Закариадзе я все-таки взял. Оно у меня сохранилось в записной книжке.
И долго потом не был в Грузии.
1993 год, осень.
Отправляюсь членом жюри на фестиваль “Золотой орел” в Тбилиси. В жюри — Нея Зоркая, Ганс Шлегель… Председатель — Леван Закарейшвили, долго снимавший и снявший замечательную картину “Тбилиси, Тбилиси”. Мы познакомимся и станем друзьями. В 2006-м он предлагал мне писать для него сценарий. Я уж совсем было собрался в Тбилиси в сентябре, но в августе он умер. Ему было всего 53 года.
Домодедово. Никак не можем вылететь. Пока мы большой компанией слоняемся по аэропорту и пьем коньяк с Эльдаром Шенгелая, чартерный самолет, который должен прибыть за нами, занимается другим делом. В тот день все самолеты из Тбилиси были сняты со своих рейсов и улетели с добровольцами в Сухуми. Оттуда они возвращались с беженцами, с ранеными и мертвыми.
Но самолет за нами в конце концов все же прилетает. В Тбилиси на летном поле автоматчики. У выхода из аэропорта прелестные улыбающиеся фестивальные девушки, как стайка антилоп, окружают нас. Везут в гостиницу “Метехи” — над Авлабаром.
Монтаж: стою у Дома кино и смотрю, как идут по Руставели черные матери — несостоявшийся поход грузинских женщин — грузинских плакальщиц — в Сухуми.
Монтаж: тягостная ночь перед отлетом в гостинице. Одиночные выстрелы где-то за Авлабаром (“Всю ночь зурна звенит за Авлабаром…”) и всплеск женских рыдающих голосов. Сегодня сдан Сухуми.
Монтаж: мы уже в Москве. Четвертое октября 93-го. Ночь с Ириной и Сашей Филиппенко у Моссовета. На обратном пути — ему на Бронную, нам на Плющиху — на Никитском бульваре у ТАССа над нашими головами перестрелка снайперов.
На этом знакомство со снайперами не заканчивается. Следующей ночью выхожу гулять со своим маленьким и любопытным французским бульдогом по имени Гек, а по собачьему паспорту — Гекльберри Финн. Из темноты двора, возникнув как будто из ничего, из сути и плоти событий, на меня идет человек в пятнистой куртке, в руке у него автомат. Деваться мне некуда, собака не защитит, тянется на поводке с ним поцеловаться. Пятнистый говорит взволнованно:
— Мужик! Что с Руцким?
Утром узнаем, что из соседнего “круглого” дома, возвышающегося над Москвой-рекой напротив Киевского вокзала и, в общем, недалеко от Белого дома, сняли снайпера. Наверняка это и был мой ночной пятнистый знакомый.
Спасибо ему. Да, спасибо снайперу и спасибо женщинам на Руставели. Я их всех видел, и это значит, что я здесь был, здесь и в это время. Мое время.
“Предубеждение, будто политика всегда покрывает жизнь, — недоказуемая небылица публицистов. Но в годы вековых потрясений — это истина”.
Борис ПастернакВ Абхазии последний раз я был тогда, когда она еще была Грузией. В кои-то веки выбрались с Ириной — в первый и последний раз — в Пицунду, в наш Дом творчества, намеренно не в сезон — в апреле. Кстати, говорят, что потом — во время войны — в нашем Доме был штаб Басаева. Вполне возможно.
Но тогда, в апреле 1986 года, до этой войны было еще далеко.
Кинематографистов почти не было. Дом был заселен шахтерами и почему-то журналистами районных газет из Дагестана, спустившимися с гор.
Аллея траурных кипарисов в Пицунде. Черные от солнца кипарисы на ярко-зеленом холме рядом с водонапорной башней, цыганская мелодия из будки звукозаписи, цветы в руках — горячеют глаза, охватывает щемящая сладость бытия, и кажется, что ничего больше на свете не надо…
Но почему я, почему мне, за что — мне?
Шахтеры необычайно оживились, когда в Доме неожиданно — для меня — появился Сережа Параджанов. Один за одним шахтеры и шахтерки повалили к нему за автографами. Сережа, уж на что был неколебимо убежден, что он гений всех времен и народов, и то был немножко удивлен этим энтузиазмом любви и почитания. Но подпись ставил на всем, что протягивали. Подпись была неразборчива, и шахтеры, возможно, так и не узнали, что он не актер Волонтир, чья знаменитость после “Цыгана”, конечно, легко побивала Параджанова.
Вот в чем вся фишка: жизнь интересна всегда, даже если она чудовищна. Особенно у нас, где по углам до поры до времени дремлют жареные петухи.
26 апреля известие о взрыве в Чернобыле прошло в Доме почти незамеченно. Ведь и вся наша жизнь происходит, в сущности, на фоне взрывов, их ядовитых дыханий и роковых отблесков. И только некий довольно странный и подозрительно доброжелательный господин, доктор каких-то загадочных наук, по его намекам — очень секретных, сказал мне за завтраком:
— Запомните этот день. Он изменит наш мир.
— Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка — Апокалипсис!
Апокалипсис шагает по планете!
Первой почувствует приближение финала Апокалипсиса, конечно, природа. Оскудеют моря и океаны, слой за слоем станет обнажаться земля, возвращаясь к своему прошлому, поднимутся старинные города и могильники. Всплывет на одном полюсе Атлантида, а на другом — Китеж-град…
Конечно же, Апокалипсис всегда понимался человеком слишком материалистически. Наводнения, землетрясения, взрывы, повышение температуры. А ведь все это — только еще намеки человечеству и проявления снисхождения и милости Бога к человеческой природе, не способной понять всю глубину постоянного символизма Апокалипсиса. Всю роковую глубину. На наших глазах испарения земного человеческого зла собираются в огромную тучу, чтобы взорваться страшной грозой, чтобы пролиться страшными дождями. А мы и в ус не дуем.
“Человечество… живуче, как кошка”.
Томас МаннВперед, вперед под пиратским черным парусом навстречу Апокалипсису. Судьи Страшного суда уже затребовали из архивов все дела капитанов, матросов, пленников и рабов. Адвокаты и прокуроры на заседания Суда допущены не будут, они сами проходят по делу как обвиняемые.
Красота спасет мир? От чего? Когда? Почему до сих пор не спасает? Чего она ждет? Бесповоротного безобразия? В момент Страшного суда принести Богу “Дон Кихота”? Оправдать мир в глазах Бога? Невозможно. Страшный суд не предусматривает ни оправдательного приговора, ни условного срока.
“Но самое страшное, если Апокалипсис не наступит, а будет это вечное свинство”.
Владимир Мартынов, композиторСережа Параджанов не поехал с нами в Новый Афон. Зато потом увлек нас с Ириной на озеро Рица, обещая какие-то невероятные шашлыки в лучшем на всем свете духане.
Бедная обезьянка в Новом Афоне. На лапке цепочка, сидит в тени, как старушка, рядом с фотографом, и устало, безнадежно, спокойно ищет блох. На склоне горы, увенчанной трагическим Новоафонским храмом, кипарисы с библейским спокойствием углом огораживают вымерзший, сухой масличник. Часовня девятого века на том месте, где похоронен Апостол Симон Каннанит.
Пещера в Новом Афоне — совершенно декорация из Дантова Ада. Вернувшись, рассказываю Сереже о пещере — там можно снимать “Демона”. Он мгновенно увлекается и скоро забывает.
Говорили мы с ним о Чернобыле? Не помню. Скорее всего, что нет.
А в 2009 году Давид Маркиш, тоже фанат Грузии, только с бо́льшим стажем, чем я, делает мне восхитительное предложение — мастер-класс на международном фестивале поэтов, пишущих по-русски, который проводится уже не первый год в Грузии, на этот раз в Григолети. Тема — поэтическое кино. А я если что и ненавижу всей душой, то это так называемое поэтическое кино. И поэтому я с радостью соглашаюсь. Потом, уже под небом Григолети, на вольном воздухе, утром, я буду что-то невнятно и с наигранным вдохновением рассказывать по этому поводу небольшому собранию поэтов и поэтесс. Поэты заметно мечтают опохмелиться, не исключаю из числа мечтающих и поэтесс. Я, хоть и не поэт, тоже хочу опохмелиться не меньше ихнего. А рядом море, буйволы, повадившиеся приходить на пляж, стоят в воде и задумчиво смотрят в туманную даль. Собственно, это — все вместе — включая тихий плеск прибоя, крик осла и скрип стволов под ветром — и есть кино. Истинно поэтическое по-своему. Но как это объяснить поэтам?
День рождения, Иришин и мой. Едем кутить в Батуми. Ресторан у воды. Нищие дети, толкущиеся в грязной портовой воде. Катера береговой охраны, так и оставшиеся на рейде после русского десанта. Русский пьяный и хриплый бомж. Темнота как занавес. Огромный танкер на рейде, вдруг окутавшийся светом и так же вдруг погасший. Старуха-цветочница с ромашками.
Компания за столом такая: Давид Маркиш, славный Алик Дарчиашвили, поэт и неудержимый фантазер в области бизнеса с будущей женой Маей, Игорь Мусалимов, симпатичный посол Казахстана в Грузии, и его жена Карла. И Нико Гомелаури, поэт, певец, актер, с женой Ниной.
Запись 2009-го, Григолети
Как же точно у Бунина: “Цветет гранатовое дерево — тугой бокальчик из красно-розового воска, откуда кудрявится розовая бумажка…” А всего лишь несколько дней назад я сидел утром в Тбилиси после дождя на веранде в квартире Нико Гомелаури и его жены Нины и крутил в руках точь-в-точь такой же липкий бокальчик.
Мы прилетели с Иришей накануне и сразу же с аэродрома поехали к друзьям Давида и Наташи Маркиш, близкими именуемой Тузик, в район Ваке на улицу Абашидзе, бывшая Барнова. Как тут не вспомнить, что это и бывшая улица Отара Иоселиани, куда я пришел с чемоданом в 67-м незабвенном году?
Сразу же Нико и Нина стали нашими любимыми друзьями. С Ниной близкая дружба продолжается до сих пор. А вот с Нико она была недолгой. В апреле 2010-го он умер, оплакиваемый всей Грузией. Все знали — и он, — как он болен. Все знали, как он борется с болезнью, и молились за него.
Рассказ Нины
— Друзья Нико пошли смотреть место для него в Пантеоне в Дидуме. Договаривались с могильщиком, как обычно в таких случаях. Он сказал: “Я своими руками его в землю не положу. Не осыплю землей его глаза…” Друзья были растроганы и протянули ему в два раза больше денег, чем следовало. Тот сказал: “Вы что? Я серьезно! Я правда это не сделаю, поищите другого”. И ушел.
Когда в том же году я сочинял сценарий и закадровый текст для документального кино, которое стало называться “Нико. Аплодисменты”, я обратил внимание на некую связь его судьбы с Отаром Иоселиани, и не только через улицу. Родился Нико в том году, когда Отар закончил свой фильм “Жил певчий дрозд”. Много позже, в 2010 году, Отар заканчивал работу над новым фильмом “Шантрапа”. И потому последние слова текста — их произносит с экрана Зураб — Зура — Кипшидзе — получились такими: “И в этом же году в Тбилиси умолк певчий дрозд…”
Есть такая благословенная и проклятая — высокая — порода поэтов. Думаю, Франсуа Вийон ее родоначальник. Им быт — обуза, дорога, улица — дом, небо — крыша. Они пьют, чтобы петь, и поют, чтобы пить. Бог им прощает всё, потому что любит слушать их голоса и, ни с кем не делясь, считает их своими личными ангелами. Они хорошо начинают и слишком рано заканчивают. Повезло мне — я знал Шпаликова, Высоцкого, Гомелаури.
Стихи Нико Гомелаури, написано по-русски:
Меня покинул Дух, кровь хлынула из носа, Но повторяю вслух: всё ерунда, прорвемся. Меня покинул сон, бессонница несносна. Печаль гоню я вон, кричу во тьму: — Прорвемся!Записи 2014-го, январь
Вершины церквей в Тбилиси похожи на хорошо очиненные карандаши. Что пишется ими сейчас на небе? Прорвемся или нет?
Светицховели. Храм. Кучка женщин в черном со свечками на коленях вокруг старика священника. Пение.
Поют и пьют за соседним столом в ресторане четыре ангела, один из них с гитарой. Мы пришли сюда слушать их для фильма о Нико.
Я стесняюсь своего голоса в Грузии. Он неожиданно тонок и жалок среди этого клекота и мощной работы мужских гортаней.
Утром встал, пошел и купил в пекарне на углу теплый пури…
Над Курою есть духаны, Где вино и милый плов. И духанщик там румяный Подает гостям стаканы… Осип МандельштамНад Курой есть мой балкон, и я подаю — себе — пури, сыр, джонджоли, бадриджани, и вино “ркацители” тяжелого желтого цвета. А внизу — у подъема к храму — цыганка с чужим ребенком на руках клянчит милостыню у пожилого толстого туриста в шортах. И одинокий колокол за окном.
Улетать из Тбилиси… Утром в темноте еще выйти на балкон и перекреститься на светящийся храм Метехи.
Тост. За январское солнце в Тбилиси, за подъемы и спуски, за взгляд и дыхание, за лица и голоса. За всё — готов платить, не считая. А когда не будет чем платить? Даром не дадут? Заслужу — дадут.
В 1969 году невероятный скачок вверх по карьерной лестнице. Главный редактор журнала “Спутник кинофестиваля”, обслуживающего VI МКФ, сделал меня одним из своих заместителей. На самом деле это значило только то, что нас с Вайнштоком уже два года — и на целых восемь лет и пять картин — объединяла “творческая близость”.
Конечно, меня тяготило это, конечно, я стеснялся этого соавторства и догадывался о злословии за спиной.
Но меня поддерживало отношение ко мне дорогих для меня людей — Гукасян, Авербаха, Фрида и Дунского, Гребнева. Конечно, к концу “близости” я был уже совершенно самостоятелен и у меня уже было “свое” — Первое объединение Ленфильма. Им — вопреки всему — руководила Фрижа Гукасян, а мы все сбивались вокруг нее и, между прочим, делали неплохое кино.
Конечно, что греха таить, удерживала меня еще и инерция, и возможность таскать каштаны из огня чужими руками. Если считать “огнем” Госкино СССР. Да и перед Вайнштоком, уже к тому времени больным и слабым, было как-то неловко. Потому что, повторяю, я благодарен ему, несмотря ни на что. Однако, когда возможность наконец соскочить предоставилась, я все-таки соскочил. Прямиком к Илье Авербаху. Но эта история еще впереди.
А пока что — декабрь 67-го, лечу в Симферополь, а оттуда — в Ялту, в Дом творчества Литфонда, по путевке, организованной Вайнштоком. У меня с собой “канцелярская” пишущая машинка “Континенталь”, та самая, на которой мама печатала еще в Ереване. И превращенные ножницами в лапшу выписки из десяти томов писем Достоевского — потом все это будет клеиться на столе и станет макетом. Еще не придумав сценарий, я уже точно знал: говорить Достоевский будет только своими словами.
Как я был легкомыслен и самонадеян, когда писал “26 дней из жизни Достоевского”. И первый, так и не пропущенный Отделом культуры ЦК партии вариант, и во второй раз — через десять лет, уже для Александра Григорьевича Зархи. Если бы я сейчас писал этот сценарий, я бы начал его, пожалуй, с того, как Сниткина ночью вскакивает с кровати и молится накануне первого прихода к неизвестному ей и страшному Достоевскому.
Два великих актера могли сыграть Достоевского в моем сценарии. Шукшин и Борисов. Шукшин пробовался, есть его фотография в гриме. Олег уже начинал сниматься, но потом вышел скандал, и он отказался от роли. До этого мы с ним долго обсуждали Достоевского, он его чувствовал.
“Достоевский снова открыл, после антиномий апостола Павла, спасительность падения и благословенность греха, не какой-нибудь под грех, по людскому осуждению, поступка, а всамделишного греха и подлинного падения”.
От. Павел ФлоренскийПо прошествии лет, прилетев из Тбилиси, еду на поезде в Старую Руссу “собирать материал” для сценария “Городок”. Договор на него заключен с Первым объединением “Ленфильма” и подписан Голутвой, новым главным редактором.
В прошлом году была поездка в Новгород и Старую Руссу от Союза в компании братьев сценаристов — Приемыхов, Золотуха, Миндадзе — и под водительством Риты Синдерович. Тогда же услышал рассказ об основателе музея Достоевского — очарованном энтузиасте, странном для советского времени человеке Г. И. Смирнове, умершем не так давно.
Тогда же и родилась идея — некоторым образом рифмующаяся с сочинениями любимого Лескова — написать о новом русском праведнике, ленинградском интеллигенте, битом и тертом, воевавшем, сидевшем. Ныне он пытается просветить народ, и, конечно, считается юродивым. Русский праведник на фоне провинции как символа народного существования. Время, как мне казалось в 86-м году, было подходящее для такого героя. Оно тогда — как в глубокую воду входить шаг за шагом — подступало к горлу и понемногу захватывало дух — время 90-х…
Смирнов лежит на кладбище рядом с от. Румянцевым, у которого в первые два года жил Достоевский. Сломанный железный крест. А женщина, бывшая вроде бы прототипом Грушеньки, умерла тоже в 19-м году, как Сниткина и как Суслова. Могила ее буйно заросла бурьяном.
Гостиница. Горничная, смущенная, видимо, моей фамилией, поинтересовалась, не из Петрозаводска ли я, у нее там родственники.
Парк в центре. Вместе с пухом летающая в жарком воздухе магнитофонная музыка. Возле скамейки укреплен на штативе фотоаппарат, рядом стендик с черно-белыми и цветными образцами. Фотограф — маленький, плотный, с толстыми щеками и узкими, хитрыми глазками, в красной плащевой куртке и берете.
Две девочки лет по четырнадцать, у одной голова в светлых кудряшках, у другой “химия”, одна в штанах, другая в мини, с потемневшим бинтом на крепкой загорелой ноге. Обнявшись, стоят перед фотографом. Хихикают, толкаются и замирают по его сердитому приказу. Но глаза живые. И в них, как ни странно, больше, чем у других, надежды на что-то.
Рядом со мной на скамейку опускается гражданин Старой Руссы эпохи лигачевской борьбы с алкоголем. У него в авоське четыре полных химически-зеленой жидкости флакона по двести грамм.
— Огуречную воду достал, — с усталым удовлетворением сообщает он мне. — Там вообще убийство было.
К Троице, видимо. Троица ведь 22 июня, надо же на стол что-то поставить.
Оказывается, приятно ходить по булыжной мостовой. Я уже забыл. Навстречу женщина идет медленно, задумчиво, держа перед грудью, как букет, кулек, из которого торчат рыбьи хвосты.
Красивое место — набережная Достоевского. Молодая женщина в красной косынке, упираясь коленями в мокрые скользкие мостки и сияя голыми ногами, подалась всем телом к воде, одной рукой из стороны в сторону широко полощет белье.
А столовая, где я регулярно, давясь, съедаю чудовищный гуляш, оказывается, ни больше ни меньше, бывший трактир “Столичный город”, где сидели “русские мальчики” — братья Карамазовы, и Иван рассказал Алёше “Легенду о Великом инквизиторе”. Столовая расположена на углу улицы Энгельса и улицы Кириллова. Тоже довольно знаменательно.
Пожилая квадратная раздатчица говорит с покровительственным вздохом суетящейся, грязно-белой посудомойке с изуродованным стянутой к подбородку кожей маленьким, безумным лицом:
— Ах ты, мадонна.
Заходил, конечно, и в музей Достоевского. Люди все очень хорошие, наследники Смирнова, тоже энтузиасты на бедной зарплате. А на стене — в рамочке: “Коллектив дома-музея Ф. М. Достоевского продолжает борьбу за звание коллектива коммунистического труда”.
Тогда я и не предполагал, что когда-нибудь буду писать сценарий для телесериала “Бесы”, как-то странно и малозаметно допущенного для показа на канале “Столичный” в 2008 году. Однако думал о романе часто. И всякий раз приходил в мыслях к одной и той же идее. Роковая, позорная для властелина, непоправимая ошибка Николая Первого — казнь декабристов — тоже поспособствовала появлению Нечаева и всей последующей бесовщины.
“Петруша Верховенский” как тип, “бесовщина” как явление — величины, увы, практически постоянные для нашей “цивилизации террора”, хотя идеи их, цели, аргументы, методы могут бы переменны.
Чаяния добра и победы его над злом иногда так же безжалостны, как и само зло.
И все же… Гении, хоть они и смертны, наделены жизнью вечной. Потому их творчество может быть как угодно трагично и апокалипсично, но при этом заключать в себе оптимизм в высшем его смысле. Неся в себе интуитивное ощущение вечной жизни, они несут в себе и знание о неибежности возмездия, справедливости и воздаяния. Гений как будто уже побывал на Страшном суде и убедился, что отерта будет каждая слеза с очей.
Я придумал каждую новую серию начинать романсом на пушкинские слова и попросил композитора картины Юрия Красавина, справедливо рекомендованного Леней Десятниковым, такой романс написать.
Бесконечны, безобразны В мутной месяца игре Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре…Кому-нибудь приходило в голову? Представить себе всех “бесов” на других местах, если бы Верховенский “победил” и стал “властелином России”. Всех. И Шигалева, и Лямшина, и Виргинского. Петруша, например, уничтожил бы Ставрогина через неделю после победы.
Если бы я делал “Бесов” для другого кино — по-другому, — я, может быть, написал бы сон Петруши Верховенского о будущей России под его началом. С натуры.
“Так, например, входит Нечаев. Тут и какое лицо… и говорили, будто бы он с бородавкой — но никакой бородавки, а если, говорят, его просмотрел полицейский агент на границе, то немудрено — особенно если он так ловко умел костюмироваться…”
Черновик романа “Бесы”Нечаев — позже Петруша Верховенский. Бородавка… граница… полицейский агент… “костюмирование”… Что-то чрезвычайно знакомое? Да это же “Борис Годунов”! А ведь и Лебядкина про Гришку Отрепьева кричит. И Петруша Ставрогину самозванство предлагает. Да еще и у Достоевского замысел был неосуществленный — “Борис Годунов”.
“Настоящий писатель — не корова, которая пережевывает травяную жвачку повседневности, а тигр, пожирающий и корову, и то, что она поглотила”.
Федор ДостоевскийКогда я со страхом принимался за сценарий экранизации, я — вовсе не первый — думал, что Достоевский “переварил” своим тигриным желудком “Отцы и дети”. Но думаю, что связь между Тургеневым и Достоевским гораздо более серьезна, чем кажется, чем казалось самому Достоевскому. Во всяком случае эта возбужденность “лирического героя” у Тургенева, происходящая от неожиданностей, странностей жизни и людей, высказывающаюся постоянно и во всем, даже в языке — не в том пресловутом “тургеневском языке”, а в том нервном и ироническом токе слов, каким он — вдруг — пользовался в рассказах и повестях, — эта “возбужденность”, конечно, тоже была “переварена” — вольно или невольно.
Есть книги — “Мертвые души”, скажем, или “Пиковая дама”, которые как бы уже воплощены в зримом и окончательном действии. Никакое насильственное продление и расширение существования героев и образов ничего не прибавит, а только убавит. Достоевский человеческую жизнь понимал как приключение. И как катастрофу. Поэтому именно в “Бесах” — впрочем, и в других его романах — сюжет настолько разработан и пластичен, что как будто сам себя предлагает для экрана.
Ужасно было, когда я в монтажной собственными руками выкидывал кровавые куски отснятого кино — куски сюжета, куски Достоевского. По милости продюсера нужно было из двенадцати серий сделать восемь. Вот и получилось то, что получилось. Хотя хороша пара — Юра Колокольников и Леша Стычкин — Ставрогин и Петруша Верховенский, и замечательна Ирина Купченко — Варвара Петровна.
Поездка в Старую Руссу, хоть “Городок” так и не превратился в кино, все-таки даром не прошла. Все становится опытом. Ошибки в первую очередь. И в том, что сценарий не был поставлен, виню прежде всего себя. Слишком уж откровенно, слишком взволнованно захотел выразить все, что переживалось и думалось тогда — в преддверии и предчувствии 90-х.
Ох, кабы знать каждый раз, что будет в будущем…
Наброски из ненаписанного романа
Промозглым сумеречным днем — в Эльсиноре — подросток в полупальто остановился на углу улицы. Здесь стоял жуковатый “нерусский” старик с деревянным ящиком на груди. На передней стенке ящика была наклеена выцветшая картинка с изображением Венеции, на ящике сидела мрачная морская свинка. Она достала рыльцем билетик. Сашка развернул его. “В этом 53-м году вас ждет большое и неожиданное счастье в личной жизни…”
В гостинице Сашка уходил в умывальню, запирал дверь и, глядя на себя в зеркало, шептал на разные лады: “Мама! Он изменяет тебе! Мама, он изменяет…” Репетировал. И совсем уж было собрался с духом, но мама разбила его чашку с розочками и горько плакала.
В жизни эта чашка действительно была —”бульонная чашка”, но я пил из нее и молоко, и чай. И только когда болел, мама давала мне в ней бульон, и это мне очень нравилось. Ее подарил Михаил Семенович Гус, большой знаток немецкой жизни. Он привез чашку в 46-м году из Нюрнберга, где был на Процессе. В 1938 году отец написал с ним пьесу “Ключи Берлина” о войне с Фридрихом. Из-за “пакта Рибентроппа — Молотова” пьеса не была поставлена.
Наброски из ненаписанного романа
Мама никогда ничего не жалела. Но она знала, как Сашка любит эту чашку. Еще совсем маленьким он придумал, что в ней его душа. И вот теперь она разбилась. Возможно, это был знак — предостережение. Промолчи, козленочек, не ступай на эту дорожку, сверни, целее будешь…
Братец Иванушка — прообраз подростка, блуждающего в лесу, где на каждом шагу обманные, коварные копытца, да и не только козьи. Хорошо еще, если рядом окажется сестрица Аленушка, успеет предупредить. А если ее нет? Если он один-одинешенек?
Сразу же за неприступными стенами Эльсинора — с одной стороны лес, полный чудищ, снежное поле — с другой. Что страшнее? Оставаться в Эльсиноре? Нет уж, все равно — прочь! И через все пройти, как через лес, полный чудищ, — через все искушения, насмешки, обман, предательства…
Но как выбраться за ворота? Обмануть бесенят? Обмануть стражников? Греются — бородатые, грубые, в броне — у костра, жрут, чавкая, рыгают, пьют, гогочут:
— Эй, братва! Не перепутать бы вино с оцетом!
Вроде не видят, зенки-то залили. Ан мимо не пройдешь, постоянно начеку, уроды. Мечешься, мечешься по городу, ищешь лазейку, шепча себе перемешанные со слезами слова. А тут как раз иностранные послы с почетом въезжают в Западные ворота на верблюдах с богатыми дарами. Шмыгнуть мимо них? Не тут-то было, сразу же окажешься в 6-м отделении милиции, что на Гоголевском бульваре. А тут и бесенята с крылышками на босых ногах — шасть из тьмы переулка.
И вот ведь как: скажи вдруг босоногий преследователь с рожками хотя б одно только доброе словцо — бросишься к нему, как к родному, на грудь.
— Ату его! Улю-лю!
Один, один…
“Как рождению мысли предшествуют сомнения, так рождению личности предшествует отчаяние”.
Сёрен КьеркегорНаброски из ненаписанного романа
В конце февраля 53-го года сосед напротив через коридор, муж Зои, подполковник Владимир Степанович наконец-то получил долгожданного полковника. Как-то раньше Зоя, пеленая приветливо агукающую Сашке девочку, говорила ему:
— Я тебе одну тайну открою. Когда Вова будет полковником, ему дадут каракулевую папаху, и я сделаю себе из нее шапочку.
Из разных комнат снесли стулья, стаканы и вилки. Все поначалу дружили — офицеры, актеры, цирковые — целовались, пели, обжимались в темных закутках коридора. Но к Тане Борис не подходил. Клоун — маленький, толстый, чудовищно сильный человек с безбородым розовым и гладким лицом — бегал с бутафорской гирей за своей высокой, худой женой, акробаткой-каучук. Борис его унимал, обнимая. Клоун отпихивал его с криком:
— Отойди! Замучили! Евреи!
— Я еврей? Я замучил? — оскорбился Борис и вырвал у него гирю.
Виновник торжества, прошедший всю войну, приказывавший разведчикам, ходившим с ним в тыл к немцам, отрезать головы погибшим товарищам, чтобы начальство могло удостовериться, что они действительно погибли, а не попали в плен, напился ужасно. Сашка, столкнувшись с ним, в майке и папахе шатающимся от стены к стене по коридору, увидел, как два темных маленьких кожистых дьявола, один за другим, вылетели — вырвались — из него, шипя и фукая, как петарды при взрыве, и, осветив коридор красным пышущим светом, по двум раскаленным трассам унеслись…
Глубокой ночью вдруг кто-то из коридора ударом ноги выбил белую двустворчатую большую дверь, ворвался в их комнату и поднял над головой тяжелый стул — кого он хотел ударить в пьяном безумии? Борис мгновенно вскочил с кровати и вышиб его из номера кулаком, стул с грохотом упал из его рук. Сашка в каком-то полузабытьи тоже встал с кровати, поднял с пола стул. Утром Борис долго — под это дело — пил и всем заходящим каждый раз с начала рассказывал и показывал эту историю. Кто был тот человек, лица которого так и не видели, почему он ворвался, с кем перепутал — перепутал ли — все осталось тайной. Человек был огромный, как великан, — или показалось со сна? И стул Сашка поднимал вроде бы во сне. Поднял, сразу же лег в свою кровать и снова заснул. Это тоже было потом предметом обсуждения и шуток — под утреннее вино.
Написал и подумал: а что, если ночной гость на самом деле и был тот дьявол, вырвавшийся из новоиспеченного полковника и увеличившийся до огромных размеров?
Наброски из ненаписанного романа
Тем же утром Владимир Степанович в умывальне пил и не мог напиться ледяной водой из-под крана. Сашка с зубной щеткой и порошком ждал своей очереди. Полковник, со стоном отрываясь на мгновение от крана:
— Сашка, смотри у меня! Никогда не пей! Убью!
Сашка шел из умывальни. Коридор был полон солнца. Зоя — светящаяся, прозрачная — со светящимся ребенком на руках — купать девочку. Проходя мимо него, негромко:
— Пожалуйста, не ходи больше туда, когда я ванной.
Так, ничего себе… Значит, все это время она…
В номере — дверь уже укрепили на петлях — Борис, поставив ногу на Сашкину кровать, стриг ногти. Желтоватые твердые серпики, как бумеранги, со свистом летали по номеру. Мама стояла в углу у керогаза.
И он понял, что больше не может так жить.
— Мама!
Сашка был совершенно уверен в эту минуту, что мама будет благодарна ему, когда он откроет ей всю правду.
Я бы так сделал?
Непонятно кем и когда внушенное — никого не выдавать. Даже если надо. Правда, до самых страшных испытаний дело, по счастью, не доходило.
Впрочем, Сашка — не я.
Как я там написал в начале этой части? “Страшный, от Рождества Христова 1953 год…” Для Сашки. А для меня?
Смерть Сталина и все последующее выводило нас в какое-то новое пространство мысли и чувства. Отношения к поэзии, как ни странно. Отношений между людьми, наконец. Отношения к власти, прошлому, к революции.
Это было время, когда прозревали не только слепые.
Символически это год рождения меня как человека, того самого, кем я пытаюсь оставаться до сих пор. И — знаю — для части моих сверстников тоже.
От этого перекинут мост в 15 лет. 68-й. Танки в Чехословакии. В 13, конечно, всё острее и грандиознее, чем в 28, но и это событие тоже казалось роковым. Впрочем, сколько впереди еще так или иначе похожих “роковых” насчитала наша История, в которую мы имели удовольствие попасть, как кур в ощип.
“Миф есть личностное бытие, данное исторически”.
Алексей Лосев, “Диалектика мифа”“Достоевский” не прошел через ЦК. И тогда хитрый Вайншток придумал зайти с другого фланга. Там, где цензура была настроена вполне благодушно. Он решил тряхнуть стариной, то есть собственной режиссурой, в которой были знаменитые “Дети капитана Гранта” с музыкой Дунаевского и “Остров сокровищ” с песней Никиты Богословского “Если ранили друга…”. В связи с чем он — в том же 68-м — усадил меня за экранизацию “Всадника без головы”.
Майн Рида я не любил в детстве, казался скучным рядом с Дюма. И сейчас я тосковал над романом. Еще и Вайншток стоял над душой, рвущейся из Болшева в Москву на просторы вольной жизни — к веселым друзьям, Вале Туру и Юре Хорикову.
“Пашенька, Пашенька… — нашептывал Вайншток, бдительно — да не совсем! — охранявший меня от них, — герой обязательно должен быть настроен революционно по отношению к плантаторам. Он обязательно должен быть другом индейцев”.
Романтический персонаж, мустангер Морис Джеральд? Ну, ладно еще друг индейцев, куда ни шло, но революционер? Дудки! И тут в моем номере начинался, как говорил Остап Бендер, “бой при пирамидах”. Вайншток, становившийся красного цвета, колобком выкатывался в коридор, за обедом мы не разговаривали, на послеобеденной прогулке он жаловался на меня Юткевичу и Райзману. И вечером, встретив меня в коридоре, Сергей Иосифович говорил примерно так: “Паша, вы бы помягче с Володей, он очень переживает. Все-таки у него больное сердце. А все из-за чего? Он хочет, чтобы герой был революционером? Что вам, жалко, что ли?”
Ну, в общем, если разобраться, мне было “не жалко”. Когда же через несколько лет картина выйдет на экран и на нее повалит народ — в количестве 70-ти миллионов зрителей! — то девочки, млеющие в зале и в темноте обнимающие друг друга, как будто они обнимают красавца Видова, и не заметят в своем кумире ничегошеньки революционного.
А я как-то раз услышу по “Голосу Америки”, что фильм, каким-то образом проникший на американское телевидение, прозвали там “водка-вестерн”. В отличие от “спагетти-вестерна” режиссера Серджио Леоне.
Но был и еще один сильный соблазн, когда я писал “Всадника”. Вайншток, великий стратег и тактик, разработал многоходовую комбинацию, в результате которой руководителем делегации советских кинематографистов на фестивале в югославском городе Пула вместо Бориса Владимировича Павленка, председателя Госкино Белоруссии, становился Владимир Евтихианович Баскаков, первый заместитель председателя Госкино СССР. Павленка, натурально, это не обрадовало. Но остановить Вайнштока, идущего к цели, хоть он и не Кобзон, было так же не просто, как тех бизонов, от которых Видов — Джеральд спасает Луизу — Савельеву.
В умелых руках Вайнштока обычная поездка обычной делегации превращалась в роскошный увеселительный месячный вояж по Югославии двух семей, Баскакова и его, с женами и детьми. На двух “мерседесах” и по морю. Но жена и дочка Баскакова, чтобы не ставить замминистра в неловкое положение, были как бы при Вайнштоке. При нем же был и я. Впрочем, меня Вайншток недрогнувшей рукой сделал членом делегации. Законные делегаты в справедливом недоумении косились на молодого человека, не члена Союза, не имевшего еще ни одного поставленного фильма.
Единственное, что как-то могло примирить их с моим появлением в их рядах, так это то, что я был вроде бы участником переговоров с белградской студией “Авала-фильм” о совместном производстве фильма “Всадник без головы”, одним из сценаристов коего я являлся.
И Баскаков, и Павленок, который быстренько из руководителя превратился в зама, конечно же, прекрасно знали, кто стоит за всем этим. Друг Вайнштока, через год ставший начальником 5-го — “идеологического” — управления КГБ, Филипп Тимофеевич Бобков. Вблизи я его видел однажды. Зашел к Вайнштоку в аэропортовскую квартиру по какому-то короткому делу. Владимир Петрович представил меня высокому человеку. “А это наш молодой сценарист”. Вот это “наш” мне сразу не понравилось. Бобков, удерживая мою руку в своей большой, спросил у Вайнштока, кивнув на меня: “А он знает, что я Дубельт?” И это уже мне понравилось больше.
Выездной документ я получал замечательным образом.
Тогда для поездок в Югославию и Венгрию выдавали такую серую книжечку, что-то вроде удостоверения, отличающуюся и от обычного красного — “капиталистического” — загранпаспорта, и от ксивы для стран соцлагеря. Югославия же и даже Венгрия были по тем меркам как бы ни два ни полтора, или, как написано у Гоголя, “ни в городе Богдан, ни в селе Селифан”.
Мы с Вайнштоком встретились у “Детского мира”, напротив Лубянки, где я должен был отдать ему свой советский паспорт. Когда я достал его из кармана, Вайншток на мгновение застыл. “Что это?” — спросил он тихо, с ужасом. Паспорт мой не имел задней корочки и вообще на основной документ гражданина СССР был не похож…
Все последнее время, отрываясь за пишущей машинкой от создания бессмертных кинообразов мустангера Мориса Джеральда и следопыта Зеба Стампа, я мечтал об этой поездке. Мечтал в первый раз — в двадцать восемь лет — пересечь рубеж нашей необъятной родины. И вовсе не для того, чтобы ее покинуть, затерявшись на будапештском вокзале или с поднятыми руками перешагнув границу с Италией в районе Триеста, об этом и мыслей не было. Но лишь бы, хоть и ненадолго, глотнуть немного другого воздуха, почувствовать себя другим человеком…
Наверное, в эти секунды паузы у “Детского мира” Вайншток внутри себя прикидывал, сколько ему потребуется динар в Югославии для подарков соответствующим чекистам в Москве, потом мрачно вздохнул, взял мой, извиняюсь, паспорт двумя пальцами, как крысу, и пошел с ним на Лубянку…
С начала августа, пока двигались на фестиваль в хорватскую Пулу из Белграда через Словению и вдоль Адриатического побережья, — неумолимо приближался заключительный акт чехословацкой трагедии. Каждое утро я покупал “Политику” и “Борбу” с фотографиями Дубчека и Брежнева на первых полосах. Все было рядом и все гораздо ближе и известней, чем в Москве. Поэтому и переживалось острее, больнее и реальнее. Но обсуждать это с “товарищами по делегации” не рекомендовалось — самому себе. Вайнштоку-то я говорил все, что думал. Он только вздыхал, понижал голос и отвечал:
— Пашенька, Пашенька, вы многого не знаете.
Фестиваль закончился, прилетели в Белград из столицы Черногории Титограда — ныне Подгорица. Вернулись в ту же самую гостиницу “Москва” рядом с рестораном “Мадера”. За день до отъезда из Югославии узнаю́, что в кинотеатре на горе Калимегдан идет “Бонни и Клайд”. В Москве это кино еще не видели, но слухи были. Гордо надеваю на себя новые шмотки, приобретенные в “робне куче”, заваленной товарами. Направляюсь к полицейскому в белой форме и серебряной каске за советом, как доехать. У всех таких красавцев полицейских на груди таблички с названием языка, на котором к ним можно обращаться. Этот — русский. Улыбаюсь ему, уверенный, что, как всегда, получу улыбку в ответ. Но он отворачивается от меня.
Очень скоро отвернулась и студия “Авала-фильм”.
Но еще до этого, с самого начала путешествия в Пулу, я попал в поле зрения Владимира Евтихиановича Баскакова.
Это был занятный человек. Филологический факультет Ленинградского университета (а это дорогого стоило). Фронт с двадцати одного года. Про него говорили, что он контужен. Так ли это или нет, но, когда он впадал в гнев и начинал орать на подчиненных, зажимал руки между коленями, чтобы сдержаться. Сам видел. С постоянно мрачного лица его не сходило выражение презрения ко всем его окружающим.
Память на литературу у него была феноменальная. В пути он скучал. О литературе не с кем было поговорить. Не с Павленком же. Догадываюсь, что потому хитроумный, как три Одиссея, Вайншток и подсунул ему меня как-то за обедом. Очень скоро Баскаков понял, что я тоже кое-что читал. И теперь я должен был почаще находиться при начальнике и беседовать. Скорее, соглашаться. Суждения его были крайне категоричны и непререкаемы. Когда же я забывался и спорил, он зажимал руки между коленями.
И вот как-то раз, прогнав всех своих и Вайнштока с женой и сыном — наслаждаться бассейном и баром, он повел меня в свой апартамент, сразу же по дороге начав оценивать писателя Лескова. Но прекратил монолог, как только мы вошли в холл его огромного — по рангу — номера. Выставил на столик перед диваном литровую бутыль лучшего — дареного — виньяка и буркнул:
— Пей! Я же вижу, тебе Вайншток пить не дает. А тебе хочется.
И стал пить сам, сев рядом со мной на диван. Через час, когда в номер заглянул Павленок, руководитель делегации обнимал меня одной рукой за плечи, другой наполнял рюмки. И говорил. Смысл нового монолога сводился к тому, какие вокруг все идиоты и какой он умный. Я с радостью соглашался.
Представляю себе эту мизансцену глазами Павленка.
— Владимир Евтихианович, — сказал он, не входя. — В пятнадцать ноль-ноль вы назначили встречу с министром кино республики Македония.
— Слушай! Сам с ним разберись, — буркнул Баскаков. — Не видишь, я с человеком разговариваю?
Павленок послушно закрыл дверь. Ох, не раз и не два вспомнил я этот день в Пуле, когда через два года и на пятнадцать лет он стал первым заместителем Председателя Госкино СССР. Вместо Баскакова.
Ах, если бы жизнь была как американское кино — пусть неприятностей много, но конец хороший!
Итак, с Достоевским облом, с Майн Ридом пока тоже. Но Вайншток неукротим. Новая идея! Подписание в 19-м году договора между Советской Россией и Афганистаном. Победа ленинской мирной политики! (На самом деле неистребимое стремление к Индийскому океану.) Разведка! Заговоры! Покушения! Приключения!
Материала полно. Однако допуск в центральный архив КГБ даже Вайншток для меня не смог пробить.
Так вот на тему “даже Вайншток”…
Когда этот сценарий, названный “Миссией в Кабуле”, уже снимался и был частично снят в Афганистане, жена режиссера Лени Квинихидзе балерина Наташа Макарова осталась в Лондоне. Естественно, ему закрыли выезд в Индию для съемок центрального эпизода “королевской охоты”. И я — на “Ленфильме” — пошел к директору студии Илье Николаевичу Киселеву, знаменитому своими высказываниями, умолять его вместе со мной надавить на Вайнштока, чтобы он надавил на КГБ.
— Послушай! — сказал мне Киселев. — Если бы меня спросили, есть ли на свете человек, который может, стоя на куполе Иссакиевского собора, поймать за яйца пролетающего мимо орла, я сказал бы: есть такой человек! И это Володя Вайншток! Но даже он не может отправить Леньку в Индию!
И все же Вайншток договорился, и меня пустили в провинциальный архив — в Ташкенте.
Каждый день утречком выходил из гостиницы и в распахнутом пальто, вдоль пересохших по-зимнему арыков, не спеша, шел по Ташкенту, откуда отбыл из эвакуации в младенческом состоянии в 1943 году. По дороге в архив съедается шашлычок с прослойками курдючного сала на деревянных палочках, раскаленная самса, все это запивается местным пивом. Чудно!
Уличную еду люблю больше ресторанной. Даже во Вьетнаме, в Хошимине (Сайгоне), где нас пугали смертельным исходом, не мог удержаться. А уж в городах Средней Азии и Казахстана! Уличную, базарную!
Слава азиатским базарам!
Из Фрунзе мой друг Маркиш на крыльях страсти и неги улетел в Москву готовить маму к своей очередной женитьбе, на этот раз на Кларе Юсупжановой, снимавшейся у Ларисы Шепитько в картине “Зной”. Я остаюсь один и без копейки. Вернее, копейка была, и я на нее покупал лепешку. С ней я шел между рядами и делал вид, что мне надо попробовать… Что? Все, что было выставлено, чем пах, цвел, кипел — звал базар. Иногда получалось, иногда нет. Но желудок удавалось обмануть.
В Ашхабаде, куда вместе с Сашей Миндадзе, Витей Мережко и Леней Гуревичем приехали на пленум Союза, на базаре можно было купить все! Ковер, верблюда, невесту. Но мне нужен был только чал, верблюжье молоко, благословенный напиток. Глотнешь — со льда — и все вчерашнее улетучивается, и ты здоров.
В Душанбе тоже пленум. Но на этот раз с Ильей Авербахом. Он первый раз на азиатском базаре. Глаза разбегаются, и каждую секунду его обычное: “Восторг! Восторг!” А сзади плетется некто Юнус, приставленный к нам местным Союзом и ответственный за культурную программу. “Товарищ Авербах! — уныло повторяет он каждые две минуты. — По пятьдесят грамм сразу деляем, да?”
В Ташкенте мы отправились на Алайский базар вместе с Женей Рейном. Встреча с ним перед этим была неожиданной. Он был в командировке, что-то, кажется, по линии студии научно-популярных фильмов — “Научпопа” — там он халтурил для заработка. Свидетельством нашей встречи остался его автограф:
О, что бы делал я в тоске, Когда бы ты не взял Ташкент…Дело было уже к вечеру, базар расторговался и собирался по колхозам и домам. Мы уже наелись самсы и шашлыков, навеселились и двигались к выходу. И тут Рейн зажегшимся взором узрел одинокую русскую тетку в черном плюшевом жакете. Она продавала петуха. Вернее, хотела его сбыть во что бы то ни стало, потому что опаздывала на какой-то транспорт, а тащить назад квелого и потускневшего от усталости и безнадежности петуха ей отчаянно не хотелось.
И тут — неожиданно — стала жертвой Рейна.
— Послушай, тетка! — сказал он ей строго. — У нас есть к тебе роскошное предложение!
Простодушная крестьянка доверчиво протянула к нам сумку с петухом.
— Мы берем твоего петуха, тебе это будет стоить недорого, — продолжал Рейн, уже обуреваемый вдохновением, — увозим его в Москву. Через год на этом же самом месте возвращаем тебе красавца. Он говорит на английском и итальянском, дружит с Васей Аксеновым и состоит членом группкома переводчиков башкирской поэзии при Союзе писателей СССР…
Союз писателей тетку и добил окончательно. Выкрикнув что-то вроде “Ратуйте, люди добрые!”, она взмыла в воздух, держась за задние ноги бьющего могучими крыльями несостоявшегося члена группкома переводчиков башкирской поэзии.
Слава базару!
В 68-м году 18 августа уехали из Белграда в Москву на поезде. С ребятами-геологами пили виньяк, дурачились. Навстречу нам по Венгрии шли товарняки с танками на платформах. Вернулся в Москву 20 августа. А 21-го приехал во Внуково встречать летевшую из Одессы Нору. Уж не помню, по какому случаю там оказалась Лариса Шепитько. Она стояла с трагическим лицом. Я спросил — что случилось?
— Ты не знаешь? Наши танки в Праге.
И вдруг поцеловались — первый и последний раз в жизни. Как будто прощались. Но прощаться, конечно, было еще рано.
В 81-м мы с Иришей, маленькой Катькой и котом Дариком жили в съемной квартире на Снайперской улице. Ночью нас разбудил междугородный звонок.
— Пашка! Пашка! — рыдая, кричала Эва Шикульска из Варшавы. — Танки! Ваши танки!
Танков там на самом деле не было, но был страх.
Не выходил на площадь, не допрашивался, не попадал в психушку…
А мог? А хотел? Все понимал, но за надежной спиной Вайнштока сочинял про разведчицу Марину в Кабуле, про сломанную подкову в Лифляндии, про вооруженных и очень опасных в Техасе, про белый корабль в Балтийском море…
И с отвращением читая жизнь мою, Я трепещу и проклинаю, И горько жалуюсь, и горько слезы лью, Но строк печальных не смываю. Александр ПушкинГлава 7
Звук еще звенит, но причина звука исчезла.
Осип МандельштамВторой за мое время — после Шпаликова — равный удар.
Уход Ильи Авербаха.
“Ничто так живо не воскрешает прошедшего, как звуки”.
Лев ТолстойЗвуки Малера — соединение самых разных и неожиданных соображений о человеческом сознании, о человеческих иллюзиях, переживаниях и страданиях.
Сколько раз потом я слушал эту четвертую часть Пятой симфонии Малера, которую я называю “Музыкой из «Объяснения в любви»”. Что думал тогда Илья, в гостиной на Подрезовой улице, когда неоднократно ставил на проигрыватель эту пластинку и с задумчивым лицом в кресле покуривал трубку? Почему он соединил ее с тем изображением, с тем временем? С нашими чувствами?
“Музыка дарит нам наше собственное прошлое, о котором мы до этой минуты не подозревали, заставляет сожалеть об утратах, которых не было, и проступках, в которых мы не повинны”.
Оскар УайльдДетство, отрочество и юность — мои — были не музыкальны. Шум времени? То какая-то полупьяная музыка парков, дворов и деревенских — дачных — гулянок. Потом танго и фокстрот. О, танго! Которому я учился “под Шульженку” и так и не научился по-настоящему.
Где-то во дворах Сивцева Вражка. Каморка в коммуналке, куда нас с Сандриком Тоидзе привел под вечер мой одноклассник и второгодник — томный, курчавый красавец Володька. К двум пятнадцатилетним чувихам. С бутылкой красного. И тесная полутьма — красноватая, — освещенная лишь “грибком” с тумбочки. И запах юного взволнованного тела и дешевой пудры — запах прикосновений и движений. Он еще долго преследовал меня — запах невинного арбатского танго.
“Музыкой” для меня была только песня. Сначала на русском — “на ребрах” — Вертинский, Лещенко. Позже на английском — это уже к нам прорывался “Караван” Эллингтона и, уж конечно, посмеивающийся хриплый Армстронг — “Сан-Луи-блюз”. Но и на французском, когда весь Советский Союз охватила страсть к Монтану. Другую музыку я просто не замечал. Она появилась гораздо позже.
Музыка для меня навсегда останется тайной. Сны и музыка.
Композитором в “Объяснении” согласился быть Альфред Шнитке. Он приехал в Ленинград, посмотрел материал с начерно — “для настроения” — подложенной музыкой Баха, Вивальди, Малера и посоветовал Авербаху оставить так, как есть.
И каждый раз, когда я слушаю это место из Пятой симфонии Малера — и из “Объяснения в любви” — я как будто получаю привет от Ильи.
Привет тебе, Илья. Ты мне снишься. Редко, но все же.
Впервые Илья — наяву — наведался в мою жизнь в пасхальные весенние дни то ли 63-го, то ли 64-го. Он еще учился на Высших курсах — тогда на сценариста. Режиссерские Курсы Григория Михайловича Козинцева — “Козы”, при “Ленфильме” — он закончил позже — в 67-м году, вместе с Игорем Масленниковым, Соломоном Шустером и Юрой Клепиковым, который снял диплом, но режиссером так и не стал. Зато сценарист какой! С Наташей Рязанцевой они самые лучшие из нашего поколения.
В праздничный — пасхальный — канун в ресторане старого Дома кино — на Воровского, ныне Поварской — был безумный от общего возбуждения вечер. В дыму, в шуме и броуновом движении. В центре зала за сдвинутыми столами гуляли “курсанты”. Кого я помню из них? Максуда Ибрагимбекова хорошо помню. А его брата Рустама, младшего, который был на один курс моложе? Видел ли я его — там тогда? Ведь в те счастливые времена они с братом были неразлучны. А соучеников Максуда — как и он, еще не знакомых мне Юру Клепикова, Фридриха Горенштейна, Эрлома Ахвледиани?
Кто-то издали показал мне Авербаха — он был в красном свитере.
Мы, вгиковцы, нескрываемо не любили недавно возникшие Курсы. Зачем они вообще, когда есть ВГИК? И не потому, что мы чувствовали угрозу конкуренции, мы тогда об этом и не думали. Скорее, это была какая-то “сословная” — иерархическая — неприязнь. Как у гимназистов к реалистам.
Но Авербах меня интересовал, и вот почему. Незадолго до этого моя подруга Наташа Рязанцева вызвала меня к памятнику Пушкину. И там, на лавочке, призналась, что в ее жизни появился некий ленинградец Илья Авербах с Высших курсов и это достаточно серьезно. С Курсов? Еще не хватало! Тогда я прямо так ей и сказал: не советую, я против. Наташа туманно улыбалась и как-то — по обыкновению — тихонько гудела. Но, как вскоре выяснилось, меня не послушала.
Позже разгляжу этого ленинградца подробнее — в свете торшера — у Вали Тура в квартире на улице Горького. Валя притягивал к себе людей, некоторые становились его друзьями. Но с Авербахом близкая дружба у него как-то не задалась, осталось лишь вполне приязненное знакомство.
Вместо Вальки с Ильей стал дружить я. Но не сразу же после этой встречи. Наверное, окончательно сблизил нас развивающийся на моих глазах их роман с Наташей. Илья мне нравился. Я прозвал его “Вронский”, потому что существовал “Каренин” — Наташа тогда была замужем еще за одним моим другом. В связи со всем этим у меня и родилось двустишие:
По вечерам ко мне приходит Вронский, Мы учим с ним древнеэстонский.Это тоже имеет свое объяснение. Илья очень забавно подражал эстонскому русскому. Кажется, в детстве в их семье была домработница-эстонка, или, как они назывались в Ленинграде, — чухонка. И полностью на эту тему он отыгрался в “Монологе”, научив актрису Ханаеву — в роли смешной и трогательной домработницы Эльзы Ивановны — этому самому эстонскому — русскому — выговору.
Совместные занятия древнеэстонским пришли к своему логическому результату. Илья и Наташа стали мужем и женой. А мы с ним — близкими людьми.
Я до сих пор ловлю себя на том, что говорю иногда с его интонациями.
Он был старше на шесть лет, но это никогда не было причиной неравенства в отношениях. Даже когда он был режиссером, а я сценаристом. Даже когда он сердился на меня. И ведь было за что. Сердился и отчитывал. И я все мрачно выслушивал. Иногда, правда, ерепенился в ответ. Злился, но не обижался. Наверное, потому что чувствовал: он — человечески — заинтересован во мне. В отношениях, в дружбе нет ничего ценнее, поверьте.
Что дружба? Легкий пыл похмелья, Обиды вольный разговор, Обмен тщеславия, безделья Иль покровительства позор.Думаю, повторяя “про себя” эти строчки: неужели у Пушкина не было ни одного истинного друга? Не может быть! Хотя написано это поразительно точно. Но, может, в конце стихотворения не хватает вопросительного знака?
Я — с детства — дружил чаще всего со старшими. Ну, и с ровесниками. И редко с теми, кто моложе меня. Исключение — Саша Миндадзе. С которым — при этом — мы всю жизнь на “вы”. Но Илья был старшим не только по возрасту. Он был вообще “старший”, даже и для тех, кто был старше его. И это замечали и отмечали многие, и как-то без сопротивления с этим соглашались, смирялись.
“Знаменитый ливановский баритон звучал возбужденно и захватывающе, как аккордеон или орган. Смоктуновский время от времени прерывал этот монолог, подавая иронические реплики. Ливанов отбивался и старался уязвить в ответ. Хлебая борщ, я с робким наслаждением следил за этой дуэлью. Но когда, попыхивая сигарой, заговаривал Авербах, все почтительно умолкали, внимая ему. Ни малейшей иронии, никаких вольностей в его адрес. А он не только держался совершенно свободно, но и позволял себе даже и учительский тон. Это выглядело очень странно. Два народных артиста, почему-то согласившиеся сниматься в первом фильме никому еще не известного молодого режиссера, относились к нему как к пастырю, обладающему правом их поучать. И позднее, вплоть до самого конца, в профессиональной среде такое отношение к нему было обычным”.
Это — в подтверждение — цитата из опубликованных в петербургском журнале “Звезда” воспоминаний профессора, физика Михаила Петрова — замечательного нашего друга Миши Петрова — под названием “Феномен Авербаха”. Из времени работы над первым полнометражным фильмом “Степень риска” — бывшего врача Ильи Авербаха по книге прославленного хирурга академика Амосова.
Кстати сказать, его заявка на задуманный им фильм по книге Габриловича “Четыре четверти”, еще до того, как он позвал меня, называлась “Старший и младший”. Остался от нее в картине только писатель и военный журналист Гладышев — старший друг нашего героя, Филиппка, умирающий на его руках от раны.
Пожелтевшие странички этой заявки я храню. Илья сунул мне ее, бросив как-то мимоходом: “Посмотри на всякий случай”. Но оказалось, что это не случай, а — в определенном смысле — перелом. Жизни. Моей. “Перемена участи”. Как называется любимый мной фильм Киры Муратовой.
Вдруг сейчас — с невероятной ясностью — увидел тот продуктовый магазинчик, типичный ленинградский гастрономчик в полуподвале. Очередь в винный отдел. И какой-то амбал, который хотел втыриться без очереди и задирался к нам. И увидел — со спины — незаметно напрягшегося Илью. Он был в клетчатой рубахе с короткими рукавами. У него были мощные руки.
У него было необычное лицо, живо, мягко и значительно вылепленное. Кто только не говорил, что он похож на Бельмондо! Когда он выпивал, то удивительно добрел — в отличие от меня — черты лица как-то менялись, расплывались. И я говорил, что он становится похож на Жана-Поля Бельмондо в роли шолоховского деда Щукаря. Илью это смешило. Мы вообще постоянно смешили друг друга — дурацкими стишками, острословием, рассказами о собственных подвигах, изобретениями всяких комических персонажей и наблюдениями над друзьями и кошками.
Друзья… Ленинград… Слова, отзывающиеся радостью и печалью.
Семья Беломлинских, Вика и Миша… Венгеровы, Галя и Володя… Семен Аранович… Юра Клепиков и Лиля… Миша Петров… Соломон Шустер… Витя Лебедев… Демьяненки, Саша и Марина… Лариса и Матвей Шац… Митя Долинин… Марина Азизян… Я перечисляю не всех и в произвольном порядке — не по степени тогдашней близости. Кое-кто мог и не ладить друг с другом. Но это был наш общий круг.
Да, я был свой в Ленинграде, я сразу попадал в этот круг и чувствовал себя человеком. И эта товарищеская, доверчивая близость и веселая простота — в соединении с фантастическим очарованием города — лечила душу, когда она этого требовала — часто, часто! — после разнообразных московских переживаний.
“В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем…”
Никогда уже не сойдемся.
Эпиграф к “Вешним водам” Тургенева — из старинного романса:
Веселые годы, Счастливые дни, Как вешние воды Промчались они.С каждым годом — и с новой картиной — я все чаще в этом городе. Некоторые — мало меня знающие в Москве — считали даже, что я ленинградец. Мне там было хорошо. В любую погоду. Сразу же после хмельной “Стрелы”. В молочном кафе “Ленинград” на Невском, над тарелкой спасительной гречневой каши с молоком. В дрянном гостиничном номере. На Кировском мосту — пешком или в машине, пересекая темную или светлую Неву, — со взглядом на Петропавловку. На этажах, в павильонах и в кафе “Ленфильма”. В домах, где меня ждали и привечали.
На первом месте, конечно, Илюшина Подрезова улица. Рядом — на Петроградской стороне — улицы Подковырова, Плуталова, Бармалеева. От последней, говорят, и произошел Бармалей Корнея Чуковского. А не наоборот. Не то чтобы улицу назвали в честь Бармалея, который бегает по Африке и кушает маленьких детей.
Диковинный лифт Илья занимал целиком, а на меня уже пространства почти не оставалось, я ютился у него под мышкой. Три комнатки и ванна в кухне, но зато балкон великолепный, большой, с цветами. Синий диван под сумасшедшими часами в деревянном футляре. На нем Ксения Владимировна иногда стелила мне свежайшее белье.
В письме Николая Эрдмана к маме из Ленинграда 29-го года читаю: “Бумагу, на которой я тебе пишу, подарила мне Куракина в день рождения”.
Нет сомнения — это Ксюша Куракина, смолянка, актриса Ксения Владимировна, Илюшина мама. Она меня любила. Я приезжал к ним на Подрезову улицу со “Стрелы”, Илюша в полусне открывал дверь и заваливался спать снова. Ксения кормила меня яичницей, садилась напротив, курила и рассказывала, какой подлец и совратитель Сенька Аранович. И я лицемерно поддакивал.
Наш “Сэмен”, “штурман”, как его называл Юра Клепиков. И еще мы его между собой называли — “панимашь ты”. Это постоянное забавлявшее нас “панимашь” выскакивало — в запятых — в любых речах и уморительных рассказах выпускника Ростовского авиационного училища и внука казенного раввина.
Я запомнил его на Невском. Яркое солнце. И он в синей шубе. Я утверждал, что она из синего медведя.
Илья Авербах и Семен Аранович. Опять — старший и младший, хотя одного года рождения. Два красивых, талантливых, значительных и — по-своему, только для самых близких — смешных человека. Особенно, когда были вместе. А так они — и, конечно, еще Леша Герман — три главных героя и столпа “Ленфильма” 80-х. Единство полных противоположностей.
Илья свел меня с Семеном как с режиссером, а я потом его с ним как с человеком. И они очень подружились. Конечно, Сенька смешил Илью ужасно. Обаяние его огромное было именно смешное, лукавое. Смешить-то смешил, но как к режиссеру, тогда еще в основном известному как документалист, Илья относился очень серьезно. И хотел, чтобы Семен утвердился в художественном кино.
71-й год. Мы должны встретиться на студии, чтобы говорить о сценарии “Сломанная подкова”. Я жду его в коридоре. Накануне он хорошо сдал начальству свою первую художественную картину “Красный дипломат” о Леониде Красине и потому сильно опаздывал. Наконец, я его увидел. Он приближался по коридору, как необычный человек. С большим портфелем и в мохнатой шубе. То была первая шуба, коричневая, синяя будет потом. Где он их брал, эти шубы?
В ожидании я сердился на еще не знакомого мне режиссера. Он заговорил, сразу на “ты” — “панимашь ты?” И — с этим своим лукавым лицом — достал из портфеля фляжку. Виски. И я понял — мой человек! Кроме того, я, как и полагается советскому мальчику, любил летчиков. А я уже знал: в молодости — до ВГИКа — он военный летчик, настоящий! Офицер, штурман полярной авиации.
Летел однажды офицер Аранович с Большой земли к себе на базу. Товарищами ему было поручено закупить в Мурманске дефицитную колбасу. Что он и сделал. Набил вожделенной колбасой большой портфель. Когда случилась в воздухе авария и пришлось катапультироваться, портфель из рук он не выпустил — офицерская честь не позволяла оставить боевых товарищей без колбасы. Так и летел в небе, держа портфель в отставленной руке, — так вместе со спасенной колбасой и грохнулся о землю. Полгода пролежал в госпитале, встретил там свою будущую жену Тамару, был комиссован и поступил во ВГИК, на курс Романа Лазаревича Кармена. И появился режиссер Аранович.
Слава дефицитной колбасе!
Историй было множество. Например, о лилипутах, снимавшихся в “Торпедоносцах”. Картину поначалу не выпускали, к чему-то по цензурному обыкновению придравшись. Тогда лилипуты — они очень уважали Семена — выделили наиболее представительную маленькую даму, всю в драгоценностях. И она отправилась в Москву, в Госкино — защищать картину — и даже была принята Павленком.
Он был упоительный рассказчик. Конечно, его бы послушать — не меня.
Мы с Авербахом заставляли его рассказывать и пересказывать и эту историю, и другие, и смеялись до изнеможения.
В последний раз вместе я видел их в Репине. Мы приехали туда из Ленинграда с моей женой Ирой — на два дня. Была страшная жара. Семен впервые показывал телекартину “Противостояние”. И мы напились с такой силой и охотой, как будто знали: мы трое — втроем вместе — более уже никогда не увидимся в этой жизни.
Утром, как сейчас помню, я проснулся в веселом и деловитом похмелье. Но выпито было с ночи все, до капли. Семен принес мне в ложке — где-то взял — чистый медицинский спирт — так и нес, в ложке, через всю территорию. Офицерская честь не позволяла оставить раненого товарища на поле боя.
Тем же летом это было или нет? Наутро после бурного дня рождения Семена Арановича Илюша везет нас с Ириной назад в Репино. Но по дороге заезжаем на пустой — выходной — “Ленфильм”. На втором этаже, в “директорском” зале, втроем — Авербах главный зритель — смотрим две картины молодого режиссера, который хочет работать на студии. Очень серьезный, мрачноватый даже, прихрамывающий. Одна картина документальная, вторая — “Одинокий голос человека”. Мы потрясены и обрадованы, всю дорогу в Репино говорим только об этом. С тех пор это первое откровение Сокурова так и светится в моей памяти.
А потом как-то в Москве я пришел в гостиницу, где жили Аранович и Сокуров. Они начинали тогда — вместе — картину о Шостаковиче.
Семен так много умел — в делании кино, — что ему казалось, он может вообще все и по любому поводу. Он часто разбрасывался в своих многочисленных и порой довольно странных идеях, но вдруг накалялась какая-то электрическая дуга между ним и материалом — и все соединялось: талант, умение, душевное знание. И вот — “Летняя поездка к морю” по замечательному сценарию Юры Клепикова. И вот — “Торпедоносцы” по замечательному сценарию Светы Кармалиты и Алёши Германа. Тогда они еще были друзьями.
Прошло тринадцать лет со времен “Сломанной подковы”. Смерть Ильи особенно соединила нас. Но и ссорились. Характер! Ох, характерец был у него! А может, и я был виноват? После затянувшейся довольно глупой размолвки встретились в Шереметьеве. С большой компанией кинематографистов улетали в Роттердам на фестиваль 90-го года. И сразу забыли, что мы в ссоре.
Я не любил с ним находиться в одном самолете. А вместе мы потом летали не один раз. В Израиль — снимать и на фестиваль в Хайфе, в Америку, по Америке. По напрягшемуся лицу Семена, по тому, как он незаметно и хитро слушал голос двигателя, я быстро догадывался — ой, что-то не так, и начинал волноваться.
А тогда по пути в Амстердам мы попали в эпицентр большого и страшного — с жертвами и разрушениями — европейского урагана.
Была ночь, в самолете все безмятежно спали. Кого я помню? Марлен Хуциев, Саша Сокуров, Ира Рубанова, Андрей Плахов, Сережа Овчаров… А я следил за Арановичем. Он хмурился. Мы давно должны были сесть, но всё еще торчали в воздухе. Слишком долго. Потом узнали — Амстердам нас не принял, полетели в Брюссель, и он не принял. В Люксембург — он тоже. Вернулись в Амстердам. Тут уже все пробудились. Самолет, потряхивая словно обвисшими крыльями, медленно ехал не по посадочной полосе, а по шоссе.
Тогда в Роттердаме, в баре “Хилтона”, договорились делать документальную картину — в продолжение того, что было начато им с Клепиковым: “Я служил в охране Сталина”. На этот раз — о гибели антифашистского еврейского комитета и “деле врачей-убийц”. То, что потом было нами названо “Большой концерт народов, или Дыхание Чейн-Стокса”. Страшновато сейчас пересматривать. Как каша из волшебного горшка, расползается по городам нашей необъятной родины и ее весям нечисть сталинизма…
Впрочем, я очень забегаю вперед.
В завершении того давнего пасхального вечера в ресторане на Воровского все потянулись к церкви на улицу Неждановой, ныне снова Брюсов переулок. Верующие и неверующие — таких было тогда гораздо больше. К кому-то вера пришла позже и всерьез. Но тогда не вера влекла нас к сияющему во тьме входу во храм, а вольнодумство, вызов, протест, молодость, весна. И радостно было нам, во все легкие дыша прохладным апрельским воздухом, перекликаться, встречаться в толпе и бесстрашно и громко говорить “Христос воскрес”, так, чтобы слышали менты. Про них шептались: “Гэбэ в ментовской форме”. А они с невозмутимыми лицами окружали церковь и нашу молодую тусовку.
Письма Ильи к первой жене Эйбе — времени обучения на Высших курсах — были после его смерти опубликованы в уже не существующей газете “Газета”. Несмотря на публикацию, я все же испросил разрешения у Эйбы — через ее дочку Машу Авербах — и сделал несколько выписок.
В фильме “Чужие письма”, в сценарии Наташи Рязанцевой, старая учительница произносит фразу, ставшую афоризмом: “Почему нельзя читать чужие письма? — и сама себе отвечает: — Нельзя, и все”.
Читать чужие письма — письма “великих людей” — их сотни томов — наверное, так же “нельзя”, как и письма людей невеликих. И все равно мы делаем это и будем делать. Потому что мы хотим их знать, хотим постоянной близости с ними.
Разливалися все болоты, все луга, Растворялися все трактиры-кабака. Порасстроялся Питер-город и Москва, Вот хорош Питер, Москва очень широка. “Собрание народных песен Киреевского”Как жил в Москве, в этом “чудовищном толкающемся городе” — его слова — еще не знакомый мне, — удивительный молодой ленинградец? Не часто сытый — на копейки стипендии и тощие журнальные заработки. В одном и том же красном свитере и порванных туфлях. И, в общем-то, одинокий — по сути своей.
Из письма Ильи Авербаха
День серый-серый. Кассирша выбивает мне хлебов на восемь копеек — знает сколько. Я ем и плетусь домой. И к вечеру тоска. Жуткая, беспокойная. Не знаю, куда деваться. И никого. Я бегу по знакомым, пью водку, болтаю, и всё хуже и хуже…Так хочется ехать куда-нибудь, далеко-далеко, и совсем не знать, что там будет. Что-нибудь совсем другое, что мы даже предположить можем. Восемь чувств и луг в кашке.
“Благополучие порождает только инерцию; стеснение — предпосылка всякого движения вперед”.
Жозеф Эрнест РенанЕго основная идея того периода: “Надо пробиться. И не замарать рук. Это, наверное, самое главное”. Он чувствовал свое предназначение. Потому так и менял свою жизнь. Сначала бросил медицину. Уже став “дипломированным сценаристом”, поступил на режиссуру.
Из письма Ильи Авербаха
Милые люди меня окружают. Милые и неизменно чем-то раздражающие.
Раздражителен был всегда. Может быть, потому что считал, что все всегда всё делают не так, как надо, неправильно. Его раздражали, бесили бестолковость, глупость, леность, суетность, чванство, дармоедство и рвачество в искусстве, его притягивали сразу же и безоговорочно разум, талант, юмор, благородство. Трезво понимающий людей и искусство, он при этом сохранял некоторую простодушную восторженность — по отношению к людям. И к искусству.
Из письма Ильи Авербаха
Живу довольно замкнуто… Ну, кое-кого навещаю разве что… В Москве много интересных и даже поразительных людей, вроде Саши Пятигорского и Комы Иванова. Мудрых, проницательных, гениальных.
У Саши бываю довольно часто, и он знакомит меня с индуизмом и заставляет читать всякие удивительные книги, вроде “Бхагавадгиты”.
Странная и навсегда запомнившаяся была у меня встреча с Сашей Пятигорским. Мы с бывшей женой Норой снимали тогда квартиру на Фрунзенской набережной у знакомого — сына хрущевского министра культуры — Жени Михайлова, уехавшего работать за границу. Каждый вечер — а порой и утро, и день — у нас народ. “Квартиры без взрослых” всегда ценились в нашей Москве.
Илья приводит Пятигорского. Уже не вспомнить, но почему-то поздно вечером мы с ним оказываемся вдвоем на какой-то станции метро. Нам в разные стороны, но мы не расстаемся. Стоим и разговариваем, пропуская поезд за поездом. Вернее, говорю я, Саша слушает. Что-то, видимо, в нем было такое, что вдруг отчаянно расположило меня к неожиданной исповедальной откровенности.
Мне было плохо тогда. Всё как в стихотворении Беллы Ахмадулиной:
Человек в чисто поле выходит, Травку клевер зубами берет. У него ничего не выходит, Всё выходит наоборот. И в работе опять не выходит, И в любви, как всегда, не везет…Я говорил, Саша слушал. Потом произнес — серьезно и совершенно убежденно — как пророк: “У вас скоро все будет по-другому. И в работе, и в любви. Вот увидите”. И я действительно увидел, правда, не очень скоро — через шесть лет. А вот Сашу — больше никогда. Как будто он ненадолго возник в моей жизни только для того, чтобы сказать это.
2014 год. Едем по Лондону. Галя Шлепянова за рулем, Саша Шлепянов — рядом.
— Посмотрите, — вдруг говорит он, — направо кладбище Ганнесбери. Там похоронен Саша Пятигорский.
Из письма Ильи Авербаха
Вчера провел чудный вечер у Зины Шаталовой, слушал тысячу польских пластинок. Там потрясающе поет Слава Пшибыльска (еврейка, как оказалось). Песни варшавского и белостокского гетто… Обалдеть можно. А потом — просто солдатские и партизанские песни. Опять я полюбил эту страну.
А я и не слышал ничего о такой — знаменитой, оказывается, певице, перепевшей к тому же — и очень хорошо — на польском — многие песни Окуджавы.
Slava Przybylska. Сразу же ныряю за ней в Гугл. И слушаю, слушаю, перестав писать, песню за песней. И Ballada cyganska, и Hava Nagila, и Krakowska kwiciarka, и, конечно, Czerwone maki na Monte-Cassino…
Czerwone maki na Monte-Cassino Zamiast rosy pity polska krew…Слушай, Илья, она поет для тебя. И в память о polskiego kobiety…
Из письма Ильи Авербаха
…Отправился на встречу старого Нового года, куда меня заранее пригласили… Попал я в компанию, можно сказать, артистов-вахтанговцев, в квартиру певицы Максаковой (ее дочь играет в этом театре).
Надо сказать, что они поголовно оказались славными ребятами, ничуть не актерского толка… Потом все стали расходиться, и тут-то я не нашел своей шапки. Было обыскано все, но шапка как в воду канула. А мороз, не скрою, 30°. Слава богу, Валя Тур (есть такой поэт, приятель Жени Рейна) дал мне свою довольно потрепанную ушанку, а сам повалил домой в шапке хозяйки квартиры, благо ему недалеко. Но вот до сих пор шапка моя не нашлась, представляешь себе. Как тебе нравится эта мистика?
Мистика, скорее, была в том, что спустя несколько лет история с исчезнувшей шапкой повторилась почти буквально, но с другими участниками. И уже главным действующим лицом стал — неожиданно для него — Булат Шалвович Окуджава.
Завязка.
Киностудия “Ленфильм”. Профком распределяет пыжиковые шапки. Событие серьезного масштаба.
“Пыжик — теленок северного оленя до достижения возраста 1 месяц (по другим классификациям, до полугода). После выхода из классификации выпороток и по достижении одного года носит название неблюй.
Мех пыжика также называется пыжик, отсюда же происходит название пыжиковая шапка…”
ВикипедияТо, вожделенное, меховое, что взволнованно и в сигаретном дыму тайно распределялось за закрытыми дверями, уже вышло из классификации выпороток. Но еще не вошло в классификацию неблюй. То есть было в самый раз посередке — пыжик по ГОСТу — самый что ни на есть дефицит.
Положение режиссера Авербаха уже тянуло тогда на первые номера в тайном списке. Но все равно окончательному решению предшествовали волнения и сложные многоходовые и долгие студийные интриги.
Илье как-то очень хотелось надеть на свою лысеющую голову этот самый теплый пыжик. Вообще-то, он к вещам относился довольно спокойно. Все мы в нашей бедной молодости были неважно экипированы. Но Илья был во всем элегантен. Без пижонства и лоска. Элегантность простоты и мужественности. Любил куртки и твидовые пиджаки, тоже, кстати, тот еще дефицит по тем временам.
Конечно, Илья получил эту шапку. И премьера ее пришлась на тот вечер, когда мы втроем — Наташа, Илья и я — отправились на улицу Савушкина к Венгеровым. Был серьезный мороз. Может быть, даже и те самые 30°, только уже не московские, а ленинградские, сырые и пронзительные.
Народа за столом полно. В торце — как будто сейчас вижу — друг дома Окуджава с гитарой. В хорошем настроении — много и охотно поет, на радость всем нам. Но время вышло, он заторопился на “Стрелу”. Мы все встали и высыпали в прихожую его шумно провожать и желать хорошего пути. Ильи, как на грех, при этом не было. Важная подробность детективного сюжета.
Вернулись за стол, выпили еще под Галино вкусное угощение, пошумели, поспорили. Я — традиционно — с Владимиром Яковлевичем Венгеровым — он называл меня Пабло — по поводу Владимира Владимировича Маяковского. И, наконец, всем настала пора по домам. Разобрали в прихожей “ворох одеж”.
— А где моя шапка? — удивленно спросил Илья.
Шапки не было.
Жанр требует монтажной перебивки.
Флешбэк: в Москву прибывает лауреат Нобелевской премии по литературе Генрих Белль.
Обыскали всё. Шапки не было. Илья уже не удивлялся. Он был в ярости. Логично было предположить, что единственно покинувший компанию Окуджава случайно, перепутав, ушел в чужой шапке. Но не было и его шапки!
Я уезжал из Ленинграда на другой день. Пришел утром на студию, на втором этаже возле кабинета директора встречаю мрачного Илью. Он протягивает мне какую-то бумажку. Что это? Номер телефона Окуджавы. Зачем? По поводу шапки.
— Но ведь он же не мог уйти в двух шапках, — уже начинаю злиться я.
— Конечно, — невозмутимо соглашается Илья. — Но мало ли что? Может, он что-то о ней знает, надо проверить все варианты.
— Но почему я?
— А кто? — невинно спрашивает Илья. — Ведь ты же едешь в Москву.
Я смотрю на него, на его обиженное лицо, злюсь, но мне и смешно, и трогательно. Конечно, он не жалеет шапку как вещь. Он жалеет себя, как в детстве оставленный без подарка. И я на какое-то мгновение превращаюсь из младшего в старшего — но только на мгновение — и беру у него бумажку с телефоном.
Целый день в Москве свербит: звонить Окуджаве, надо звонить Окуджаве. Господи! Как же не хочу! Репетирую будущий разговор. Драматургию надо построить таким образом, чтобы не сразу, легко, иронично коснуться проклятой шапки, чтобы, не дай бог, не подумал что…
Но уже вечер. Все! Деваться некуда. Набираю номер.
— Здравствуйте, Булат Шалвович. Это Паша Финн… Мы… в Ленинграде… у Венгеровых…
— Да, Паша, конечно, — вполне доброжелательно говорит он. — Я вас слушаю.
О, как много я мог бы сказать ему. Что он последний русский лирик, что его голос, его пение — это мелодии и молитвы наших надежд, наших печалей и любви… Но вместо этого волнение, стеснение — и вся драматургия к черту. И я бухаю:
— Дело в том, что в тот вечер у режиссера Авербаха пропала шапка.
Пауза. Долгая. Я краснею. Наконец Окуджава — холодно:
— Дело в том, что я обычно не присваиваю чужие шапки.
— Нет, нет! Что вы! Вы меня не так… Я вас не так… Просто все варианты…
Он молчит, слушая мой лепет. Из квартиры в трубку долетают голоса.
— Извините, — вдруг говорит Окуджава, — меня зовут. Разговор, конечно, интересный, но дело в том, что там у нас на кухне сидит Генрих Белль.
Еще раза два-три я видел его. И хотя он, конечно, давно забыл об этом дурацком звонке, я каждый раз старался не столкнуться с ним, прятался за спинами. А ведь я так много мог ему сказать…
Шапка, между прочим, нашлась.
Снова время Курсов — в Москве появляется еще один, тогда только будущий, лауреат Нобелевской премии.
Из писем Ильи Авербаха
Фельетон про Осю — верх мерзости и подлости. В нем нет ни одного слова правды, даже стихи чужие. Позавчера мы провели с Иосифом целый вечер, он переносит это мужественно и умно. Сначала были в ЦДЛ на вечере польской поэзии… Потом долго бродили по холодной Москве и говорили за жизнь и за искусство.
…История с Осей кошмарна, и я ничего не могу говорить по этому поводу. Она развивается по законам Кафки.
…Был у меня еще Ося Бродский. Читал бесконечные прекрасные пронзительные стихи “Прощальная ода”.
Ночь встает на колени перед лесной стеною, Ищет ключи слепые в связке своей несметной. Птицы твои родные громко кричат надо мною. Карр! Чивичи-ли, карр! — словно напев посмертный.Из письма Ильи Авербаха
Люди летят в пропасть. Мир ослеплен собственной жестокостью, идиотичностью и нелепостью происходящего. Но ведь есть же причины. В чем они? В чем начало, исток одиночества, насилия, неверия или фанатической веры? Найти новые аксиомы, очевидные и точные. И строить новый мир. Понимаешь, в последнее время я вдруг необычайно остро понял, что никто мне ничего не объясняет. Мне стало скучно читать, смотреть фильмы, разговаривать с людьми.
Читаю “Грасский дневник” Кузнецовой, которую называют “последняя любовь Бунина”. О боже! Они — те люди — всё время говорили! О литературе, философии, политике. Говорили друг с другом. Им интересно было говорить друг с другом. И не перебивали друг друга, слушали друг друга. А мне с кем теперь говорить? Кого слушать?
Редеет круг друзей, но — позови, Давай поговорим, как лицеисты, О Шиллере, о славе, о любви, О женщинах — возвышенно и чисто. Геннадий ШпаликовО любви, о женщинах? О да, да!
О Шиллере? Нет, не говорили. О Бунине — часто, хотели делать “Митину любовь”. О Платонове и Булгакове. О Трифонове. Ходили к нему в Москве на улицу Алабяна просить разрешения на экранизацию “Старика”. Трифонов отнесся вполне благожелательно. Но начальством на этот роман в кино было наложено вето.
Самая маленькая комната — “Илюшина” — напротив входной двери. Сейчас пытаюсь нарисовать ее в памяти. Тахта, у окна письменный столик, за которым он работал, книжные полки. Я обязательно подолгу рылся там. Оттуда выудил “Опавшие листья” Розанова, которого до этого не читал. И заболел им навсегда. Без книг к себе в гостиницу не уходил.
Ох, эти номера в гостинице “Советская”. Поднимешься к себе на этаж в лифте вместе с толпой измученных сухим законом пьяных финнов — извиняюсь за каламбур — и шумных ленинградских шлюх. Запрешься, чтоб не ворвались, спутав во хмелю дверь. Сам тяпнешь из бутылочки, припасенной в холодильнике, под каменный пирожок с капустой. И сразу звонить Илье, как будто не наговорились…
Тогда я особенно сильно болел одиночеством. Именно так. Не был одинок, но болел одиночеством. В такие периоды душа особенно ищет того, кому ты можешь доверить себя.
До сих пор… не наговорился…
— Привет, Илья. Давай поговорим. Обо всем. Как прежде.
Слышу его голос — из телефонной трубки:
— Пауль! Пиши лучше!
Или мог позвонить из Ленинграда в Москву и спросить, как я понимаю стихотворение Мандельштама “За то, что я руки твои не сумел удержать…”. Я застигнут врасплох, но должен ответить — поддержать репутацию. Но мое наспех соображенное толкование его не устраивает. Через час уже сам звоню — из Москвы в Ленинград, — предлагаю новую версию… Со стихотворением “Сохрани мою речь навсегда” прохожу испытание успешнее. “Молитва!” — говорю я. И он соглашается.
Что такое молитва? Попытка прямой связи в надежде на обратную.
О поэзии говорим постоянно. У него дома, по дороге на студию — на ходу. В машине — он за рулем. Вылавливаем из памяти неожиданные строчки и по ним наперебой восстанавливаем все стихотворение. Он часто повторяет “Да простит тебя Бог, можжевеловый куст!” И я заболеваю стихотворением Заболоцкого. Вспоминая мои бесконечные споры с Венгеровым, сходимся в нашем отношении к Маяковскому…
Когда сгущаются тучи и духота становится невыносимой, чающая движения вод и обманутая иллюзиями душа просит у небес освежительного хотя бы дождя и испепеляющей молнии. Появляется Маяковский, просит немедленной революции, гениально пишет о любви и совершает трагическую ошибку, отдавая “всю свою звонкую силу поэта” атакующему классу.
Вся наша жизнь в СССР, в кино — среди атакующего нас класса чиновников и гэбэшников — приучала к шепоту, намекам, шифру, лукавству, самозащите с помощью конформизма. Впрочем, “они”, одурманенные постоянным страхом перемен и расплаты, находили зёрна крамолы даже там, где мы их не сеяли.
“Неужели это никогда не кончится?” — спрашивали мы с ним друг друга постоянно. Какая бессмыслица — пройти, сгинуть, так и не сказав не таясь, просто сказать — без оглядки на них, — как и почему сжималось твое сердце, что вызывало у тебя печаль, сострадание, ненависть и жалость.
“Мы с ним всегда были уверены, что умрем при советской власти. Он не ошибся. Вдруг, ошеломив поспешностью, ушел на самом пороге иной жизни, даже не догадываясь, что она может быть. Странной жизни, дикой, обманчивой, бросавшей то в жар, то в холод. Путающей надежды с разочарованиями. Дающей меньше, чем посулившей. Но всё же — новой — всё же куда как более подходящей для нас с ним, чем привычный сумрак постоянного распада”. К семидесятилетию Ильи в “Искусство кино” — мои “Заметки пессимиста”.
Да, ушел на границе другой жизни, даже ногу не занеся. Но когда в Кремлевском дворце стоящие во всех дверях зала рослые ребята из “девятки” с изумлением смотрели на странное собрание, топающее, стучащее крышками столов, и слушали небывалый для этих стен и сводов свист нашего Пятого съезда — с кем бы был Илья? С нами? А может, и впереди нас?
Тогда мы — постепенно — от Пятого съезда к ельцинским девяностым — из крепостной зависимости выходили на оброк, а потом и в настоящую, хоть и недолгую волю. Через несколько лет, набаловавшись сверх меры, проснулись как-то со словами: “Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!”
Здесь было царство — царство пало… Мы жили здесь — и нас не стало… Яков Полонский“Пробиться и не замарать рук”. Но это был наш общий лозунг. Впрочем, легче сказать, чем осуществить. Тогда лучшими могли считаться те, кто освоил единственное в своем роде искусство не говорить лжи, не говоря при этом всей правды.
“История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа”.
Михаил Лермонтов, “Герой нашего времени”Благородный взгляд на жизнь, на “историю души человеческой” — это и было его кино. Труд мысли и труд чувства — что было для него первичнее?
Он был рационален в режиссуре? Отчасти только, но мучительно ждал, когда вдохновение посетит его. Это и был его стиль. Строгая и точная работа мысли иногда оказывалась вернее наития, беспорядочного эмоционального подъема, но в результате — на экране — и то и другое выглядело как следствие вдохновения.
В “Монологе” — в третьей после “Степени риска” и “Драмы из старинной жизни” картине — впервые стал по-настоящему формироваться стиль и ритм.
Внутренний мир — небольшое “однокомнатное” помещение или лабиринт, в котором душа блуждает всю жизнь в поисках выхода?
Для двух авторов “Монолога” скорее все-таки комната. Со шторами на окнах, за которыми отдаленно шумит и ворчит улица. Иногда пропускающими солнце.
И все же “Монолог” как бы делится — в неравных долях — на “Авербаха” и на “Габриловича”.
Для Габриловича — хоть и в сильно смягченном, “чеховском” варианте — гораздо ближе, по выражению Лидии Гинзбург, “специфическое мироощущение советского человека”.
Авербах же — под безумный марш Каравайчука — рвался за пределы этого мироощущения. Он не был исследователь современности — “критический реализм” не его метод; он был лирик. Но лирик именно в духе петербургско-ленинградской поэзии, порой жертвующей возвышенностью ради рациональности, внимательно слушающей разговор и музыку городских улиц и окраин. Его волновал — как писал Иннокентий Анненский — “волнующий хаос жизни, призванной к ответу”.
Музыка города, скорее всего, симфоническая. Состав инструментов в оркестре: люди, машины, собаки, птицы…
“Отражение эпохи не есть задача поэзии, но жив только тот поэт, который дышет воздухом своего века, слышит музыку своего времени. Пусть эта музыка не отвечает его понятиям о гармонии, пусть она даже ему отвратительна — его слух должен быть ею заполнен, как легкие воздухом…”
Владислав ХодасевичВ те дни, когда Илья пробовал актеров на роли в “Монологе”, я возвращался на “Стреле” из Ленинграда в одном купе с известным актером Глузским. Я хорошо знал Михаила Андреевича до этого — он играл в “Миссии в Кабуле” разведчика-связника “под прикрытием” — в облике бессловесного городского извозчика “баги”. Шутя, он говорил, что мне очень благодарен, ведь за всю картину он не произносит ни одного слова, ничего не надо учить и запоминать.
Поздоровались, уселись напротив на полках, поехали. Смотрю, в лице у него что-то странное, как будто чего-то не хватает. И как-то неловко держится за верхнюю губу, и выражение какое-то растерянное. Скоро все объяснилось. Авербах заставил для кинопробы сбрить усы. И он не знает — сниматься ему или нет? С этим вопросом он даст мне розовую книжечку режиссерского сценария, и я его буду — при свете “ночника” — читать. А утром скажу — сниматься не задумываясь.
Конечно, не из-за моих советов, но роль академика Сретенского он благополучно сыграет. И усы вернутся на свое место.
Значило ли это, что мне тогда понравился сценарий? Не совсем. Мне нравилось все, что касалось человеческих отношений, переживаний и страданий. И не нравилось все, что касалось науки и какого-то выдуманного препарата, делающего жизнь счастливой. Да Илья и сам это понимал. Но это было одно из условий прохождения и разрешения. Да и сыграна “наука” великолепным дуэтом Глузский — Любшин хорошо. Да и прощается все за абсолютный по точности выбор на роли матери и дочери двух поразительных актрис — Тереховой и Нееловой.
“Чужие письма”. Успех, замечательное кино. И опять открытие — актрисы. Светлана Смирнова. Но сейчас я скажу то, что никогда бы, наверное, не сказал Илье. Если “Монолог” в большей степени картина Авербаха, чем Габриловича, то “Чужие письма” — при всех достижениях режиссуры — больше картина Рязанцевой.
“Среди прав… есть одно забытое… — это право противоречить самому себе”.
Шарль Бодлер75-й. Мы с Ильей в квартире Габриловичей, у Алёши. Оттуда — в авоське — приношу домой на Сиреневый бульвар огромную машинописную рукопись еще не изданной книги Евгения Иосифовича “Четыре четверти”. Читаю всю ночь. И первым делом — как в сладостном сне — представляю себя на сцене Дома кино рядом с Габриловичем и Авербахом. Неплохая компания.
Так в конце концов и вышло. Но как же тернист был путь.
Начался он с того, что “Ленфильм” отказался подписывать со мной договор на сценарий. Потому что я был уголовный преступник.
За год до совершения преступления пировали мы как-то с моим коллегой Володарским. Тогда не только коллегой, но и большим приятелем. Много позже — неприятелем, большим. Но его уже нет, я не хочу ворошить прошедшее.
“Вообще, пользоваться воспоминаниями и дневниками надо очень осторожно, если хочешь узнать правду, а не решать споры, давно погашенные смертями”.
Виктор ШкловскийКороче, когда мы проснулись поутру, вспомнили, что с вечера горячо и страстно договорились писать вместе сценарий о шахтерах Кольского полуострова с рудника Расвумчорр, добывающих апатиты открытым способом. Эдик там уже был, его вообще влек исключительно брутальный материал. Ну, а я уж — в силу своих национальных особенностей — за компанию.
Не расставаясь с идеей, решительно дернули в Ленинград на “сидячем” поезде. И в кабинете главного редактора 1-го объединения Фрижетты Гургеновны Гукасян — нашей дорогой и мудрой Фрижи — поведали ей наш невнятный замысел.
Соавторство совершенно непохожих и опасных персонажей ее, конечно, смутило. Но все-таки мы были свои, авторы объединения, и отказывать двум таким сценаристам не было резона. Однако перед тем, как отправить нас в гостиницу сочинять заявку, Фрижа под каким-то предлогом задержала меня в кабинете и взяла с меня — видимо, в моем лицемерном поведении был подкупивший ее обман — нерушимую клятву, что в командировке мы будем вести себя прилично.
Эта клятва нас и погубила.
В городе Кировске главные люди рудника Расвумчорр, большие, громкие, мужественные, не из чиновников, а настоящие горняки, приняли нас с дорогой душой. Были белые ночи. Но не бледные, интеллигентные, поэтические — ленинградские. А беспощадные, какие-то свинцово-яркие, солнечные, и, казалось, ничем не отличающиеся от утра и дня.
К часу встречи, когда в непринужденной и товарищеской обстановке мы должны были узнать всё то, о чем не пишут в газетах, был ради нас закрыт ресторан на площади перед гостиницей. Мы первыми вошли в зал и обомлели, увидев раблезианское количество бутылок и мощь богатой закуски. Тут же шумно ввалились хозяева и, радостно потирая руки, предвкушая хорошее застолье с двумя “киношниками”, стали рассаживаться.
— Не стесняйтесь, дорогие гости!
Мы не стеснялись, мы страдали.
И когда призывно зажурчала водка, вливаясь в фужеры, из которых обычно пьют минеральную воду и лимонад, мы фужеры от себя отодвинули. Чтоб не преступить клятву. Удивление сменилось не подействовавшими на нас уговорами, а уговоры — холодком, повеявшим за столом. Они тоже пить не стали. Еще с полчаса вежливо поговорили с нами на общие темы, поковырялись в закуске, а потом заторопились — кто куда. На ночную смену или к больной теще.
А нас на другой день сбагрили к пожилому бывшему журналисту, занимавшемуся связями с прессой. С виду он был человек сильно пьющий, поэтому тоже к нам особого доверия не испытал.
Не задалась командировка.
Не задался и сценарий, который мы еще в заявке лихо назвали “Минус сорок”. Володарский сразу потерял к нему интерес. А я должен был писать, ведь договор был заключен на меня — у него к тому времени уже был один договор на студии. Но писать я не хотел — не мог. Меня, честно говоря, вообще совершенно не волновало то, что волновало моего брутального соавтора.
В отчаянной надежде, что перемена мест придаст мне вдохновения, я бросался из Ленинграда в Москву, из Москвы в Одессу, в Таллин, где Аранович снимал “Сломанную подкову”, в Болшево. Ничего не помогало. Даже и то, что сценарий, еще не читая, уже собрался ставить Саша Сурин, чтобы в главной роли снимать нашу подругу Нонну Мордюкову.
Пропустив все сроки, я все же кое-как склепал первый вариант. И не отправил его на студию. Мне было стыдно.
Сначала о невыполненном обязательстве мне мягко напоминало Объединение, потом другие студийные инстанции. Сначала я как-то отбрехивался, а потом просто перестал открывать конверты с разными штампами, замолчал, исчез.
И вот по прошествии, кажется, года к нам в квартиру пришел старичок. С большим лохматым портфелем. Судебный исполнитель. С решением заочного суда. Мне предлагалось в такой-то срок вернуть полученный аванс целиком, без налоговых вычетов, плюс судебные издержки и какие-то штрафы. В противном случае…
Случай был действительно очень противный. Таких денег у меня и в помине не было. Неугомонный старичок пришел снова. Потом я стал от него прятаться. Но, на мое счастье, механизм советского правосудия работал неспешно. А тут и подоспел Авербах со своим предложением писать для него сценарий. Ему же и пришла в голову спасительная мысль — рассчитаться со студией другим сценарием для другого Объединения, телевизионного, чтобы студия отозвала иск.
Так — совершенно неожиданно для меня — возник сценарий “Новогодние приключения Маши и Вити”. Его можно было бы посвятить незабвенной памяти маминого кота Матвея Ароновича. Огромный котище, жизнеописание которого вполне могло бы быть издано в серии ЖЗК — “Жизнь замечательных котов”.
Распустив хвост, он сочувственно смотрел на меня, когда я, сидя на раскладушке, печатал сценарий на стоящей передо мной на табурете машинке. Жил я тогда у мамы — в результате некоторых моих семейных передряг. Незадолго до этого из дома на улице Фурманова нас выперли, наше гнездо разрушили. Военное ведомство, освобождавшее пространство для генеральского дома, дало нам две небольшие квартиры — на Сиреневом бульваре, где поселилась Нора — без меня, и в Текстильщиках — маме, сестре и коту.
Тут как раз наступил 1975-й. У нашей компании была такая традиция — где бы и как бы ни встречали Новый год, 1 января обязательно съезжались на Живописную улицу к нашем другу Толе Ромашину — на день его рождения. Толя — в свободное от исполнения ролей в кино и на сцене Театра имени Маяковского время — гнал и настаивал самогон, можно сказать, в промышленных количествах. На празднике он лился рекой.
Веселье закончилось ночью, все стали разъезжаться, а мне неохота было тащиться в Текстильщики — я остался. Во второй комнате квартиры стояла огромнейшая кровать, занимавшая, кажется, весь метраж. На ней мы с Толей залегли.
Вдруг просыпаюсь. По квартире кто-то ходит. Но мы ведь всех проводили? Прислушиваюсь нервно. Ходит! Кто? Бандиты? Ограбление? Толкаю Толю в бок: “Толя! В квартире кто-то есть!” Он, почти не просыпаясь, бормочет: “Ну и что?” И засыпает. Зловещие шаги останавливаются под нашей дверью. “Толя! — шепчу. — Проснись, встань!” В ответ: “Сам вставай” — и поворачивается на другой бок.
И я встаю. Чем страшней, тем смелей надо идти навстречу опасности. В трусах, босиком — дрожа — выхожу в коридор. Никого. Но на кухне свет. Подкрадываюсь. За пластиковым кухонным столиком мирно сидит совершенно незнакомый гражданин и наливает самогон малинового цвета из бутылки себе в чашку…
В жизни со мной было несколько странных и необъяснимых историй. Вот так в ночь на 2 января начиналась одна из них.
Уму непостижимо, каким образом киевский режиссер Борис Ивченко узнал, что я в данный исторический момент — глубокой ночью — нахожусь у Ромашина. И как он добрался до незапертой квартиры по пустой и неподвижной Москве, только для того, чтобы предложить мне писать сценарий по повести Владимира Маканина.
Тут и Ромашин проснулся, подтянулся на кухню и присоединился к компании. Кажется, ему сразу же была предложена нами, уже совершенно дружески спевшимися, главная роль в будущем фильме Киевской студии. К слову сказать, который никогда не был снят еще и потому, что сценарий никогда не был мной написан.
За веселым разговором досидели до утра. И тут было вдохновенно принято решение ехать завтракать в “Арагви”, где тогда готовили хаш. Сказано — сделано, вышли, поймали такси, поехали, продолжая дружески и весело трепаться и смеяться. Подъезжали уже к площади Маяковского. И тут со мной вдруг произошло нечто, чему объяснения у меня не было и нет.
— Остановите машину, — сказал я таксисту. — Я здесь выйду.
Как? Что? Почему? С ума сошел? А как же хаш? Едем, едем! Но я настоял на своем. Вышел, провожаемый изумленными взглядами, остановил другое такси и поехал к маме — в Текстильщики. Она удивленно постелила мне на раскладушке, я лег. А через полчаса позвонил брат Витя и сообщил, что умер отец.
Я не видел его до этого десять лет.
Панихида была в помещении парткома в ЦДЛ — вход с улицы Воровского. Иерархия залов для панихид по советским писателям зависела от их положения.
Рассказывают, что как-то у Юрия Карловича Олеши и его друга Вени Рискинда не было денег на “Националь”. И тогда они в Союзе писателей зашли в кабинет к Арию Давыдовичу Ратницкому, профессорского вида господину, который уже много лет хоронил всех писателей, начиная с Льва Толстого.
— Арий Давыдович, — спросил Олеша. — Какие у вас вообще расценки? Сколько кого стоит похоронить?
— Ну, если это писатель размера Фадеева или Федина, — невозмутимо ответил Ратницкий, — то очень дорого. А если какая-нибудь мелочь, то гораздо дешевле.
— А если меня? — с интересом спросил Олеша.
— Ну… — Ратницкий был по-прежнему невозмутим. — Вы все-таки где-то посередине; пожалуй, даже ближе к дорогим. Вполне приличные деньги.
— Арий Давыдович! — сказал Олеша, подмигнув Вене. — А нельзя ли меня похоронить в будущем как мелочь, а разницу получить прямо сейчас?
Итак, отцу достался маленький партком. Не помогло ни вступление в партию, ни обличительные письма против Пастернака и Солженицына, ни групповое содружество с “правыми”.
Были дни новогодних елок, напротив через коридор в “дубовом зале” шло представление для писательских детей и внуков. Оттуда пахло хвоей и мандаринами. Обычно в парткоме переодевались актеры. И сегодня — по ошибке — пока говорились речи над гробом — заглядывали зайцы, Снегурочка и Дед Мороз.
Народа в парткоме было немного. Мы стояли чуть в стороне от гусевской семьи во главе с вдовой. Мы — брат, я и мама. И я, глядя на ее печальное лицо, думал о том, что, если отец через столько лет пронес обиду от женской измены, он любил ее, а иначе был бы равнодушен.
Я подошел и приложил губы к его холодному лбу. Все то характерное, что было в его лице — выпяченная вперед нижняя челюсть, глаза навыкате, мясистый нос — все пропало, сгладилось, загримировалось, стерлось. И все же в этом отрешенно сосредоточенном кукольном лице с пятнами пудры, с подвернутыми ушами я видел своего отца, которого любил и который так и не понял, что я за человек. Впрочем, может быть, и по моей вине.
Как же все это смутно и несправедливо вышло…
Но, несмотря ни на что, надо было писать сказку — на раскладушке. Уже в сценарии сомнительное отчество заслуженного кота, ставшего одним из главных героев, отпало. А сам кот Матвей был смешно сыгран в фильме молодым Боярским.
В надежде на скорую работу с Авербахом я дурачился в сценарии вовсю. К сожалению, вместе с подозрительным отчеством отпало и многое из этих штук и шуток. Но всё же… Я позвал сочинять слова для песен моего приятеля поэта Володю Лугового, а он привел прекрасного композитора Геннадия Гладкова. Так и получилось то, что уже сорок с лишним лет не сходит с телеэкранов.
Договор на новый сценарий под названием “Объяснение в любви” студия со мной заключила.
Но как писать о любви? Что такое любовь?
Хоронили Нину Яковлевну. После Новодевичьего кладбища мы — все Алёшины друзья — приехали на “Аэропорт” в квартиру Габриловичей — поминать. Мы сидели за столом, а Евгений Иосифович в своем любимом большом кресле.
— Ребята, — сказал он, поднеся к очкам исписанный бумажный лист, — я хочу вам кое-что прочитать.
Начиналось это “кое-что”: “Дорогая моя, любимая и единственная”, а заканчивалось: “Целую тебя, моя ненаглядная”.
Потом это вошло в маленькую, страничек на шесть, новеллу в книге “Четыре четверти”. Но там это было уже подписано — “Твой Филиппок”.
Любовь Филиппка к Зиночке была, действительно, единственной, вечной и нерушимой. И прожили вместе они всю жизнь. Но рефреном в новелле повторялось: “Но Филиппка, хоть убей, она не любила”.
Вот именно это стало для нас с Авербахом ключом к сценарию о любви.
Может быть, именно у Габриловича я позаимствовал для этого “конспекта воспоминаний” безжалостный прием — говорить о себе, не щадя себя, а уж в самых рискованных случаях подменять себя выдуманным персонажем. И устраивать этакую путаницу, чтобы окончательно запудрить читателю мозги.
Но только не мне. Я-то был не совсем обычный читатель. Близость к семье Габриловичей была еще и частью моей жизни. И для меня в судьбе очень талантливого советского писателя Габриловича, в его отношении к любимой женщине и к тайно не любимой советской власти, которой он доказывал свою любовь, было что-то очень понятное и символическое для нашего — советского — времени.
“Габрилович Евгений Иосифович. Дата рождения:
17 (29) сентября 1899. Место рождения: Воронеж, Российская империя. Дата смерти: 5 декабря 1993 (94 года)…
Род деятельности: сценарист, прозаик, драматург. Направление: социалистический реализм…”
ВикипедияА я бы написал: “социалистический конформизм”.
Авербах, как настоящий режиссер, знал, где и что искать и как добиваться своего, потому и обратился ко мне, а не к какому-нибудь другому сценаристу. Но я прекрасно понимал, что не могу писать для него, как прежде, как для других. И это, конечно, давило, мучило и мешало. Легко было находить в тексте “кино”, конструировать, монтировать события и эффекты. Но, ох, когда я начал сочинять…
Розанов как-то написал о своем друге, о. Павле Флоренском: “В нем нет «воющих ветров», шакал не поет в нем «заунывную песнь»”.
Аналогии между мной и о. Флоренским, естественно, никакой, кроме имени. Но уж больно хорошо и точно сказано. Так вот, как я ни усердствовал, как ни страдал, ветры не выли и шакал не запевал свою песню. Ничего не получалось. Я не чувствовал радости. А значит, не почувствует ее и Авербах.
Я всегда говорю, что сценарий проходит две стадии. Как сказочный богатырь, разрубленный на кусочки. Сначала его поливают “мертвой” водой и все кусочки срастаются. Но он не дышит, очи его закрыты. А вот спрыснут “живой” водой — богатырь сразу вскочит на резвы ноги и пойдет рубить головы дракону.
С “мертвой” водой был порядок. А вот “живой” у меня не нашлось.
Илья монтировал тогда “Чужие письма”. Было холодно в монтажной. Он сидел на высоком круглом табурете у монтажного стола и слушал, как я читаю. Я читал, как всегда, немного — голосом — играя за персонажей. И чувствуя внутри себя ужасную пустоту и тоску провала. Дочитал. Мы посмотрели друг на друга и все поняли.
— Я знаю, что произошло, — сказал он мне на следующий день. — Тебе мешает старик. Забудь о Габриловиче.
И я забыл. И, может быть, впервые стал самим собой.
“Объяснение в любви”, конечно, было результатом совпадения наших чувств. А что еще может быть необходимее и плодотворнее для содружества режиссера и сценариста? И я до сих пор жалею, что хоть дружба была до конца, а вот содружество больше ни разу не повторилось.
Полноценное ощущение единства с режиссером было, в общем-то, только раз. С Авербахом. И дело не только в том, что мы были близкие друзья и на тот момент он, конечно, был моим вожатым и лидером, поскольку до “Объяснения” я участвовал совсем в другом кино. Главное, что нас объединяло единство чувства, единство цели. Реквием по поколению наших несчастных советских отцов-конформистов. Я работал до этого и с хорошими режиссерами, но каждый раз цель была не настолько безусловная и не настолько личная.
Ведь в некотором смысле я тоже Филиппок.
Был дикий мороз. Он отвез меня в Репино, закатав, как Аркашку Счастливцева, в огромную кожаную шоферскую доху, взятую из гаража Саши Демьяненко. А я вдруг почувствовал какое-то неожиданное освобождение и стал быстро писать. И каждый день — “для тонуса”, — перед тем, как сесть за машинку, прочитывал сам себе стихотворение Мандельштама, каждый день — новое.
А тут Зиночка — героиня — бросила нашего бедного героя — Филипка — ради инженера-путейца. Сценарий уже шел к концу.
Вернись ко мне скорее, Мне страшно без тебя, Я никогда сильнее Не чувствовал тебя. И все, чего хочу я, Я вижу наяву, Я больше не ревную, Но я тебя зову.И до и после “Объяснения” главной моей ошибкой и бедой было то, что я сам выдумываю кино и все начинаю уже как бы с результата, сам заранее проживаю то, что должен был бы прожить режиссер, и не оставляю ему ничего, или очень мало. А тогда я не думал о форме, я совершенно доверился Авербаху. И только потому сценарий, сочиненный заново за две недели в Репине, получился.
В рецензиях на готовый фильм моя фамилия иногда исчезала, а иногда писалось, что сценарий Габриловича. Ну и ладно, меня это как-то не очень волновало. Тем более, что у меня имеется на руках документ, который могу предъявить по первому требованию. Книжка Евгения Иосифовича “Четыре четверти” с его — лестным и очень суеверно осторожным — автографом на титульной странице:
“Любимому и глубоко уважаемому Пашеньке Финну с великой благодарностью за тот непостижимый труд, который он положил на то, чтобы эта книга, возможно и как-нибудь, и при фантастических каких-то обстоятельствах все же — насколько в это можно поверить — увидела свет экрана. Евг. Габрилович. Под новый 1976 год”.
Помните — у писателя Гаршина? Сказка. “Жила-была на свете лягушка-квакушка”. И захотелось ей вместе с госпожами-утками побывать на юге. И придумала лягушка удивительную штуку — две утки по ее указанию взяли в клювы прутик, а она прицепилась за него посередине. И полетели. Молча. Квакать и крякать было строго-настрого нельзя.
— Смотрите, смотрите! — кричали внизу люди. — Экое чудо! И кто это придумал такую хитрую штуку?
— Это я! Я! — не выдержала лягушка. И плюх в болото!
— Это я написал! Я!
Живет, ой живет во мне гаршинская лягушка-путешественница, проведшая остаток своих дней в болоте, а не в небе.
Почему мои демоны никогда не отдыхают?
“Каролино-Бугаз — село в Овидиопольском районе Одесской области, второй населенный пункт из двух курортов Затока”.
ВикипедияУзкая коса между чистым степным морем и мелким Днестровским лиманом. Тогда густо застроенная скромными домиками. Такой домик — на песке и в винограднике — был у Коншина, отца Норы. Туда мы с Ильей прибыли — он с Наташей и маленькой дочкой Машкой. Мы с Норой — с сыном Алёшкой, еще меньше Машки, перешедшим во второй класс.
Мы с Илюшей ожидали решения Госкино по поводу сценария “Объяснение в любви”. А наши дети, Машка и Алёшка, радовались жизни. Но время здесь уже подходило к концу. На смену нам в дачный домик родителей Норы вскоре должны были приехать гэдээровские немцы, семья с сыном-подростком, друзья семьи Коншиных. До этого Коншины были у них в Берлине. Тогда в Одессе была такая мода — ездить туда и принимать здесь.
Глава немецкой семьи — немаловажная деталь — был полковником Генерального штаба ГДР. Сын-подросток, как и полагается, кумир нашего Алёшки.
И он очень готовился к их приезду.
Утром выхожу из комнаты, где мы спали, — маленький Алёшка, очень серьезный, с тетрадкой и карандашом, сидит на ступеньках крыльца. Задумывается и пишет. Что? Рассказ для немецких друзей. Говорю, дай почитать, я не пишу рассказы, но, может, что-то посоветую. Доверчиво протягивает тетрадку. Читаю.
“Шел бурный 1942 год. Войска Первого Белорусского фронта ворвались в Берлин”.
Начинаю смеяться так, что слёзы на глазах. Но слёзы и у него.
Авербах тоже смеялся, но осуждал меня за бессердечие. И потом я целый день заискиваю перед Алёшкой.
Так в нем навсегда погиб литератор.
Весело жили. Но иногда ездили на автобусе в Затоку — звонить в Ленинград Фриже Гукасян, узнавать, как проходит — или не проходит — сценарий в Госкино.
Наконец титаническими стараниями Фрижы — принят! Ура! Это было счастье!
— Хочешь, я покажу тебе, что такое настоящий кадр?
Гоша Рерберг бросил горсть черешни в фужер и плеснул туда боржома. Ягоды мгновенно обросли живыми ртутными пузырьками, фужер стал прекрасен.
— Красиво? И больше ничего не надо!
Гоша снимал тогда для Сережи Соловьева какую-то совместную советско-японскую картину. Кроме нас, в номере была Маша Вертинская. Но ей было не до красоты в бокале. Мы только что пообедали в ресторане гостиницы, и она уже тридцать минут беседовала с Гегелем на философские темы и осуждала его.
Это было в июне 77-го года в Ленинграде, в гостинице “Ленинград”. Через несколько дней я познакомился с Эвой Шикульской, она приехала в гости к своим друзьям-актерам, Алёше и Люде Кожевниковым.
Пробы на роли в “Объяснении” уже заканчивались, а главной героини, Зиночки, у нас еще не было. Уже не помню, как это произошло — то ли я позвонил Илье, то ли мы где-то встретились.
— Это она! — сказал я ему.
И он согласился.
Тогда были белые ночи — романтическое время…
И вот уже июль. Город Николаев. Черное море. Илья и Митя Долинин снимают “кораблик” — для “вспышек памяти”. Митина жена, фотограф картины Лена Карусаар снимает нас с Ильей. Мы сидим с ним на палубе рядом в брезентовых шезлонгах. Илья голый по пояс и в кепке, я с сигарой в руке. Обиженные крики чаек. Мимо нашего борта — в туманном отдалении — медленно и бесшумно проходит сухогруз “Николай Заболоцкий”.
Первый и ощутимый удар мы получили, когда планировалась экспедиция и съемки в Москве. Ведь история Филиппка и Зиночки — совершенно московская. Деревянные Сокольники, родильный дом Грауэрмана, старый — по-настоящему старый — Арбат, Нескучный сад…
Однако в Москве в тот год, в связи с 60-летием Революции, был особый режим — любые съемки запрещены. Илья с Митей и художником Володей Светозаровым замечательно вышли из положения. Нашли в Ленинграде деревянный дом, хоть и не очень сокольнический, но все же допустимый, Нескучный заменили парком на Островах. Но вот с Арбатом вышла неприятность.
Или снилось, или слышал от кого-то, то ли действительно видел наяву?
В 45-м году возвращались в Москву с победой. По булыжникам Арбата цокали копыта — подбоченясь, лихо заломив кубанки, шла конница. Счастливые, молодые, победители. Как видение, постоянно возникало это у меня в душе. Что ж удивительного? 40-й год рождения. Война и до сих пор не отпускает.
И еще у меня это всегда рифмовалось с другим возвращением — после войны с Наполеоном. Счастливые, молодые, победители. Будущие декабристы. И тогда, и через сто с лишним лет с одной надеждой — теперь все будет по-другому.
Надежда не оправдалась. Собственно, именно это и было зашифрованным смыслом придуманного — или приснившегося — любимого эпизода.
“Вслед за конниками, в колонне машин, медленно двигался открытый «виллис». Рядом с водителем сидел краснолицый, темноволосый полковник с фляжкой в руке. Сзади помещался Филиппок, в гимнастерке, с орденом Красной Звезды, медалями и двумя нашивками за ранения.
Машина свернула с Арбата в переулок и затормозила у большого серого дома.
— Вы понимаете, капитан, что произошло? — вдруг серьезно сказал полковник. — Кончилось. Все кончилось. И теперь все пойдет по-другому. Вот так-то! Ну, привет жинке.
— А у меня нет жинки, — сказал Филиппок.
Он вышел из машины. Полковник протянул ему флягу, потом выпил сам. Встал, обнял Филиппка, поцеловал и сказал:
— Пока, солдат”.
Надежды не оправдались и у нас. На ленинградских улицах снимать этот эпизод было невозможно, мы это понимали. Но так привыкли к нему, что отказаться от него — от этих слов — казалось тоже невозможным.
В тоске сидели у Ильи. Вдруг он сказал:
— Давай позвоним Лёшке. Он все знает про это.
Герман только что закончил “Двадцать дней без войны”. Мы уже посмотрели и каждый день — еще и с Арановичем — говорили о картине, обсуждали и восторгались — в целом и по частям. Режиссер Герман очень много значил для этих двух режиссеров. И для меня.
А для Ильи вообще самым трудным и нелюбимым было — снимать войну.
Он набрал телефон Алёши и объяснил ему наше положение.
Пять или десять минут на размышление попросил Алёша? И потом позвонил. И “выдал” эпизод. Который и был снят. Пожалуй, только Герман, мгновенно, как факир, мог достать кино из своих драгоценных запасов, таких живых и ярких, как будто бы он делал их сам — на великой войне.
Военный аэродром. Подлетает “дуглас”. Подъезжает большая трофейная машина, “хорхь”, кажется. Два офицера выносят из нее стол, накрытый белой скатеркой и уже с закуской, ставят на него водку, шампанское. Молодуха в красном берете играет на аккордеоне встречную музыку, марш.
“Дуглас” сел. Из него, счастливо улыбаясь, лезут офицеры и их ППЖ. С ними полковник и Филиппок. Объятия, поцелуи, кружатся в вальсе. Филиппок, один, скромно уходит по полю. Полковник догоняет его — с водкой, чокается и говорит всё те же — важные для нас — слова, что и на Арбате: “Кончилось. Все кончилось. И теперь все пойдет по-другому”.
Снято и сыграно это гораздо лучше, чем сейчас мной рассказано.
Однако этот удар был ничто по сравнению с тем, что ожидало нас, когда картина была готова и когда начальство должно было ее обсуждать и принимать. Или не принимать. А кто из нас тогда не ожидал именно этот вариант?
Драматургия того периода нашей жизни и судьбы картины восхитительна своей совершенной неожиданностью и решительными поворотами. Во-первых, вопреки всем законам она началась сразу же со счастливого конца. Таких восторженных слов от редактуры Госкино я не слышал больше никогда — ни до, ни после. Даже был намек на возможность Государственной премии. Конечно же — и это самое удивительное — главным дирижером послушного хора похвал был сам Павленок, первый заместитель министра.
Счастливые, мы шли с Ильей пешком с Гнездниковского на Васильевскую. В ресторане нас, волнуясь неизвестностью, ждали Наташа Рязанцева и Володя Валуцкий. Мы им рассказали — они не поверили.
И правильно сделали.
Монтаж. Титр: “Прошло две недели”.
Тот же кабинет Павленка, те же персонажи — редактура — за большим столом для совещаний. Но уже говорят они — к нашему изумлению — всё резко противоположное отзывам двухнедельной давности. А Павленок так возмущен картиной, что решительно встает со своего председательского места — он спешит в ЦК — и больше ничего не хочет обсуждать. Картина не принята. Надевая возле вешалки пальто, бросает брезгливо:
— Если бы я встретил вашего Филиппка на фронте…
В ресторан на этот раз мы с Ильей не пошли.
Монтаж. Флешбэк. Смольный. Горком КПСС. Кинозал.
Главное действующее лицо — бывший счетовод колхоза “Первое мая”, а ныне Первый секретарь горкома Борис Иванович Аристов. Смотрит наше кино — так тогда полагалось в Ленинграде. Авербах не приглашен.
Разгневанный, выходит из кинозала, идет в свой кабинет, звонит Председателю Госкино Филиппу Тимофеевичу Ермашу. Тот немедленно вызывает Павленка. Тот сразу же собирает редакторов, и они вызывают нас.
И ведь от чего порой зависит судьба — как от знаменитой бабочки Бредбери! На другой день после просмотра Аристова, которого так разгневал наш герой, жалкий интеллигентишка, — снимают. И он, как написала бы Надежда Яковлевна Мандельштам, “планирует” в Варшаву — послом.
А если бы просмотр в горкоме был назначен на день позже? Ах, это вечное — если бы да кабы! Грибы во рту не растут. Бабочка попала под сапог.
Павленком дело не ограничилось. Вызывают к министру. Для прикрытия зовем с собой Габриловича. Старик замечательный товарищ — ведь мог и не пойти.
Я первый раз у министра. И это даже вызывает у меня некоторую гордость и самодовольство. “В последний раз, когда я был у Ермаша…”
Министр милостиво вежлив и приятен в обращении. Особенно с главным советским сценаристом. Но постепенно, заглядывая в бумажку, обрушивает на нас поток замечаний — то возмущенных, то иронических.
— А уж крымский татарин для чего вам понадобился?
Господи! Какой еще татарин? А вот какой! Полуразличимый, он — секунды две на экране — везет Филиппка в телеге на пляж в Коктебеле. И на нем, к нашему несчастью, тюбетейка!
— И как он углядел эту чертову тюбетейку? — потом мрачно удивляемся мы с Авербахом в кабинете Главного редактора Даля Орлова, где получаем сорок пять поправок. Сорок пять!
— На то он и министр! — с восторженным трепетом отвечает Даль Орлов.
А министр особенно беспокоится по поводу татарина. Но, слегка третируя нас с Авербахом, словно малолетних шалунов, обращается к Габриловичу, старому и мудрому и, как он считает, политически подкованному:
— Вы-то знаете, Евгений Иосифович, какой злобный вой поднят “голосами” по поводу Джемилева и всей этой высосанной из пальца проблемы!
— Что вы говорите! Не может быть, — в изумлении ужасается старик, который, начиная с 45-го года, каждый вечер исправно слушает “Голос Америки”.
С невинным татарином было легко — дело одной “склейки”. Гораздо хуже и тяжелее было с эпизодом второй командировки Филиппка. У нас он проходил как “эпизод с Мандельштамом”.
Степь, предгорье. Кадр восхитительный — волшебная Митина камера. На очень дальнем плане — в вечернем сумраке — белая, движущаяся по склону масса — отара овец. Горит костер, возле него Филиппок — с блокнотом и карандашом — слушает наивную и искреннюю речь передовой девушки Масленкиной.
Чумазый бродяга из темноты прибивается к костру, жадно скребет грязными пальцами кашу из котелка, дико и презрительно смеется, читает стихи Гёте. Потом у костра остановятся два верховых чекиста, и мы поймем, что бродяга-интеллигент — условно названный нами “Мандельштамом” — бежал из лагеря.
Поймем мы, авторы, не зритель. Потому что зритель это никогда не увидит.
“Вырезали” чекистов, изменив структуру эпизода, его смысл, да и весь ритм второй части “Объяснения”. И всё же талант Илюши, несмотря на все уроны, сделал картину. Живет до сих пор. Сорок лет.
Предисловием к “Объяснению” был в некотором смысле “Монолог”. Но в новой картине было гораздо больше свободы и поэзии. Хотя тот же принцип обращения с временем — музыкальный. Да и Филиппок, в общем-то, дальний родственник академика Сретенского. Как, кстати, потом Фарятьев.
И еще один странный знак в финале “Монолога”, который я тогда — по неведению будущего — таковым не воспринял. Прелестное лицо девочки, всю жизнь любившей героя и явившейся ему в видении. Только потом я понял, что это была тайная иллюстрация к пророчеству Саши Пятигорского в метро:
— Паша! У вас скоро все будет по-другому. И в работе, и в любви. Вот увидите.
Я всегда был убежден, что мистика — это на самом деле двойник — другое “я” реальности, таинственная метафора человеческого существования с его неосознанными и осознанными — невысказанными — желаниями и надеждами.
78-й год, январь. По дороге в аэропорт обледенелые березы, как облако дыма. Летим с Ильей от “большого” Союза на пленум таджикского.
За два дня до этого на Васильевской в Комиссии по художественному кино Нора Агишева, заместитель Председателя комиссии С. А. Герасимова, властная красавица, моя приятельница и жена моего товарища Адика Агишева, оформляет нам командировку в Душанбе.
Через час, сделав еще какие-то дела, спускаемся с Ильей по лестнице в вестибюль. Мы с Ильей наверху, на площадке, внизу сам Сергей Апполинарьевич и Нора. А между ними и нами — на середине лестницы — очень мрачная и сердитая девочка четырех лет и ее мама, прелестная молодая женщина. С лицом из снятого Авербахом чудного видения в финале “Монолога”.
Герасимов смотрит на девочку:
— Так это и есть знаменитая Катя?
Нора счастливо улыбается. А девочка не обращает на Народного артиста СССР никакого внимания.
И в этот момент ни я и ни один человек на всем белом свете не знают, что ее мама через полгода будет моей женой, а сама сердитая девочка Катя — моей любимой дочкой.
Не представляю, что было бы со мной, если бы жизнь моя не переменилась так круто и так поразительно.
“Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить…”
Борис ПастернакЖизнь наша, хоть и не без радостей порой, вообще-то, довольно печальная штука, и с этим ничего не поделаешь. Илья чувствовал — как Мандельштам — “невыразимую печаль” бытия. Вдруг — в разговоре, в застолье — задумается, вздохнет — необъяснимо…
С одной стороны, для нашего брата печаль, так сказать, продуктивна. Что без нее искусство? Пища без соли. Поэзия и музыка знают это лучше других. Но и кино — хорошее — без этого не обходится.
Печально, что старый Сретенский не встретил — несмотря на фамилию — свою единственную любовь. Печально, что оторва Зинка Бегункова никогда не поймет, почему нельзя читать чужие письма. Печально, что Зиночка Филипка все-таки не любила. Печально, что Фарятьев остается таким бесконечно одиноким. Печально, что актриса Мартынова не озвучила свою последнюю роль своим голосом.
Он никогда не изменял своей сверхзадаче, с которой начинал. Но при этом вовсе не был чужд этакому восторженному визионерству. Только мне предлагал — “Восторг! Восторг!” — рыцарей Круглого стола, велосипедистов-шоссейников, великолепную семерку баб в Гражданскую войну. И — уж совсем невероятно — каких-то фантастических полулюдей-полусобак. Или полусобак-полулюдей.
А закончил в кино тем, с чего начинал.
“Степень риска” — врачи, больница, смерть.
“Голос” — больница, смерть.
Случайное рондо? Или все-таки запрятанное в подсознание предчувствие?
Врачи, больница, смерть.
Любимое Ильюшино — Ходасевича:
Пробочка над крепким йодом! Как ты скоро перетлела! Так вот и душа незримо Жжет и разъедает тело.Страх смерти рождается вместе с человеком и сопровождает его всю жизнь, как тень. Страх, что кто-то придет незваный, нежданный, легко откроет запертую дверь и безошибочно найдет тебя, куда бы ты ни спрятался от его шагов — под кровать или в шкаф. Как в детстве.
Говорили мы с Ильей о смерти? Наверное, да. Шутили. Лучше шутить. Тогда не так страшно?
В “Объяснении”, для сцены, где старший умирает от раны на руках у младшего, я написал для Гладышева, которого играет Лавров, такую реплику:
— Ужасно… ужасно умирать не хочется.
Ни много ни мало прошло — восемь лет — после нашего возвращения из Душанбе, где Илья, никогда до этого не бывавший в Средней Азии, научился говорить “канфет-манфет” и “культур-мультур”. 1983 год. И мы с ним снова спускаемся по лестнице в Союзе. На этот раз он идет в комнату Бытовой комиссии за путевкой в Карловы Вары. Он в последнее время чаще жаловался на “брюхо”. И уговаривал меня ехать с ним.
— Карловы Вары! Восторг! Пауль! Попьем водички!
Но я не поехал. С ним поехала Наташа. На поезде. И как только они расположились в купе, ему стало плохо.
Много лет спустя я прибыл в Карловы Вары — на фестиваль. С фильмом “И не было лучше брата” по повести Максуда Ибрагимбекова. Вместе с Мурадом Ибрагимбековым, режиссером, и Рустамом Ибрагимбековым, продюсером. Для совершенства стиля мне бы тоже следовало на время взять фамилию Ибрагимбеков.
В курортной суете и пестроте чудного городка толкался на набережной реки среди важных, толстых жен арабских шейхов и соотечественников, выходивших из самых дорогих отелей, которым и пяти звезд мало. И старался представить, как здесь же проходил Авербах. Но сразу же останавливал воображение, вспоминая, что он почти все время пребывания пролежал под капельницей.
Вернулись они из Карловых Вар. Мы с Ириной поехали на Звездный бульвар, в Наташину квартиру. Есть настоящие спагетти с настоящим пармезаном. Илья был желтый и худой. На следующий день — по знакомству — ложился на обследование в закрытую больницу, преобразованную из медсанчасти Курчатовского института.
Мы довольно бодро обсуждали за столом возможности этого обследования и склонялись к тому, что это — в худшем варианте — воспаление желчного пузыря. Я еще не знал, что, когда ему стало плохо в поезде, он — врач Авербах — поставил себе диагноз. Но не хотел в него верить.
Тогда — осенью 85-го — я видел его в последний раз. А голос в последний раз услышал, когда он позвонил из больницы накануне первой операции.
И все, и больше никакого доступа — для друзей. И все окружено тайной.
Семен Аранович, Андрей Смирнов, Митя Долинин — мы все с ума сходили, пытаясь узнать, понять. Но нам ничего не говорили. Наконец мы с Андреем Смирновым, не выдержав, поехали к Юлику Крелину, хирургу и писателю, общему другу.
Диагноз, который Илья поставил себе в поезде, оказался правильным.
Теперь я знал — он борется со смертью. И представлял это буквально — эту страшную борьбу, — со всем лаокооновским напряжением его могучего торса.
И я ненавидел его смерть. Бессильно и безнадежно.
Невесело встретили новый 86-й. 9 января я был в Ленинграде, приезжал подписывать договор на “Городок”. Уехал в Москву и вернулся с Ириной уже через пять дней — хоронить.
Открытый гроб стоял на центральной аллее комаровского кладбища. Недалеко от могилы Ахматовой. Мы все молча вокруг. Шел тихий снег. Прилетевший накануне из Грузии бывший “курсант” Эрлом Ахвледиани и моя жена Ира положили на грудь Ильи, под пиджак, его крестильный крестик.
Эрлом, до конца дней считавшийся в Тбилиси чуть ли не святым, кажется, и крестил Илью, когда они с Лёшей Германом были в Грузии.
В июне, в Старой Руссе, когда ливень и ветер обрушивали за окном гостиничного номера ветви и листья деревьев, он вдруг пришел ко мне. Я случайно в этот миг включил телевизор, не зная, что по ленинградскому каналу идет документальный фильм Ильи — его последний фильм — “На берегах пленительных Невы”.
А там мальчик — белой ночью — в комнате со старой мебелью и эркером учит наизусть пушкинские строки и пьет молоко из стакана. И уж такой он авербаховский мальчик, как будто это он сам, как будто это воспоминание о его детстве.
Как мой Сашка из ненаписанного романа?
Только для одного шелестит и шепчет темный мир вечернего Подмосковья и матово, душно пахнет табак в саду. А для другого шуршат велосипедные шины по песку взморья и пленительно-равнодушно плещет на берег балтийская вода.
Из письма Ильи Авербаха
Так хочется ехать куда-нибудь, далеко-далеко, и совсем не знать, что там будет. Что-нибудь совсем другое, чем мы даже предположить можем. Восемь чувств и луг в кашке…
Глава 8
И как ни жестоко сказать, самые неблагоприятные условия — быть может — самые благоприятные. (Так молитва мореплавателя: “Пошли мне Бог берег, чтобы оттолкнуться, мель, чтобы сняться, шквал, чтобы устоять”).
Марина ЦветаеваВнезапно возникает предчувствие начала — берег, с которого срываешься и плывешь, не умея плыть. Вдруг молитва сама шепчется, пальцы сами складываются в горстку… Видать, душе так надо было. Или ангел-хранитель надоумил?
Что он вообще думает обо мне, мой ангел-хранитель? Кстати, они — в течение жизни — как-то меняются на посту? Один сдает — в детстве, другой принимает в молодости. И сопроводиловка: “Неустойчив. Жаждет любви”.
Господи! Посылаю тебе эсэмэску: “Сохрани мою речь навсегда…”
С ума сошел? Да кто ты такой? И слова-то не твои — чужие, не тебе чета. Своего-то ничего придумать не смог, с чем обратиться по такой инстанции? Да что за речь твоя такая, чтобы сохранять?
Ладно! Понял! Согласен! Тогда так: “Бог с ней, с моей речью! Сохрани мою любовь навсегда!”
Но что такое любовь?
Город, и ты мечешься — без любви, без сочувствия, без благодати — петляешь, кружишь, как в лабиринте. Выход? Где выход? Телефон-автомат — холод московский, пальтишко на рыбьем меху — и ты позвонил, и пришел, и делаешь вид, что влюблен, — с ледяными ногами — и ты влюблен потому что делаешь вид, и ты не влюблен, и в отместку не получаешь того, чего жаждешь. Ждешь. А чего ты ждешь? Тепла? Наслаждения? Чего?
“Я покорно подставил себя потоку мыслей, охотно прислушиваясь к тем пестрым сказкам, которыми в моей груди зачаровывали мои чувства неотразимые сирены — вожделение и воображение”.
Фридрих ШлегельИ все же — что такое любовь?
Мама — знала?
“Может быть, моя любовь слишком велика и слишком требовательна для тебя. Быть может, так чувствовать, как я, ты не умеешь или не можешь в отношении меня. Быть может, есть кто-то другой… да, я ревную и не боюсь говорить тебе об этом. Если б ты не был для меня всем в жизни, я могла бы притворяться, молчать и не открывала бы все свои карты, зная, что приношу себе вред. Ответь… прошу тебя, ответь раз в жизни так, чтобы я поняла, почувствовала, что́ я для тебя значу в жизни, а если уже ничего не значу, то и это, чтобы я знала. Ты можешь сказать, что я пишу тебе так, как будто мы с тобой только недавно полюбили друг друга и я еще сомневаюсь в тебе. Но я тебя люблю действительно так, как будто только вчера узнала тебя, и ничего сделать с собой не могу, хотя и хотела, может быть, чтобы было иначе. Что делать мне с собой, если ты околдовал меня так, что я только и вижу тебя, только и слышу твой голос?”
А тут, как на грех, еще и я, маленький засранец, постоянно путаюсь со своими обидами, ревностью и ненавистью. И неожиданная мысль — сейчас. Может, я был не прав — тогда? Может, это я во всем виноват?
Ответа не будет. Поздно.
Наброски из ненаписанного романа
И тогда Сашка понял, что он не может больше так жить.
— Мама! — громко и отчаянно.
Он стоит посреди комнаты — в центре всей мизансцены. Борис все еще стрижет когти, поставив ногу на Сашкину кровать. Кухонное место, где на табурете пыхтит керогаз, отгорожено занавеской на колечках, за ней — как всегда, растерянно и неумело — готовится еда.
Мама, услышав голос Сашки, отодвигает занавеску. Ее лицо с голубыми глазами. Она смотрит на мужа и сына и еще не знает, чем грозит ей отчаяние в его голосе. Но ей уже страшно, и она улыбается, как будто хочет соединить их этой беспомощной, вопросительной улыбкой.
Черт возьми! Какой кадр!
Надо вообще заметить, не очень, правда, к месту, что “черт возьми” мы произносим с такой же легкостью, как и “боже мой”.
Наброски из ненаписанного романа
Борис тоже смотрит на Сашку. С интересом — веселым и опасным — что последует за этим возгласом доносчика-пасынка? И уже — внутренне — совершенно готовый к разоблачению, он уже знает, что́ соврет. И знает, что она ему поверит, не веря. Захочет поверить.
Сашка молчит, отводит глаза. Борис молчит, обаятельно улыбаясь. Подмигивает Сашке. Как сообщнику. Мама — снова к керогазу, за занавеску. Борис аккуратно собирает с простыни обрезки ногтей — желтоватые серпики — в ладонь. Один такой все-таки падает на пол.
Крупно — деталь: ноготь врага!
Сашка, конечно, не мог тогда так думать, так думаю я — сейчас. Кино всю жизнь держит меня за горло. Мизансцена, кадр, деталь! И сразу же понимаю, почему роман не закончен. Нет, не так! Почему не написан. Ничего не могу с собой поделать, как бы половчее ни расставлял слова. Вижу, слышу, развожу персонажей в кадре — и не более того. И монтирую — всё со всем…
Наброски из ненаписанного романа
Маленький, мощный, квадратный генерал в распахнутой шинели, надевая нарядную фуражку на белую голову, идет навстречу Борису через двор, и солнце сияет на его золотых плечах. Сашка видит в окне — они останавливаются, говорят. Борис из двора — на улицу.
И сразу же:
— Мама! Он не любит тебя! Мама! Я видел его и Таньку! Я видел, как он и Танька в гримерной…
— Ты злой мальчик! Я тебе не верю! Уйди!
“Неправильный монтаж, скачки как выразительное средство съемки”.
Занятия по монтажу, задание Владимира ФенченкоЗапись 2016 года
Остров Крит. Таверна красавца Яниса — с симпатичным, хорошо воспитанным — домашним — петухом по имени Пипос. Наша спутница гречанка Алексия рассказывает. Когда умирает человек, на его могиле рассыпают зерна, прилетают маленькие птички и уносят душу на небо. И еще надо оставить монетку. Для Харона.
Я вижу их, этих маленьких пестрых птичек. Типа колибри. Я вижу, как, часто трепеща крылышками, они уносят — всё выше, выше — твою легкую душу, мама. Твою любовь. Твои страдания. Ведь душа и есть любовь. Страдания и есть любовь. А монетку я не положил. Пожалел?
— Харон! Перевези мою маму бесплатно! В кредит. Заплачу, когда будет мой черед. Я за всё заплачу.
“Настоящий поэт во все времена сам был факт.
Задача поэта — показать и доказать, что он есть факт и кусок реальности. Самому быть фактом и создать пространство для этого в своих произведениях — вот что делает человека хорошим автором”.
Альфред ДеблинНаброски из ненаписанного романа
Багров закат, и бурно море. О скалы грозные дробятся с ревом волны (“Песня Варяжского гостя” из оперы “Садко”). Сашка, за руку держа Гертруду, не чающую беды, ведет на площадь Эльсинора.
Крошка ласточка, выклевав драгоценные глаза Счастливого принца, кружит вокруг его слепой головы. И Звездный мальчик жестоко гонит свою мать-нищенку. А уж у подножия статуи Принца сбираются ныне, кривляясь, лицедеи — знатная будет здесь мышеловка. С большущим куском сыра.
Сашка — внутри себя, в груди, высоким слогом:
— О сердце, не утрать природы; пусть Душа Нерона в эту грудь не внидет; Я буду с ней жесток, но я не изверг; Пусть речь грозит кинжалом, не рука; Язык и дух да будут лицемерны; Хоть на словах я причиню ей боль, Дать скрепу им, о сердце, не дозволь!Бесенята — черные пятки — шасть вослед. Сашка — легкая жертва. Однако, королеву рядом увидав и удивившись злобно, — отстают. Клавдий, прилюдно постригши когти на ногах и обаятельно улыбаясь, уж восседает. Король, блин! И Танька, предательница, уж тоже тут как тут, голыми коленками сверкая. Под звуки лихих трубачей.
Сашка — сжимая Гертруды руку в своей руке:
— Пусть речь грозит кинжалом, не рука…
— Все! Пора! Начинаем представление! — Танька! Ступай в монастырь! — Король встает! Глядите! Король встает! — Что с вашим величеством? — Прекратите игру! — Дайте сюда огня! Уйдем! — Олень подстреленный хрипит!— Ты злой мальчик! Я думала, у тебя есть душа! Зачем ты разбил мне сердце?
Сашка никак не мог понять, как из плохого получается хорошее, и наоборот. Это ведь как с болезнью. Болеть плохо, но тогда мама чаще сидит рядом и укутывает, и целует, и дает книги, и поит горячим молоком из чашки-души. Борис изменил маме — подлость, предательство, плохое. Но как только Сашка откроет ей глаза, они уедут в Москву, к отцу, и это будет хорошо для них.
Но в этот раз все вышло очень плохо. Он предал Бориса. Мама предает его.
И это все — любовь.
И нужно было ему долго переходить поле, бродить по лесу среди чудищ и химер, чтобы наконец понять это.
А какой была ее любовь к Сашке? Она никогда не выражалась так уж очень откровенно — с сильной лаской, со сладкими словами и поцелуями, — она была такой же мягкой, как и сама мама — и чуть, наверное, холодновата.
Нет, скорее, другое слово — виновата.
Через много лет она просила прощения у него за то, что ввергла его в эту жизнь. Но ведь, собственно, эта жизнь и была для него благом, она-то и сделала его тем, кем он стал. Хорошим или плохим — это уж другое дело, но — стал. И всё же — хоть и босыми ногами по снегу — но перешел поле. И вышел из леса.
Осень 77-го года. Я впервые за девять лет — после Югославии — попросился за границу. В Италию. Первый и последний раз в туристическую поездку. Для творческих союзов это, кажется, именовалось “спецтуризм”. На самом деле никакого “спец”. Собирали членов Союза из всех республик, они платили сколько положено, и это уже именовалось — делегация.
Перед поездкой, даже туристической — по тогдашним славным правилам, — нужно было пройти несколько фильтров. Сначала партком нашей сценарной комиссии, потом, кажется, Секретариат Союза, потом комиссия старых большевиков при Краснопресненском райкоме партии.
Я, как беспартийное лицо еврейской национальности, да еще с подмоченной репутацией неутомимого завсегдатая ресторана на четвертом этаже, имел все основания волноваться: выпустят, не выпустят. Как на ромашке гадать.
Тем более, фон был не слишком благоприятный. Из той же самой, будь она неладна, Италии только что сбежал — почему-то в Африку — некий член нашего Союза, тоже драматург, стойкий, проверенный парень и молодой коммунист.
Родной сценарный — домашний — партком я прошел довольно легко, меня здесь знали как облупленного. Но секретарь парткома Паша Котов, отставник, полковник, политработник, подписывая мне какую-то бумагу для представления в райком, обронил несколько двусмысленно: “Ну-ну! Попробуй”.
Вот я и пришел — пробовать — в Краснопресненский райком. Передо мной проходили комиссию совсем молодые ребята-музыканты. Им срочно надо было выезжать в Бельгию на какой-то ответственный конкурс. Вошли и вскоре вышли в печали, растерянности и даже в слезах. Срезались скрипачи на национальном секретаре Итальянской коммунистической партии.
Я-то знал, как зовут секретаря, и был готов лихо произнести его заплетающую язык фамилию — Берлингуэр. Больше того, я знал газету “Унита”. Но как только я переступил порог комиссии, от ужаса забыл всё. На меня сурово смотрела комиссия — два старика и одна старуха. Они только что узнали из моих бумаг, что я не просто Финн, а еще и Финн-Хальфин.
Илюшу Авербаха очень смешила одна моя шутка. Я говорил, что все-таки лучше было бы, если бы в моем советском паспорте — серпастом, молоткастом — было написано так: национальность — финн, фамилия — Еврей.
Признавшись в том, что я Финн-Хальфин, и пролепетав объяснение этому роковому обстоятельству, я мучительно пытался вспомнить национального секретаря. Но тут вдруг один из стариков просиял улыбкой.
— Это правда? — спросил он, глядя в мою анкету. — Это правда, вы написали “Всадник без головы”?
Я так хотел в Италию, что был готов немедленно признать, что — да, это я под псевдонимом “Майн Рид” в 1865 году написал известный и любимый многими поколениями советских детей роман. Однако все сразу же прояснилось. Повернувшись к старой большевичке и продолжая радостно улыбаться, старик сказал:
— Внучек мой три раза смотрел, меня, паршивец, заставил в кино сходить, — и перевел на меня взгляд. — А вы что ж, товарищ Финн-Хальфи́н, и с самим Олег Видовым знакомы?
Так что, можно сказать, в Италию я въехал в седле крапчатого мустанга.
Он мне звонил не так уж давно. Олег Видов. Из Америки. Я там его уже встречал в Лос-Анджелесе — когда-то — в один из моих прилетов.
А теперь — он посмотрел по какому-то русскоязычному каналу фильм “Подарок Сталину” и позвонил. Долго говорили, долго вспоминали. А в конце разговора он сказал, что неплохо бы нам сделать продолжение “Всадника без головы”.
Чтобы он опять играл Мориса Джеральда?
Как видение… Лодка, нагруженная зеленью, овощами, фруктами, подплывает к городу по черной воде Канале Гранде. Венеция. 1977-й год.
Из записей 77-го года
Во Флоренции вдруг кажется, что тебе доступна разгадка великой живописи. Стоит только направить взгляд из окна галереи Уффици вдоль реки и через все мосты — на выпуклую синеву лакового неба, на волнистый горизонт и маленькие черные деревья.
Кажется уже, что и не было этого никогда, и от всей Италии остались теперь только квадратный дворик в соборе Святого Виталия в Болонье, прохладный и сладостный запах всех соборов и священник в Ватикане, который, разведя руки, как на кресте, читал что-то монотонно, спиной к верующим.
Может быть, та улица в Венеции, где был тот волшебный магазин, освещенный виноградным светом, в котором я рассматривал какие-то прелестные цветные — розовые? — светящиеся — вещицы, та улица, которую я так и не смог до конца увидеть в своих снах, и есть — рай?
Потом я не раз был в Венеции и все искал и так и не нашел эту улицу-рай и этот магазин. А тогда — в 77-м, на мосту Риальто — на жалкие туристические копеечки, они же — лиры, я приобрел вожделенную джинсовую курточку. А в 78-м — эту курточку, проснувшись, надевала моя любовь…
Так вот — о любви.
В 78-м году мы с Норой меняли квартирку на Сиреневом бульваре, полученную от военного ведомства, безжалостно разрушившего мое родовое гнездо на Фурманова. Кто-то пытался безуспешно препятствовать сносу — все-таки некоторым образом памятник культуры. Андрей Белый, Булгаков, Мандельштам… Пофиг, как сейчас говорят. Живые генералы главнее мертвых поэтов.
Подвернулся случай, по знакомству. Менялись не куда-нибудь — на Арбат, еще, к счастью, не “Старый”. Точка обмена — как раз на пути от “гнезда” до “бабушкиного дома” на Смоленской, где Гастроном № 2.
“Случайность, таким образом, это механизм, ведущий себя так, как если бы он имел намерение”.
Анри БергсонПересечь — с Фурманова — Сивцев Вражек, пройти по Филипповскому — мимо любимого пункта сдачи стеклотары, мимо церкви, где служил мой однокашник — с первого по десятый — Славка Овсянников, и где через девятнадцать лет будут отпевать маму. Повернуть налево на Большой Афанасьевский и еще раз налево — уже на Арбат. Третий дом от угла — дом 23.
И, конечно, выпить — наискось через улицу — стакан томатного сока в “Консервах”. Тетка-продавщица — за одиннадцать копеек — нацедит из конуса и вовремя повернет крантик, чтобы не через край. Теперь соли, перца туда поболе, и взболтать, вскружить алюминиевой гнущейся ложечкой — долго, — оттягивая блаженство похмелья…
“Гостиница Ечкина на улице Арбат, 23 — история.
В 30-х годах XIX века на месте нынешних владений на Арбате находился собственный дом Д. Н. Бантыш-Каменского. Помимо прочего, ему принадлежит авторство пятитомника «Словарь достопамятных людей Русской земли» и двухтомника «Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов»”.
ВикипедияЕсть у меня такой двухтомник, есть! Стоит между “Греч Н. И. Записки о моей жизни. Издание Academia, 1930” и “Фонвизин М. А. Политическая жизнь в России. Типография Русского товарищества в Москве, 1907”.
“…В 1841 году в особняке поселился А. С. Хомяков с семьей. Алексей Степанович был поэтом, публицистом, философом, художником и богословом…
…В 1902 году владения на улице Арбат выкупает предприниматель А. К. Ечкин и финансирует на этом месте строительство гостиницы.
Четырехэтажное здание было построено в модном тогда стиле модерн. Фасад был эффектно декорирован лепниной и различными металлическими элементами. Бывшая гостиница Ечкина относится к памятникам регионального значения”.
ВикипедияОднако Википедия легкомысленно умалчивает об историческом факте, выходящем за пределы регионального значения. В году, кажется, 62-м в доме 23 поселились Г. Ф. Шпаликов и Н. Б. Рязанцева. Сняли большую комнату в коммунальной квартире на четвертом этаже, населенной почему-то преимущественно веселыми и суетными тетками-еврейками.
Именно в той комнате — под высокими потолками — собирались мы часто — шумно, хмельно и дружески. Именно там висела на стене подаренная мне Беллой Ахмадулиной фотография Пастернака, которую спер у меня Генка.
Именно там — в коридоре, рядом с сортиром, висел список дежурств коммунальных жильцов по уборке этого интимного помещения. Но после того, как из ближнего телефона-автомата позвонил Митя Федоровский, наш друг, оператор, и, представившись сотрудником шведского посольства, на ломаном английском сообщил насмерть перепуганной соседке, что мистер Шпаликов удостоен Нобелевской премии по литературе, данный мистер из списка сортирных дежурных был удален. Временно.
И именно в этом коридоре я, как-то уходя, открыл дверь пришедшему навестить больную Наташу нашему тогдашнему другу Юре Осипьяну, будущему вице-президенту Академии наук СССР. Это было как раз перед тем, как расстались, развелись Наташа и Гена…
Вот какой этот дом номер 23.
Я прожил в нем ровно три дня.
Новая квартира была довольно странная, скорее то, что сейчас называется “студия”. Вход со двора, цокольный этаж, с улицы в этом этаже — магазин “Галантерея”. Потолок высокий, даже есть антресоль с лестничкой. А окно чуть выше уровня двора.
Жилье это — до нас — принадлежало подруге известного всей Москве музыканта-аранжировщика. Кажется, она где-то танцевала, и, судя по всему, детство и юность — арбатские — были у нее веселые. Перебираясь на Сиреневый, она беззаботно оставила на антресоли груду хлама, и в нем — письма.
И это был истинный клад.
“Здравствуй, дорогая Людочка. Я очень соскучился по тебе. Днем и ночью вижу твой образ”.
“Дорогая Люда! Ты мне очень нравишься. Одним словом, если можно так сказать, то я тебя люблю. Я изменил всему закону. Я поклялся брату, что мне ни одна девчонка до его прихода не понравится. Но я не стерпел. Жду ответа. Володя”.
“Внучке от бабушки. Пусть цветет наша дружба так тихо с тобой, как во ржи василек голубой. Твоя бабушка Оля”.
“Грозное море грохочет, Камни срывает со дна, Как будто сказать оно хочет: Таня плюс Люда = друзья”.Стишок этот я использовал потом в сценарии “Дом на косогоре” “по мотивам” очерка Ольги Чайковской, замечательной женщины, с которой я дружил.
Вместе со сценариями Юры Клепикова, Саши Червинского и Андрюши Смирнова он попал в перечень запрещенных Госкино к производству. После нашего 5-го съезда все они были разрешены. Мой “Дом на косогоре”, как и полагается изменившись, к моему неудовольствию, превратился в фильм “Случайный вальс” (режиссер С. Проскурина).
“Люда, такие письма короткие не пиши! Потом, ты пишешь с ошибками. Наверное, от волнения. Полюбила другого, а от меня скрываешь, ты скажи”.
“Твою соседку я похороню — дуру”.
“У меня все хорошо, в общем, отлично”.
Вот этого про себя сказать, лежа в июне 78-го три дня на антресоли, как Илья Муромец на печи, я не мог. Работать там было невозможно, и я перебрался в Матвеевское, в Дом ветеранов кино, где рядом с ветеранами чаще всего находили приют и письменный стол братья-сценаристы.
Вообще, эта “студия” как бы венчала некий квартирный сюжет моей жизни определенного периода. Он начался на улице Фурманова в доме 3/5, продолжился на Сиреневом бульваре и в Текстильщиках и завершился на Арбате, когда я навсегда покинул дом 23. Следующий, резко отличающийся от всего прежнего, сюжет еще впереди, и мы понемногу к нему приближаемся.
Потом в арбатском доме я все-таки бывал — редко, — когда Нора привезла из Одессы одиннадцатилетнего Алёшку и я приходил с ним “посидеть и уложить”, если он оставался вечером один. Несчастный, испуганный и одинокий мальчик, оторванный от своей любимой бабушки, от своего мира. И как же он не похож на нынешнего Алексея Павловича — красивого, могучего спортсмена, чемпиона, охотника, очень толкового бизнесмена. Моего любимого сына и друга.
И до сих пор терзает меня наша — нет, в большей мере все-таки моя — вина перед его детством. И до сих пор не могу понять, как я тот, прежний, сам прошедший “диккенсовскую школу” детства, не почувствовал, как был нужен ему.
Я уже не раз вспоминал, как снимался у Марлена Хуциева в “Заставе” — в знаменитой сцене вечеринки. Снимался там и самбист Миша в полосатом свитере — огромный и добродушный, среди пересмешников-гостей он стоял, как монумент.
Маша Вертинская — хозяйка квартиры Аня — говорила, обнимая его за торс:
— Вот человек, который мог бы быть отцом огромного семейства.
Я подходил сбоку и из Мишиной подмышки важно произносил — чистая импровизация:
— Это заблуждение! Я этот человек!
Даже всегда серьезная и сосредоточенная Рита Пилихина не выдерживала за камерой. Приходилось снимать еще дубль. И снова — смех на площадке.
Но реплика-то оказалась пророческой.
Я привез Алёшку на Снайперскую улицу, где мы снимали квартиру. Ира собирала подаренный ему велосипед. Набычившись, смотрел он первый раз на мачеху, которая теперь “моя любимая мачеха Ируля”. Забавными были поначалу его отношения и с маленькой — меньше его на четыре года — Катькой.
Они давно уже брат и сестра, и их многочисленные дети — числом семь штук — тоже братья и сестры. Возможно, вот это наше “огромное семейство” с родственными ответвлениями и с филиалами в Киеве и Нью-Йорке — самое главное, хоть и не во всем заслуженное, достижение моей жизни.
Пророческой оказалась не только моя реплика об огромном семействе. Еще раньше стало сбываться и предсказание Саши Пятигорского, сделанное им шесть лет назад на станции московского метро:
— У вас скоро все будет по-другому. И в работе, и в любви. Вот увидите.
И снова все происходило под знаком кино.
Главный Драматург и Монтажер всех наших судеб часто соединяет горе одного со счастьем другого.
В арбатской квартире должен был вот-вот начаться ремонт, и я сбежал в Матвеевское. Были сильные дожди тогда, каждый день.
Утром 19 июня 78-го года — звонок. Валя Тур.
Кроме прочего, даже не в начале разговора:
— Знаешь, ужасно: погибла такая Нора Агишева из вашего Союза кинематографистов, дикая история — автобус ее убил на остановке.
Запись 78-го года
На панихиде он увидел меня и заплакал.
— Вот видишь, какие у нас новости, — сказал он, плача. — На улице стали убивать.
Адик Агишев, мой сокурсник. К тому времени — известный сценарист. Они с режиссером Эльером Ишмухамедовым — краса и гордость “Узбекфильма”. Знаменитые картины — “Нежность”, “Влюбленные”.
Они — и еще Алик Хамраев — смело делали тогда в Ташкенте “новое кино”.
Нора Рудакова была редактором сценария Адика на “Мосфильме”. И стала вскоре — Нора Агишева. Ушла к нему от мужа с маленькой Ирой. Они были счастливы. Потом она стала работать в Союзе.
Ко мне Нора относилась хорошо, дружески и всякий раз приветливо — зазывала в гости к ним на Самаркандский бульвар. И все как-то у меня не получалось прийти.
Первый раз я пришел в эту квартиру на двадцатый день после ее гибели.
Пришел я туда — на поминки — вместе с двумя нашими сокурсниками, Борей Сааковым и Юрой Аветиковым, вместе с Тимуром Зульфикаровым и Володей Фараджевым.
Мы все сидели за столом. Маленькая мрачная девочка вышла из соседней комнаты. Оказалось, ее зовут Катя. Она никак не могла понять, почему среди этих чужих людей нет ее бабушки. Ира то уходила на кухню, то снова возвращалась к столу. И вдруг присела на стул рядом со мной. А ведь могла бы сесть на другой стул. Потом — мы часто вспоминаем этот день — признавалась: ей как-то необъяснимо захотелось сесть именно так, а не иначе.
Пошли — недалеко — на Кузьминское кладбище. Участок номер 92.
Не счесть, сколько раз за прошедшие годы приходили мы потом на эту могилу. Но тогда… Я стоял на дорожке напротив ограды. Ира — с другой стороны — опустилась на колени, чтобы поправить на еще свежем холмике цветы. Лицом ко мне.
Горестно-прекрасное лицо. Утешить и защитить.
Мы возвращались всей компанией уже поздно вечером. На площади Восстания, там, где сейчас Культурный центр имени Чайковского, была стоянка такси. Ждем. Лицо не дает мне покоя. Я — с внешне равнодушным интересом — спрашиваю у ребят, которые лучше меня знают эту семью. Она замужем? Да, но они не очень хорошо живут с отцом девочки.
Потом Ира рассказала: когда все ушли, она спросила у Агишева:
— А что, этот Паша Финн — он женат?
— Да, — ответил он. — Но, кажется, они не очень хорошо живут.
А тогда — на стоянке — я вдруг говорю, ни к кому особенно не обращаясь:
— Счастлив будет тот, с кем она свяжет свою жизнь.
Мгновения жизни надо ловить, как вспышки света в темноте.
Никогда раньше со мной такого не было. Не могу работать. Мне тесно и невыносимо в моем номере в Матвеевском. Я загадочен в разговорах с друзьями. Наконец не выдерживаю, звоню Адику и прошу отпустить со мной “твоих девочек”, я хочу их как-нибудь развлечь. Он еще совершенно не предполагает развития сюжета. Да и кто бы мог предположить?
Веду Иру и Катьку в зоопарк. Катька со мной строга, но все-таки милостиво садится ко мне на шею, чтобы сверху посмотреть на моржа Барона, важно показывающего из воды свою колючую физиономию.
Уже — после всех издевательств и наших с Авербахом мытарств — готов фильм “Объяснение в любви”. Звоню Ире. Она работала тогда в художественном “салоне по экспорту” на Смоленской площади. Спрашиваю, может ли она прийти днем в Союз. Пауза, она соображает.
— А в какое время? Потому что у меня сегодня партийное собрание.
Тут уже пауза с моей стороны. В голове проносится: все равно, чувство сильнее, пусть так, в конце концов, они же тоже люди…
— Надеюсь, открытое? — спрашиваю я с душевным трепетом.
И вот в маленьком просмотровом зале на первом этаже Союза показываю совершенно беспартийной Ире “Объяснение”. Чтобы, черт возьми, знала, с кем имеет дело. А имеет ли она со мной “дело”? Да, я чувствую это. И она, кажется, тоже.
“Филиппок еще мгновение глядел на ее лицо, озаренное трепетным светом свечи, потом с дикой решимостью заговорил:
— Нет, я с ума схожу! На именинах чечетку танцевал… Бред, бред! Что я говорю, что я делаю?! Я вдруг отогрелся возле вас. Это чудо. Это судьба. Ночь, ледяной город, и вот встретились два одиноких сердца…
— Ах вы, Филиппок, — печально, ласково и снисходительно улыбнулась Зиночка, поднимая воротник его пальто”.
Запись 1981-го
Я помню, как летом 78-го сидел на пороге двери, открытой в матвеевский парк, ждал Иру и улыбался всему тому прекрасному, что происходило тогда с нами.
“Мгновение счастья — не ощущенье благополучия,
Наслажденья, исполненья желаний, безопасности или любви,
И даже не славный обед — но порыв вдохновенья”.
Томас ЭлиотВетер любви и восторга от того, что я могу любить, надувал тогда мои паруса.
Запись 1978-го
Ночь. Иду по улице Воровского из мастерской Бори Мессерера, у меня с собой тоненькая книжка стихов, подаренная и надписанная Беллой, и Борин офорт, свернутый в трубочку. Ловлю такси. Но вместо этого меня ловит ночной человек.
— Милый мой, — говорю я грабителю. — Книга да картина. Тебе от них никакого прока, поверь. А для меня эти вещи такие дорогие. Оставь их мне, прошу тебя.
— Ладно, — сказал грабитель. — Хрен с тобой, борода. Тогда снимай джинсы.
…Все, что до такси — правда, после — ничего этого не было, никакого ночного грабителя. Однако склонность к придумыванию себя и ситуаций, склонность к вранью — неизлечима.
“Мы здесь не очень далеки от того, что господин Жюль де Готье называет боваризмом — слово, которым он, по имени флоберовской героини, обозначает существующую у некоторых людей наклонность удваивать свою жизнь, дополняя ее жизнью воображаемой. Переставая быть тем, чем являешься на самом деле, чтобы стать тем, чем считаешь себя, чем хочешь быть”.
Андре ЖидЗапись 1978-го
Но то, что все несчастья, неудачи, беды, обиды, преследовавшие его всю прошлую жизнь, привели в конце концов к самой большой радости, — именно это свидетельствовало о том, что на самом деле это были не несчастья, неудачи, беды и обиды, а необходимые условия его существования, предусмотренные помимо его воли и желаний, но предусмотренные именно так, как надо.
12 июля 78-го года. Встречаюсь в городе с Севкой Абдуловым, чудным нашим товарищем. Шляемся по Москве. Выпиваем. Он свободен от театра, я свободен от всего — я летаю, я окрылен. Два праздных, подвыпивших, веселых фланера. Идем по улице Горького, ноги сами несут на Васильевскую в ресторан Дома кино. Там могут сидеть друзья — Юра Хориков, Валя Тур. Да, так и есть. Садимся к ним за столик недалеко от двери.
И вдруг вижу — наискосок, стол за перегородкой — компания. Рустам Ибрагимбеков, Амиран Чичинадзе из Тбилиси. И с ними — Ира. Рустама не было в Москве, когда погибла Нора. Они повели Иру в ресторан — отвлечь, развеять.
Рустам вообще очень много значит в моей жизни. Когда-то — я еще не был с ними знаком — они с братом Максудом пришли к Вале Туру на улицу Горького. У Максуда в руках был синий “Новый мир” с его повестью “И не было лучше брата”. С тех пор я гордился дружбой со знаменитыми братьями, талантами, красавцами, силачами. И не только потому, что в компании с ними можно было не бояться никаких уличных случайностей, нет! Но показываться рядом с ними в той нашей московской жизни было в каком-то смысле “знаком качества”.
Обычно, если мы встречались в ресторане с Рустамом, то после, уже на границе ночи, заваливались — в любом количестве — в их — с его женой Шохрет — квартиру в Сокольниках. Допить, договорить, досмеяться. Так было и на этот раз. И почему-то никого не удивило, что на кухне мы с Ирой сразу же сели рядом на диван. Простенький деревянный диванчик. Теперь это мемориальный предмет. Они его благородно не выбросили, переезжая в дом на Васильевской, а взяли с собой на дачу в любимый Нардаран, под Баку. И каждый раз, когда мы с Ирой видим его там, — честное слово, плакать хочется…
На раннем рассвете приехали в Матвеевское. Охранник, дремавший у входа, уже давно был мной подкуплен — я мог приходить в любое время. Мы свалились на мою кровать и остаток ночи проспали рядом — безгрешно. Как брат и сестра. И это как бы стало залогом того, что, даже став вскорости по-настоящему мужем и женой, мы так навсегда и остались — братом и сестрой.
Запись 78-го года
Несмотря на мое нынешнее недоверие к приметам и прочему такому, я боюсь сглазить. Но если бы Он дал мне это, я бы отслужил, я бы отслужил!
Вечер другого дня. Едем в такси на улицу Чехова к Володе Валуцкому, с которым я тогда крепко и весело дружил. Сидим рядом на заднем сиденье. И вдруг я, как Филиппок — с “дикой решимостью”, но почему-то церемонно, говорю:
— Не могли бы вы, Ира… — между прочим, мы еще на “вы”, — стать моей женой.
И с ужасом жду ответа…
“Но в это время в небе плясала звезда”.
Вильям Шекспир— Да, давайте попробуем, — отвечает Ира.
“Я никогда не верил в счастье в условиях этого мира, но счастливые мгновения считаю возможными”.
Николай БердяевМама тогда уже часто болела. А надо сказать, что Ира относилась к ней заботливее и внимательнее, чем я. Однажды мы навещали ее в больнице “Медсантруд”, и когда Ира вышла из палаты — поговорить с врачом, мама взяла меня за руку и тихо сказала:
— Нам ее Бог послал.
Конечно, я сразу же повез Иру показывать “старику” — Евгению Иосифовичу Габриловичу. Отца-то ведь у меня не было. Она ему страшно понравилась. И он тут же придумал невероятно романтическую историю, которую с удовольствием и вдохновением рассказывал всем, кому мог, — в том же Матвеевском, например.
— Представляете, Пашка безумно влюбился в красавицу дочку Норы Агишевой, а она в него. И они, как Ромео и Джульетта, оставили всё, что у них было, и только с котомками, взявшись за руки…
Я один раз подслушал. Ему почему-то особенно нравилось слово “котомка”.
Некоторая правда в этой поэме была. Мы действительно оставили свои квартиры со всем, что в них стояло. И, взяв — не котомки — Катьку, кота Дарика, собрание Достоевского — я как раз тогда делал вариант сценария для Зархи — и недавно вышедшего Мандельштама с предисловием Дымшица, купленного в “Березке”, — ушли. Куда?
Совершенно нам было это непонятно и так же совершенно было на эту непонятность плевать.
“Любовь обретает себя, Когда «здесь» и «сейчас» теряют значенье”. Томас ЭлиотРешили отложить свадьбу на год, чтобы прошло время после гибели Норы Агишевой. А пока что жили где придется. То в том же Матвеевском, то — несколько дней — когда Адик уехал в Ташкент — в его квартире на Самаркандском бульваре, то у Марины и Васи Феофановых, Ириных молодых друзей. По моему настоянию забрали Катьку из пятидневного детского сада. Моя задача была — преодолеть ее мрачность. Но пока это не очень-то получалось.
“Слушайте, мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже. И если мы учим их чему-нибудь, чтоб сделать их лучшими, то и они нас учат многому и тоже делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними”.
Федор ДостоевскийКогда Катины дети были еще маленькими, она, узнав от меня эти слова Достоевского, написала их цветным фломастером на листе бумаги и прикрепила этот лист к стене.
В сентябре 78-го была наконец назначена премьера “Объяснения”. Мы ненадолго снимали однокомнатную квартирку в писательском кооперативном доме на Аэропорте. Утром я встал пораньше, отправился на ближний рынок и накупил роз — Ире. Уходя со мной в Дом кино, она положила цветы в ванну — было красиво и благоуханно — и открыла кран. Но там что-то было неисправно с затычкой, да и закрутить кран мы забыли — в суете и волнениях сборов.
Вода лилась и переливалась. Пока мы выходили на сцену, пока шел фильм, пока мы принимали поздравления, пока сидели в ресторане, пока перемещались на Новолесную в квартиру Нади Кожевниковой, — вода лилась. Пока не разбух и не треснул потолок в квартире соседа снизу. И после тоже лилась.
Когда мы на рассвете вошли в дом, в холле нас встретили жильцы. Несколько туманных трагических фигур, как в спектакле режиссера-модерниста по пьесе Метерлинка. И самая трагическая фигура принадлежала — не трудно догадаться — соседу снизу, который только что сделал в своей квартире ремонт.
По счастью, Витя Май, добрый человек, оказался к тому же приятелем Юлика Гусмана, и помиловал нас. Восстановив кое-как покоробившийся паркет в нашем временном жилище, мы бежали оттуда в Серебряный бор.
Уйти, убежать — от обиды, от измены, от собственного греха, от долгов, от угроз — от себя. Не очень, конечно, это оригинально. Можно привести красноречивые примеры. От библейского Лота до Льва Толстого. И в моей жизни идея “ухода” всегда — с детства — была последней надеждой избежать неприятностей.
И чтобы искали, чтобы нашли — догнали, повинились, попросили вернуться, пожалели, приласкали.
“Где-то мне довелось прочитать, еще в ту пору, когда я был ребенком и не бросил читать, что, уходя, лучше не оборачиваться”.
Сэмюэл БеккетНо я никогда не следовал этому правилу.
Операция была задумана и проведена блестяще. Сначала надо было обмануть нашу домработницу Шуру, пользуясь тем, что бдительность ее была ослаблена бурным романом с пастухом деревни Пуговичино. Он, свободолюбивый, как все пастухи, считал, что мы держим его любовь в крепостной зависимости, и когда нажирался — а это было всегда, — подгонял коров к нашим окнам, страшно щелкал кнутом и кричал: “Евреи! Выходите!”
Я пугался, брат Витя рвался в бой, Шура страдала. В такой-то момент я и выцыганил у нее под каким-то лживым предлогом необходимые для осуществления операции 15 копеек. Из расчета: 10 копеек на железнодорожный билет, 5 — на метро. Обратная дорога не планировалась. Я решил навсегда покинуть дачу и врага и супостата всей моей жизни Витьку.
Он давно уже порывался взять в свои руки мое воспитание. И тут наконец представилась такая возможность. Мама уехала на несколько дней в Москву, оставив меня с ним и с Шурой, влюбленной в пастуха.
1951 год. Ему восемнадцать, мне одиннадцать, но на вид и того меньше. Он красивый, голубоглазый, с нежным лицом. Недаром потом в дачном сценарии “Ожидание” я превратил его в Митю. Прочитав Бунина, я сразу понял, кого мне своей чистой юностью напоминает герой “Митиной любви”.
Об “Ожидании” — впереди. Сейчас я понимаю, что этот совершенно оригинальный, совершенно мой — непоставленный — сценарий, был для меня не менее, а даже, может, и более важен, чем “Объяснение в любви”.
Витька серьезно готовился к поступлению на философский факультет МГУ. Всюду лежали его книги. Канта я запомнил с тех пор. И тогда-то, тайком открыв учебник логики, я и узнал, что Кай смертен, потому что он человек.
Свои логические способности брат постоянно оттачивал на мне. Чаще всего за столом, когда я отказывался есть, он хладнокровно донимал меня безжалостными силлогизмами. И наконец, достал, или, как тогда говорили, довел. Я сбежал.
Как я ухитрился — один — доехать в электричке до Москвы и точно определить необходимый подземный маршрут — с Павелецкого вокзала до “Дворца Советов” — сейчас просто не представляю. Однако доехал. И потрясенная мама чуть не упала, открыв мне дверь.
— Павлик! — прошептала она, с ужасом расширяя такие же, как и у брата, голубые глаза. — Что случилось?
— Витька логически доказал мне, что я говно, — ответил я, наверняка рыдая.
Наброски из ненаписанного романа
— Лови его! Держи! — орут стражники, алебардами стуча. — Гаденыш, клеветник позорный, враз решим твою судьбу. Будешь знать, как напраслину возводить на нашего батюшку короля!
Убежать, скрыться — я этого не говорил, я этого не делал! — спрятаться. Как жить после всего этого?
— Эй! Отставить! Гаденыш-то, блин, на поверку — принц!
— Принц? Из этих, что ли? Типичная еврейская фамилия. Я одного такого знал. На нашей улице — портной. Принц Соломон Пинхусович. Может, родня?
— Да кто их разберет, одно слово — принц. Гамлет!
Видите ли, они помирились, злобно думал Сашка. Помирились! Он не мог найти другого слова вместо этого — такого детского, школьного.
На переменке: “Ну чего ты? Ну давай помиримся”.
У Бориса вид обаятельно виноватый. Актер, сволочь! У нее торжествующий и влюбленный. Как же так, мама? Как же ты можешь?
Когда же они сталкиваются в коридоре, или мама отвернулась, взгляд отчима становится холодным и насмешливым.
Ночь. Злая луна в окне.
Сашка, отгороженный от них занавеской, задерживает — на своей кровати — дыхание, глубоко загоняя его куда-то в низ живота, боясь, что они услышат его и узнают, что он не спит.
Луна. Сашка — лунатик. Он понимает это сейчас внезапно.
Один раз он слышал, как Загорский говорил актерам:
— Гамлет — лунатик. Представьте себе сцену, как он со спящими глазами, но открытыми, без слов и монологов, бесшумно движется по замку в мертвенно-лунной пустоте. Сейчас, в этом состоянии, он может убить Клавдия, Гертруду, всех, кто попадется ему под руку.
Внезапный приступ лунатизма, и Сашка может пустить в ход нож. И зарезать Бориса. И, может быть, маму. Ему страшно — под одеялом, он представляет все эти ужасы — трупы в крови, арест, суд…
Где-то он читал: “Лунатик пробуждается в тот момент, когда называют его имя”. Сейчас он встанет посреди номера и глухо, как Вий, произнесет с мольбой:
— Мама! Мама! Назови мое имя!
Но ей не до него сейчас.
Ночь была их владением, не обитаемым никем, кроме них двоих. Стонущим, смеющимся, шепчущим. Их звуки проникали к нему сквозь занавеску.
— Я абсолютно покорна тебе. Ведь это с моей стороны очень эгоистично. Женить на себе такого мальчика, когда он может устроить свою жизнь гораздо лучше, женившись на молоденькой.
— Я без тебя буду сиротой.
Сашка — под одеялом, укрывшись с головой:
— Я не буду жить с ними! Не буду! Клянусь своей душой! Я уйду от них. Уйду!
Когда наконец в 79-м году состоялась наша с Ирой свадьба, мы были опять бездомны и проживали всё в том же Матвеевском. Туда-то после ресторана Дома кино, уже поздно вечером, мы и ворвались всей нашей свадебной бандой. С подарками и цветами.
Вадик Абдрашитов, Саша Миндадзе — тогда они были еще вместе. Алёша Габрилович, Саша Княжинский, Валя Тур, Адик Агишев, Володя Валуцкий, Юра Хориков, Ирины подруги — Лида и Марина…
Дверь в парк была открыта, весело шумели мы и там, и в комнате, не думая о последствиях. Поздно проснувшись, днем, я со страхом, но все же решился вывести мою жену к обеду в столовую — она была отдельной от столовой ветеранов.
Как и в Болшеве, соседями в Доме были Сергей Иосифович Юткевич и его жена Елена Михайловна Ильющенко. Ее-то я боялся больше всего.
Опустив глаза, я вошел. Аплодисменты. Навстречу нам с большим букетом роз идет Елена Михайловна.
Но мы-то с Ирой знали — мало кто верит, что все это у нас надолго. Но они, те, не верившие в нас, ошиблись. А мы — нет.
Чем дольше сижу над этим “конспектом”, тем больше убеждаюсь, что человек существует в двух измерениях, в двух масштабах — жизни и судьбы. И эти заметки — на полях судьбы. На полях сражений. Жизни и судьбы, жизни с судьбой. Успех переменный, но побеждает все-таки всегда судьба. Жизнь заканчивается, судьба продолжается. Даже если сохнет трава и торжествуют сорняки на заброшенной могиле.
Возможно, судьба, расслабившись и отвесив на своих весах некую толику счастья, спохватывается — а достоин ли мерзавец? И начинает всячески испытывать его. Что-что, а это она умеет.
Затопив чужую квартиру, мы сбежали.
Перед этим Володя Валуцкий и Алла Демидова сняли дом в Серебряном бору. Там за забором стояло несколько кирпичных — “государственных” — дач, закрепленных за моссоветовскими бонзами-хозяйственниками. Но с наступлением зимы и до весны они переезжали в город — отопление на дачах было печное. А это значит, надо нанимать грузовик, платить шоферу, закупать в Мосугольтресте уголь “орешек” и везти его в Серебряный бор. Всё это — на собственные средства.
А в доме — самым первобытным способом топить, постоянно поддерживая огонь и тепло. Возиться со всем этим важные и надутые барыни — жены хозяйственников — не любили. Поэтому и сдавали дачи, получая к себе в карманы денежки, которые, вообще-то говоря, должно было получать государство.
Второй такой дом Валуцкий и Демидова дружески “устроили” для нас.
Мы топили неумело, воздух пропитывался угольной пылью, но все равно — радовались жизни. А белоснежный кот Дарик, наследство погибшей Норы Агишевой, стал жгуче-черным и постоянно переходил мне дорогу. Так часто, что не было никакого смысла верить в роковую примету.
Запись 78-го года, декабрь
Когда-нибудь вспомним наше первое Рождество в Серебряном бору, с двумя рюмками “арбатского” вина и службой на английском языке из “спидолы”.
Однажды ко мне приехал Александр Григорьевич Зархи — поговорить о сценарии. Ирина была в Москве, Катька играла на первом этаже, выделывая из размокшего в воде пластилина какие-то отвратительные “пу́почки” и беспрестанно заводя одну и ту же пластинку из “Бременских музыкантов”. “Ах ты, бедная моя трубадурочка… Ты смотри, как исхудала фигурочка…” Так что музыкальный фон для работы над “Достоевским” был самый подходящий.
Мы с Александром Григорьевичем сидели возле стола с машинкой. Снизу послышались шаги по лестнице. Вошла пятилетняя Катька. Она обожала наряжаться в какие-то несусветные мамины обноски. Видимо, воображая себя принцессой-трубадурочкой, прицепила длиннейший рваный кружевной шлейф угольного цвета. Руки и лицо были соответствующие. Она мрачно встала рядом с нами и, не обратив никакого внимания на Героя Социалистического труда, как раньше и на другого Героя — Герасимова, басом проговорила: “Паш! А когда мама приедет?”. И, не дожидаясь ответа, стала раз за разом — с одной и той же интонацией — повторять этот трагический вопрос.
Потом я провожал Александра Григорьевича на остановку троллейбуса. Совершенно потрясенный бытом своего “молодого сценариста”, бедный Шурик только и мог, что восклицать:
— Черт его знает! Черт его знает!
Я томился над вариантом за пишущей машинкой на втором этаже — напротив окна, выходящего во двор. И, поднимая глаза, видел Катьку, копошащуюся в снегу с лопаткой. На ней была коротенькая дубленочка, на спине разноцветными нитками-мулине было вышито “Катя”.
И это едва не погубило нашу жизнь.
Дубленочка — в другой жизни, до меня — была когда-то длинной и принадлежала Игорю, бывшему мужу Иры. Но собака Гоби, боксер по национальности, дубленку эту съела. Ира собственноручно соорудила из остатков зимнюю одежку для любимой дочки, а дырки от собачьих зубов находчиво закрыла-заштопала цветочками и словом “Катя”.
Любопытная Катька с именем на спине без спроса вышла за ворота — посмотреть на троллейбус, он останавливался напротив на “кругу”.
— Катя! — прочитав на ее спине, позвал человек с кейсом. — Идем со мной, тебя мама на другой остановке ждет. А я тебе куклу подарю, она у меня в чемоданчике.
Соблазн был велик. К счастью для всех нас, маленькая Катька — хоть сначала и приятно удивилась, что этот дядька ее знает, — соблазн преодолела, возможно вспомнив, что только что видела маму на кухне. И дала деру — под нашу защиту.
Запись 79-го года, январь
Год начался арктическими холодами. Наша любовь подвергается каким-то уж совершенно несовременным испытаниям. Нас испытывают холодом и отсутствием угля.
Зима этого года была самой холодной на моей памяти.
Уголь мы воровали. Под покровом ночи. У соседа Валуцкого. В лютый мороз я выходил на разбойный промысел с двумя ведрами. Потом признавались.
Чехов говорил как-то так: не верьте тем, кто утверждает, что любит зиму.
Одно из самых моих любимых стихотворений Анненского — опять же с легкой руки Вали Тура, — которое я часто повторял тогда:
Полюбил бы я зиму, Да обуза тяжка… От нее даже дыму Не уйти в облака. Эта резанность линий, Этот грузный полет, Этот нищенский синий И заплаканный лед! Но люблю ослабелый От заоблачных нег То сверкающе белый, То сиреневый снег… И особенно талый, Когда, выси открыв, Он ложится усталый На скользящий обрыв. Точно стада в тумане Непорочные сны — На томительной грани Всесожженья весны.Груз — тяжесть — строк, строф, строчек — память — жизнь… Любовь к поэзии и любовь к женщине…
Мы мечтали о весне, хотя она приближала необходимость искать новое жилье. Мы мерзли, но весело. К нам всегда охотно ехали гости. Илюша Авербах, Рустам Ибрагимбеков, Саша Княжинский, Алёша Габрилович, Ваня Дыховичный, Саша Шлепянов…
Однажды я привез к нам приехавшую на несколько дней из Ленинграда Вику Беломлинскую — знакомить ее с Ирой.
Незадолго до этого — на Петроградской стороне, в Ораниенбаумской улице, в квартире Беломлинских — я показал двум моим подругам, Вике и Галке Венгеровой, фотографию еще неизвестной им Ирины. Хвастался. Они пришли в восторг, сразу же стали звонить в Москву и наперебой кричать в трубку, как Иришка правильно поступила, что вышла замуж за “нашего Пашку”.
Я тоже пришел в восторг. И в результате этого общего восторга, когда через несколько часов подошел к “Стреле”, обнаружил, что потерял не только билет, но и все документы. Восторга поубавилось. Но билет я купил, а документы какой-то добрый самаритянин прислал мне в Москву через месяц в конверте.
Вика и ее муж Миша, художник, чудный человек, дружили с Авербахом. И он дал мне прочесть ее рассказы, очень их похвалив. Детство, сестра, эвакуация… У нее был дар, это я понял сразу, как только начал читать у себя в гостиничном номере.
Она писала много и увлеченно. И как-то — не могу найти точное слово — как-то бурно. Остались, по-моему, три тоненькие книжки под фамилией “Платова”. Одна — изданная в Москве. Две — Игорем Ефимовым — в Америке, куда они уехали с Мишей. Одна в 1991-м, другая — в 2008-м, в год ее смерти.
Такая прекрасная лицом и душой, такая человеческая, такая дружеская, такая вздорная, такая умная, такая талантливая, такая неудержимая в обидах и привязанностях, такая замечательная — моя подруга…
Я всегда думаю о том, что на ее отъезд более всего повлияла смерть Ильи Авербаха. Конечно, область сослагательного, но мне кажется, что, если бы не эта неожиданная смерть, она бы осталась в России и жизнь ее была другой. И уже позже — тоже другой, жизнь в Америке, если бы ее близкий друг — Ося Бродский, лауреат Нобелевской премии, не нанес ей — на правах жреца русской литературы — безжалостный и неожиданный удар, пренебрежительно отозвавшись о ее прозе.
Переживания, которыми она тогда делилась со мной из Америки уже через интернет — и в самой Америке в их доме — Квинс, Джексон-Хайтс, — можно было назвать горем.
Но в 79-м году ничего этого еще не было даже в предположениях.
Приезжая в Москву, она останавливались в хорошо мне известной квартире на Аэропорте, в писательском доме. В ней когда-то — на одной лестничной площадке с моим отцом и Владимиром Солоухиным — жила другая моя близкая подруга, Таня Алигер-Макарова. После ее смерти квартира принадлежала ее мужу, художнику Сереже Коваленкову.
Отсюда я забрал Вику и повез в Серебряный бор. Был вечер, когда мы добрались — в состоянии всё того же восторга. Катька уже лежала на втором этаже в своей комнате в кровати. Вика, войдя к ней, с порога сделала на полу кульбит, чем навсегда завоевала ее расположение.
Потом — со смехом — Ира помогала ей вынимать занозы из попы. Знакомство состоялось. Дружба.
Запись 79-го года, март
Упоительная весна. Окрестность точно наполнена бесконечным женским разговором…
Ирина уезжала на троллейбусе в Москву — за пропитанием. А я водил Катьку гулять к Москве-реке на обрыв и по талым дорогам Соснового бора. Для нас с ней это было придуманное мной Великанье царство. Сосны — великаны. Они преследовали нас, мы спасались от них. В конце гулянья варежки ее становились совершенно мокрыми, я брал ее руку в свою, чтобы согреть, и тепло ее маленькой руки доходило до моего сердца.
В семье очаг любви должен гореть всегда.
“Надо жить тут и в себе. Это великое мастерство, великое уменье, которого почти всем недостает.
Нужно находить великое счастье, — не великое, а величайшее, самое великое, — у себя в доме, с ближайшими людьми. Нужно любить не «ближнего», а «ближайших». И вот кто нашел силы и уменье быть счастливым только с ними, тот разрешил неразрешимую проблему счастья. Нужно жить «на миру» как в пустыне; и в каменном доме в Петербурге — как в шалаше.
Это совершенно возможно. И на возможности этого основано счастье для всех.
Оно доступно. Нужно быть только мудрым”.
Василий РозановНо, Боже, как же трудно быть мудрым!
Запись 79-го года
Когда я сижу у себя, работаю и слушаю их воркотню в соседней комнате, сердце мое переполняется нежностью, и я хочу сделать для них всё. Но что я могу? И что я умею?
Уметь-то я уже кое-что умел, хотя не будем, конечно, преувеличивать. Но вот мочь, пожалуй, не очень. Как сказано апостолом Лукой: “…Копать не могу, просить стыжусь”.
“Я нищий и не стыжусь своего звания”.
Николай Гоголь, из письмаПосле “Объяснения” и “Двадцати шести дней” ни один мой сценарий, даже принятый 1-м объединением “Ленфильма”, не проходит через Госкино. И не стану грешить только на Павленка — конечно, не забывшего мне встречу в Югославии, в Пуле. Нет, дело было в другом.
Дело было как раз — в любви.
Физическое почти ощущение, что так, как раньше, теперь нельзя. Как будто взял обязательство — перед самим собой: искренности в любви должна соответствовать искренность в том, что делаешь, сочиняешь.
Они не пропускают, а я пишу — с истерическим упорством. Хрен с вами, давайте ваши поправки! Лишь бы пробиться к экрану!
“Дом на косогоре”… “Воспоминание о Плотникове Игнате”…
Нет-с, усмехаются, дураков нету. И каждой своей иезуитской претензией-поправкой доводят до моего сведения, что я — со своими писаниями — чужой. А зачем им чужой, когда у них своих полно.
И, наконец, “Ожидание”. Но это уже “Мосфильм”, дружеское объединение Юлия Яковлевича Райзмана, главный редактор Ада Репина. На то время — самое либеральное мосфильмовское объединение. Там славно начинали Вадик Абдрашитов и Саша Миндадзе.
1978 год, ноябрь, первые записи. Еще туманная идея, еще только невнятное бормотание под нос…
“Название: «После войны на даче».
День рождения — утро. Рубашка, Гайдар. Солнце, веранда, молоко, малина. «Золотые шары», флоксы, табак.
Гроза, молнией убивает корову. Распродают мясо на краю села. Все время возле дома народ. Хозяйка приносит в ведре большие сырые куски мяса с торчащими осколками костей”.
Более десяти лет назад я собрал все разрозненные мысли и соображения, которыми до этого постоянно делился на занятиях со слушателями нашей режиссерской — Хотиненко, Финн, Фенченко — мастерской на Высших курсах сценаристов и режиссеров. Назвал все это “Драматурия и режиссура. Конспект лекции” и опубликовал в сборнике “Профессия — кинематографист”, выпущенном к сорокалетию Курсов.
“Теоретизирую я в первую очередь для самого себя, и научить я хочу только самого себя. Как только у меня прекращается сознательно или бессознательно потребность и желание ученичества, все сразу коснеет и замирает, замораживается.
Кино — это невероятная возможность наблюдать жизнь, воссоздавать жизнь со всеми тайнами сознания и подсознания, реальности и ирреальности, возможность населять эту новую, созданную жизнь чудесами, демонами и ангелами.
А какова степень участия драматургии во всем этом? Вот об этом, собственно, и весь разговор”…
“Я рассматриваю ИДЕЮ как желание. Напряжение материала зависит от «силы желания». Желание реализовать идею. Реализовать идею «через себя», или — «себя через идею». Стиль, единство, целое, конструкция — все зависит от «силы желания». Именно она создает напряжение материала и держит всю конструкцию новой реальности.
И никогда не говорите себе — хотя бы себе — «я хочу рассказать». Это уже ошибка. Говорите: «я хочу ощутить, почувствовать и хочу, чтобы и вы ощутили, почувствовали…»”
Чтобы почувствовали — дачное, подмосковное…
Звук дождя по крыше, облака в коричневых лужах, томительный вечерний запах цветов, соседний патефон…
Это была не просто память о детстве, а нечто большее, вдруг посетившее — осенившее? — меня. Это было органическое чувство кино, которого мне так не хватало прежде, это было — открывшееся во мне — чувствование кинематографом.
Записи к сценарию
Брат Витя (Митя).
Приезд отца в дождь. Машина на дороге.
— Папа, а можно, вы опять женитесь?
Детское сердце… Детское взволнованное сердце…
Мальчик, бредущий по лесу. Заблудившийся мальчик.
— Мама!
— Что, милый?
— Как ты красиво стоишь!
Мама на склоне холма читает ему “Домби и сын”, сосны, сосны, одеяло, плачет, поет “Желтого ангела”.
Но самое главное — это было о себе. Я вдруг понял, что волен распоряжаться собой и своими близкими, как хочу, хотя бы в той реальности все было не так. Ну, или не совсем так.
Записи к сценарию
Раздает ребятам фашистские кресты и медали, подаренные отцом старшему. Скандал. Пьяный истерик-инвалид.
Брат тонкий, злой, страдает. Он “из рода бедных Азров”.
Мать — брату: “Какой ты жестокий”.
Мальчик, деревенский дружок Андрея, с синевой под глазами. Они строят шалаш в лесу, и он открывает ему тайну рождения. Так кончается для Андрея первый период детства — безгрешный.
Витя: Он ужасно разболтался. Его воспитывают бессистемно и по-женски. Я предлагаю отдать его воспитание в мои руки. Но вы же не хотите.
Витька: Вынь руки из-под одеяла.
Поссорившись с братом, он запирается в сортирной будке. “Открой!” Витька рвет дверь, она открывается.
…Новое название: “Деревенский футбол 49-го года.
…Городские приезжают к Витьке — играть с деревенскими. Один, городской, даже в бутсах — тайное и не очень честное оружие. Деревенские — кое-кто — босиком. Шнуровка мяча. Надувают камеру ртом и насосом. Как расправляются ее, словно припудренные, ребра.
Как говорить правду о себе, когда пишешь о других?
Проблема исповеди в кино. Материал личной судьбы. Конфликт объективистской сущности кино и исповедальной идеи. Выработка новой формы и новой драматургии в результате этого конфликта.
Как вырваться за пределы обычного? За пределы себя? Как? Заговорить по-испански? Написать гениальное стихотворение? Стать выше ростом? Вдруг хочется придумать, как в детстве, какой-то несуществующий, новый язык и сказать на нем нечто гениальное.
И тогда я сделал открытие, которое никогда больше не повторял.
Я написал сценарий так, будто все происходящее — одна непрекращающаяся, бесконечная панорама — движение — “ручной” — камеры, захватывающее всё, незаметно перетекающие одна в другую сцены и диалоги.
Честно говоря, красиво получилось. Нравилось Илье Авербаху, Алёше Герману, Семену Арановичу, Роме Балояну. И этим не стыдно гордиться. Но ставить никто не захотел. Потому что я уже сам все поставил. На бумаге. Так и говорили: сам ставь. Но я побоялся.
Отношения с мосфильмовским объединением так и закончились — ничем.
Правда, когда после 5-го съезда наступило “новое время”, была попытка возродить “Ожидание”.
“Уважаемый Павел Константинович!
3 июня 1987 года III творческое объединение к/с «Ленфильм» приобрело у Вас в готовом виде литературный сценарий «Ожидание». Объединение высоко оценило сценарий и включило его в тематический план на 1989 год. Постановку фильма предполагал осуществить режиссер М. Ордовский. В дальнейшем, в связи с изменением творческих планов режиссера, сценарий оказался в резерве объединения. Мы неоднократно показывали ваш сценарий режиссерам объединения. Но безрезультатно. Очевидно, это объясняется спецификой сегодняшнего времени. Стилистика вашего сценария, акварельность его художественной ткани пришли в столкновение с открытостью и публицистичностью, ставшими знамением времени. Ваш сценарий не нашел реальной производственной перспективы в планах объединения, поэтому мы вынуждены отказаться от использования вашего сценария. Мы прекращаем действие сценарного договора, оставляя за Вами на основании п.10 абз.2 полученный Вами гонорар”.
“Полученный гонорар” — и на том спасибо — растаял быстро. И в результате от всего остался только напечатанный в “Альманахе” сценарий, где уже Андрей превратился в Сашку. В финале он тонет в деревенской реке, но спасен неведомой силой, на которую всю жизнь я наивно надеюсь.
“Сашка снова выныривал, снова сильно колотил руками, поднимая брызги… И тут вдруг возник мужской голос.
Я ЗНАЮ, ЗНАЮ ЭТОТ ВКУС. ПРОСТАЯ ВОДА РЕЧНАЯ ВСЮ ЖИЗНЬ НА МОИХ ГУБАХ, И ГЛАЗА МОИ РЕЖЕТ ВОДА РЕЧНАЯ. НО ЕСЛИ ТЫ ТОНЕШЬ, ЗАПОМНИ: ВЫПРЫГНИ ИЗ ВОДЫ КАК МОЖНО ВЫШЕ И ЛОВИ, ЛОВИ РТОМ РОДНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ВОЗДУХ, ЧТОБЫ ОН НАПОЛНИЛ ТВОИ ЛЕГКИЕ, КАК НАПОЛНЯЕТ ВЕСЬ ЭТОТ МИР. ПУСТЬ ВОЗДУХ РАЗРЫВАЕТ ТВОЮ ГРУДЬ, НО, СНОВА УЙДЯ ПОД ВОДУ, ДЕРЖИ ЕГО В СЕБЕ И БЕЙСЯ, БЕЙСЯ ГОЛОВОЙ В ЧЕРНУЮ ТОЛЩУ. ВОЗДУХ ВЫТОЛКНЕТ ТЕБЯ, Я ВЕРЮ, ЧТОБЫ ХОТЬ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ТЫ УВИДЕЛ НАД СОБОЙ ЕДИНСТВЕННУЮ И ВЕЧНУЮ ЗВЕЗДУ НАДЕЖДЫ…
Сашкина голова, ныряющая, как поплавок, и всё слабее и слабее ударяющие по воде руки были видны над серебряным течением реки…”
Сашке еще рано исчезать, ему еще предстоит попасть в Казахстан в страшном 49-м году и вырасти до подростка, чтобы стать героем ненаписанного романа…
“Роман умер. И никакая сила в мире не воскресит эту литературную форму. Авторская воля, направленная на описание придуманной жизни, искусственные коллизии и конфликты (малый личный опыт писателя, который в искусстве нельзя скрыть) раздражают читателя…”
Варлам ШаламовНаброски из ненаписанного романа
Странное что-то творилось в Эльсиноре. То ли кого-то хоронить собрались, то ли Фортинбраса ждали. Хватились вдруг — але, а где принц, где Гамле́т? Шарили по разным закоулкам, по всем убежищам тайным, справлялись у бухих могильщиков, бесенят спосылали. Простыл след!
Я ухожу! Будь ты проклят, Эльсинор! Твои кривые улочки-ловушки, твой грубый булыжник под босыми ногами бесенят, твоя неправда, твое торжество и твое несчастье, твоя слепота. Твои призраки. Твои короли и королевы. Я здесь лишний, я чужой. Я покидаю тебя, Эльсинор! И меня никто не остановит!
Разлучаясь с девой милой, Друг, ты клялся мне любить!.. Уезжая в край постылый, Клятву данную хранить!.. Там за Данией счастливой Берега твои во мгле… Вал сердитый, говорливый Моет слезы на скале… Милый воин не вернется, Весь одетый в серебро… В гробе тяжко всколыхнется Бант и черное перо… Александр БлокНаброски из ненаписанного романа
Утром Сашка выходит из номера, дверь напротив открывается. Зоя стоит с девочкой на руках, как будто ждала.
— Сашенька! — тихо, жалобно, укачивая девочку. — Ты что? Я же пошутила. Я никому не скажу, не бойся.
И — покраснев, укачивая девочку, взволнованным шёпотом:
— Если хочешь, ходи… можешь смотреть… Если тебе это надо… Я же понимаю…
Внутри себя — крик: “О! Идиотка несчастная! Что ты понимаешь?”
И вслух — отчаянно:
— Зоя! Дай мне немножко денег! Мне очень надо!
А ведь Зоя мечтала о нем. Как будто он рядышком с ней в кровати. С одного бока — громко дышащий, большой и тяжелый Вова, Владимир Степанович. С другого — Сашка. Нет, ничего такого, ничего неприличного… Как будто он ее сыночек или братик — с нежной кожицей, подтянув коленки к животу, как перочинный ножик. Обнять, приголубить, пожалеть…
Она стоит в дверях — бледная мадонна военных кочевий — в этом своем цветастом халатике, замусоленном на груди, — часто приходится расстегивать, чтобы вытащить сисю, а мала́я-то все время отрыгивает.
От нее пахнет ребенком, и долго еще, услышав где-то по случаю такой запах, он видел ее, сидящую на бортике ванны — в том городе, которого, может, никогда и не было, как и моря.
Но деньги Зоя ему дает.
Обольщая себя — как в детстве, под одеялом — сладкой надеждой на славу, я хотел написать роман о демонах искушения. О демонах, которые охотятся за нами, подростками, и прикидываются ангелами. И порой — успешно.
Но с романом не получилось.
А если бы — кино?
Черт его знает! Мизансцены-то ведь не очень интересные, как ни крутись с камерой. Если только за счет актерской игры?
И этот мальчик… И как мне объяснить актеру, что Сашку надо играть так, чтобы мы чувствовали, что он чувствует то, что она чувствует? А как сделать так, чтобы она покраснела? Ей обязательно надо покраснеть. Не потому, что ей стыдно. А потому, что она понимает, что он чувствует то, что чувствует она.
Наброски из ненаписанного романа
Загорский с сумкой для продуктов выходит из своего дома, демон в красной рубахе. Сейчас перейдет улицу — в лавочку, возьмет батон белого хлеба, сто грамм сливочного масла, которое ему запрещено из-за желчного пузыря, и бутылку ряженки. Но домой не вернется, медленно, тяжело перейдет на другую улицу — в букинистический. Товароведом там седой армянин с молодым лицом, его друг. Загорский не видит Сашку. И слава богу! Прощай, Загорский!
Теперь подняться в Гору. Позвонить в дверь. Лариса. Удивленно, глядя на его взволнованное, отчаянное лицо:
— Ты к Алине?
Он молчит, он знает, что Алины нет. Он смотрит на нее. Она с интересом прислушивается к его молчанию. Он — с трудом — давит из себя:
— К вам…
— Ко мне? Ну… заходи…
Он садится на диван. Она придвигает кресло, усаживается напротив. Ему нужно решиться и сказать свою просьбу. Но она — раньше:
— Ты уже целовал мою дочку?
И вдруг, улыбаясь, как змея, вытягивает вперед ногу и ставит свою белую сухую стопу с алыми ногтями между его ног.
— Все здесь, все здесь, да? — тихо, глядя ему в самые глаза. — Бедный дурачок.
“Что? Что? — с ужасом кричит он внутри. — Что вы делаете?”
— Фу, фу, фу… — чуть шевеля пальцами, улыбаясь, глядя на его пламенное, сгорающее лицо. — Фу, бесстыдник.
И все глубже втискивает большой палец в тесное расстояние между двумя пуговицами ширинки, улыбаясь ему — в несчастные — глаза.
— Ее нет и не будет до вечера, — вдруг совершенно спокойно говорит она и убирает ногу. — Она на занятиях музыкой.
Но, услышав просьбу, деньги дает легко, не спрашивая зачем. И, выпуская за дверь, вдруг — печально:
— У тебя трудная жизнь, мальчик, я знаю. У меня тоже.
Всякое пересечение с жизнью у подростка — птицы, ненароком влетевшей в тесную, заставленную вещами комнату и бьющейся там изо всех сил отчаяния, — во сто крат грандиознее, провиденциальнее и символичнее, чем у взрослого.
Наброски из ненаписанного романа
Осталось зайти в театр, забрать долг у старшего друга, восемнадцатилетнего губастого и конопатого рабочего сцены. Он — до получки — задолжал Сашке за две бутылки портвейна.
Сашка вынес тогда из номера три тома Островского, издания Маркса. Борис возил их собой, потому что там был “Лес” и “Без вины виноватые”. Пропажа обнаружилась, но думать стали про одного актера, уже замеченного в таких делах, и теперь его — без объяснения причины — в дом не звали.
Островского Сашка и старший друг, предъявивший паспорт, загнали тому самому букинисту-армянину. Возможно, Загорский купит эти книги у своего друга, или даже тот любовно подарит их ему. Возможно, отчим увидит их, придя к Загорскому на репетицию, и разгневается против Сашки. Но будет уже поздно.
А долг за портвейн был мизерный, гроши, но сейчас бы пригодились.
Губастого в театре он не нашел, наверное, тот прятался. Проходя через пошивочный цех, Сашка увидел трех портних с красными лицами — перед ними на столах с ярко слепящими лампами лежали красные полотнища флагов. Женщины, одинаково наклонившись, пришивали к ним черные ленты — траур. Зачем? Выяснять Сашка не стал, не до того было…
Иногда думаю: если бы те три моих сценария — “Дом на косогоре”, “Воспоминания о Плотникове Игнате” и “Ожидание” были бы тогда поставлены так, как я хотел, изменилась бы моя профессиональная судьба? Может быть. И мне бы звонили известные режиссеры. “Ожидание” — все-таки первая картина о дачной жизни — поехала бы на какой-нибудь фестиваль. И стал бы я богат и славен.
И вообще изменилась бы наша с Ириной жизнь. Мы бы перестали скитаться, купили кооператив и дачу в Пахре, как Володарский. Меня бы куда-нибудь выбрали. И звание я получил бы тогда, а не много позже, подписанное Ельциным.
Ничего этого не случилось, мы продолжали скитаться и постоянно брать в долг у тех, кто давал.
“Я должен превозмочь тяжелое время. Вода поднимается высоко, может быть, до самого рта”.
Винсент Ван ГогА когда я, образно говоря, уже стал захлебываться, ангел в виде Рустама Ибрагимбекова протянул мне дружеское крыло. Он договорился на “Азербайджан-фильме”, что я буду экранизировать роман директора студии Джамиля Алибекова. О чем роман? Догадайтесь с трех раз. О нефтяниках. О том, как старый и очень заслуженный благородный нефтяник не хочет выходить на пенсию, а хочет до упора вкладывать свой труд в общий труд своей республики. В связи с чем чуть не тонет в бурном Каспийском море. Но не тонет, а спасается на льдине.
Льдины действительно иногда появляются в странном Каспийском море. Льдину для съемок сделали из пенопласта. Но это позже, а сначала я впервые оказался в Баку — прилетел подписывать договор.
Рустама в городе не было, меня встречал Максуд. Сразу же, как только вышли из здания аэропорта — тогда еще старого, — стали — “на воздухе” — есть осетрину на вертеле, выпивать и произносить тосты. Потом Максуд отвез меня в гостиницу “Москва” на горе — ее уже нет — и строго сказал администратору: “Имей в виду, это мой друг”. Этого было достаточно.
Для моих друзей это были не лучшие дни. За три или четыре дня до этого Максуд за рулем своей “волги” переезжал железнодорожный путь, и у него заглох мотор. На него шел поезд. К счастью, Максуд успел выскочить из автомобиля.
В эти же дни у Юлика Гусмана умер отец, и я пришел к нему в дом на поминки.
Но, несмотря на их печали, все равно — я был гость и друг, и мне было хорошо с ними. И — при подписании договора и получении аванса — не хотелось думать о сценарии про благородного нефтяника.
Но кое-как приобретенные сценарная техника и профессионализм пригодились — я сочинил сценарий “Льдина в теплом море” за десять дней. И довольно ловко.
На студии сценарий — песнь торжествующего социалистического труда — понравился и сразу был принят. А я сразу попал в больницу с открывшейся — скорее всего, от перенапряжения и нервов — язвой.
Почти через месяц Ира привезла меня из больницы домой. Не успел порог переступить — звонок. Из Баку. Директор и романист Алибеков. Плачущим голосом: “Павел! Это тридцать седьмой год, да? Госкино не пропустило сценарий!”
Впору язве снова открываться.
Поехал объясняться в Госкино. Но, глядя в рыбьи глаза редактора, понял всю бесполезность красноречия и логики.
Фильм по моему сценарию под названием “Льдина в теплом море” все же был запущен на ТВ, которое всегда было не прочь подкузьмить Госкино. Режиссером стал Юлик Гусман.
“Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя”.
Прит. 24.10Но если ты любишь…
Глава 9
Мне вспомнились слова Рабби Нахмана из Вроцлава: “Пока горит пламя жизни, все можно исправить”.
Исаак Башевис ЗингерМеня берут — “по скорой” — с приступом язвы из поликлиники на улице Рылеева, к ней приписан Союз кинематографистов. Вывозят на каталке, и последнее, что я вижу, перед тем, как меня втолкнут в “скорую”, удивленное лицо Эльдара Шенгелая.
Кладут в “свою” Измайловскую больницу 4-го Управления Минздрава РСФСР. В отделение хирургии. Больница знакома, не так давно здесь — как и я, по поводу язвы — лежал Алёша Габрилович, я приходил к нему.
Мы гуляли по парку, смеялись, он рассказывал, как он тут веселится с хорошенькими медсестрами. Вдруг веселье кончилось — он сам заподозрил у себя рак. И оказался прав. Его спас — в буквальном смысле слова — замечательный хирург Саша Ермолов, Александр Сергеевич, с которым мы потом подружились. В 92-м году он станет директором Института имени Склифосовского.
Операция была сделана так блестяще, что не осталось и следа рака, Алёша мог жить долго, как отец. И подорвался на “паленой” водке, не дожив до шестидесяти.
И в который раз, забывая, о чем пишу, — терзаю себя вопросом… Почему они меня бросили? Почему так рано ушли?
О, как же я ненавидел советские медицинские учреждения! Всякий раз входил, как на допрос в следственный отдел прокуратуры, только что руки за спину не заломлены. С чувством вины, будто я злостный правонарушитель-рецидивист.
Сразу же, как только переступил порог больницы, отнесись к себе как к чему-то постороннему. Здесь вроде бы теряешь возраст и становишься ребенком. Молодая женщина-врач говорит — приторно и деловито: “Умница. Молодец. Ну-ка, мой хороший”. В ответ на это появляется желание капризничать, жалеть себя и обижаться из-за того, что не дают лекарства, которым лечат соседа.
“Вошли две девушки…
— Алеша здесь? — спросила которая покрупнее, переврав, конечно, фамилию. — Алеша здесь?
— Да, да, я.
Они двинулись ко мне упругим шагом, в подбритых бровях, в локонах. Обе были в белых халатах, и одна держала на руках ящик со стеклянными пробирками разных калибров — ящик-дикобраз, весь в стеклянной щетине.
Помню, я сказал им навстречу:
— Служба крови”.
Юрий Олеша“Ящик-дикобраз в стеклянной щетине” — это здорово! Метафора делает образ неопровержимым. И достигающим заданной цели.
Только не подражать, только удержаться!
Запись 81-го года, больница
Человек все-таки растение. Когда смотришь, как из тебя выдавливают красный сок…
Ночью я проснулся оттого, что мой сосед по палате — шестьдесят восемь лет, знаменитый хоровой дирижер, — говорил во сне ясно, отрывисто и каким-то чужим для него голосом: “Мама. Мама. Мама”.
Днем его — смущенно — приходит навестить дама, которую он не сразу узнаёт. Хотя, мне кажется, между ними что-то “было”. Она из Саратова, где выступал хор. Отдыхала только что в Крыму. Смущена и потому чуть развязна. Часто смеется. Неинтересно рассказывает о Крыме. Он лежит на спине с закрытыми глазами. Она вдруг — робко:
— Я вас утомила?
Он молчит.
Она пугается, суетится, достает из сумки три крымских яблока и искусственные гвоздики. Их продают за оградой — при больнице морг. Как только она за дверь, дирижер фальшивые гвоздики испуганно выбрасывает. Перед сном Народный артист России, не таясь от меня и другого соседа, шепчет молитву и крестится. Страх?
А я свой крестик оставил дома — тоже страх, страх! Только другого рода.
Моя Ира, по отцу Владимиру Николаевичу — Рудакова, крещеная. Ее прадеды — с двух сторон — священники.
Ее и маленькую Катьку крестили в церкви под Можайском, недалеко от Вереи, куда в райбольницу после мединститута распределили Нину Николаевну, Ирину тетку, и ее мужа Владимира Бруновича Изаксона. Старуха-нянька их детей — Кости и Наташи — прислуживала в Ильинской церкви Ильинской слободы на окраине Можайска.
А мою маму и сестру Ольку крестил отец Александр Мень. В Новой деревне.
Из сценария “Ожидание”, 1981 год
— А ты энти вот пальчики, указательные, сложи так, щепоточкой, будто соль берешь, а энти пригни к ладошке, — тихо говорила маме хозяйка. — И молись… Пресвятая Владычице Богородице, свете помраченныя моея души, надеждо, покрове, прибежище, утешение, радование мое, спаси и сохрани раба Божиего Александра и из геенны огненной извергни его…
— Спаси и сохрани, — безумно глядя на нее, сконфуженно улыбаясь и обливаясь слезами, говорила мама. — Спаси и сохрани… Александра… Спаси… Спаси… Спаси…
— Ты что? Перестань! — закричал Митя, бросаясь к маме. — Вы с ума сошли? Что с ним? Что вы с ним сделали? Где он? Где? Что вы делаете? Кто? Зачем вы все? Зачем? Ненавижу! Ненавижу!
Две фигуры, высокая и маленькая, возникли в утреннем розовом пространстве. Пропали в овражке, появились снова, становясь все больше и резче, вышли на дорогу и приблизились к дому.
— Это ваш мальчик? — спросил человек, стоя в открытой калитке.
Мой друг Юра Хориков — тогда — в недавнем прошлом офицер Советской Армии, кавалер ордена Красной звезды, переводчик академии Генштаба. Когда он — редко — надевал форму, я говорил, что он похож на Николку Турбина.
На заработанные то ли в Йемене, то ли в Уганде деньги он купил “Волгу”. Мы садились в эту “Волгу” — он был в штатском — и ехали в Филипповский переулок сдавать бутылки. Оптом. Под восхищенными и жадными взглядами алкашей открывался багажник, где были, как минимум, пять пустых бутылок из-под шампанского. Обычные поллитра стоили двенадцать копеек, а эти, кажется, шли за семнадцать.
Или ехали на Дорогомиловский рынок — продавать знакомому барыге отличное зеленое сукно, которое выдавалось в Генштабе на индивидуальный пошив формы. Но это уже была операция посерьезней: выручка тянула на “Арагви” с приглашением друзей — Княжинского, Бойма, Горемыкина…
И вот ведь — Алёшку Габриловича во время войны крестил — по приказу его мамы Нины Яковлевны — коммунист, замполит полка Андрей Андреевич Вербенко. Полковник. А меня — всего лишь беспартийный капитан. Я Юру просил: ну, дослужись до майора, все-таки два “просвета”. Но он ни в какую. И не просто уволился из Советской армии — вырвал, выдрал себя из ее рядов еще до всеобщего развала.
И он, уже переводчик-синхронист, работающий на ООН в Женеве, посадил нас в свою машину — теперь это были “жигули” — и повез в Можайск. Меня крестить и нас с Ирой венчаться. С нами была сестра Оля. Они с Юркой держали над нами венцы.
Вера есть невыразимое чувство, но осознанное через мысль, которая говорит с тобой — внутри тебя — на твоем родном языке.
Кто поймет меня, тот поймет.
“Крещеный еврей — и в глазах евреев, и в глазах христиан — остается именно крещеным евреем. Предателем, добровольно сделавшим это то ли ради благ, то ли по глупости…”
Интернет. Глобальный еврейский онлайн-центрВ глазах евреев, в глазах христиан… Слова, слова! Главное все-таки — кем быть в глазах Бога.
Креститься ради благ? В советское-то время? В партию вступали ради благ, это да. А креститься? Тайно, как я и другие. По знакомству. Иначе запишут “в книгу”, а потом сдадут сведения в КГБ.
Да и глупцов среди “выкрестов” — ненавижу это слово — особенно не было. Все-таки чаще это был результат умственной работы, а не только чувств.
У многих это было обдуманное решение. Или искренний порыв. А у меня?
Сначала меня крестил русский язык, потом моя любовь, желание быть вместе с ней во всем. И наконец, настоятель бедной церкви на окраине Можайска. Фронтовик, отец Борис. Через несколько лет его убьют бандиты, грабившие бедную церковь.
“Еврей-христианин не только не перестает быть евреем, но еще глубже начинает понимать смысл духовного призвания своего народа”.
О. Александр Мень— Хирургия, завтракать!
Старуха-нянька идет по коридору, сзывает всех зычным голосом. Она всегда задерживается в нашей палате, чтобы поговорить со стариком-дирижером. С гордостью вспоминает, как в тридцатых гуляли — она и подруга — с двумя партийными и отказались выйти за них замуж по любви, потому что те не захотели венчаться.
Я завтракать не иду. Я уже снят с довольствия. Операции не будет, слава богу. Мои операции еще впереди.
Наброски из ненаписанного романа
Неспокойно было на улицах Эльсинора. Слухи ходили — Фортинбрас с войском на подступах. По дороге то ли в Польшу, то ли в Грузию. А тут еще и траурные флаги повсюду поразвесили, плещутся на ветру. И многие искренне и горько плачут и рыдают, хоть и не имеют понятия, по кому траур.
Напоследок Сашка — по пути — куда, еще сам толком не знает — присел на корточки перед полуподвальным окном, изначально замазанным белой краской. Однако любители давно уже процарапали в ней смотровые отверстия.
Внизу был басссейн. Он шумел, плескался, светился. В зеленой электрической воде, держась за доски и мощно взбивая воду розовыми толстопятыми ножищами, плыли по параллельным дорожкам девки в разноцветных, блестящих резиновых шапочках. Можно было представить их большими рыбами, которые так и уплывут отсюда в море.
Как и обычно, Сашка здесь был не один — и все тоже, как и он, на корточках. Никто не таился друг от друга, у каждого были свои любимицы, фаворитки, как на бегах, их отсутствию огорчались и появлению новых персонажей удивлялись, и все делились куревом, все обменивались замечаниями и слухами.
— Кого? Кого?
— Какой-то Пушкин, говорят!
— Какой еще Пушкин-Мушкин?
— Да нет! Сталин, говорят.
— Какой еще Сталин-Ленин?
— Да король, слышь, помирает.
— Олух! Да уж совсем помер, с концами.
— Братва! Рупь за сто — Гамле́т на трон взойдет!
— Лафа! Он же чокнутый на всю голову, тогда повеселимся!
— Вот, ужо он им пропишет ижицу, ужо покажет кузькину мать!
Деньги в кармане, Сашка — на ходу, в толпе — прижимает их рукой. Не ровен час, пронюхают крысята-бесенята, распотрошат, как цыпленка. Как подумал, они уже тут как тут — шорх-шорх шершавыми подошвами…
Что? По-прежнему, как в юности, не дает покоя пушкинская аллитерация? Первая фраза “Пиковой дамы” с этой перекатывающейся во рту рассказчика буквой “р”?
“Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова”.
А здесь захотелось — с помощью буквы “ш” — зловеще пошипеть. Ведь кто такой бес? Змей. Соблазнитель, провокатор, невинных душ преследователь.
И не только “первый винокур”, если верить Льву Толстому. Он еще и первый педофил. Совратил двух невинных нагих детей, обвился — гад ползучий — вокруг ствола райской яблони и наслаждался зрелищем.
Труд создал человека? Не тот ли, который затратила Ева, срывая яблоко?
Наброски из ненаписанного романа
Стражники у ворот отвлеклись — безумная мышь каким-то образом взобралась на телеграфный столб — аж к проводам. Гоготали, вместе с зеваками вокруг столба стоя, кто-то солидно объяснял, что есть такие мыши — с крыльями, летают, кто-то тащил кота. Дико орал котище, царапался, вырывался — не хотел ловить мышь.
Сашка подошел поближе. И опять — шу-шу-шу — то ли Сталин, то ли Пушкин…
Сталин всегда и везде, Пушкин всегда и везде. А помнишь Пушкина на шоколаде с Пущиным и няней? А на мавзолее помнишь Сталина — в 52-м году, 1 мая?
Я — в двенадцать лет — на трибуне почетных гостей. Но почетный, натурально, не я, а Ираклий Моисеевич Тоидзе. Пригласительный билет был на двоих, он мог взять только сына. Сандрик категорически отказался идти без меня и, чтобы усилить свою позицию, повалился на пол и стал дрыгать ногами. Ираклий Моисеевич покорно согласился.
С Пушкинской площади мы, беспрепятственно минуя милиционеров, дошли до Манежной. На ближних подступах кордоны оказались посерьезней. Проверяли билеты майоры и полковники КГБ, хотя форма и знаки различия были другие, милицейские.
— Извините, Ираклий Моисеевич, — сказал большой военный, держа в руках красивый билет, — но второго мальчика мы пропустить никак не сможем.
Сандрик очень рассердился. И дважды дернул отца за рукав рубахи — тот нес пиджак через руку, подкладкой наружу, но не из-за температуры, а от скромности.
— Папа, надень пиджак!
Папа послушно надел пиджак, зазвеневший четырьмя медалями лауреата Сталинской премии. Чекист улыбнулся и взял под козырек.
Должен признаться. Несмотря на то что я всем врал в подъезде и классе, что видел Сталина, я, как ни старался, так и не смог его разглядеть на мавзолее.
Что ж скрывать: в моем детстве — у меня — было два бога: Сталин и Пушкин. И молитвы им были — мои: поэту — чтение его стихов, существующих для меня тогда только в красоте и в звуке, но не в своих смыслах и тайнах, вождю — ночные красочные игры в полусне — фантазии, сближавшие меня с ним — великим, производившие меня в его любимца и соратника.
Позже в сценарии “Деревенский футбол 49 года, или Ожидание” возникла такая фраза у самого первого Сашки, обиженного на брата и всех взрослых:
— Товарищ Сталин! Что же они со мной делают?
Ну а к кому еще обратиться за помощью? Пушкин умер, как следовало из цифр под его портретиком на тетрадной обложке: 1837–1937. А Бога ведь еще не было.
“Вместо сотворения полноценного романного мира, населенного вымышленными героями, она пытается создать «вторую действительность»”.
Эмили Ван Баскирк о Лидии ГинзбургТринадцатилетний Сашка в центре второй действительности. В которой неожиданно и дико — в сознании или подсознании — соединяются похороны Пушкина и похороны Сталина. В которой нет границ между Сашкиным Эльсинором и Ереваном моего девятилетнего детства.
И что же — выдать все это за роман?
Не получится — кино по-прежнему держит за горло.
Кино — одновременность создаваемой реальности и кинонаблюдения над ней. В этом принципиальное расхождение кинематографа с литературой, где одновременности воссоздания реальности и ее — зримого — воплощения в слове нет и быть не может.
Наброски из ненаписанного романа
Тем временем два юных ангела беспрепятственно входят в город. Те самые, что явились в Содоме. Вообще, служба у них такая. Предупреждать о грядущих катастрофах и нашествиях. Опасная, между прочим, служба.
Тогда праведник Лот лично спас парнишек от коллективного изнасилования. Но в Эльсиноре праведников не наблюдалось, а сами эльсинорцы — народ грубый, откровенный, отчаянный, тоже кого хошь снасильничуют за милую душу.
Господь! Большие города обречены небесным карам. Куда бежать перед пожаром? Райнер Мария РилькеНаброски из ненаписанного романа
— Эй, пацан! Стой! Ты куда?
— Пропустите, дяденьки! Я за ворота! Только на минуточку! Чесслово! У меня домашнее задание по зоологии! Мышь поймать.
— Не слыхал, тетеря, у нас за выход плата! И немаленькая. В связи с инфляцией и колебанием курса. Раскошеливайся, неча сопли жевать!
Стая белых ворон поднялась в черное небо и улетела — молча — навсегда…
Нету Гамлета, сбежал! Сделал ноги.
А у вас так бывало, когда грудь, когда душа полны слез и страха, но ты знаешь, что все равно сделаешь, что задумал?
“Я один, все тонет в фарисействе, — повторяет внутри себя Сашка и мечется в поисках выхода — прохода, щели, лаза, подкопа — за ограду, в чисто поле. — Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить — не поле перейти!”
Что за чушь? Что я написал? Откуда мальчишка в 53-м мог знать эти стихи из “Доктора Живаго”?
Когда в 50-м году отчим — после интриг и скандалов — в пух и прах разругался в Ереване с руководством Русского драматического театра имени Станиславского и был отчислен из труппы, мы буквально бежали в Москву.
Мне нравился Ереван, но я там тосковал — понемногу. И был счастлив, что скоро смогу увидеть своих друзей по подъезду и, захлебываясь, поделиться с ними своими наблюдениями над жизнью в другом городе и соображениями об отношении полов. Но оказалось, когда встретились, что на эту тему они гораздо более продвинуты. Да и в трех мушкетеров уже не играют. Они были старше меня, а мне было десять лет.
Обратную дорогу на поезде в Москву я совершенно не помню. Ax, если б знать, что когда-нибудь понадобится та жизнь. Если бы тогда понимать, за чем следить, что запоминать!
Неплохо бы работу дать уму, Немного поразмыслив об утратах, О долгих детских днях и о закатах, Раз навсегда ушедших — почему? Райнер Мария Рильке1983-й, сентябрь. Москва, улица Эйзенштейна. Наконец-то у нас своя квартира. Пять лет скитались — не особенно горюя — по чужим домам и квартирам, не имели собственной крыши и стен. И вот!
“Невозможно предполагать, чтобы вся жизнь была из одного труда да неудач. Бог даст, и выйдет что-нибудь”.
Константин ЛеонтьевДва дома напротив студии Горького. В одном — хорошем — живут Ростоцкий, Сегель, Фрез, Лиознова и другие “известные советские кинематографисты”. В другом — бедная пятиэтажка, “хрущевка” — непонятно кто, всякой твари по паре, но он тоже “студийный”, тоже в ведении Союза.
Кто-то выезжает из него в Дом ветеранов, и в крошечной двухкомнатной квартирке поселяемся мы. При горячем содействии Толи Гребнева, тогда председателя нашей сценарной комиссии. И при доброжелательстве Льва Александровича Кулиджанова, тогда Первого секретаря Союза. Толя Гребнев, как и он, тбилисец, его друг и соавтор, сделал ему из-за нас, как говорят в Одессе, дырку в голове — и он “подписал”.
Я был не очень заслуженный член Союза, совсем даже не заслуженный. Но Ирину маму все помнили, да и Иру любили. И кроме того, начальство несколько умиляло, что мы, несмотря на все зловещие пророчества и ожидания, вместе уже пятый год.
Недорогой ремонт в первой квартире производил задумчивый гастарбайтер, украинец-”западенец”, как ни странно — поклонник и последователь философа Николая Федорова, “основателя русского космизма”.
Мы в эти летние месяцы жили в Болшеве. “Западенец”, в отличие от своего духовного учителя, мечтавшего преодолеть смерть и населить мир воскресшими предками, пока что — для начала — населил нашу квартиру некоторым количеством совершенно живых колумбийцев, уж не знаю, откуда он их взял. Так что после этого в отремонтированной квартире долго попахивало не только краской, но и марихуаной.
Мы вдвоем с Ириной, надрываясь, втащили на третий этаж тяжеленную тахту, поставили для Катьки детскую старинную кровать, которую нам подарила подруга Норы Агишевой и главный редактор райзмановского объединения Ада Репина, и стали жить. Вчетвером. Четвертым был любимый французский бульдог Гек, по паспорту — Гекльберри Финн.
На новом месте стали сниться новые сны.
Время от времени доходят глухие слухи о Давиде Маркише, уже одиннадцать лет жившем в недоступном Израиле. И вот…
Запись 1983-го
Опять тот же сон. Давид. И как будто он ездит оттуда сюда, а отсюда — туда. И что-то есть в этих поездках, в этом постоянно запутанном сюжете такое, что меня волнует и внушает странное чувство опасности, риска, тоски, раздражения.
Сон — задолго — оказался “в руку”. В 89-м Давид появится в Москве.
В скором времени свежий еще ремонт сильно пострадал. В “хрущевке” с ее жидкими гипсокартонными перекрытиями стали менять трубы, стояки, батареи. В полу кухни образовалась дыра, сквозь нее можно было наблюдать, что происходит на кухне второго этажа.
А происходило там постоянное пьянство и буйство. Одновременно с нами в нижней квартире появился — непосредственно из места заключения — сын старушки-хозяйки, мрачный и всегда нагло и опасно пьяный рыжий уголовник, отбывший срок за бандитизм. Когда он у себя на кухне поднимал глаза, а я — на кухне у себя опускал, взгляды наши встречались — в дыре. И я — на всякий случай — глаза отводил.
У нас совершенно не было денег, только список долгов. Но мы жили хорошо. Ирина попыталась продать какие-то немногие драгоценности, оставшиеся от мамы. Приятель посоветовал одного верного — специального — человека. За небольшие комиссионные он брался выгодно сбыть товар. Комиссионные на поверку оказались слишком большими. “Специальный” взял драгоценности на показ клиенту и пропал с ними навсегда. По слухам — непроверенным — его убили. Если так, в какой-то степени это его оправдывает.
Но мы жили хорошо. Нас не тяготило ни “съемное” существование в чужих квартирах с ужасными обоями, из-под которых время от времени выползали клопы, ни дырка в полу первого нашего собственного жилья.
Жить лучше? Да что это значит? Мы жили хорошо.
И очень существенный вклад в такое состояние, конечно, вносила Катька. Это было, как наблюдать день за днем произрастание цветка. Вот выстрелил стебелек и окреп, вот расправились лепестки, и вот, наконец, раскрылся венчик — прекрасное и благоуханное цветение.
Любовь и кровь не всегда рифмуются, это я хорошо знаю. Может быть, любовь все-таки важнее крови?
Катька рассказывает страшную историю. Начинается она так:
— У одной дочки была мама…
Конечно, мы с ней потихоньку ревновали Иру друг к другу. Но жили мы хорошо.
“О деньги, деньги! Без них человек не живет, лишен всех радостей, а неприятности сильнее чувствует”.
Алексей ВульфБез всякого договора, а значит, и без аванса, который составлял тогда сумму полторы тысячи рублей без налогов, а чистыми тысячу триста, я стал собирать материал для сценария, который вдруг пришел мне в голову. Но не случайно.
Тогда я часто виделся с Ольгой Георгиевной Чайковской, красивой и смелой женщиной, родившейся в 1917 году.
“Ольга Георгиевна Чайковская — российская писательница, правозащитница, журналист… Статьями О. Г. в основном были очерки на темы морали и права, в каждом из которых брался под защиту кто-то, жестоко пострадавший от органов власти. Известность ей принесли статьи в «Известиях», затем в «Литературной газете»”.
ВикипедияОчерками Чайковской, Ваксберга, Богата, Борина, Щекочихина, Графовой зачитывались. “Литературка” того времени, не в пример нынешней, была среди газет постоянным популярнейшим бестселлером. По аналогии со странно переведенным названием романа Пруста эту деятельность газеты можно было назвать “В поисках утраченной справедливости”.
В один из вечеров у Ольги Георгиевны дома — за чаем — она познакомила меня с настоящим сыщиком, опером. Занятнейший человек, Алексей Алексеевич Пель-Дмитриев. Как я только сейчас узнал — сын кинорежиссера двадцатых — тридцатых годов Алексея Дмитриева, снявшего комедию “Механический предатель” с Ильинским.
Небольшой, круглоголовый, с живым, внимательным взглядом умного, а когда надо — прикидывающегося простачком человека. В отставку он ушел майором, а тогда был всего лишь капитаном, хотя был известен в милицейских кругах и, конечно, заслуживал большего. Видно, дело было в неординарности и характере. А начальство не любит ни то, ни другое.
В его работе было два вроде бы совсем не связанных между собой направления. Он был специалистом по поиску похищенных антикварных коллекций. И по “малолеткам”, беспризорным, безнадзорным, спутавшимся со взрослыми урками. Находил он их на чердаках, в подвалах, в притонах и пытался спасти. Сейчас я жалею, что мало увязывался за ним в его постоянных походах по Краснопресненскому району.
Но все-таки он брал меня с собой в детский дом, где содержались дети родителей, лишенных родительских прав. Алкашей и алкашек, проституток, уголовников, мотавших срока. Несчастное потомство опившегося “солнцедаром” населения. Алексей Алексеевич наблюдал за этим отчаянным и отчаявшимся “контингентом”, знал каждого и понемногу опекал. Контингент совершенно не торопился исправляться, а даже наоборот. Но он не оставлял усилий.
Приходил я с ним и на заседания райисполкомовской комиссии по делам несовершеннолетних. Сюда вызывали — для проработки — несчастных детей, смотревших на этот мир исподлобья. Детей с такими явными признаками вырождения на лицах, что хотелось плакать.
Из записной книжки
Тетка, член комиссии:
— Жалеть — это полумерка, жалость — это помощник очень относительный.
А он — человек военного детства — их жалел, я это видел. И вот такого странного и “человеческого” сыщика я попытался написать в сценарии. И мне не нужно было выдавать желаемое за действительное. Он же был — вот такой человек.
Наша славная подруга Мила Голубкина — Людмила Владимировна — руководила тогда Сценарной студией в Воротниковском переулке, в одном особняке с редакцией “Альманаха киносценариев”. Позже здесь будет Галерея Нащокина, где ее талантливая хозяйка Наташа Рюрикова устраивала незабываемые выставки — праздники московской интеллигенции. А еще позже, уже недавно, галерею грубо и бесцеремонно выперли из нащокинского особняка, поскольку особняк в центре Москвы был уж очень лаком и соблазнителен.
Ура! Сценарная студия заключила со мной договор. Помните? Аванс полторы тысячи, чистыми тысяча триста! И я написал “Детскую площадку”. Героями ее были два одиноких юных существа, сироты — Роман и Жанна. Читай: Ромео и Джульетта.
Через три года — уже в новой для моей сценарной “карьеры” жизни — на “Ленфильме” сценарий снимет Светлана Проскурина. Сыщика сыграет Николай Лавров из Театра Додина, уголовника, дьявола-соблазнителя — любимый актер Витя Проскурин, Романа — Вадим Любшин, сын Славы Любшина.
А главную героиню Жанну — и это было так дорого для меня — такое же юное одинокое существо, такая же сирота — дочка Гены Шпаликова и Инны Гулая — Даша Шпаликова.
Все прощание — в одиночку, Напоследок — не верещать. Завещаю вам только дочку — Больше нечего завещать. Геннадий ШпаликовДаша училась во ВГИКе в мастерской Сергея Бондарчука. Однажды Катя Васильева — это она мне рассказывала — ехала на машине за рулем, сзади сидел сын ее друга из Ленинграда, прекрасного оператора Димы Месхиева — как и он, тоже Дима. Катя везла его из ВГИКа, он там учился на режиссера, у Марлена Хуциева. И жил у Кати.
Незнакомая девушка “голосует” по пути. Катя не останавливается, едет.
Вдруг Дима, сообразив:
— Да ведь это Дашка Шпаликова! Дочка Шпаликова! Давай ее возьмем!
Спаси меня, Катя Васильева, — О жалкие эти слова. А ты молодая, красивая, Конец мне, конец, ты права. Не плачу. Не то разучилось, Не то разучили меня, Но вот под конец получилось — Одна у меня ты родня… Геннадий ШпаликовКатя подала машину назад…
Теперь уже она опекала и Дашу. Нас мало осталось, друзей Шпаликова. Но — по мере сил и возможностей — Катя, Юлик Файт, мы — я и особенно моя жена Ира, многие уже годы пытаемся ей помогать. А ей, к несчастью, очень нужна помощь. И мы, хоть в какой-то, может, малой — недостаточной — степени, но все таки выполняем последнюю волю нашего друга, его просьбу, обращенную к нам: “Завещаю вам только дочку”.
В тот день, когда хоронили Брежнева, сыщик Алексей Алексеевич привел меня в “уголовный” морг на улице Россолимо. К Брежневу это посещение никакого отношения не имело. Перед этим сыщик спросил меня, не интересуюсь ли я — для своей киношной работы — посмотреть, что такое морг, куда свозят еще не опознанные трупы. Я совершенно этим не интересовался. Но горячо согласился.
Когда я теперь вижу в американских сериалах, как начинающие молодые полицейские обязательно — под снисходительными взглядами своих закаленных старших товарищей — блюют первый раз в морге, я верю, что это вовсе не для натуралистической эффектности сцены.
Я, правда, не блевал. Не успел. Из помещения, как туманом наполненного серым, густо проформалиненным воздухом, Алексей Алексеевич отправил меня на улицу. А сам остался разбираться с каким-то интересным для него трупом.
Потом мы вышли с Россолимо на Садовое кольцо. Как раз в тот момент, когда гроб с телом Брежнева сняли у Кремлевской стены с артиллерийского лафета и стали опускать в могилу. Странно пустая ноябрьская Москва гудела мрачным траурным салютом заводов и фабрик. Но говорили мы не о Брежневе.
Алексей Алексеевич рассказывал мне об одном очень громком деле двухлетней давности. Сейчас-то это дело об ограблении в 80-м году квартиры вдовы Алексея Толстого уже давно размножено в очерках и детективных сочинениях, в документальных фильмах, телевизионных передачах и сериалах, в интернете. Набившая оскомину история. Но тогда я одним из первых узнавал подробности от одного из участников расследования.
Мне было это особенно интересно, потому что застреленную в Париже красавицу-наводчицу, очаровавшую вдову писателя, в результате чего та лишилась каких-то баснословных драгоценностей, я знал.
Вероника Пордео. Она заметно тусовалась тогда в центровых московских компаниях, загородных кабаках с “настоящей” музыкой и в нашем ресторане Дома кино. Внимание привлекала не только фамилией — она была женой французского дипломата. Она действительно была очень хороша собой — на передних сиденьях дорогих и, в общем, редких тогда собственных иномарок.
На одной такой, кажется “порше”, спортивный вариант, Веронику к нам в Серебряный бор привез Ваня Дыховичный, тогда еще актер “Таганки”. Это было за год до операции с квартирой Толстого на улице Алексея Толстого. Приехал он к нашему соседу-визави Володе Валуцкому — он дружил с ним и с Аллой Демидовой. Через год Володя напишет для него сценарий студенческой курсовой работы.
Но наконец все узналось про Веронику. Мы охали и ахали и, сопоставив по времени, понимали, что тогда, когда в доме у Валуцкого пили виски и закусывали маслинами и орешками из “Березки”, Вероника вместе со своим любовникомодесситом по имени Леня Слепак, возможно, уже разрабатывали план налета на квартиру вдовы. И, что греха таить, теперь мы отчасти даже гордились таким экзотическим знакомством.
В тот — прошедший — вечер будущая наводчица была очень мила. Позже мы проводили ее в Москву. Я еще встречал ее несколько раз, и она всегда так же мило со мной здоровалась, вызывая несколько удивленные взгляды моих знакомых.
Ваня остался в тот вечер. А утром я уехал вместе с ним. На переднем сиденье “порше” я, пожалуй, выглядел не так эффектно, как Вероника. По дороге мы обсуждали поступление Вани на режиссерские курсы. Он уже подал заявление.
До этого я бывал в доме у Вани и его тогдашней жены Оли Полянской, где у них часто собирался разнообразный московский народ. Ваня всегда был гостеприимен, доброжелателен, обаятелен и обычно, к общему удовольствию, пел под гитару стихи Дениса Давыдова:
Я люблю кровавый бой, Я рожден для службы царской! Сабля, водка, конь гусарской, С вами век мне золотой!Ну и, конечно, “Мастер и Маргарита” на “Таганке” с постоянными аншлагами и мольбой о билете! Не забыть лицо Вани в сцене на балу у сатаны — на фоне голой спины Нины Шацкой — и выкрик его Коровьева:
— Мы в восхищении! Мы в восхищении!
Но режиссер? Это я мог себе представить с трудом. И, как оказалось, напрасно. С первых же его шагов и работ еще на Курсах и с первой картины “Черный монах” он поразил меня целеустремленным и последовательным киноязыком. Своим киноязыком. Он был своеобразен, талантлив и, что очень важно, умен — а это не так уж часто — в режиссуре.
И еще раз, но уже в последний, он поразил меня своим мужеством.
Дважды мы были на грани общей работы.
Впервые — еще до “Черного монаха” — когда он прочитал мое “Ожидание”. Как и другим, сценарий о дачном детстве ему понравился, он ему был близок. Но он к тому же еще и сразу же увлекся, загорелся.
Ну и всё на этом, дальше дело не пошло. Планы студии, его давние планы… Поди пойми! Иной раз режиссеров вообще понять трудно. Словом, рок, преследовавший мой несчастный сценарий, в очередной раз помешал прорваться ему на экран. А жаль. Но мы, оставаясь в прекрасных отношениях, как-то об этом оба вскоре забыли.
Прошло больше двадцати лет. Я безуспешно пытаюсь экранизировать книгу Владимира Владимировича Познера “Прощание с иллюзиями”, изданную впервые не в России, а в Америке, где она была несколько недель бестселлером.
Почему безуспешно? Ведь я же такой “мастер экранизации”. И всегда самонадеянно заявляю, что могу экранизировать все! А это не могу! Книга, где удивительный поистине сюжет жизни автора — повод для размышлений и публицистических высказываний, никак не поддается, хоть тресни! А ведь все это рассчитано на сериал с соответственно увлекательным сюжетом.
Все же пишу, мучаюсь, но пишу. Серию за серией. Перечитываю — у самого с души воротит, так это все неинтересно. Что-то во мне сопротивляется. Что? Не пойму. Может быть, причина в том, что нужно заново “родить” для кино реального, живого человека, с которым я вижусь чуть ли не каждый день и говорю. И когда вижу его, когда говорю, мне интересно, а на бумаге — нет! Так не лучше ли, если он будет сам с экрана рассказывать о себе?
Отец — разведчик, мать — красавица француженка, бегство семьи героя из Парижа, оккупированного немцами, детство в Америке, в советском секторе Берлина, юность в Москве за год до смерти Сталина…
Материал привлекательный, да и врать вроде бы особенно не приходится, и обличать язвы западной цивилизации не нужно — по тому времени.
И тогда приходит спасительная мысль — отложить все написанное, позвать хорошего режиссера и уже вместе с ним придумать оригинальную форму сериала. Надя Соловьева, жена Владимира Владимировича, наша давняя приятельница, “одна из наиболее известных фигур в российском шоу-бизнесе” и продюсер сериала, предлагает Ваню Дыховичного.
Ваня читает книгу, соглашается. Все идем к Эрнсту, договариваемся. Так сказать — “протокол о намерениях”.
Встречаемся у Познеров в Вспольном переулке. Ваня осторожен, для него пока это тоже все не очень обычно и понятно. Но работать не отказывается. Говорит, что давно хотел что-нибудь сделать со мной. При этом про сценарий “Ожидания” мы не вспоминаем.
Выходим. У подъезда стоит его автомобиль. Кажется, тоже “порше”, как и двадцать лет назад. Но сейчас я не сажусь на первое сиденье. Мы стоим возле и долго-долго разговариваем. О том, о сем. Об общих друзьях. О проклятом кино. Он рассказывает о фильме, над которым давно работает, — о Маяковском. Изабель Юпер согласилась играть Лилю Брик. Но нужно искать деньги. Он уверен, что найдет.
Мы договариваемся созвониться и встретиться для работы. Он садится в автомобиль, уезжает. И исчезает. Не звонит. Через две недели от Нади Соловьевой узнаю, что он в больнице. И узнаю, по какому поводу.
Звоню ему сам. Не сразу могу решиться на этот звонок. Как говорить с человеком, который знает, что обречен — во всяком случае, на борьбу за жизнь? Для кого-то это просто, для меня — нет. Но Ваня спокоен, и о смерти говорит спокойно, и как будто больше ободряет меня. И уверен, что вскоре выйдет и мы встретимся.
Отпевали его в Успенском соборе Новодевичьего монастыря и хоронили рядом на кладбище. А у меня все время — к месту или не к месту — в голове строчки из поэмы Багрицкого “Дума про Опанаса”.
Так пускай и я погибну У Попова лога, Той же славною кончиной, Как Иосиф Коган…Вначале он поразил меня талантом и безупречным чувством кинематографа. В конце — мужеством. Безупречным.
Середина восьмидесятых. Мы с Ириной, Катькой и Геком живем — каждое лето — не в самом Доме творчества, а в его “филиале”. “Нидалеча, нидалеча, близко каменной Москвы…”
“Нидалеча” — в тридцати километрах по Ярославскому шоссе.
Болшево. Наше Болшево. Дом творчества — дом родной. Для постоянных обитателей — Гребнева, Фрида и Дунского, Шпаликова, Миндадзе, Райзмана, Юткевича, Ежова… И часто присоединяющихся — Утесова и Райкина.
Мой, конечно, тоже. Моя память, моя любовь.
И печаль — сейчас.
Что там с ним? Разрушен, как все? Продан, как все? Захвачен, как все?
Выйдем из дверей нашего Дома и пойдем мимо коттеджей, стоящих на территории чуть на отшибе — здесь любят поселяться те, кто предпочитает независимый от общего порядка образ жизни. Аркаша Вайнер, например. У него перед домиком мангал, он жарит сосиски и дружески предлагает присоединиться. С радостью! Посидим на воздухе, выпьем, потреплемся. Был ли тогда Жора Вайнер?
И дальше — по дорожке — мимо гаражей и конторы, где есть еще три номера для проживающих. “Скворешня Кулешова”, назвал их Шпаликов, потому что однажды здесь жили великий изобретатель кинематографа Лев Владимирович Кулешов и Александра Сергеевна Хохлова, обладательница самого выразительного лица, фигуры и пластики советского немого кино.
Здесь же практически постоянно проживал бездомный тогда Эдик Тополь. Как-то я вырезал из журнала “Наука и жизнь” крупный заголовок какой-то экологической статьи — “Тополь за окном”, показал Шпаликову, и мы — под покровом ночи — прилепили это к стеклу его номера. Утром — по дороге на завтрак — Эдик увидел, пришел в восторг, и до сих пор рассказывает, как остроумно пошутил его друг Шпаликов.
А я — человек скромный — на авторство не претендую.
Выйдем за ворота, пересечем границу между нашим маленьким миром и миром подмосковного фабричного поселка, в народе носящего название Первомайка.
Как там у Шпаликова в стихотворении, адресованном мне?
…Придут соседние слепцы, Сектанты и пижоны, И духоборы, и скопцы, И группа прокаженных.Нет ни сектантов, ни духоборов, уж не говоря о прокаженных. Всех выдумал в веселую минуту Генка. Почти всех. Реальны только слепцы — дети из интерната напротив через дорогу. Вереницей, как в пьесе Метерлинка, держась за спины идущих впереди — вослед за своим вожатым. Смеются, шалят. Дети ведь, но слепые.
Мимо, мимо…
Мимо клочков земли с бедными огородиками, отгороженных от соседних кусками ржавой острой жести, мимо плетней с вечным бельем, через речку с ее мусорными берегами, через мостик — по нему на моих глазах вели топить старого сенбернара, и он плакал, — мимо свалки, сверкающей на солнце битым стеклом, мимо бани с распаренными тетками, мимо магазина “фабричная девчонка” и пивной, мимо старого бомжа с синим лицом и знаменитого всегда пьяного карлика, влюбившегося в Нонну Мордюкову. “Постой, Нонка, я тебя люблю!” — бежал за ней карлик. Любовь, впрочем, так и осталась неразделенной.
В компании с Нонной, Сашей Суриным, Алёшей Габриловичем, Валей Ежовым и Викой Федоровой мы как-то — в давно прошедшем мае — неплохо и довольно шумно проводили время в одном из коттеджей. Кончилось, правда, это неплохое время тем, что на нас написали донос в Союз, и наше “дело” даже разбирали на Бытовой комиссии.
Возмущение было общее, кара за преступления грозила ужасная — вплоть до исключения из Союза. Но как-то постепенно все так повернулось, что, в общем-то, добросердечные члены комиссии сами стали заступаться за обвиняемых. И причины для этого тут же находились.
Нонна — любимица народа, а сын ее Вовка Тихонов, молодой солдат, тянет армейскую лямку. (На самом деле безмятежно находится при Театре Советской армии.) Нонну простили. И ее тогдашний друг Саша Сурин незаметно, как говорится, прохилял в ее тени. Наоборот, лауреат Ленинской премии Ежов неожиданно прохилял за спиной Вики Федоровой. О несчастном детстве дочки несправедливо репрессированной Зои горячо, со слезами на глазах высказалась замечательная Ирина Владимировна Венжер, режиссер фронтовых киножурналов.
Алёшка проскочил не без напряжения. Подвигов за ним числилось немало. Но “старик Габрилович” совсем недавно овдовел, и наносить новый удар по лучшему сценаристу Советского Союза было бы бесчеловечно.
Нетрудно догадаться — остался я. Один. И за меня не заступился никто. И все защитники бывших обвиняемых с понятным облегчением постановили исключить меня из Союза кинематографистов. Далее это суровое решение должен был разобрать и утвердить Секретариат Союза. И секретари уже были морально готовы к этому. Но тут неожиданно выяснилось, что Финн — на то время — членом Союза не являлся.
И это меня спасло.
А мы продолжаем наш путь по главной улице Первомайки. Мимо фабричного общежития в кирпичном доме старинной кладки с универмагом в первом этаже, мимо входа в самую эту ткацкую фабрику им. Первого мая, остаток богатой Алексеевской мануфактуры, владельцами которой была купеческая семья Константина Сергеевича Станиславского, по-настоящему — Алексеева.
Фабричная архитектура начала века. Темно-красные, почти уже черно-красные кирпичные строения с цифрами на фронтонах: 1913, 1914…
И дальше, и теперь — мимо стадиона, где по утрам бегает в целях поддержания и сохранения формы Алёша Габрилович — уже можно повернуть налево — к главной цели нашего пути.
Но однажды — за несколько шагов до поворота — я вдруг увижу Розовый дом.
“Страшно подумать, что наша жизнь — это повесть без фабулы и героя, сделанная из мусора и стекла, из горячего лепета одних отступлений…”
Осип МандельштамОн действительно был, мой Розовый дом? И стоял в глубине потемневшего сада?
Поначалу казалось, что за окнами его в трех этажах будто не было жизни. Нет! Кто-то следил за мной из-за черных стекол. И вот уже в одном окне засияло девичье лицо, в другом — заалели созвездья герани…
…Гляди, продашь Христа За жадные герани, За алые уста! Александр БлокТак он был или не был, Розовый дом, на главной улице Первомайки?
Но пока что наша цель — не розовые, а серые дома, одинаковые, поначалу вселяющие тоску, но потом ничего — живешь, привыкаешь, как и ко всему.
Сворачиваем к ним с главной улицы.
По отношению к тому времени, когда мы первый раз здесь поселились, дома эти построены не так давно. Союз, в доле с поселковыми болшевскими властями, участвовал в этом строительстве, и теперь ему принадлежат несколько квартир в разных подъездах. В одних живут сотрудники Дома творчества — наши подруги-официантки и наши друзья-водители, несколько квартир — с бельем и посудой — сдаются на лето желающим кинематографистам и их семьям.
Налево пойдешь — через поле — до платформы “Первомайская” дойдешь, это Фрязинская ветка. Напротив пойдешь — реденький лесок, куда ходим гулять с Геком.
Две тетки выходят из дома, входят в деревья. Снимают сарафаны, остаются в черных лифчиках и трусах, ложатся посреди полянки на расстеленное одеяло — на спины — раскинув руки. На носах — специальные чехольчики.
— Лес! Я к нему привыкла, он несравненный!
Пожилой, годам к шестидесяти, в синей куртке и с сумочкой-барсеткой на руке. Пьяненький. Держит большую спокойную кошку. Улыбается радостно мне, как хорошему знакомому:
— Здоровеньки булы! — и доверительно: — Кошку в лес несу. Надоела, б…!
Уходит в лес, веселый и спокойный. Кошка тоже спокойна. И улыбается. Тоже.
За леском — кардиологический санаторий АН СССР “Сосновый Бор”, где есть телефон-автомат для разговоров с Москвой.
Позже я узнаю, что здесь с марта по апрель 1952 года Анна Андреевна Ахматова приходила в себя после первого инфаркта миокарда, случившегося с ней в 51-м.
У нас всегда есть компания. На разных этажах и в разное время поселяются дружеские семьи — Габриловича, Миндадзе, Агишева, все с детьми.
Некоторые из них — за прошедшее с тех пор время — успели стать кинорежиссерами. Дочка Саши Миндадзе — Катя. Теперь она подписывает свое кино, как Екатерина Шагалова. Мне очень нравится ее “Однажды в провинции”.
А тогда — в возрасте семи лет — она называлась Клепа и была ужасная фантазерка. Однажды собрала нас, повела куда-то в поле, показала холмик, положила на него цветочки и грустно сказала, что здесь лежит погибший летчик, ее безумная любовь.
В нашей квартире две комнаты, ужасная мебель с бирками. Но нам все нравится.
Под потолком живут Гриша и Маруся, возможно — семейная пара. По-научному они называются “сенокосцы”, а по народному — “косиножки”.
“Ноги иногда чрезвычайно длинны — могут достигать 16 см. Глаза простые, одна пара, расположены на приподнятых бугорках головогруди…”
ВикипедияВ общем, оказались милые и безобидные ребята. По настоянию Катьки, которая как-то раз запретила убивать таракана, “потому что он личность”, эти нелепые существа не были уничтожены посредством швабры. Шастали — беззвучными толчками — по потолку с помощью всех своих шестнадцати сантиметров. Вдруг замирали и, казалось, внимательно смотрели на нас своими простыми глазами.
И мы — по именам — представляли их нашим гостям.
Кстати, о гостях. В квартире был балкон — над периметром двора, с трех сторон ограниченного точно такими же, как и наш, домами. Однажды Резо Габриадзе, которого привел из Дома творчества Алёша Габрилович, делавший тогда о нем кино, сказал, стоя на нашем балконе:
— Что за двор! Никогда здесь не родится поэт. Только солдат.
Кто знает? Чего только не бывает, где только не рождаются поэты. Хотя, конечно, условия для зарождения поэзии здесь действительно были минимальными. Даже если вспомнить, что стихи могут расти и из сора. Как однажды гениально сказала упомянутая выше Ахматова.
Во дворе площадка с небольшой эстрадой и зелеными скамейками. Вдоль стоят щиты со злободневными плакатами. “Нет! — империализму, Да! — социализму!”.
Когда местное управление решает провести “мероприятие”, на эстраде появляется небольшой духовой оркестр, составленный из крепких и сильно пьющих любителей. Они же играют на похоронах. Я иногда встречаю их на улицах, сопровождающих грузовик с гробом. “Марш-фюнебр” и “Марш веселых ребят” они исполняют с одинаковым мастерством. Им бы только не перепутать…
Итак, раздаются звуки духовых, старухи, старики тянутся к площадке, и тотчас сюда сбегаются дети всех возрастов. Потом появляется крашеная представительница поселковой власти, с ней серого цвета лектор с орденскими планками. Он делает старикам и старухам сообщение о международном положении.
Потом вопросы. Почему-то больше всего их интересует Громыко, где он сейчас. Они уверены, что он всегда в ООН, где задает перца американцам. Лектор с удовольствием подтверждает: “Да, действительно, товарищ Громыко в данный момент находится в ООН на ассамблее, где резко критикует политику Америки и спевшегося с ней Запада…” Тогда аудитория резонно интересуется — а почему бы всем этим не задать окончательного и решительного перца. На что лектор тонко улыбается и разъясняет:
— Товарищ Громыко заявил, что время не созрело.
Снова играет оркестр. Все расходятся. Дети, возбужденные музыкой и сборищем, сначала танцуют на эстраде, а потом, войдя в раж, просто бесятся, кувыркаются и прыгают.
Девочки со светлыми и темными головками — и наша Катька среди них — играют на асфальтовой площадке в какую-то игру вроде “замри”. Они кричат: “Утро, день, ночь!” — и застывают в тех позах, в каких их застало это восклицание, образуя маленькие недвижные группки — с отставленной рукой или ногой, со склоненной головой или вытаращенными глазами. Игра называется “сова”. Как только услышат “ночь!” — все замирают. Кто первый пошевелился, тому водить.
Я часто торчал на балконе. Последить за Катькой, с компанией девчонок кружившей вблизи старой яблони посреди двора. За три года проживания в этом доме я ни разу не видел на дереве созревшего яблока — дети пожирали их стремительно, еще маленькими и зелеными.
Или, увидев на дорожке, ведущей к нам от платформы, Иришу, возвращавшуюся из набега на Москву, выскочить из квартиры и скатиться с лестницы, чтобы перехватить у нее тяжелые сумки с продуктами. Но чаще я встречал ее уже на платформе.
Чего там только не услышишь! Вот, например, пожилая тетка из ожидающих электричку рассказывает соседям по скамье:
— Сын сестре заблудился, взял жену не из своего корыта. Поехали они в это… в пансинат… И что же? За старика вышла, за торговлю, что директор… И не побрезговал, что у нее дочка пяти лет… А сейчас сморщился, как куриная попка…
“Первое выражение языка народного есть разговор, речь живая, там, где язык является в области случайности… раздаваясь мгновенно, со всей живостью настоящей мимолетящей минуты “.
Константин АксаковЧего только вообще здесь — в предместье — не услышишь и не увидишь — в мимолетящую минуту. А как использовать? В чем?
После эпохального произведения “Льдина в теплом море” наступило глухое, безработное, безденежное, безнадежное время — перерыв в два года. Туманные обещания, смутные договоренности — и ни одного реального договора.
“Пред Гением судьбы пора смириться, сер”. Может быть, действительно пора?
Все равно каждый день сажусь за машинку, что-то пишу — “для себя”. О том, что не давало мне покоя и не дает до сих пор. О квартире без взрослых.
“Сквозняки — с театральной — вахтанговской прытью дурачились в квартире. В их прохладном, ребячливом, шаловливом токе — в раскрытые вечно двери — как легкие бумажки-обрывочки — влетали, и кружились, и танцевали в солнечном фонтанчике — все — кому не лень — все, кем кипела, не выкипая, хмельная, болтливая, неугомонная, бесстрашная Москва. Девы и шлюхи, гении подпольной печати и неявные стукачи, фраера и великие абстракционисты, отчаянные мо́лодцы, клейменные неудачей, игроки после поражения, разбитые сердца и бодро утраченная невинность, распад и расчет, скупость и лихость — все принимались, никому не было отказа в корке хлеба, в рюмке водки. Все взбегали по лестнице, торопясь что-то не пропустить, кого-то не застать, а навстречу, звеня и подпрыгивая, неслись тридцать семь тысяч курьеров — гремя пустыми бутылками — на сдачу.
Ночью старый клен шелестел на фоне черного брандмауэра, легкими движущимися тенями наполнял всю квартиру. Бессвязно бормотала любовь, смешливо перебегала босыми ножками среди зеленых бутылочных осколков, с хихиканьем журчала в совмещенном санузле с ржавыми и плачущими трубами, с ссохшимся бельем на веревках, и снова падала на раскладушку или на пол и не могла насытиться. На кухне читали стихи, пили, дрались — и капала из разбитого в драке носа алая кровь…”
1983 год. Из Одессы в Москве появляется сын Алёшка. Ему четырнадцать. Вообще-то, он прибыл — один — не ко мне, а на концерт французской рок-группы “Space”. Но заезжает на день к нам в поселок. Подросток, хороший, смешной, как и полагается. Я его мало знаю, но нравится он мне все больше. А я ему?
Он меня стесняется, я это вижу. И между прочим, с Ириной чувствует себя свободней, чем со мной. Советуется с ней, каким видом спорта заняться. Он очень хорошо плавает, но врачи отсоветовали продолжать тренировки — что-то не так с сосудами, губы синеют. Впоследствии, слава богу, это никак не проявилось. Но спорт надо было менять. “Спроси у папы”, — сказала Ира.
Вот тоже, нашли специалиста! И тут я вспомнил…
Титр. За восемь лет до этого — 1975 год.
Одесская киностудия — в благом порыве к творческим переменам — собирает разных сценаристов из других городов на совещание. Зовут и меня. А я люблю Одессу — лечу. Поселяюсь не на улице Советской Армии у родителей жены — сама Нора в Москве, и мы с ней в очередной раз в сложных отношениях, — а в гостинице “Аркадия”.
Хорошо знаю эту гостиницу — жил в ней в 65-м, когда еще был женихом. Тогда была зима, декабрь. До моря, до пляжа было недалеко. И я по утрам ходил туда гулять, стоять над зимним морем и в одном только — не сезон — открытом синем павильончике пить — “в ро́злив”, из окошка — холодное и мутно-розоватое вино с сильным вкусом винограда.
Над пляжем, над обрывом к морю, к рыжим скалам, к пирсу — все другие павильоны — все шашлычные, митетейные, мороженные — на больших замках. Никого. Пустота, прекрасное одиночество.
С моря дул бешеный ветер, а у меня еще были волосы, и мне было двадцать пять, и дул романтический ветер, и скала, и шторм, скала и плащ, и шляпа, скала и Пушкин… На мне тоже плащ. Правда, не тот, что на картине Айвазовского-Репина у Пушкина.
Но несмотря ни на что, жизнь все-таки только начиналась.
А в 75-м — в октябре — во время этого студийного совещания в Одессе гастролировал МХАТ. А с ним и Сева Абдулов — неизменный Кот из “Синей птицы”, стоявший, как и я, в той же самой “Аркадии”.
Поздно вечером после какого-то мхатовского спектакля нам — большой московской компании — Славой Говорухиным и Валей Козачковым, тоже режиссером Одесской киностудии, в той же самой Аркадии, на территории санатория имени Дзержинского — была устроена грандиозная рыбацкая уха. Настоящая. Готовили ее — по каким-то высшим тайным рецептам — дружившие с ребятами настоящие одесские рыбаки.
Как же много теней теперь посещает меня. И это не только тени ушедших, но и тени живущих…
Осенние звезды над головой в черном небе, невидимое море шумит, прекрасный холод, но костер полыхает, мы все вокруг, и котел с потрясающим обжигающим варевом, и стаканы в руках. С нами еще актер Миша Кононов, мы с ним — в свете и жаре костра — говорим о Тарковском. Миша ведь снимался в “Рублеве”.
Наконец, уха на дне, костер догорает — мы с Севой уходим первые, вдвоем. Поднимаемся с пляжа наверх, идем по площадке в сторону нашей гостиницы. И вдруг звук в ночи — мотоцикл. Внутренний сигнал — опасность. И не напрасно — мотоцикл милицейский, с коляской. Останавливается возле нас. Два милиционера, старый и молодой.
Вежливо так, поначалу — чего по ночам гуляете, с каких дел? Да вот, объясняем, встретились в любимой Одессе — театр, кино… А документы? Я лезу в карман. А мне опять же — вежливо:
— Да вы седайте в колясочку, вам удобне́е будет. А вы, — это он Севке, — на седло.
По глазам — молодого — вижу: лучше сесть. И как только сажусь, он начинает обрабатывать меня ребром ладони — по моим ребрам. Севка, вообще известный драчун, с проклятиями дернулся было мне на подмогу. И тут же получил от старого дубинкой со свинцом.
За что? Почему? Спрашивать было бессмысленно. За все! За то, что из Москвы, за то, что театр и кино, за то, что старому на пенсию пора — копеечную, а молодого просто уже достала вся эта “интеллихенция”.
И он, этот молодой, пока старый держал Севу, чем сильнее меня бил, тем больше приходил в какую-то сладострастную ярость. И наконец, схватив меня за шкирку, нагнул голову и жахнул лицом о край коляски. Из рассеченной губы пошла кровь. А вот это уже лишнее. И тут он остановился. Ни в коем случае нельзя оставлять следы — удары ладонью на то и были — ребята опытные — рассчитаны.
И тут молодой сразу как-то погас, как насосавшийся вампир, а старый — по-прежнему вежливо — спросил:
— Може, проводить до готелю?
Мы отказались.
Они бьют нас просто за то, что мы есть. А их — нет. И они это чувствуют. И хотя, как нам кажется, мы все делаем, чтобы они были, и называем это искусством, их все равно — нет. И это для них невыносимо.
Запись 1975 года
Я видел лицо зверя.
На другой день — дикий шухер на студии, ЧП, возмущение, позор для города, связи, звонки начальству. Нас тащут в Управление милиции. Недоверие. Как? Дубинка? Да вы что? Они же давно сняты с вооружения! Но когда — по нашему описанию — все-таки наткнулись на эту парочку, в коляске нашли и дубинку.
И именно этот отвратительный “другой день” — по прохладной договоренности с тещей Валентиной Ивановной — я должен провести с маленьким Алёшкой.
Идем в парк Шевченко, там гастролирует чехословацкий Луна-парк, заманчивые и разнообразные аттракционы. Вот только этого мне сейчас не хватало, аттракционов! У меня, несчастного, “вся тела” болит так, что шаг ступить трудно. Хотя следов нет.
И все же мне хорошо с этим мальчиком — вдвоем — идти по парку. На ходу скошусь на него, маленького, смешного, серьезного, и, черт возьми, как-то так тепло в душе. Я расспрашиваю о его жизни, и он — минута откровенности — признается мне, что не любит девочек.
— Потому что они сначала прилизываются, а потом все выманивают.
Теперь спросите, как я вынес пять мучительных минут аттракциона под названием “картинг”. Алёшка — он и до сих пор натура очень увлекающаяся — за рулем самозабвенно лавировал и бесстрашно шел на столкновение и таран со всеми другими такими же юными негодяями.
Куда бы его засунуть, чтобы только тихо покурить в сторонке? Вот оно! Тир. Он сомневается, он рвется на “американские горки”. Я все же мягко настаиваю на тире.
На ниточках висят призы — конфетки, жвачки, маленькие фигурки зверей. Попадешь — они твои. Их много, и если сшибешь хотя бы одну жвачку, это уже успех. Алёшка берет пневматическое ружье — первый раз в жизни — и — один за другим — сбивает все призы. Хозяин тира смотрит на него с неприятным удивлением и, через силу, фальшиво улыбаясь, выдает ему награды за невиданную меткость.
Вот об этом я ему и напомнил тогда в Болшеве. А через три года — в составе общества “Динамо” — он стал чемпионом Советского Союза среди юношей и мастером спорта международного класса. Поэтому в армии стал служить не на общих основаниях, а в спортивной команде. И попал не на афганскую войну, а — для отмазки, поскольку был нужен тренеру для какого-то большого соревнования — на три месяца в конвойные войска под город Калинин. И это во многом повлияло на его будущую жизнь.
Ну, а если бы милиционеры не избили меня, как бы все повернулось? Видать, когда молодой шарахал меня по ребрам, над нами порхала бабочка Брэдбери.
Запись 1983 года
И все-таки я обязан хоть что-то сделать приличное… Впрочем, вполне может так ничего и не получиться: голова набита дерьмом, а душа какая-то сморщенная и унылая.
На другой день
Попробовать пьесу? Условное название “Предместье”. Заброшенный дом — Розовый дом? — из которого год как выехали жильцы. Начальство не знает, что с ним делать — ломать или отдать под какой-нибудь цех, есть выгодные предложения. В доме живет сумасшедший старик-бродяга, встречаются пары для быстрой любви, мальчишки играют в тайное общество — потом им это обернется. В доме репетирует случайно сбившийся в стаю “коллектив” из местных юнцов — длинноволосых, в расклешенных штанах. Они враждуют со “взрослым” похоронным оркестром, те приходят ночью их бить. И на протяжении всего сюжета идет спор: сносить дом — не сносить? А Розовый дом населяется тем временем, как Ноев ковчег, и готовится к потопу…
Пьеса? Почему пьеса? И вообще, пожалуй, это больше кино. Никогда пьес не писал и не буду — не умею.
И вдруг пронзит мысль — все бессмысленно, все кончено.
Но работаю. А за окном во дворе дети кричат — в своей игре:
— Давай быстрее! Поезд отходит!
Вкiнцi махнув рукою I мовив лишь одно: “Не тратьте, куме, сили, Спускайтеся на дно”. Iван ФранкоЗапись 1983-го
Бывают и моменты просветления, когда понимаешь, что ты сам и все твои дела и невзгоды не имеют ровно никакого значения, а значимо только существование Божьего мира. Моменты неожиданного облегчения, словно скинул с плеч тяжелую, гнетущую ношу, остановился на миг и огляделся…
Однажды под самым балконом возились в траве мальчишки. Не самые маленькие, но и еще не подростки. Мы их прозвали — “караси”. Один из “карасей” засунул в ствол игрушечного ружья, стреляющего воздухом, зеленую бабочку-капустницу и нажал на курок. Бабочка вылетела из ружья и запорхала как ни в чем не бывало.
Уже много лет я — для сменяющихся слушателей нашей — с Хотиненко и Фенченко — режиссерской мастерской привожу эту бабочку, вылетевшую из ружья, как пример кинематографического образа.
И вот тогда ли на балконе, или там же, но в какой-то другой день, в какой-то другой момент я вдруг увидел этот двор с его движением в прямоугольнике, с его постоянными персонажами, с их — чаще всего — постоянно повторяющимися действиями и событиями — совершенно по-новому.
Запись 1983 года
Вот теперь, когда я полностью лишен возможности заниматься тем, что я люблю, — а я люблю не только писать для кино, но и делать кино, принимать участие в его делании, — теперь я стал сам “ставить” свое кино, сначала в голове, потом на бумаге. Без этого просто нет никакого смысла в существовании. А когда есть смысл, есть и надежда. Надолго ли ее хватит?
Бабочка порхала уже вместе с другими, их было много.
И я понял, что — стоя на балконе над двором, над его жизнью — смотрю кино. Нет, не так! Я и смотрю кино, и — переводя свой взгляд, как видоискатель камеры, с одного объекта на другой, — сам создаю кино и сам смотрю то, что создаю. Замкнутый процесс. А я и сценарист, и режиссер, и монтажер, и зритель этого неповторимого — в буквальном смысле — кино.
И вот из постоянства и даже монотонности моих наблюдений, как из воздуха, как бабочка из ружья, стал образовываться образ двора — образ его существования, образ предместья. И образы его главных героев, персонажей второго плана и массовки.
То, что было несвязуемо во внешней — наблюдаемой — жизни, связывалось во мне. И я чувствовал себя демиургом.
“То, что я должен выразить, может быть выражено лишь многократным повторением”.
Джеймс ДжойсСто раз на день — из разных окон: “Миллион, миллион алых роз…”
Вечно охрипшая магнитофонная музыка. Синие, желтые, розовые рифленые бока балконов. На балконе женщина в лифчике, поливающая цветы, сверкающая вода, медленно капающая вниз. На соседнем — мужчина, стригущий ногти на ногах. Не прекращая своих занятий, здороваются, разговаривают. Выше этажом — девочки, выскочившие покурить.
Вечные флаги женской судьбы — белье на балконах. Движения женских рук, ощупывающих, встряхивающих, вешающих. Зимние вещи, вывешенные на солнцепек. Выбивание вещей и ковров — одно из основных занятий. Взмахи разноцветных выбивалок. Мельканье и хлопанье…
Сто раз на день — из разных окон: “А ты такой холодный, как айсберг в океане…”
Здесь все работает, как механизм. И я уже наперед знаю, что будет.
В одно и то же всегда время появится во дворе паралитик в светло-коричневом пиджаке с большими лацканами, серой кепке и с металлической палкой в руке. Другая рука у него в кармане пиджака, в зубах папироса. Парализованного сопровождает старушка. Приезжаем на второе лето. А он продолжает ходить по периметру двора, заведенный как механизм. Тот же пиджак, та же палка, та же папироса. Только старушки нет. Умерла старушка. Случается и такое. Но это не влияет на работу механизма. Здесь даже неожиданности как будто часть его вечной работы.
Мальчик семи лет утонул в нашей опасной, с коварным течением Клязьме. Бабка пьяница, сестра в шестом классе, но уже словно взрослая — от этой жизни. У нее полноватая и чуть ленивая фигура. Ходит по двору в шлепанцах, в халате, это здесь такая мода. Ей нравится, что полы халата расходятся при движении, и становится видна ее округлая, короткая и свежая нога. Она и растила семилетнего брата. Отец утонул в той же речонке три года назад. Мать умерла раньше, потому что ей нельзя было рожать этого мальчика.
Бабка шла по двору и пела. Деньги собирают во дворе.
Дети играют.
— Я буду лошадь. Пусть на мне едут.
— А я буду мама.
— Марина! Воровка! Воровка!
— Я не воровка!
— А я буду мама!
Калечка Нелли, лет восемнадцати, хромая, худая, с большой грудью и красивым дегенеративным лицом, с короткими ручками. Про таких говорят: “Типичный персонаж Феллини!” Наказана, выставлена на балкон второго этажа — он в доме напротив, — бьется в запертую застекленную дверь, пытается влезть в форточку, кричит и хнычет, размазывая помаду с губ по лицу: “Эй, Люська! Открывай!”
Кто это “Люська”? Сестра? Или она мать так называет? Да, мать — по возрасту. С несчастным лицом, наконец, открывает дверь, впускает Нелли. Проходит пять минут, она вылетает во двор из подъезда, сразу хватает коляску с гуляющим младенцем — мамаша, отойдя, заговорилась с подругой — и несется, хромая, за пределы двора, толкая впереди себя коляску.
— Где? Кто? — кричит мамаша, обернувшись.
— А то не знаешь, — ворчит бабка в валенках, постоянно сидящая на табуретке у другого подъезда.
— Нелька, сука! Опять! — срывается, бежит вдогонку мамаша.
— Горе, правда, — вздыхает бабка в валенках, встретив мой взгляд сверху.
Трансфокатор. Наезд до крупного. Монолог бабки в валенках:
— Нелька несчастная… Не может она такое вынести, чтобы где-то ребеночек, то есть дитя годовалое… Отовсюду коляски ворует, где увидит, там и ворует… От магазина ворует, на платформе… Уж мать, уважительная женщина, ее все у нас уважают, сестра медицинская, антеллигентная, уж она ее и била-колотила посмертному и по-хорошему просила-уговаривала… А Нельке с гуся вода… Уж она ее и в сумасшедшие сдавала, и в тюрьму… А она выйдет — и за свое… Такая, видишь, уродилась, такие у нее груди жаждущие… Горе!
Дети играют во дворе в футбол.
— Я сборная СССР, а ты?
– “Спартак” Москва.
— Начинаем! Счет 0:0 в пользу сборной СССР!
“Сборная СССР” — рыженький худенький мальчик в очках, в трусиках и шапочке с прозрачным козырьком. Из “карасей”. Лидер “карасей”. Мы так его и называем: Стасик-карасик.
Сто раз на день — из разных окон: “Обручальное кольцо — не простое украшенье…”
День рождения Оксаны, Катькиной подруги, матери нет. Четыре девочки под зонтиками идут по черному, мокрому асфальту вдоль дома. Сейчас полупьяная бабушка будет устраивать им “стол”.
Потом — уже вечером — кудрявая печальная Оксана стояла одна во дворе. Бабка обидела. Ирина — с балкона — позвала ее к нам. Она ужинала с Катькой на кухне. Ирина утешала ее: “Не грусти, все пройдет”. Оставили ее на ночь. Катька прижалась к Ирине и сказала: “Мамочка, я тебя так люблю!”
И потом, вздохнув:
— Все свалилось на плечи маленьких.
Бывают такие химически-жгучие солнечные дни, когда листва блестит, тени ярки, а фигуры людей окружены незримой, но будто бы плавящейся средой. Дети — перед грозой они бывают особенно возбуждены — клубятся под яблоней.
Вдруг, разом, матово и густо полиловело и посерело небо, деревья с дробной листвой побелели на фоне тучи, коротко и широко сверкнула молния, все наполнилось шорохом, ветром, и пошел дождь.
Все сразу же бросились к белью, к коврам, всё быстро потащили в дом, на балконах появились голые мужики, детишки заплясали, всё вообще задвигалось, зашевелилось, оживилось, как муравейник. А дождь все сильнее, все слышнее. Кто-то пробежал в мокрой одежде, закрывая голову пластиковым пакетом. Уже это не дождь — ливень, потоп!
Парень ездит на велосипеде кругами и смеется, как дурачок.
И совершенно спокойно, неспешно — через двор к себе в подъезд — прошла она — высокая, босая, в длинной юбке, в оранжевой, облепившей ее маечке, с голыми плечами и словно отяжелевшими от дождя грудями, гордо и равнодушно, будто не замечая пялящиеся на нее с балконов лица.
Я “снимаю” ее, следя за ней и за двором и называю этот эпизод “Проход некающейся грешницы”.
Хотя, может, она святая?
А во дворе уже праздник босых ног. Прошел дождь, оставив на асфальте чистые, теплые лужи. Небо голубое. И все, дети и взрослые, с удовольствием ходят, шлепая босыми ногами по теплой воде. И все неожиданно словно подобрели, просветлели. Но ненадолго.
И снова: “Ледяной горою айсберг из тумана вырастает, и несет его теченьем по бескрайним по морям…”
Вообще, вся эта жизнь подобна одной и той же постоянно кружащейся пластинке — от начала и до конца, и обратно — от конца до начала. Время от времени иголка на царапинах начинает повторять бормотание одной и той же фразы.
Вдруг пожилая тетка выбегает во двор и кричит, рыдая:
— Люди! Клава умерла! Шульженка!
“На самом деле человеку и до всего есть дело, и — ни до чего нет дела. В сущности, он занят только собой, но так особенно, что занимаясь лишь собою, — и занят целым миром”.
Василий РозановИ все, так же, как и я, смотрят со своих балконов. Только я три лета, а они всю жизнь. И что это за жизнь?
В этой жизни бесконечное количество поводов не только для иронии и раздражения, а и для пронзительной, страшной жалости и сострадания.
Но для чего вообще они мне все были нужны, обитатели двора и окрестностей? Я любил их? Презирал? Сочувствовал? Равнодушен?
Почему “Борис Годунов” — народная драма? Потому ли, что Царь Борис, придуманный Пушкиным, хотел как лучше, а получалось как всегда — грех, кривда, упрямая глупость, кровь, голод, рабство, лихоимство, раздувшиеся бояре? Нет, потому что — “народ безмолвствует”…
Драма народа.
Я смотрел на эту жизнь с балкона, и это была только внешняя жизнь. В дом ведь ни к кому не войдешь. Иногда видишь что-то через окно, когда вечером зажигается свет, какую-то немую сцену. Но эта внешняя жизнь сама так подробна и так выразительна — по-своему, — что по ней можно представить всё.
И ведь не надо было ничего придумывать и заботиться о “саспенсах” и поворотах”, они вырабатывались самой реальностью, которая как будто прилежно изучала драматургию и забывала о ней, когда ей нужно было сказать что-то очень важное.
Но где же, наконец, метафора, образ, который и есть “вывод”, результат моих “съемок”, финал наблюдения? Где же, наконец, обещанный Розовый дом? Он все-таки был или не был за поворотом с главной улицы поселка Первомайка?
А черт его знает! Слишком уж красиво, блин. Литературка, блин! Один раз встал этот Розовый дом в одном месте на место, ну и хватит с него. Наверное, все-таки в предместье Розовых домов не бывает.
“Юнаковский Вадим Семенович (24.05. 1898, село Шестаково Бобровского уезда Воронежской губернии — 28. 02. 1978). Автор сценариев фильмов «Петухи» (1925) и «Мельница на опушке» (1927), преподаватель (с перерывами) на кафедре кинодраматургии ВГИКа”.
Интернет. “Воронежский гид”К моему несчастью, я попал в его руки не в момент “перерыва”. В 1957-м он был вторым преподавателем нашего первого курса при основном мастере Алексее Яковлевиче Каплере.
“Воронежский гид” упустил тот факт, что он был еще и автором изданной ВГИКом (“на правах рукописи”) брошюры “Изучение жизни и сбор материала для сценария”. Мы упивались ее текстом, где фигурировал некий “райсоветский мерин”, и постоянно цитировали его, когда попали на целину — на практику.
Юнаковский невзлюбил меня с первых же дней до последних. Однако это были не мои последние дни, а его. Он затеял мое исключение из института за профнепригодность, за меня вступился курс, и в результате ушел он — из мастерской. Вместо него пришла Кира Константиновна Парамонова.
— Финн, вы шаман! — читая мою робкую писанину, восклицал он, как-то особенно раскидывая руки и щелкая пальцами.
И сейчас я понимаю, что он не так уж был и не прав.
Я не завывал, не кружился, не бил в бубен. Но мне и сейчас кажется, что стоит только отключиться, как-то углубиться в себя, и оно — нужная эмоция, нужная интонация, нужный поворот, нужная музыка — придет само, только записывай. Только правильно расставляй слова.
Но беда в том, что мне было постоянно неловко от сознания, что все это как-то не так — или хуже, или похоже, или уже написано. И только когда я понял, что все это чепуха… Надо просто говорить на бумаге, не задумываясь, на кого это похоже или не похоже.
Наброски из ненаписанного романа
Весело было Сашке в толпе. Подхватила у памятника Счастливому принцу с крошкой-ласточкой на бронзовом плече и повлекла с собой. Только не останавливаться, не сопротивляться, отдаться, двигаться вместе, и тогда твои ноги — ее ноги, твое тело — ее тело.
Кого хороним? Так до сих пор и не было ясности. Сталина или Пушкина? Или короля Клавдия? Какая разница? Хороним! Праздник! Слух — уж бесенята постарались радостно, на легких, с крылышками ногах разнесли, — что решено земле предать где-то за городскими воротами, в других владениях, и что будут поданы специальные составы и — возможно — угощение. Слух этот собрал всю жадную городскую чернь.
В плотной, тесной, движущейся массе, одержимой общим движением, человек существует как бы разъятый на отдельные части — отдельно голова, руки, плечи, груди. Да и лица-то разлагаются на составные. Открытый или сжатый рот, глаза, напряжение в глазах, потный лоб, кажущийся более выпуклым, чем на самом деле, остриженные на затылке волосы, щека вполоборота, налившаяся от натуги и ярости.
— Куда, сволочь? Прохода нет! Вороти назад!
Не защитила броня стражников, хрустнули их косточки.
По случаю всенародного траура все увеселения, включая бои петухов, бега тараканов, перетягивание канатов, перешибания соплёй, а также выступления скоморохов и поле чудес, были в Эльсиноре отменены. Однако Главный режиссер театра имени Полония уговорил городские власти. Ловко подкинул аргумент. Пьеса-то “Второй фронт” — антиамериканская, как раз очень уместно. Так сказать, вплетается в траурный венок. Согласились и разрешили — предпремьерный прогон. “Для пап и мам”.
Зал был почти пуст. Начальство, близкие актеров. Мама сидела. Жена Главного с девочкой-дочкой. Лариса змеиную свою головку к маме никак не поворачивала. Девочка-дочка не нашла глазами Сашку и опечалилась.
На сцене близилась драматическая кульминация. Американский офицер, герой-летчик, совершенно аполитичный до того времени в отличие от другого офицера, негра, подозреваемого в связах с коммунистами, неожиданно прозревал. И сейчас должен был появиться на сцене, чтобы произнести страстный антиимпериалистический монолог. Он сводился к тому, что русские парни — хорошо, а президент Трумен — плохо.
С утра они ссорились из-за Сашки. Борис пил и кричал, что уходит от нее, что она вместе с ее вонючим сынком погубила его талант. Потом окатил себя холодной водой в умывальне и с бешеным лицом убежал в театр. А она плакала и все же пришла на прогон, потому что любила его больше всех на свете.
Вдруг — звон и шум за сценой, изображающей американский офицерский клуб с барной стойкой. На сцену, отбиваясь, вырвался Борис в костюме Гамлета с рапирой в руке. И, безумными глазами — Гамлета — уставясь в черное зияние зала, произнес так, что в зале всем сразу стало холодно:
Я гибну, друг. — Прощайте, королева Злосчастная! Вам, трепетным и бледным, Безмолвно созерцающим игру, Когда б я мог (но смерть, свирепый страж, Хватает быстро), о, я рассказал бы… — Но все равно, — Горацио, я гибну…Воздух над толпой был полон рыданий, отчаянного смеха, ужасной брани. Казалось, все подчиняется какой-то бесшумной слышимости, с какой бухает в стенки сосудов тяжелая кровь, и с каждым новым толчком толпа все набухала и набухала, приобретая все новые и новые страшные объемы.
Напор! Не устояла вековая ограда Эльсинора — рухнула с грохотом. Открылось неизвестное пространство. Сашка мог идти на все четыре стороны.
Куда?
Однажды ночью я услышу детский голос из глубины страшного — зачарованного — леса — настойчивый и отчаянный. Птица так кричит, вселяя в этот мир тоску, страх и предчувствие, или мелкий зверь — жертва большого зверя…
И что же будет дальше?
Глава 10
Когда мы говорим, что личная жизнь в истории есть история личной жизни, то этим мы утверждаем, что история есть тот контекст, то динамическое целое, в котором как целое же личная жизнь становится.
Григорий ВинокурЕще задолго до знаменитого норштейновского ежика я заблудился в таком же, как и он, молочном тумане. В деревне, на даче, году в 46-м. Если верить Винокуру, это событие тут же вписалось в исторический контекст. Не будем все-таки забывать, что это был первый послевоенный год.
Мама несла купленное у соседки, хозяйки коровы, вечернее парное молоко — я любил слушать, как оно тихо шипит, и слышу до сих пор. Мама шла впереди, но я ее уже не видел и в ужасе решил, что она исчезла навсегда.
Этот туман возвращается в мою жизнь снова и снова.
В тайниках и закоулках мозга до поры до времени скрывается какой-то миг, какой-то проблеск памяти о незаметном, случайном прошлом. Пройдя таинственный путь ассоциаций, он возникает “средь шумного бала, случайно”, без особого смысла и намека, и тут же исчезает вновь.
Прошлое пронизывает меня. Память, не спросясь, вдруг быстрой лапкой выхватывает из прошлого что-то совершенно неожиданное, непредвиденное, и оно возникает в душе, как тень какой-то давно прошедшей и забытой реальности.
…Чтобы прийти сюда, Где ты есть, оттуда, где тебя нет, Ты должен идти по дороге, где не до восторга. Чтобы постигнуть то, чего ты не знаешь, Ты должен идти по дороге незнанья, Чтобы иметь то, чего не имеешь, Ты должен идти по дороге отчужденья. Чтобы стать не тем, кто ты есть, Ты должен пройти по дороге, где тебя нет. И что ты не знаешь — единственное, что ты знаешь, И чем ты владеешь — тем ты не владеешь, И где ты есть — там тебя нет. Томас ЭлиотА может, это все лишь забавы памяти, игра ассоциаций?
Молоко несла мама в банке, молоко! И туман — молочный. Как у Ежика. Не посмотрел бы чудный фильм Норштейна — не было бы и этого воспоминания?
Но я же был тогда, я это точно помню! Я же — правда! — пробивался в этом белом слепом ужасе, хотел и не мог крикнуть, позвать маму, чтобы она спасла меня. Дыхание перехватило, оно комом застряло в горле, вместо слов какой-то хрип.
Сейчас, когда я — на семьдесят лет старше — пишу это, у меня — не первый месяц — какая-то ерунда со связками: хочу крикнуть — и не могу. Вместо слов — хрип.
“Возможно, я слишком занят собой. Возможно, во всем, что я описываю, я слишком замешан, занимаю слишком много места. Может ли быть иначе? Ведь это мои воспоминания, моя жизнь, моя память…“
Ехезкел КотикЕсли забыть об условности, именуемой годами, если мысленно разрушить все эти перегородки, то жизнь будет тем, что она и есть, непрерывностью. И все, что происходит в мире во время этой непрерывности, окажется связанным только одним — твоим собственным сознанием и подсознанием, твоим собственным опытом, чувством, твоим страданием, разочарованием, нуждой и надеждой.
Проклиная себя за то, что ввязался в эти “воспоминания”, все же упорно корплю над ними. И каждый раз думаю: чем же я, Павел Финн образца 2017 года отличаюсь, например, от Павла Финна 87-го? Отличается “историческое время”, это точно. А я? Как я “монтируюсь”? С самим собой? С этим самым Историческим Временем, будь оно неладно…
Имейте в виду, вспоминать — это вообще не такое уж простое занятие.
Воспоминания — материал, “отснятый” за всю жизнь и до поры невостребованно сваленный в “монтажной” подсознания. Когда наступает эта пора, происходит первая черновая “сборка”, и уже потом — сознательный — “чистовой” монтаж.
Монтаж, всему основа — монтаж! Да здравствует монтаж!
Взять бы всё и перемонтировать. Всё на свете!
Монтаж как основу киноязыка, по мнению историков кино, открыли американец Дэвид Гриффитс и наш Лев Владимирович Кулешов, которого я имел счастье знать. Кто — впоследствии — изобрел “внутрикадровый монтаж”, кажется, в точности сказать нельзя, неизвестно.
А кто ввел в обиход современный “неправильный монтаж” и “скачки”? Позволяющие в кино — внаглую — соединять всё со всем и перемешивать время. И по этому примеру в данной — моей — прозаической конструкции — пародоксально — разрушать унылую хронологическую последовательность и разнообразить и сталкивать стили.
“Устройство фразы передает реальную жизнь мысли в реальном времени мышления…”
Самуил ЛурьеНо вот монтаж — по аналогии с внутрикадровым — внутрифразовый — я открыл — для себя — сам. И тире — раздвигающее фразу, постоянно отодвигающее возможный ее финал, — и три точки в конце, продолжающие фразу во времени…
Тире — мое — вертикаль, а не горизонталь, оно переламывает, сечет фразу. Но — когда нужно — тире занимает свою исконную — горизонтальную — позицию, раздвигая слова, удаляя их друг от друга на расстояние вздоха, чтобы между ними поместить нечто третье, а порой и четвертое, что вдруг придает всему — целому — совершенно неожиданный — общий — доверительный, разговорный — смысл — как будто бы рождающейся на наших глазах картины — панорамы — мысли — образа…
“…Главный знак ее пунктуации — тире, служащее ей как для обозначения тождества явлений, так и для прыжков через само собой разумеющееся. У этого знака, впрочем, есть и еще одна функция: он многое зачеркивает в русской литературе ХХ века”.
Иосиф Бродский о Марине ЦветаевойКонечно, я — с младых ногтей влюбленный в цветаевский ритм, в цветаевские тире — сам ничего не открыл, а только — в который раз — “изобрел велосипед”.
Пусть так, но все равно это мой велосипед!
И все же я всегда — тайно — двурушнически — думал о том, что в любом монтаже есть что-то безнравственное, как и во всяком насилии, во всяком принуждении — даже на благо. Но с этим приходится мириться. И если, в общем, невозможно всю картину снять, как Тарковский снял проезд дрезины в “Сталкере”, так же невозможно обойтись без парадоксов монтажа в этом моем опыте воспоминаний.
“Важно, однако, различать монтаж в обычном смысле этого слова от другого явления, которое имеет сходство с монтажом, но значительно шире и глубже этого понятия”.
Дзига ВертовКаждый раз, как только подойдешь к границе во времени, надо знать пароль, чтобы войти — на свою же — территорию памяти.
Окрик:
— Стой! Кто идет? Скажи пароль!
И каждый раз волнение — а вдруг не вспомню. И все же:
— Пароль? “Понять!”
Молчание, проверка… И наконец, из тумана:
— Отзыв: “Простить”! Проходи!
Простить? Кого? Что? Себя? Время?
Странное было это “историческое время” — 84-й, 85-й, — отчасти вызывающее ассоциации все с тем же самым туманом.
Запись 1984 года
Ложь разрушает все. Государство не чуралось лжи с первого момента своего существования. Ложь — так или иначе — была во всем. Политика, экономика, право, дипломатия, идеология, история, искусство, отношение к детям и старикам…
Так что же вы хотите, чтобы люди, варившиеся во лжи, как раки в кипятке, смогли создать что-либо другое, чем то, что мы сейчас имеем? Какая же сила нужна, чтобы победить ложь, в которой мы так и продолжаем вариться? К счастью, у лжи короткий век. Длиннее иного человеческого, но все-таки короткий — для Истории.
Я и тогда, и сейчас, когда в очередной раз заводится дискуссия о национальной идее, считал и считаю, что наша единственная национальная идея — правда.
Обо всем.
Запись 1985 года
Слепцы в царстве слепцов. Глухие в царстве глухих. Отравленные в царстве отравленных. И не знают, что слепы, глухи, отравлены. Всегда вспоминаю подземных рыб в каменных водоемах пещер Постойной Ямы в Словении. Белые бельма вместо глаз. Так рождены, так и умрут, не узнав, что есть зрение?
Стоял весь народ в очереди — и разного пола, и стар и млад — плевать в колодец.
— Что вы здесь все делаете?
— Плюем в колодец.
— Но ведь пригодится — воды напиться.
— А, хер с ним!
Плевали, плевали — доплевались: полный колодец, аж через край бежит. Наконец-то! Пригодилось напиться?
Тревога, во всяком случае для меня, — это нечто влекущее куда-то в неизвестность, опасную и угрожающую, но необходимую — для продолжения — неизвестность. Тревога всегда обращена в будущее. Нет ничего страшнее вроде бы успокоительной Соломоновой мудрости: “И это пройдет”.
Запись 1985-го, март
Мамонты, кряхтя, укладываются в вечную мерзлоту.
Наша двенадцатилетняя Катька страшно грустила, когда из телевизора начинала торжественно литься прелестная музыка “Адажио” Альбинони, как будто специально сочиненная им для Генеральных секретарей ЦК КПСС. И в траурной раме возникало очередное лицо Высшего Начальника. Никак не могла понять Катька, почему мы не разделяем ее грусть.
Все разговоры о духовности, о падении или подъеме духовности общества — блеф, обман, в лучшем случае самообман. Не может быть, конечно, духовности массовой, коллективной. Духовность, если вообще допустить этот весьма смутный термин, как бы постоянно конкурирующий с религиозностью и богобоязненностью, может быть только личная. Поэтому вопрос: “Что с нами происходит?” — ложен по самой сути своей постановки, он идет от идеи существования “хорошего коллектива”, от идеализации “хорошего”, “правильного” общества.
Надо спрашивать: что со мной происходит?
“Между двух стульев сидят молча”.
Томас МаннНо уже так и подмывало закричать — на сцену — как дитя-зритель, предостерегая — эту жизнь: “Осторожно! Ни шагу дальше! Там Баба-яга!”
“Надо работать если не из склонности, то по крайней мере от отчаяния”, — настаивал тем временем Бодлер. А Поприщин, Аксентий Иванович, титулярный советник, дворянин, на это замечал: “Достатков нет — вот беда”.
Тогда-то, бесстрашно наделав жуткие долги, поменяли “место жительства”.
Подсчитали как-то: начиная с 78-го года — за пять лет — девятый раз. А уж сколько к тому времени я сам — один — поменял домов, квартир, углов, общежитий, гостиничных номеров — не счесть.
Но в этот раз надолго — на двадцать пять лет.
Я легко приживаюсь в новых стенах и легко с ними расстаюсь. Особенно после того, как судьба — рукой Строительного управления Министерства обороны — брезгливо ухватила за шкирку и вышвырнула меня с моей арбатской родины на уныло-однообразную окраину — в Текстильщики и на Сиреневый бульвар.
Мне, как и нашему верному Геку Финну, лишь бы быть вместе. Говорят, у кошек другая психология. Но я, наверное, все-таки ближе к собакам.
Признаюсь, известное лукавство в том, что я написал, конечно, есть. Не так уж окончательно безразличен был я к “месту жительства”. И ведь недаром — до встречи с Ирой — переехал с Сиреневого бульвара на Арбат. И хотя я стоически относился, например, к безрадостному виду из окна с девятого этажа на улице Молдогуловой, душа моя нет-нет да и улетала незаметно в родные края.
Ира об этом догадывалась, и все то недолгое время пребывания на улице Эйзенштейна искала варианты обмена — с целью возвращения меня на историческую родину. Нет, не пугайтесь — “родину” только в пределах Москвы.
Тут-то и подвернулся — счастливо — после долгих поисков и изучения объявлений — некий вариант на улице Плющиха.
В детстве Москва делилась для нас на “сферы влияния” кинотеатров и клубов. Плющиха — это — в двухэтажном доме — кинотеатр “Кадр”. После долгих и взволнованных совещаний, подсчитывания потных рублевок и вранья дома — почему туда. Ведь в доступных пределах — “Юный зритель”, “Художественный”, чуть подальше — уж совсем прекрасно — “Повторный”.
К тому же — территория все-таки враждебная. Плющихинские арбатских на дух не выносили. И если вычисляли в своих владениях — лупили, особенно мелкоту. Крутые там подбирались в переулках и во дворах ребятки. Возможно, в этом был и сословный подтекст. По ту сторону Садового — это как бы ниже рангом, и школы похуже, и гастрономы, и одежда на пешеходах.
Но мы упорно — с душевным трепетом и вожделением — со Смоленской площади, пренебрегая светофором, перебегали Садовое кольцо и — под трамвайный звон, мимо деревянных домиков — попадали на Плющиху. Соблазн управлял нами, не разум. А все потому, что в “Кадре” шли классные фильмы.
История не сохранила — во всяком случае для меня — имени директора “Кадра”. Но он явно был поклонником американского кино. Детективного!
Где он доставал тогда эти фильмы? Может, они тоже числились трофейными, как в клубах? Или у московского проката существовала какая-то особая договоренность с американским посольством? А может, причины были совсем другие. Сейчас это уже не важно. Главное, что в “Кадре” — если еще доставался билетик — можно было увидеть то, что не показывали в других кинотеатрах.
И я до сих пор словно вижу то кино, на которое меня каждый раз влекла через Садовое кольцо неведомая сила. Хотя я уже прекрасно знал, кто убийца — мрачный и огромный контрабасист из джаза, влюбленный, естественно, в певичку-алкоголичку, я — каждый раз — замирал в зале от сладострастного ужаса.
Вот только названия кино никак не вспомню. А иногда думаю — может, мне вообще все это приснилось?
Стайка взволнованных мальчиков, перебегающих Садовое кольцо… Гудки автомобилей… Ну конечно, это сон.
Многие события моих снов основаны на реальных фактах, некоторые персонажи пожелали остаться неизвестными.
Весь день подсознание со сладострастием дожидается ночных сновидений.
Сон — лабиринт, по которому блуждаешь с факелом в руке, то догорающим почти до основания, то вспыхивающим с новой яркостью. И ты то торопишься покинуть лабиринт от страха или недоумения, то мечтаешь остаться в нем — от неутоленного любопытства. И тогда безуспешно пытаешься ухватить Ариаднину нить, которая сможет наконец привести тебя туда, где ты поймешь все.
“…Св. Августин благодарил Бога за то, что не отвечает за свои сновидения”.
Карл Густав ЮнгИнтересно, что же за сновидения были у него в таком случае?
А мы расставались — без печали — с улицей Эйзенштейна. Нашему бульдогу Геку вообще было плевать, лишь бы быть с нами. У Катьки было сложнее. И дело даже не в том, что она бросала в середине учебного года свой четверый класс. Переезд прерывал намечавшийся роман с одноклассником, неким Ивушкиным.
— Первый раз в жизни мне понравился мальчик, — горько сказала она, собирая свои вещички, — и вот пожалуйста!
Но что поделаешь? Судьба!
А я отдалялся — территориально — от киностудии имени Горького, напротив которой мы жили и директором которой к тому же был тогда мой вгиковский соученик, однокурсник Женя Котов, бывший матрос.
И ведь казалось, как удобно устроился сценарист — пройди всего несколько метров от дома до подъезда студии, и тут тебе привет и уважение — договора, авансы и премьеры в Доме кино…
Первый раз на студию Горького я пришел в 1945 году. На пробы в кинофильм “Слон и веревочка”. Роль была не главная, но ответственная. Исполнитель должен был тянуть за собой за веревочку… нет, не слона — бумажный кораблик по весеннему городскому ручейку. Тянуть и петь — музыка Льва Шварца, слова Агнии Барто, она же и автор сценария:
Матросская шапка, Веревка в руке, Тяну я кораблик По быстрой реке, И скачут лягушки За мной по пятам, И просят они: “Прокати, капитан!”Физическое действие на пробе я, видимо, осилил. Но вот пение… При первых же звуках аккомпанемента на пианино выяснилось, что у меня не просто нет слуха, я как-то вообще трагически антимузыкален. Словом, я позорно провалился. Несмотря на закулисные связи. И наверное, даже рыдал.
Душевная травма усиливалась еще и тем обстоятельством, что главную роль в фильме режиссера Фреза сыграл семилетний Давка Маркиш, после этого вместе с Наташей Защипиной в одночасье сделавшийся звездой экрана.
Кстати, много позже, когда мы учились во ВГИКе, Наташа стала женой того же самого Жени Котова. Поистине, неисповедимы пути.
Второй раз на студию Горького я — уже автор (соавтор) трех приключенческих фильмов — пришел спустя 28 лет. Когда Вайншток, вдохновленный успехом “Всадника без головы”, захотел снова выступить в качестве режиссера.
Тут получилось как-то наоборот. Как строительство дома начинать с крыши. Я, по обыкновению засыпая под “Голос Америки”, услышал музыкальный шлягер “Вооружен и очень опасен”. И понял, что просто обязан сочинить какой-нибудь сценарий с таким названием. Поделился этим с Владимиром Петровичем. И он, по совету Леонида Захаровича Трауберга, великого книголюба и знатока приключенческой литературы, набрел на роман Брет Гарта “Габриэль Конрой”.
“Фрэнсис Брет Гарт (1836–1902), американский прозаик и поэт, который прославился реалистическими описаниями жизни золотоискателей в Калифорнии”.
ВикипедияКто сейчас читает Брет Гарта? Что у нас, что в Америке? А ведь именно ему — я уверен — американское кино обязано происхождением жанра “вестерн”.
В 1939 году великий Джон Форд по сценарию великого Дадли Николса и с великим Джоном Уэйном в главной роли снял “Дилижанс”, великий фильм, заложивший — по утверждению все той же Википедии — “основы эстетики фордовского вестерна”. Не понимаю, по какой причине он не указал в титрах великого Брет Гарта. А зря! Потому что, засмотренный до дыр в маленьком зале Дома журналистов на Никитской под названием “Путешествие будет опасным”, фильм этот был на самом деле откровенной экранизацией “по мотивам” двух рассказов Брет Гарта — “Изгнанники Покер-Флета” и “Счастье ревущего стана”.
Сценарий “Вооружен и очень опасен” — коллаж из произведений Брет Гарта, с благородным золотоискателем Габриэлем Конроем в центре сюжета — был данью благодарности и нашему кинодетству, и великолепному жанру “вестерн”, доставившему нам столько радости и волнений — с замиранием юных сердец.
Актеров Вайншток привлек тоже великолепных. Звезды!
Банионис, Броневой, Дуров, Мартинсон, Жаков, Масюлис… Да еще знаменитая тогда певица Сенчина на роль певицы из кабаре, возлюбленной простодушного Габриэля Конроя.
В надежде на то, что Брет Гарт не стал бы возражать, я придумал образ — новый — загадочного “продавца тайн”, и его сыграл Лямпе из театра на Бронной.
Сева Абдулов, сам игравший в фильме молодого журналиста, по просьбе Вайнштока привел своего друга Высоцкого, который должен был придать фильму убойную силу зрительской популярности песнями в собственном исполнении. Песни Высоцкий действительно написал. Но, то ли посмотрев материал, то ли обидевшись на что-то, петь их сам отказался. Поет только Сенчина.
Однако пришел на премьеру в кинотеатр “Россия”. Он только что вернулся из Америки, был под впечатлением увиденного там кино. И рассказывал мне в фойе, что же есть на самом деле “настоящий вестерн”.
И наконец, снова студия Горького, 79-й год.
На мне молодая семья — жена, дочка, собака, кот и еще черепаха Сара Савельевна. И сын в Одессе. И я хватаюсь за каждую соломинку.
Оправдываюсь? Ну, в общем, да. Но строк — известных — не стираю.
Итак — “соломинка”: Валя Тур дает мне прочитать свою пьесу — театры вроде бы не жаждут принять ее к постановке.
Аннотация:
“Потомственный металлург и передовик производства Сергей встречается со вздорной девушкой Анной во время дежурства с народной дружиной. Аня замужем, но он влюбляется в нее и приводит домой к родителям, которые не одобряют его выбор. В ранее благополучной рабочей семье начинаются конфликты”.
Тогда проходил очередной конкурс на лучший сценарий “на современную и производственную тему”, объявленный Госкино СССР. Как всегда, секретарем конкурса была наша подруга Рая Куприенко, работавшая и в Сценарной студии, и в Союзе — в Сценарной комиссии. Кроме того, она “подрабатывала на машинке” — исчезнувшая, канувшая в вечность профессия машинистки — и печатала мои сценарии.
Была она красивая и добрая, с характером. Из той замечательной породы верных русских женщин-товарищей, которые всегда нас, дураков, жалеют и помогают. Переживала за нас с Ирой. Позвонила: “Срочно подавай заявку на конкурс, три главные премии плюс поощрительные, что-нибудь обязательно получишь”.
Ни до ни после я никогда ни в каких конкурсах не участвовал, мне такие соревнования не по душе. Но ведь — “соломинка”, да еще в руках Раи Куприенко.
И я вспомнил про Валину пьесу. Там была возможность мелодрамы, которая всегда дает повод для очеловечивания штампов, и сюжетных, и идеологических.
Мы договорились с Валей о соавторстве, и он полностью мне доверился.
В титрах “моих” фильмов фамилия “Финн” довольно часто соединяется с фамилиями так называемых соавторов. Ну, Вайншток — по праву первой ночи. Ну, где-то режиссеры. А однажды даже — спасибо шалуну-продюсеру — фамилия человека, которого знать не знал и даже не видел никогда. В большинстве случаев я отношусь к такому соседству довольно равнодушно.
Почему же тогда “так называемых” соавторов? Да потому что я — могу присягнуть — кроме дурацких стишков, сочиненных с тем же Туром и еще со Шпаликовым, — за всю мою жизнь ни одной строчки не написал вместе с кем-то. Причин для самомнения и гордости в этом никаких, но так уж сложилось.
Премию мы получили, но не очень шикарную. Поощрительную. О чем меня известила “правительственная” телеграмма за подписью моего любимого Павленка.
Премия давала право на постановку. Взялся за нее Степа Пучинян, режиссер фильмов “Тайна мадам Вонг” и “Гангстеры в океане”. Сценарий назывался как-то по-другому, а кино — “День свадьбы придется уточнить”. Актеры хорошие — Женя Симонова, которая мне всегда очень нравилась, Борис Щербаков, настоящий герой, и прекрасный Николай Исаакович Пастухов.
Меня, конечно, смущало и вызывало мрачные предчувствия заявление Степы, что в нашем кино обязательно должна быть “добрая улыбка”. Но я хотя бы был относительно спокоен за то, что персонажи говорили не фальшиво и отношения между ними были похожи на человеческие.
Была попытка “социально” обострить финал — на тему “ангажированной рабочей аристократии”. Но — при содействии руководства — победила “добрая улыбка”. И фильму была присвоена первая категория, а это давало количество копий при тираже и, соответственно, больше “потиражного вознаграждения”.
Черепаха Сара Савельевна на некоторое время была обеспечена кормом.
Курица, как говорится, не птица. Плющиха — не Арбат?
И все же — если разобраться — курица хоть немножко, да птица. Крылья есть — слабенькие, но шумные — даже пролететь может несколько шагов, кокетливо спасаясь от сладострастного красавца-петуха.
Пейзаж Плющихи, заметно изменившийся со времен “Кадра”, был другой, не арбатский. И воздух другой, и шум. Но в том “пятачке”, где на углу пересечения 4-го Ростовского с Плющихой — напротив знаменитой булочной — стоял — уже наш — четырехэтажный — с куполом — дом № 2/1, все-таки было что-то родное.
И что-то близкое и милое В словах: Арбат, Дорогомилово. Илья Эренбург“4-й Ростовский переулок — небольшая тупиковая улица… от Плющихи к Ростовской набережной… Дом 2/1, доходный дом Т. А. Селиной (1913–1914, архитектор В. А. Мазырин)”.
ВикипедияО том, что это “дом Селиной”, я узнал еще до того, как мы въехали в бывшую коммунальную квартиру на четвертом этаже, принадлежавшую до нас двум рассорившимся родным сестрам.
Т. А. Селина! Мать великого футболиста. Король воздуха! Федька Рыжий!
Андрей Петрович Старостин в своей книге “Встречи на футбольной орбите” приводит “известное в прошлом четверостишие:
Мир футбола чист и зелен, Зелен луг, и зелен лес. Только очень рыжий Селин В эту зелень как-то влез.Селин был на поле с 1916 года. В 1925 году — в легендарном матче сборной СССР со сборной Турции — сравнял счет, в результате — победа! Нападающий, полузащитник. Когда он начинал — мальчишкой — это называлось по-другому.
“В те годы, на заре футбола, беками назывались двое игроков защиты (тогда игроков защиты было два). Впрочем, название это держалось довольно долго — уже в советское время. Беки; полузащита (трое в линию) — хавбеки; нападающие — форварды. Вратарь назывался голкипером”.
Юрий ОлешаОлеша! На всех моих перекрестках — Олеша!
“Все это неважно, важно, что спорт пахнул травой”.
Юрий ОлешаЯ обожал футбол! Я не играл, я болел! В самом начале это было ЦДКА. Команда лейтенантов! Федотов, Бобров, Гринин, Башашкин и на воротах — Никаноров!
Я торжествовал. От побед. И страдал. От поражений своей команды. Вместе с другими такими же гавриками прорывался на “Динамо” без билета и убегал от незлобивых — тогдашних — ментов.
Да, это была жизнь! Но наше боленье отличалось от нынешнего — двусмысленного — фанатства, как отличаются стихи поэтов-романтиков от надписей на заборе.
Нас воспитывали книги, кино и футбол.
У матери рыжего короля воздуха был не один доходный дом, а три — все рядом. Самый небольшой из них не сохранился до нашего времени, снесли.
У владелицы отобрали все, дома заселили служащими недалекой Брянской железной дороги. А владелицу не уничтожили, как класс, даже выделили комнату в коммуналке — на втором этаже. Не иначе, это были футбольные болельщики.
2/1 полукругло выходил на два Ростовских переулка — наш “Второй” и соседний — “Четвертый”. Такая вилка, в основании которой и стоял наш дурацкий дом. Наверное, когда его построил в 1913 году архитектор Мазырин, дурацким он вовсе не был. Но в начале шестидесятых его подвергли капитальному ремонту. Убрали все перекрытия — дореволюционные, заменили их новыми — социалистическими. И дом “повело”, перекосило почти на манер Пизанской башни. Внешне это было не так заметно, как на нашем четвертом этаже.
Ох уж этот четвертый этаж! В современном доме считался бы шестым. Лифта не было — я работал лифтом. Когда Ирина возвращалась с продуктами, вызывала меня с улицы криком, я сбегал вниз и пер наверх с тяжелыми сумками.
Я ужаснулся, когда первый раз вошел в эту квартиру, откуда только что выехали сестры-врагини. Полы под уклон, оборванная проводка, ободранные до десятого зеленого слоя стены и темные следы-тени от мебели. Впечатление было, словно это павильон “Мосфильма”, успешно подготовленный и отфактуренный художниками и декораторами для съемки из жизни тяжелого московского быта и разрухи эпохи военного коммунизма.
Как тут жить?
Но постепенно что-то стало происходить между нами и этой квартирой. Да, она была очень нелепа, ни на что не похожа. Большая квадратная прихожая, три выходящие туда разного размера комнаты, кухня с газовой колонкой, соединенная с ванной, а в ванной комнате, бывшей во время Селиной помещением для прислуги, большое окно во внутренний двор-колодец.
И все-таки в этой ее нелепости было какое-то странное очарование. У этой квартиры был свой образ. Она была живая. И к нашей жизни отнеслась благосклонно, легко забыв о своих бывших владелицах.
Ирина обладает удивительной способностью — с ограниченными средствами обживать любое, самое неприспособленное пространство, делать его своим.
Повесили оранжевый абажур над столом, подаренным Викой Беломлинской перед их с Мишей отъездом — навсегда — в Америку. Из комиссионки абажур — копеечный. Но такой “московский”, такой уютный, такой уж из прошлой жизни.
И теперь в доме был свет, наш семейный свет.
Гудела колонка, бегал по квартире Гек и плакал, когда мы оставляли его одного, уходя всей семьей к Габриловичам или Княжинским. В своей детской Катька вырезала что-то ножницами из цветной бумаги и пела.
Запись 1985-го
Болеющая под Окуджаву Катька… Кот на столе в тени бегонии… Картины жизни… То, что мило сердцу в этом мире…
На ремонт — по средствам — мы “взошли” только года через три. Но дыры и тени на стенах постепенно закрывались — появлялась кой-какая мебелишка. Что-то из наследства Ириной мамы, что-то из моей — семейной — старой мебели, еще отцом приобретенной в “Торгсине”, что-то прикупалось — по дешевке. Тогда еще — до торжества постсоветских рыночных отношений — это было возможно.
Мечта моя — осуществленная — очень большой письменный стол. Из мебельного комиссионного на Фрунзенской. Оттуда же — странный шкаф для книг с незакрывающимися дверцами и с каким-то резным венцом над ними.
Книг становилось все больше и больше, сколотили полки. Они закрыли стену, отделяющую мою комнату от соседней — из другого подъезда. Кроме основного — главного — своего назначения, полки должны были еще служить звукоизолятором.
Звуки соседней семьи — благодаря “капитальному” ремонту — легко проникали в поры гипсокартона и в щели под плинтусами. Иногда это здорово раздражало, но иногда было даже интересно, и, что греха таить, я не затыкал уши.
Запись 1984-го
Вот сумасшедшая — невидимая — семейка за стеной! С их постоянными криками, скандалами и постоянной музыкой. Магнитофонной — старшая слушает, виолончельной — младшая учится, играет, а мамаша еще и на гитаре. И ко всему этому прибавилось пианино старшего брата, приехавшего на побывку из армии.
Одно крошечное событие они могут обсуждать целый день, одними и теми же словами, то бранясь, то смеясь — по одному и тому же поводу.
И все поют.
Постепенно я стал различать их по голосам, знал, как кого зовут и какие между ними отношения. В таком доме, как наш, на пятнадцать квартир в двух подъездах, не трудно вообще знать всё про всех.
Две девочки, одна тринадцати, другая десяти лет. Отец пырнул маму ножом, убежал, уехал в Москву и бросился под поезд. Выжившую мать вызвали для опознания, она с радостью сказала: “Он”.
Прерываю работу и слушаю. Удивительный эффект! Я их словно вижу сквозь стену — мизансцены, планы — голоса — то на общем, то выходят на крупный.
И я, конечно, сразу же придумываю — воображаю — кино. И персонажей.
Самая интересная, конечно, мать. Грубая, крикливая, но — желание жить, быть, вести детей, получать что-то от презираемого, постылого и любимого сожителя, дурака и пьяницы.
А младшая девочка разучивает на виолончели гаммы, алегретто, какие-то “Бай, бай”, мать скандальным голосом ее шпыняет — наставляет, как сидеть, как руки держать. Сожитель, видно, мрачно проснувшись, вставляет свое замечание. Тогда мать кричит на него: “Не бубни, иди нафиг! Прекрати на нервах играть человеку! Не понимаешь, что ли, одно слово может человека сбить!”
А когда человек — одна, она так славно поет за стеной. Как птичка. Ля-ля-ля! Но вот появятся взрослые, и снова будет — грубость, брань, истерика. У нее сразу голос изменится, станет противным…
Из-за того, что без спроса подслушиваю чужую жизнь, я не испытывал, честно говоря, никакой неловкости.
Они, конечно, тоже знали о нашем существовании, только слушать им в моей комнате было нечего — компьютер бесшумен, а я не играю и не пою. Но когда мы встречались на улице, было понятно, что мать семейства особой приязни к нам не испытывает. Даже позволяет себе критические замечания по поводу выражения лица нашего французского бульдога — в том смысле, что оно еврейское.
Но тут произошло нечто невероятное, что внезапно сблизило нас, даже несмотря на определенные разногласия по национальному вопросу.
На первых порах жизни в косом доме на Плющихе мы постоянно подвергались атакам мелкой насекомой нечисти.
Сначала были комары. Таких я больше никогда не видел. Нет, не так! Я и их-то не видел, такие они были мелкие. Невидимые тучи кровожадных микроскопических тварей бросались на нас, как только мы ложились в кровать и гасили свет.
Мы немедленно зажигали свет и — с ног до головы в прямом смысле — обливались и обмазывались какой-то гадостью с отвратительным запахом и названием “репилент”. Несколько секунд твари пребывали в задумчивости, потом вновь набрасывались — с восторгом.
Их происхождение? Близость Москвы-реки? Гуляя с Геком, я опрашивал собачников из соседних домов — противоположного “академического” и знаменитого “круглого”. Нет, не было у них таких злодейских комаров.
Но мы все-таки выяснили, в чем было дело. В подвале. Там постоянно стояла гнилая вода после дождей и тающего снега. В этой среде и зарождалась какая-то совершенно новая форма комариной жизни. Наверное, изучив ее, можно было совершить “нобелевский” прорыв в биологии, но этого не случилось. Наконец-то воду — хоть и неторопливо — но откачали.
Еще и тараканы! Они шли на нас из нижней квартиры. Хозяином ее был сын профессора и бывший учитель физкультуры по фамилии Обморышев.
Позже, пережив то, что тогда мы не могли предвидеть — распад СССР, дикий рынок, девяностые годы, — можно было без труда понять, что восьмидесятые уже были подспудным переходом к драматическим событиям будущего. В неосознанном предчувствии поворотов общей судьбы — готовился “бомжевать” постепенно маргинализирующийся, пребывающий в нищете и бессмысленности существования, спивающийся нижний слой “образованщины”.
Обморышев был пьян всегда. Но вежлив. Жена тоже всегда пьяна, но вежливостью не отличалась. И у несчастных этих, в общем, родителей — двое несчастных детей, младший мальчик и девочка, сполна расплачивающиеся за их грехи.
Мальчику было лет двенадцать, но он не рос. Только лицо его становилось старее и наглее. Его сложение и привлекло к нему интерес незаметно крутившихся вокруг воров. Ведь он мог легко проникнуть — например, через форточку — в недоступные для них — взрослых — помещения, намеченные для грабежа.
Окончательно спившись, утонул отец, мать продала квартиру и уехала куда-то — вроде бы в Белоруссию, в деревню. Перед этим исчез мальчик, и она его не нашла. Девочка с дебильным лицом и до этого исчезала из дома постоянно.
Есть такая категория детей-путешественников, которые не могут удержаться ни в школах, ни в детдомах, и передвигаются по всей стране — сами по себе или объединившись с такими же, как они. Я видел их в огромном центральном детпримнике, который был тогда в присвоенном государством Донском монастыре.
Когда-то таких детей называли беспризорниками — их очень любил советский кинематограф. Послереволюционная голодающая, разрушенная Россия кишела ими. Пока не вмешался товарищ Дзержинский.
“Путешественников” задерживают, возвращают, но они снова бегут. Девочка однажды вернулась — сама. Но в квартире их уже жили другие, адрес матери ей узнать было не у кого. Она стояла напротив нашего подъезда и смотрела на свои окна — то ли бессмысленно, то ли горестно.
Ирина пошла с ней к участковому милиционеру и к следователю райотдела. Маму начали искать.
Но это все будет потом. Пока что к нам снизу доносилось пение собравшихся там ровесников хозяина, его школьных друзей и собутыльников. “Сталин — наше знамя боевое, Сталин — нашей юности полет! — пели они. — С песнями борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет”.
Дверь в квартиру часто оставалась открытой, и вместе с криками скандалов и драк оттуда шел тяжелый запах разложения.
И тогда — в те предгрозовые годы, в то историческое время — не только оттуда.
Что ж тут удивляться, что даже тараканы снизу бежали? К нам. Мы вызывали морильщика. По странной игре случая он тоже, как и Обморышев, оказался бывшим учителем Истории.
Один учитель разводит, другой травит.
Фамилия его была Карамазов.
Или я путаю? И это в Ленинграде к Авербаху приходил морильщик тараканов с такой фамилией?
Надо сказать, что тогда постоянное присутствие в нашей любимой квартире неких посторонних — потусторонних? — опознанных и неопознанных — существ все же нервировало меня и выводило из себя.
Так и осталось, например, неопознанным нечто, заведшееся в полу в прихожей в вентиляционном отверстии, закрытом старинной решеткой. Оно ворочалось, шуршало, поскребывало. И доводило меня до приступов ярости. Наконец, не выдержав, я накинулся на решетку и стал с проклятиями тыкать в отверстия Ириной вязальной спицей. Самое интересное, что после этого Оно затихло.
Но это все еще были цветочки.
Сижу однажды днем у себя за столом над компьютером, что-то пишу. Ирины нет, ушла, Катька чем-то занимается в своей комнате. Гек распластался в прихожей, ждет Ирину. Слышу — встрепенулся, зацокал коготками на кухню. И сразу же там заныл, заскулил.
Я знал этот его скулеж. Он издавал его каждый раз, когда встречался с чем-то живым — но не с собаками, на них он сразу же нападал, независимо от величины и опасности противника. С птицами, например, или с ежами на даче.
Вот только ежей мне еще не хватало!
Иду в кухню. Сидит перед дверцей шкафчика под кухонной раковиной — за дверцей обычно стоит мусорное ведро. Ничего в мусоре возбудить его не могло никак — Ирина, уходя, опорожнила ведро, содержимое унесла с собой.
Гек глядит на меня: “Открой дверцу… открой дверцу!”
Открываю. В пустом ведре сидит, нет, стоит на задних лапках…
Я тут же захлопываю дверцу.
Ничего не могу с собой поделать — как ни убеждают меня, что крысы умные и нежные существа, как никто поддающиеся дрессуре, я чувствую к ним непреодолимые — почти мистические — отвращение и страх. Возможно, еще добавилось впечатление от прочитанной в детстве замечательной повести Александра Грина “Крысолов”, которую я всегда безуспешно мечтал экранизировать.
Но это не крыса!
Я понимаю это, когда второй раз быстро открываю шкафчик. Рыжее, больше обычной крысы, стоит — повторяю: на задних лапках — передние держит на весу и довольно приветливо смотрит на меня.
Как это попало сюда, черт возьми?
И я в ужасе снова захлопываю дверцу и зову — на помощь — Катьку. Сам — от греха подальше — нервно ухожу в прихожую. И уже оттуда слышу Катькин радостный голосок:
— Ах ты, моя прелесть!
Прелесть? Чудовище, таинственным образом проникшее к нам? Ничего себе!
И тут Катька, сопровождаемая прыгающим на нее и стонущим Геком, появляется из кухни, торжественно держа перед собой в руках трехлитровую банку.
— Пашечка! — говорит она. — И чего ты испугался? Это ж обыкновенный хомяк.
Теперь уже и я вижу — да, хомяк, рыжий, упитанный и добродушный.
Но как он оказался в нашем мусорном ведре?
Продолжаем гадать вместе — с пришедшей в восторг от неожиданного гостя Ириной — вечером, в большой комнате. Хомяк — в банке — перед нами на столе.
Ему уже организовано подходящее пропитание и постель из газетных обрывков. Каждый из нас предлагает свои — самые неожиданные — варианты проникновения к нам загадочного зверька. Но все они сомнительны, и все отвергаются.
Так как же, как?
Хомяк, которого мы уже готовы “усыновить”, укладывается спать и не очень вежливо поворачивается к нам задом.
И тут я хлопаю себя по лбу. Эврика! Меня осенило!
— Это же рыжая жопка! — ору я.
Флешбэк.
— Ах ты, моя рыжая жопка! У кого такая рыжая жопка?
Когда же они прекратят сюсюкать? Работать не дают, — взрываюсь я, трогая компьютерные клавиши, но — одним ухом — через стену — слушаю чужую жизнь.
— Чья же эта рыжая…
Женский голос. Похожий на голос матери. К кому же это она обращается с такой интимной нежностью? К сожителю? Я однажды видел на улице этого мужика с мутным взором. Это у него, что ли, рыжая?… Обалдеть!
Эврика! Это же их хомяк, соседский!
Мои близкие мне не верят. Что ты говоришь? Как такое может быть? Как и какими ходами этот зверек из другого подъезда смог преодолеть расстояние и преграды? Это невозможно!
Тут он сам недовольно просыпается от криков, смотрит на нас, слушает. Он-то знает истину. Но молчит.
Все же я настаиваю на своем. Узнаём телефон соседей. Ирина по-прежнему не верит, но звонит. Объясняет, кто она. Реакция мрачная. Видимо, в ожидании каких-то соседских кляузных жалоб и претензий.
— Чего вам?
— Мне — ничего. А у вас ничего не убегало? — осторожно спрашивает Ирина.
Пауза. Ирина, глядя на меня, пожимает плечами: я же говорила…
И тут — взрыв восторга из трубки!
За своим хомяком они являются к нам втроем: мама и две дочки. Я впервые вижу их так близко. Они все удивительно похожие — все некрасивые, но все — даже маленькая — с какой-то чувственной женской энергией. А папа закончил свое существование под поездом. А они страстно любят хомяка и его рыжую жопку. И все играют на музыкальных инструментах. Вот такая семья. Написать бы все это. Но я не умею. Воссоздавать реальность именно в том виде, в каком она существует. И создавать психологические портреты.
Именно это я и не умею. Хотя уверен, что все это, вот такая семья — вместе с любимым хомяком — это кино, которое надо делать. Но — тогда, в восьмидесятые — это не нужно. Даже “либеральному кино”. Просто семья, просто человек, просто Акакий Акакиевич, просто Мармеладов — не требуются.
На экране царствует Начальник. Драматически разочарованный в прошедшей жизни крупный Начальник. Или, наоборот, Начальник, очарованный прогрессивным будущим, но — временно, конечно, — не понятый министерством.
А в нашей прихожей, прерываемое спонтанным сюсюканьем, идет горячее обсуждение тайны миграции хомяков в условиях дома 2/1 по 4-му Ростовскому.
Видимо, внутри нашего дома, то ли благодаря нерадивым ремонтникам, то ли каким-то хитрым грызунам, существует невидимая структура переходов и ходов сообщений. Как “рыжая жопка” дотумкал до этого и воспользовался — тайна.
— Наверное, мы просто еще многого не знаем о возможностях интеллекта хомяков, — говорю я серьезно.
— Вот сволочь! — любовно поглаживая хомяка в банке, говорит его хозяйка.
И они уносят своего питомца.
Он приходит к нам еще раз. В ведро. Видимо, понравилось у нас — в банке на столе — под абажуром. На этот раз мы приняли его, как родного, и с веселыми шутками снова вернули хозяевам. Сожитель наконец нашел и заделал дырку в стене, и больше хомяк никогда нас не посещал.
Но и Гек с тех пор больше не вызывал у матери соседского семейства никаких ассоциаций — в национальном смысле.
И, как обычно, вспоминаю любимый афоризм незабвенного Вени Рискинда, ничего не написавшего гения: “Мы живем для юмора”.
Вызывать смех с экрана я никогда не умел. Но свою жизнь и жизнь близких мне людей всегда пытался украсить и смягчить юмором. Если Бог захочет меня очень серьезно наказать, чувство юмора Он отнимет.
Молитва. Господи, не лиши меня чувства юмора, но избавь меня от гордыни.
…Потом, уже ночью, буду — в полусне — придумывать необычайный образ нашего дома, который дает возможность хомякам и им подобным — может, неким гофмановским оборотням — беспрепятственно путешествовать в его чреве, между его ячейками, заполненными разнообразными особями человеческого типа, — и в любое время являться, например, в мусорных ведрах…
Тьфу! Надо проснуться!
Я просыпаюсь от крика. В открытое окно он влетает снизу из внутреннего узкого двора-колодца.
— Козел! Отдай носки!
В теплое время во дворе — с песнями — выпивают дружки Обморышева. Иногда развешивают белье тетки с нижних этажей, иногда забредают бомжи. Мы с Геком предпочитаем здесь не гулять, наше место — насыпь над рекой, а здесь можно нарваться на стаю бродячих собак, их в последнее время наплодилось в окрестностях множество.
Но сейчас ночь — часа два.
— Володька, сука! Всё! С этого момента ты не брат мне больше! Отдай носки!
Возможно, на заре библейских времен так Каин кричал Авелю. Но дело было, конечно, не в носках.
“Да заткнись ты! — злобно думаю я на кровати. — Хоть бы дождь пошел, ливень, чтобы смыло вас с лица земли, хоть бы гром вас всех разразил!”
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятенье, тогда средь разброда Оно настигает мгновенно, врасплох. Борис ПастернакДождь, дождь! Огромный ливень яростно, словно только и дожидался властного приказа, обрушивается на город, вода затопляет двор-колодец, плавают носки Володькиного пьяного брата, вода поднимается к окнам, к крышам домов, самых высоких, и башен любых, они скрываются под водой. Тонут все крики, все песни обморышевых, вся брань уличная, вся суета городская — вся эта жизнь…
Вдруг зажигается лампа над нашим столом, светится оранжевый абажур, комната снимается с места и плывет — в океане.
Запись 1985 года
И всю ночь за окном лил дождь. А утром глянули в окно… Боже! Плывет их домик, покачиваясь, по океану, а берегов не видно. И голубь бьется в окно.
Наш дом, наша комната… Я должен это написать… Потому что это — место действия, атмосфера, потому что это сцена. Именно — сцена, не экран!
И я увидел эту сцену и людей, двигающихся на ней….
Спохватился! Стой! Но ведь это уже однажды было! Однажды — мартовской вьюжной ночью. Тогда некто Максудов, Сергей Леонтьевич, увидел волшебную коробочку, а в ней горит свет и движутся фигурки…
Ай-ай-ай! И что же теперь делать? Да ничего! Испросить благословения у великой тени — и писать, не оглядываясь. Все равно лучше не напишу.
Я никогда до этого не писал пьес. И не понимал, как это делается. Я и театр-то, признаться, не люблю. Я, сын театрального драматурга и пасынок театрального актера. Но, может, поэтому и не люблю?
Запись 2014 года
Для меня в театре есть один завораживающий момент. Когда — в стихающем шуме и шорохе зала — начинает работать реостат и постепенно свет и воздух зала становятся каким-то таинственно меркнущим туманом… Но только на мгновение… И, конечно, второй момент, когда все это, наконец, кончается, слава богу, и можно идти в гардероб.
А может, это от зависти? Потому что не причастен, чужд миру тому?
“Во время одного из представлений “Фауста” Марло на сцене, к общему ужасу, вместо актера, исполнявшего роль Мефистофеля, появился подлинный, настоящий дьявол”.
Владимир Мюллер, “Время и театр эпохи Шекспира”Вот это театр, это я понимаю! Но где взять дьявола? Ну, не дьявола, хотя бы какого-нибудь ангела. Дом, в который приходит ангел. Может быть, это один из тех ангелов, которые приходили предупредить Содом о катастрофе и спасти Лота? Вестник Страшного суда, по собственной инициативе и без Высшего разрешения отважившийся спасти того, кого любил когда-то — в жизни?
Кстати, в восьмидесятые была большая мода на ангелов, они постоянно летали по экранам. А по театральным сценам?
Я вообще убежден, что современный театр находится под абсолютным прессом современного кино. Поменялись местами. В самом начале театр был ведущим, а кинематограф ведомым, а сейчас наоборот. Но в настоящей пьесе для настоящего театра есть что-то, чего нет и не может быть в кино. Но как это постичь? Ведь если уж писать пьесу, там категорически ничего не должно быть от кино — ни борьбы с диалогом, ни смены планов, ни монтажной — именно кинематографической — сущности.
Но что у меня есть для такой пьесы?
Кое-что все-таки было в загашнике. Накопилось. И в записях, и в памяти. И в душе. Во первых, моя первая любовь. Мы разминулись с ней в жизни и судьбе. Она умерла. И я знаю, что она стала ангелом.
Во-вторых — по прямой ассоциации с нашей квартирой — сёстры. Хозяйки плющихинского дома, которых, правда, я не знал. И другие сестры, которых я как раз хорошо знал, — моя мама и моя тетка. Слабая и беспомощная, сильная и властная. Любят и ненавидят друг друга.
И наконец — я сам.
Я всегда боялся жизни. Всю жизнь потратил на то, чтобы сделать вид, что это не так. И даже достигал на этом направлении некоторых успехов.
Но это так.
В страхе перед Ответственностью все время ловчил и придумывал, как же спрятаться от Судебных исполнителей. Поменять адреса? Убежать, затвориться? Сделать вид, что я — это не я?..
“Он (Руссо) чувствует себя в безопасности только в собственном внутреннем мире”.
Жан Старобинский, “Чернила меланхолии”Вышеназванных персонажей я соединил в одной квартире, сделав ее двухэтажной. И наконец, набрал на компьютере: “КОМЕДИЯ О СТРАШНОМ СУДЕ”.
“ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ
Двухэтажная квартира в старом московском доме. Центр квартиры — большая запущенная комната. Огромный, настежь раскрытый, пустой старинный платяной шкаф, диван, круглый стол, одинокая лампа под абажуром. Окно в глубине. За ним брандмауэр, приветливый клен, стучащий в стекло веткой.
Слева, если смотреть из зала, во второй этаж ведет деревянная полукруглая лестница с перилами. Она упирается в дверь, на ней большой замок. На лестнице, ближе к запертой двери, сидит на ступеньке, со свернутым зонтиком в руке, странно наряженная женщина в шляпке, со светящимся от чрезмерного макияжа лицом. Это Вероника Иосифовна, или Сестрица…”
Сестрица, вообще-то, благополучно померла пять лет назад, но это совершенно не мешает ей подстраивать разные каверзы любимой-нелюбимой сестре и постоянно — и очень вздорно — вмешиваться в действие на сцене.
“…Она весело подмигивает и кокетничает с залом, всячески стараясь привлечь к себе внимание. Раскрывает над головой красный зонтик.
Наполняется багровым светом окно — то ли закат, то ли зарево пожара. За окном нарастающий грозный шум.
Слева освещается прихожая. Вешалка. Телефон на тумбочке.
Звонок в дверь. Хозяйка квартиры Полина Иосифовна, в кимоно, поправляет перед зеркалом прическу и открывает входную дверь.
На пороге Евгений Б., в плаще, в одной руке у него чемодан, в другой пишущая машинка в белом футляре, через плечо — сумка”.
Вы уже догадались, надеюсь? Евгений Б. — это, типа, и есть я. И теперь я могу делать с собой все, что захочу. Приписывать себе то, чего никогда в помине не было в моей жизни, ни в действиях, ни в желаниях, — но все же рассказывать о себе. Мне же надо хоть раз высказаться на эту тему, если уж в кино не вышло.
Пока писать ремарки было ах как легко, но ведь люди на сцене должны были заговорить…
“Евгений Б. Боже! Боже!
Полина Иосифовна. Вы должны были вернуться, я колдовала. Не сомневалась ни одной минуты, что вы решитесь на этот шаг. Входите, входите. Я вас жду.
Евгений Б. (Отряхиваясь.) Боже! Что творится! Дожили! Землетрясение в Москве, наводнение в Москве, конец света в Москве. Ужас! Дикая жара, небо страшное, красное, кровавый дождь, дождь с лягушками, скорпионы падают с неба, саранча. Страшный суд!
Полина Иосифовна. Ведь вам сразу понравился мой дом, с первого взгляда, правда? Чувствуете его душу, его покой, его необычную ауру? Здесь в каждом углу живут тени старых русских футболистов”.
Вот ведь когда Федька Рыжий пригодился! Король воздуха!
“Полина Иосифовна. До революции дом был доходный, принадлежал одной даме… домовладелице… Даме-владелице… (Смеется.)”.
И Федькину маму — сюда же!
“Полина Иосифовна. Она была матерью одного великого русского футболиста, он был рыжий. Бедная! Она умерла в двадцатых годах, вон в той комнате наверху, совершенно нищая, на груде мусора.
Сестрица (с лестницы). Старая сука она была. Под мусором золото нашли, монеты и кольца нашли, мне мама рассказывала. Кровососка она была. Прямо по Марксу. Лично я одобряю все, что сделал с ней восставший народ.
Окно внезапно распахивается, будто от мощного удара ветра.
Евгений Б. И вот что поразительно, все бегут. Спешат на Страшный суд, как на футбол или рок-концерт. Все хотят успеть на Страшный суд. Кто последний на Страшный суд? Я за вами!
Полина Иосифовна. Все-таки это уникальная квартира. Два этажа! Только я могла сдать все это, в общем, за символические деньги. При том, что я не ставлю вам никаких условий.
Она смотрит наверх. Сестрица делает ей рожу, показывает язык. Полина Иосифовна как будто бы не замечает все эти штуки. Сестрица поворачивается, задирает юбку, показывает зад.
Полина Иосифовна. Правда, второй этаж практически не функционирует.
Евгений Б. Отныне моя прежняя жизнь практически не функционирует. Значит, новая жизнь? Значит, vita nuova? Вперед, нелепый человек! И да здравствует vita nuova!”
В списке действующих лиц был еще один персонаж, о коем я еще не упомянул, готовя сюрприз. Весьма неожиданный. Батюшков — поэт прошлого века.
О, память сердца! Ты сильней Рассудка памяти печальной…Почему Батюшков? С каких таких дел этот страдающий лирик, воин, безумец, предваривший Пушкина и скончавшийся в 1855 году от тифа, затесался в компанию, собранную — мной — в конце XX века — в старой московской двухэтажной квартире?
Потому что он был болен агорафобией.
“Агорафобия (от др. — греч. ауора — «базар, рынок» и фобос — «страх») — боязнь открытых дверей, открытого пространства…”
ВикипедияВот это и было общее у Батюшкова с моим Евгением Б. Только у моего героя агорафобия иная, не от расстройства психики, а от силы воображения. Торопясь захлопнуть за собой дверь хоть какого-то убежища, бежал он от ужаснувшей его реальности открытого пространства, от землетрясения и наводнения — от наступающего на пятки Апокалипсиса.
Батюшков, моей волей покинувший “тот свет”, — как, впрочем, и сестрица, и любовь Евгения Б., ангел Таня, которая тоже вот-вот объявится в квартире — и тоже “оттуда”, — должен был, по моему замыслу, обменяться с героем многими полезными впечатлениями и соображениями.
Нет, не луна, а светлый циферблат Сияет мне, — и чем я виноват, Что слабых звезд я осязаю млечность? И Батюшкова мне противна спесь: “Который час?” — Его спросили здесь, А он ответил любопытным: “вечность!” Осип МандельштамТем более, что Евгений Б. еще и для того снял комнату в этой квартире, чтобы писать здесь роман о нем — о Батюшкове.
“Евгений Б. Впрочем, зачем его спасать, этот мир? Меня вообще все это не колышет. Просто закрою окно, и все, привет! Больше ничего не будет, кроме этой комнаты, стола, машинки. (Закрывает окно, поворачивается, церемонно кланяется.) Бонжур, сударь Батюшков!”
“Живи, как пишешь, и пиши, как живешь: иначе все отголоски лиры твоей будут фальшивы”.
Константин БатюшковПьесу я бросил, не дописав. Тоже своего рода агорафобия. Меня вдруг испугало, что никакая это не пьеса. И все в этой попытке абсурда — банально. Ангелы! Мертвецы! Исповеди! Ирония!
И еще представил — тоже сила воображения, — как прихожу в театр — на чужую для меня территорию, — как, строя равнодушное лицо, вежливо слушаю, что мне говорит прокуренная дама-завлит — до главного режиссера кто ж меня допустит?
Все! Никому не показывать! В стол ее! И забыть! Не было никакой пьесы!
Иногда разочарование в том, что сделал, горько, но полезно.
Да ну их всех в болото! Вернусь-ка я, бедолага, к себе — в кино. Хоть и политое слезами многими, но все-таки мое место, исконное, так сказать, намоленное. Меня, правда, там не особо привечают — в данное историческое время.
Очень скоро это изменится — наступит новое историческое время.
То был канун 5-го съезда кинематографистов 86-го года — в Кремлевском дворце!
Наброски из ненаписанного романа
А как рухнула вековая ограда неприступного Эльсинора и как открылось — на все стороны света — пространство — то ли поле, то ли лес, то ли степь, то ли горы — ахнула толпа потрясенная. Что за притча? А поминальное угощение где ж? Кутья да блины? Спецсоставы обещанные — где? Кто разнес, наплел? Где эта сволочь босоногая? Оборотились назад — нет бесенят, ищи-свищи!
Вернуться в Эльсинор? Глядь, а стену уж и восстановили — быстро, мать их! И ведь могут, когда хотят. Чужими-то руками легко. Свои-то — руки — труждать охоты нету. Откуда-то они всегда брались в городе, чужие, приходили на заработки. Откуда? Да не откуда, не ваше собачье дело, с неба свалились.
Однажды Сашка видел, как умирает человек.
Он работал в театре, черный, как жук, курчавый, как Пушкин, — его так, конечно, и прозвали. И еще про него говорили — “цы́ган”. Хотя он был гагауз. Но про то, что такие бывают, вообще в Эльсиноре никто и не слыхал.
“Гагаузы — потомки тюркоязычных протоболгар, переселившиеся в VII веке с берегов Волги на Балканы и принявшие в IX веке христианство”.
ВикипедияНаброски из ненаписанного романа
Пушкин был чистый гений, золотые руки. Только и слышно: где Пушкин? Пушкина сюда! Это только Пушкин может!
Электрика-механика? Столярка-токарка? Да пожалуйста, что хотите!
Такой уж был всем нужный и незаменимый — до всего своим умом доходил — цы́ган Пушкин. Театр за это ему выхлопотал комнатку в коммуналке — в обход очередника. А очередник — с женой и с ребеночком. Новорожденным. И ведь эльсинорец был, коренной, потомственный.
Во дворе театра — напротив ворот, открытых в кулисы, собирали — под руководством Пушкина — какую-то хитрую конструкцию для будущего спектакля, и стоял огромный чан с кипящим варом — им промазывали швы. Пушкин легко и весело носился туда-сюда. И когда он оказался рядом с чаном, очередник взял его сзади за шею и ткнул лицом в расплавленный вар.
Сашка — он был тогда в театре — во двор прибежал вместе со своим старшим другом, рабочим сцены.
Пушкин лежал на земле — лицом к небу. Черный вар облепил раскаленной массой лицо, ослепшие глаза. Там, где у него был рот, образовалось судорожно втягивающееся углубление. Но набрать в легкие воздух он не мог. Пытался сорвать с себя эту жуткую маску — ногтями — процарапать застывающий гуттаперчевый слой. Сашка увидел, как будто сверкнула — показавшаяся в первый момент белой — ядовито-красная обожженная кожа.
В плющихинской квартире у нас стали уходить животные. Сначала — кот Дарик.
Я тогда не был в Москве. И это — рассказ Ирины, мистическая история. Вот она.
Дарик был довольно большой, старый белый кот с очень плохим характером. Меня он невзлюбил. Но он принадлежал Ириной маме, и уже поэтому его надо было похоронить с достоинством.
Ирина и Катька положили его в подходящую коробку, попросили у соседей лопату. И поздно вечером перешли наш переулок — напротив дома на холмике был то ли двор, то ли пустырь. Поднялись по лестничке, выбрали место поукромнее под деревьями, поставили коробку на землю. Ирина стала копать.
— Мама… — тихо позвала ее Катька.
Ирина оглянулась. Вокруг белеющей в темноте коробки скорбно и торжественно сидели коты. Из разных, возможно, подвалов и помоек — собрались по зову сердца, чтобы в полном молчании проводить в последний путь своего брата.
Как узнали? Как нашли дорогу?
Я так и представил эту картину. Как иллюстрацию к гофмановскому “Коту Мурру”. Ночь. Луна. Белый гробик. И две фигуры над ямой, женщина с лопатой и обязательно в плаще. И девочка. Держит над головой фонарь с горящей внутри свечой. И вокруг коты. Как маленькие изваяния. Мне почему-то хотелось, чтобы они все были белые.
А потом уже рядом с Дариком лег наш любимый Гек. Как будто целая эпоха — часть жизни нашей семьи — ушла с ним. Он переносил с нами все невзгоды, путешествовал с квартиры на квартиру по Москве и под Москву, он был верен всегда, любил нас и ненавидел врагов.
Он уже ходить не мог после второго или третьего “удара”. Ирина сшила ему такой жилетик со шлейками, я сносил его с нашего этажа во двор и ставил на подгибающиеся лапы. Но как только во двор заглядывал соседский овчар, шерсть на загривке у Гека грозно топорщилась и он рвался в бой.
Когда его зарывали под деревом — уже с моим участием, — проводить его братья псы не пришли. Вот вам разница между кошками и собаками.
Я вернулся тогда из поездки в Албанию. Миша Агранович, Саша Михайлов и я. Студия “12-а”, которой руководил Саша под эгидой Фонда Ролана Быкова, готовилась снимать совместный фильм по моему сценарию — “Врата Евы”. Режиссер — албанец Альберт Минго.
Я вошел в дом. Ирина и Катька загадочно смотрели на меня. А из под кровати вылезало существо, оказавшееся щенком ротвейлера, девочкой. Потом эта девочка весила пятьдесят пять килограмм.
Решали, как назвать. Я думал недолго. Был Гек — Геккельберри Финн? Будет Бекки Тэтчер. Так и появилась — наша Бекки, уже другая эпоха.
О ней — впереди.
У нас новый шкаф для книг. Последнее и окончательное приобретение мебели. И это как будто окончательно сформировало нашу жизнь в квартире на Плющихе — на будущие двадцать с лишним лет.
Красное дерево, стиль “жакоб”. Скорее, “Александр”, а не “Павел”. В хорошем состоянии, отреставрированный. Знающий человек объяснил мне, что шкаф предназначался для белья. Но впоследствии его сделали книжным.
Нашел, чем удивить! То, что шкаф — книжный, я знал с детства. Потому что это был мой шкаф, наш. Шкаф отца. И стоял он у него в кабинете — напротив черного кожаного дивана и черного кожаного кресла.
Меня он привлекал необычайно. Сверху, на крышке — в диком беспорядке — были навалены отцовские рукописи, прочие бумаги и старые газеты. Видимо, привычку сваливать без разбору и забывать я унаследовал от него. Сейчас на шкафу — в таком же беспорядке — мои черновики, материалы к сценариям, работы учеников.
Я, волнуясь, копался в тех — отцовских — залежах. Встречались странные предметы — какие-то мундштуки, значки, коробочки, фотографии, четки. Переставляя книги, запускал руку за их строй и выуживал старые письма.
Шкаф скрывал в себе тайны, я в этом не сомневался. И хотел найти в нем сам не знал что, — что-то раздражающе интересное, загадочное, запретное. Ведь это было самое время — доискиваться до взрослых тайн.
Шкаф продали в 53-м году.
Отец — по моим теперешним соображениям — мог ждать ареста. О готовых списках “московского дела” он, конечно, не знал. Но передовица в “Правде” и — там же — уничтожающий “подвал”, где склонялась его фамилия, были достаточно грозным предупреждением. Спектакли — в Театре сатиры и Ермоловском театре — были сняты, пьесы не шли.
Я думаю, он не хотел расставаться с деньгами на “черный день”, который наступил. А давать маме деньги “на детей” было все равно нужно.
Шкаф далеко нести не пришлось, он переехал на этаж — ниже, к Габриловичам.
Нина Яковлевна его купила — Евгений Иосифович никогда ни во что не вмешивался. Как бы впомнить, где он там у них находился? В коридоре, пожалуй, где Старик оборудовал себе уголок с тахтой и радиоприемником. Кабинета у него не было — письменный стол стоял в обеденной комнате.
Потом шкаф вместе с ними — в 57-м — покинул наш бедный дом на Фурманова и уехал в благополучный, аэропортовский, в новую квартиру. Здесь уже — среди четырех комнат — Старику был выделен кабинет. Письменный стол. Диван, на котором он любил подремать. Нина Яковлевна вообще утверждала, что “Женька терпеть не может работать и ему бы только валяться на диване”.
И шкаф. Иногда родители уезжали, вся квартира поступала в наше распоряжение. Тогда шкаф видел много интересного. Но всегда деликатно молчал об этом — старая школа…
Сначала покончила с собой обезножившая Нина Яковлевна. Не могла красавица, привыкшая властвовать и повелевать хозяйка жизни, вынести собственную беспомощность. В 93-м — в девяносто четыре года — ушел Евгений Иосифович. Через два года умер Алексей. Какое счастье, что Старик, любивший его больше всего на свете, не дожил до этого дня.
Квартиру — со всем ее воздухом, светом, запахами, порядком — продали наследники. И мебель, конечно. Шкаф предложили нам. И я его купил.
Судьба вещей бывает не менее сложна и неожиданна, чем судьба человека. Кто знает, какая еще станция ждет мой шкаф на его пути. Но пока он у меня. Я пишу это, он слева от стола. Молодая Белла Ахмадулина из-под челки, Нателла и Вадик Абдрашитов, обнимаясь, — смотрят с дверцы, с фотографий, прикрепленных к стеклу.
Много интересного мог бы рассказать мой шкаф. И об отце, и о Габриловиче. Да и обо мне. Но он загадочно и мудро молчит — старая школа.
Тогда я сам расскажу. Как впервые увидел Гамлета.
Три больших тома “роскошного” издания — в том “детском” шкафу. Чьего издания? Может, “Брокгауз-Ефрон”? Нет, проверил по “Википедии”, — там пять. А у нас было три — полный Шекспир. И такой тяжелый, что я с трудом доставал тома из шкафа и переносил на диван, продранный до изнанки когтями украденного у нас в 43-м году французского бульдога по имени Рой, исторического предшественника Гека.
Наверное, я хитро выбирал подходящий момент, чтобы никого из взрослых не было поблизости. Особенно моего главного врага — двенадцатилетнего Витьки.
Мне почему-то казалось, что, открывая Шекспира, я совершаю что-то недозволенное и очень интимное, хотя никто мне не запрещал подходить к шкафу и ничего такого компрометирующего о великом английском драматурге не сообщал.
Я уже научился читать — под руководством соседки Веры Дмитриевны Богдановой. Наверное, мог даже — по полускладам — разобрать что-то типа: “Быть-или-не-быть-та-ков воп-рос что благо-род-ней ду-хом по-ко-ря-ть-ся…”
Но это меня совершенно не интересовало. Я спешил “смотреть картинки”. Дивные большие гравюры, покрытые нежной папиросной бумагой. Думаю, что сам Гамлет на гравюре тогда не очень меня привлекал. Хотя шляпа, шпага? Нет! Взглянул — и к другим картинкам…
Уже на Плющихе я выписывал журнал “Огонек”. Тот неповторимый, где Виталий Коротич был “главным”.
Как-то, перелистывая свежий номер, увидел репродукции двух — неизвестных мне — ранних — 1884-й год — картин Врубеля. На одной Гамлет в черных кудрях, как лермонтовский Демон, сжигает Офелию пламенным взором.
На другой — принц в кресле, в берете — на рыжих волосах, — простак, чем-то напоминающий Мишу Кононова. Но с такой поразительной глубиной взгляда, глядящего мне в душу, что я не мог от него оторваться. И кто бы и как бы ни играл многочисленных и разнообразных Гамлетов — врубелевский теперь мой!
Когда я планировал установить статую Счастливого принца на площади в Эльсиноре, я выбрал — для образца — именно такого Гамлета. Такой мог бы попросить ласточку выклевать его драгоценные глаза, чтобы спасти несчастных.
А другие — нет.
Кстати, а почему нет памятника Гамлету? Дюймовочке — есть. Гулливеру — есть. Шерлоку Холмсу и Алисе… А ведь Гамлет тоже очень много сделал для человечества.
Офелия, над ивой разрыдавшаяся, тоже не взволновала меня, стоящего на коленях перед диваном — над томом Шекспира. Призрак короля? Макбетовские ведьмы? Тоже нет!
Очарованность фантастическим — но не книжной фантастикой — двусмысленным “вторым” миром, населенным тайнами и символами, придет немного позже — с Гофманом, еще позже — со всеми славными немецкими романтиками.
“…Странная компания, состоящая из старой ведьмы, мертвеца, принужденного притворяться живым, глиняной красавицы и молодого человека, вырезанного из корня, сидела в торжественном и сосредоточенном настроении, лелея высокие мечты о счастье жизни, ожидающем их впереди”.
Фон Арним, “Изабелла Египетская”Я-то прекрасно знал, что́ я хочу, что́ мечтаю видеть в книге. Латы и мечи, кони в броне — битвы Алой и Белой розы, башни и темницы, страшный горбун Ричард и несчастные принцы, захлебывающиеся в мальвазии. Ну и конечно, веселил меня жиртрест Фальстаф с пьяной рожей — и кубком — за столом в кабаке… Хроники!
А Гамлет? Ему пришлось подождать моего внимания.
Я — Гамлет. Холодеет кровь, Когда плетет коварство сети…Как же я любил в юности Блока! Таскал его — синий двухтомник — в институт, и читал — перечитывал тысячи раз! — в метро. Запоминал, надоедал — порой на улице — чтением стихов, которые он и без меня знал, — Вале Туру. Мне хотелось, чтобы все любили и знали поэта. Даже, возвращаясь вечером домой, например, из “Националя” — в приподнятом состоянии духа, — заставлял маму слушать:
Девушка пела в церковном хоре О всех усталых в чужом краю, О всех кораблях, ушедших в море…Наверное, мама смотрела на меня и думала: “Господи! Что же с ним будет?”
Мой Гамлет — от Блока. А закрепил чувство к нему — раз и навсегда — конечно! — Пастернак.
Но продуман распорядок действий И неотвратим конец пути…Сначала были стихи из романа, потом уже сам роман, еще даже не книгой, а перепечатанный на машинке на огромном количестве уже зачитанных кем-то до меня страниц.
Мне роман открывал тогда нечто большее, чем правду или неизвестность, он распахивал огромное окно. Книга не просто читалась — она гудела, как даль и как близь, в распахнутом окне.
Природа и история — главные герои этой попытки эпоса. История старается не уступать природе в значительности, но ничего не может поделать с ее красотой.
“Пастернак — мыслитель, создатель «лирического учения», скрытой невысказанной философии… еще не обдуман. Можно сказать больше: он даже не выслушан”.
Ольга СедаковаЯ думаю, что Пастернак не так уж часто зашифровывал в “Живаго” какие-то тайные смыслы. Он, вообще-то, говорил достаточно открыто то, что хотел сказать.
Конечно, он разделил себя на всех и вложил свою — по-настоящему не выслушанную даже Ахматовой — невероятную лекцию о природе и истории, о духе, о России, о любви, — в уста разных персонажей.
Вопреки пошлости, называемой правдоподобием, он так сдвигает, сталкивает людей в одном силовом поле своей идеи, что это становится под его пером абсолютной и безоговорочной реальностью, понятой гораздо шире, чем “реализм”.
Настоящий роман — это всегда явление, выходящее и распространяющееся далеко за пределы своей формы. Как “Дон Кихот”. Как “Улисс”. В этом смысле — “Евгений Онегин” и “Борис Годунов” тоже романы.
Пушкин ведь не зря так и назвал: “роман”. А Гоголь “Мертвые души” — “поэма”. Мне кажется, в этом была какая-то высшая полемика с Пушкиным.
Есть три великих формальных открытия, сформулированных в одном лишь слове подзаголовка: “Евгений Онегин” — роман, “Мертвые души” — поэма, пьесы Чехова — комедия.
Вот, кстати, в чем еще разница между Гоголем и Пушкиным. У Гоголя редкая птица долетит до середины Днепра. А у Пушкина комар море перелетает, чтобы батюшку ро́дного повидать.
После “Онегина” — романа о личности, о приключениях личности, ее души — у нас, пожалуй, и не было. Продолжил эту линию скорее западный роман. От Пруста до Хемингуэя. И происхождение “Живаго”, на мой взгляд, тоже от этого корня. Упоминание в его черновиках “Евгения Онегина” это подтверждает.
Какая радость, какое счастье, что можно умыться языком “Живаго”. Только умыться, потому что подражать этому невозможно.
…Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти.Наброски из ненаписанного романа
А уже вовсю — за границей Эльсинора — варилось, кипело безумное общее мясо с плачущими — от непонятного им самим горя — глазами и разверстыми в диких криках ртами.
И тут, покрывая общий рев, заорал паровоз…
“Паровоз серии СО («Серго Орджоникидзе»).
Год постройки паровоза — 1934. Изготовитель — Харьковский, Брянский, Ворошиловградский, Красноярский и Улан-Удэнский заводы. Общая масса паровоза — 97 т. Конструктивная скорость — 75 км/ч. Давление пара в котле — 14 кг/см в кубе…”
ВикипедияНаброски из ненаписанного романа
— Шибче, шибче, ешь вашу клешь! Поспешайте, братва! — ругался и похохатывал паровоз. — Коли уж я взялся вас свезти куды надо — свезу в лучшем виде, миколка свое дело туго знает!
Смолкнув и на мгновение застыв, толпа рванула к нему. Сашке было страшно, но он был не один. Их было много, и они давили и ломали друг друга, но он был сейчас не один. Рядом с ним толпа давила и несла вперед женщину, старую и необычайно красивую — как королева.
— Ты куда, старая? — орали ей в ухо. — Тебе не туда, тебе на кладби́ще!
— Мы так близки были в последние годы, — сдавленная со всех сторон, отвечала спокойно старуха. — Я должна с ним попрощаться.
— Ты? С ним? Да с кем?
— Как с кем? С Пушкиным!
— Сдурела, старая? Сталина хороним!
— Это вы Сталина хороните, — старуха холодно. — А я с Пушкиным прощаюсь.
“В 1937-м в юбилейные дни соответственная комиссия постановила снять неудачный памятник Пушкину в темноватом сквере на Пушкинской улице в Ленинграде. Послали грузовик, кран — вообще все, что полагается в таких случаях. Но затем произошло нечто беспримерное. Дети, игравшие в сквере вокруг памятника, подняли такой вой, что пришлось позвонить куда следует и спросить:
«Как быть?» — Ответили: «Оставьте им памятник», и грузовик уехал пустой.
Февраль 37 года — [полный расцвет] ежовщины.
Можно с уверенностью сказать, что у доброй половины этих малышей уже не было пап (а у многих и мам), но охранять дядю Пускина они считали своей священной обязанностью”.
Анна АхматоваНаброски из ненаписанного романа
Осажденный со всех сторон — словно размножающимся на глазах — страшно гудящим человеческим роем, карабкающимся, цепляющимся, падающим, — опешил паровоз — общая масса 97 т, — поразился до глубины души проявлением такого искреннего общенародного горя.
— Мне самому очень горько, еще бы — такой матерый человечище ушел из жизни, — заговорил он. — Целиком разделяю вашу скорбь, товарищи. Но я вам не резиновый…
И предупредительно пыхнул в небо паром.
В молодости я не боялся опоздать, или что поезд уйдет без меня, самолет улетит. Азарт, легкость, пренебрежение. “А, плевать. Уеду следующим! Улечу! Время есть”.
Я помню, как мы с Авербахом подтрунивали над нашим любимым Стариком, когда он уезжал из Ленинграда в Москву.
Звонок:
— Пашка, скажи Илюше, я готов, он может ехать за мной в гостиницу.
— Евгений Иосифович! Сейчас семь часов, до “Стрелы” еще…
— Слушай! Ну и что? Мало ли что может случиться?
Наверное, он понимал — а нам было невдомек, — что следующего поезда может не быть и другой самолет может не взлететь.
Теперь это понимаю и я.
Наброски из ненаписанного романа
Притиснутый к вагону, Сашка, бледный, уж и дышать не мог. А паровоз уже всерьез пыхтел и собирался. Отчаяние и страх охватили Сашку. Остаться? Назад ведь дороги нет.
Человек, обуреваемый страхом, становится еще более одиноким. Человек хочет поделиться страхом, но его никто не понимает.
— Эй, мало́го пропустите! — чей-то голос-приказ сверху, из тамбура. — Задавят!
Кто-то послушно толкнул Сашку к железной лесенке, кто-то протянул сверху руку и крепко взял Сашкину. На мгновение он повис в воздухе, но нашел ногой ступеньку и, счастливый, оказался в тамбуре.
Он мог сейчас поцеловать эту чудную, спасшую его руку. Как целовал мамины руки, когда был маленький. Он и маму любил в этот момент — ужасно, до слез. И эту руку. Он поднял глаза, чтобы увидеть лицо. На мгновение ему показалось, что это тот капитан, который по дороге сюда показывал ему море.
Но человека-руки уже не было в тамбуре.
— Сталин-Пушкин, Сталин-Пушкин, — поспешая вперед, конструктивная скорость 75 км/ч, бормотали колеса. — Пушкин-Сталин, Пушкин-Сталин…
Дозорный на сторожевой башне Эльсинора, увидев хвост состава, вильнувший и исчезнувший за горизонтом, стукнул алебардой о каменный пол.
— Ну и ладушки, — усмехнулся. — Баба с возу — кобыле легче!
“…Исследователи новейшей России часто говорят о «длинных семидесятых» — периоде, закончившемся в 1982-м или даже в 1986 году”.
Илья КукулинЗапись 1986 года
Довелось наконец жить в то время, когда бессмысленно и безнадежно — убеждать вора, что воровать плохо, негодяя, что плохо негодяйствовать, обманщика — обманывать, лицемера — лицемерить.
Бессилие личности как роковое клеймо времени?
Запись 1986 года
Когда натягивается кожа над нарывом, краснеет, начинает чесаться, — у вас появляется непреодолимое и сладострастное желание вскрыть нарыв, не дожидаясь, покуда он сам прорвется. Вы берете бритву и, полоснув по коже, испытываете ощущение сродни оргазму. И смо́трите — не можете оторваться, — как медленно клубится отвратительный гной, выдавливаясь наружу из рассеченной щели…
В Истории иногда происходит нечто похожее.
Чем же все-таки был этот громкий 5-й съезд кинематографистов в мае 86-го года?
Отвечаю. Прорвавшимся наконец в такой — радикальной — форме желанием быть личностью. Свободной — и не бессильной — личностью.
Свобода — дар Божий, которым почему-то распоряжаются люди. Свобода первичнее демократии и лишена ее условностей и компромиссов. Демократия лишь одна из форм свободы, ее частный случай. Свобода вообще происходит от внутренней свободы каждого человека. А для демократии это необязательно.
Управление демократией — при всей возможной внешней демократичности — все равно неизбежно иерархично, как и всё. И она, увы, представляет собой — своими же руками созданную — мышеловку, где вместо сыра — желанная свобода.
Но все равно — это был прекрасный май, это был восторг момента.
С Валерой Приемыховым и Андреем Бенкендорфом, режиссером из Киева, я был в счетной комиссии Пятого съезда. Возглавляемой — назначенным, конечно, — оргсекретарем одного из среднеазиатских союзов. Имени не помню — помню наколку на руке.
Почему я назвал только три фамилии? Потому что мы трое были из бунтующего большинства. И это был бунт даже не против тех, кто сидел в президиуме. Это был бунт против всего, что накопилось к 86-му году и стало переливаться через край.
И это я, тихо посоветовавшись с двумя сторонниками, передал через Риту Синдерович, нашу связную, в зал — Борису Васильеву и Рустаму Ибрагимбекову, что — “по инициативе счетной комиссии” — готовится некая поправка, решительно меняющая регламент. А это повлияет на результаты — не в интересах большинства.
Они прервали антракт, вернули всех в зал, и зал проголосовал за сохранение утвержденного регламента.
Перед дверью нашего — какого-то кремлевского — помещения стоял удивленный происходящим охранник — парень из “девятки”. Ритка Синдерович отчаянно кокетничала, и он пропускал ее. Я просил ее позвонить Ире. А Ире чуть ли не каждые полчаса взволнованно звонил Андрей Смирнов, который не был делегатом съезда, но был одним из закулисных инициаторов нашего бунта.
Считали и спорили мы долго — все сроки прошли, был уже поздний вечер. И мы наконец вынесли — на плечах, как гробик с прошлым, — длинную картонную коробку со всеми карточками-результатами…
Никто, как Чехов, — в России — не выразил с такой тоскливой надеждой эту вечную иллюзию, что “скоро все изменится”.
Впрочем, кое-что все-таки изменилось.
Глава 11
И, так как у меня не было никакой другой темы, я обратился к себе и избрал предметом своих описаний самого себя.
МонтеньНаброски из ненаписанного романа
Тем временем могучая паровозная тяга неудержимо влекла Сашку.
— Мне-то до фени, кого вы там хоронить собрались, — ворчал себе под нос серии СО паровоз, — мое дело маленькое, я себе, знай, стучу колесами на стыках рельс — и всех делов.
На стыках рельс стучат колеса, Вагон столыпинский трясет. А Ванька-Клещ лежит на полке, Печально песенку поет.Вперед, рассекая мартовскую холодную равнину. Вагоны набухшие, раздувшиеся, раздавшиеся вширь от набившихся в них тел.
Будучи грубо прижат к стеклу, стиснутый со всех сторон, задыхаясь и бледнея от жаркой вони ртов, Сашка видел в окне — вдоль линии горизонта — закованное в броню войско, конное и пешее. Невдомек было всем на него давившим, наступающим на ноги, толкающим брюхом и задом, что за войско. А Сашка знал. И пальбу слышал. Ежели б дышащие-толкающие спросили, что за такая вдруг пальба в чистом поле, не задумываясь, ответил бы:
То юный Фортинбрас пришел из Польши
С победою и этот залп дает
В честь Английских послов.
Фортинбрас шел в Эльсинор хоронить Гамлета, как воина. А самому, по всей видимости, воссесть на опустевший эльсинорский трон. Эльсинор никогда не остается без короля.
Сказывают, первым делом Фортинбрас распорядился поставить на площади памятник — тот самый, который в народе прозвали “Счастливый принц”. Вместо глаз сапфиры и круглый алый рубин на рукоятке шпаги.
Сразу же ласточка прилетела, крошка-ласточка, села принцу на плечо.
— Ласточка, ласточка, — прошептал Принц, — крошка-Ласточка, исполни волю мою.
Стоп! Как же так? Совсем я запутался. Ведь Фортинбрас вошел в Эльсинор, когда Сашка оттуда уже бежал? А ведь Сашка до этого не раз видел Счастливого принца на площади и, глядя в его слепые глазницы, воображал себя таким же добрым, прекрасным и — несчастным.
Может, не мое это дело, ро́маны тискать?
“Если не говоришь, чего хочешь, — какой смысл писать?”
Джек КеруакСовершенно не претендую на оригинальность и независимость от влияний. Я пишу, как хочу, и получается то, что получается.
“Наберу слов пропасть, выражения усиленные, сколько можно усилить, и фигурно чрезвычайно, а мысль, разглядишь, давно знакомая”.
Николай Гоголь, из письмаВсё же хорошо, когда их много, чтобы всегда лезть в карман, когда одно слово нужно заменить другим. Ловлю слова, где могу. И у кого могу. Все слова — семена. Была бы только почва. Как их тратить — щедро или скупо? Но это уже дело стиля. Стиль возникает на границе между вкусом и безвкусицей.
“…Под именем «стиль» возникает автономное слово, погруженное исключительно в личную, интимную мифологию автора, в сферу его речевого организма, где рождается самый первоначальный союз слов и вещей, где однажды и навсегда складываются основные вербальные темы его существования”.
Ролан Барт“Да здравствует союз слов и вещей! Вперед — к полной победе экзистенциализма в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм!”
Из первомайских призывов ЦК КПССНаброски из ненаписанного романа
Поезд шел вперед, время — внутри него — назад.
Капитан, тот мамин случайный ухажер с конфетами и коньяком, должен был показать Сашке море. Но моря уже не оказалось на прежнем месте. Зато — как и тогда — молодая армянка из Египта сидела в купе — жесткий, плацкартный — на полке, у окна — в огромных темных очках. Сашка отражался в черных их овалах, как в кривых зеркалах комнаты смеха в Парке культуры и отдыха имени Горького.
— Мальчик! А где твоя мама? Почему ты один? Иди ко мне.
Да, почему он один?
— Ты разбил меня, как чашку, — мамины голубые глаза были полны слез.
И Сашкины, карие, тоже.
— Мама, это ты разбила чашку, не я.
Армянка с очень белым лицом и короткими ногами под расходящимися полами яркого халата с цветами и птицами. Когда двигалась, обтянутые нейлоновыми чулками полные ляжки терлись под халатом, и был слышен сухой, шуршащий звук, от которого у него как-то странно делалось в горле.
Она ела спелую хурму, улыбаясь, смотрела на Сашку — очками — с его искаженными лицами. Хурма — липкая вязкая слизь — медленно ползла по пальцам, коротким, белым и чистым, с кроваво-алыми ногтями. Ослепительно белые зубы и кроваво-красный рот. Остренькие клычки — слева и справа — обнажаются при каждом укусе — впивании, вонзании — в плоть.
— Нет, пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня! Мне нужно в другой вагон!
Подивился Сашка, сколько же ног выставлены в вагонный проход — некупированный, плацкартный — и какие огромные на них мозоли. “Мозоля”, — как говорил сосед полковник Владимир Степанович. Сашка усмехнулся, вспомнив: “Ты еще, пацан, заработай мои мозоля”.
И этот запах — густой, вагонный, — вся эта детская вонючая сырость, и все взрослые подмышки, все промежности…
Но благоуханнее роз запах народа, думал Сашка, я с тобой, мой народ!
Ванька-Клещ, представитель народа, спрыгнув обеими ногами с верхней полки, подался плечом в коридор и неприятно посмотрел на Сашку…
Время с легкостью забывает само о себе. Иногда настоящее пародирует прошлое, иногда проклинает, забывая, что его самого не было бы без этого прошлого.
Запись 1990 года
Это будет роковой год?
Каждая эпоха склонна преувеличивать свое историческое значение. И все же — какой наивный вопрос для нас, живущих и выживающих в этом фантастическом мире. Да сколько уже их было, этих роковых. Да у нас, почитай, кажинный год — роковой. Только всегда робко надеемся и просим у Времени, чтобы этот не оказался, борони Бог, роковее других.
“История всегда располагает большей объективностью и большим запасом сведений, чем отдельный мемуарист”.
Владислав ХодасевичПоначалу, честно говоря, я, ворона пуганая, куста боящаяся, полагап, что “перестройка” так называемая — не более чем скандал в “зубатовской столовой”. Ну, было, так сказать, крепостное, смилостивились — решили отпустить на оброк. Но вот Время стало как-то все круче и круче забирать — каждый день, каждый час. И уже другие стали появляться мысли и надежды.
“Русскому человеку честь одно только лишнее бремя.
Да и всегда было бременем, во всю его историю.
Открытым «правом на бесчестье» его скорей всего увлечь можно”.
Федор Достоевский, разговор Кармазинова с Петрушей ВерховенскимА вот Рильке не согласен с Кармазиновым:
“Русский человек на множестве примеров показал мне, что закабаление и угнетенность, даже длительное время подавляющие все силы человеческого сопротивления, отнюдь не обязательно приводят к гибели души”.
Значит, дано было — по Достоевскому из “Бесов”, или, скорее, по Кармазинову, он же Тургенев, — многолетнее право на бесчестье. Насладились “бесы разны” сверх всякой меры. Но вдруг стало пробуждаться — уже по Рильке — желание заслужить, добиться права на честь.
Тогда мы радостно решили, что наступил долгожданный закат конформизма.
— Гуляй, Вася!
“Наш фестиваль «Взрыв новой волны» продолжался две недели с ноября 1990 года… Самый последний перформанс был уже в высшей степени радикальным. Мы показывали фильм Луи Маля «Зази в метро»… По окончании фильма мы попытались воспроизвести на сцене всё то, что происходило на экране: в последние минуты вышли на сцену и стали кидаться тортами. В фильме был белый медведь, вернее, человек в медвежьей шкуре, а мы пригласили настоящего медведя, но бурого.
Была такая веселая атмосфера, что медведь перестал слушаться и побежал в зал, но не агрессивно, а позитивно…”
Анатолий ОсмоловскийАтмосфера была куда уж веселее. Только медведи, как и настоящие, так и в шкурах разного цвета, стали сбегать в зал, где шел небывалый — на весь Советский Союз — перформанс, уже не так позитивно, а очень и очень даже агрессивно.
В октябре 93-го года, вернувшись из Тбилиси, по дороге из Союза кинематографистов хотел добраться до Большого Девятинского переулка, где жил Саша Княжинский. Не удалось. Внешняя сторона Садового была перекрыта, толпами шарахался народ, и слышны были выстрелы. Потом Саша рассказал — стреляли со стороны Храма Девяти мучеников Кизических, живущие в их доме ложились на пол.
А я вдоль домов крался — не испуганно, скорее любопытно — по внутренней стороне Кольца. Возле Зала Чайковского над моей головой ударил в стену заряд.
“В СССР и России на вооружение правоохранительных органов состояли такие СГ (слезоточивые газы), как «Черемуха» и «Сирень».
ВикипедияОдним словом, расцвела сирень-черемуха в саду, на мое несчастье, на мою беду. Особой беды, правда, не произошло. Все-таки это был наш, родного нашего призводства СГ. И я не пал на асфальт с затуманенным сознанием и обливаясь ядовитыми слезами. Только глаза пощипало и запах противный почувствовал. И еще почувствовал некоторую гордость за то, что стал участником событий — пусть и пассивным, но все равно на стороне справедливости и демократии.
— Я с тобой, мой народ!
“Народ есть сложная моральная личность; чтобы определить роль, указанную ему во всемирно-исторической работе, он должен, как и отдельный человек, во-первых, уразуметь… и, во-вторых, ясно осознать свое «я», узнать свои пороки и добродетели… Только уразумев жизнь человечества и свое собственное прошлое, народ может трезво понять свое настоящее…”
Михаил ГершензонПамять — базарный шарлатан — фокусник — достает из потайного кармана то, что́ нужно ей, и когда нужно — ей…
1997-й. Две смешливые медицинские сестры сопровождают меня в лифте на операцию.
Накануне Юра, друг школьных лет, сосед по дому на Фурманова — Юрий Викторович Варшавский, доктор медицинских наук, профессор, ведущий рентгенолог Москвы, — увидев диагноз, полученный в поликлинике на Плющихе, не медля, посадил меня в машину. И отвез в 24-ю — знаменитую — Екатерининскую — больницу на Страстном бульваре — к знаменитому хирургу-колопроктологу Владимиру Борисовичу Александрову.
В своем кабинете — с коллекцией лошадей из дерева, металла и камня — он, пощупав меня, сразу позвонил подчиненным по селекторной связи. Юра повез Ирину на Плющиху за моими вещами. А меня уже готовили к операции.
Думал ли я о смерти? Да мы — как в том старом анекдоте — всегда думаем о ней. И когда беспощадно реальна, и когда лишь воображаема проклятой фантазией, властвующей в сознании. Запретим думать сознанию — напомнит, клюнет тебя из подсознания сука-смерть, тогда, когда этого никак не ждешь.
“Мысль человека за горами, а смерть его за плечами”.
Русская пословицаЛежишь — Адамом — до грехопадения — а целых две Евы — в белых халатах — шуруют над твоим бедным телом. Напрочь — на эти минуты, — как и ветхозаветный Адам, теряешь стыд. Евы привычно сбривают его безопасной бритвой вместе с волосами на лобке. Начинает действовать наркоз, я как пьяный, мне очень весело, Евы хихикают, на меня глядючи. А уж какое веселье разгорается в лифте…
Потом мне рассказали — я въехал в операционную на каталке, победно выставив вверх правую руку с двумя пальцами “вилочкой” — виктори!
“Не умирай, осел, — весна придет, трава отрастет”.
Турецкая пословицаСмерть — величайшая наставница жизни — часто представляется закрытой дверью в конце коридора, тупиком. А может быть, это как раз выход, пролом в стене, за которым темное, одинокое, холодное, но свободное пространство?
Мой глаз — а мой глаз сейчас и есть я — за плотным частоколом ресниц. Каждая ресница — бревно. Ни одна молекула света не проникает ко мне — с той стороны, что за частоколом. Та сторона есть, я это знаю — чувствую. И тут-то во мне рождается отчаянное упорство.
Толчками — не телесными, нет, — мысли и чувства — идущими из — почему-то — совершенно спокойной глубины моего “я” — я раз за разом расшатываю это — спаянное — соединение бревен — ресниц. И вдруг вижу между ними серые, бледные движения света реанимационной палаты. Еще толчок, еще… Вижу потолок, ура, я жив.
Хотел бы я писать стихи, как обэриут Олейников.
Молодец профессор Греков, Исцелитель человеков! Он умеет все исправить, Хирургии властелин…Умел бы так, что-нибудь такое же сочинил в честь хирурга Александрова.
Моя палатка — крошечная, но отдельная: я блатной. Александрову, чтобы войти в главный корпус, надо пройти из флигеля, где его кабинет, через заснеженный двор. Я, не вставая с кровати, вижу его из окна. Маленький, быстрый, в коротком элегантном ватничке поверх белого халата, он похож на великого полководца Суворова.
И со мной он тоже обошелся по-суворовски.
Но сначала у меня появился мой лечащий врач, совсем молоденький и очень серьезный, в очках. Надавал массу рекомендаций — в основном запретительных, — как мне вести себя в послеоперационный период. Идет к двери. Останавливается.
— Слышал от девочек, вы киношник.
Обожаю слово “киношник” — меня от него переворачивает. Но признаю́сь:
— Да.
— А какие фильмы снимали?
Терпеливо объясняю — не снимаю, а пишу. Скучным голосом начинаю перечислять. Он скучно слушает — ни одного не знает. Даже “Всадник без головы” не вызывает интереса — другое уже поколение.
Надо спасать положение. И — вдогонку — с надеждой: “Вот еще… еще… «Новогодние приключения Маши и Вити»!”
Он оборачивается. Сразу же. Никакой скуки, восторг и блеск в очках.
— Да? Правда? Это вы? Про кота Матвея?
Вот ведь, надо же! И кота маминого давно уже нет, а слава его — бессмертная — гремит и распространяется!
Я скромно подтверждаю свое авторство.
— Ну, вы даете! Никогда бы не подумал!
То есть — при взгляде на меня.
И возбужденно вылетает в коридор — чуть ли даже не вприпрыжку.
Я остаюсь один и соображаю — на кого же он похож, кого мне напоминает? Ну, конечно! Очкарик Витя из этой самой моей сказки!
Ирина уже у меня в палате, приехала. Появляется профессор Александров, лечащий очкарик топает за ним. Серьезен опять, но вдруг — за спиной шефа — заговорщицки поглядывает на меня, как будто мы с ним — через кота Матвея — приобщены к какой-то общей радостной тайне.
Профессор, кивая, выслушивает его отчет. Потом — мне:
— А ты чего разлегся? Вставай, вставай! Хватит. Завтра будем выписывать.
Заметив удивление на лице у Ирины, вызывает ее в коридор.
— Вы всё это не слушайте — можно, нельзя… Чем быстрее забудет об операции, тем здоровее будет!
Ничто не научило — по-прежнему упорно играю в прятки с собственным организмом. “Кто не спрятался, я не виноват”, — говорит он. Я тщательно прячусь. А он меня все равно находит. Когда ему это нужно.
Жизнь состоит из двух неравных частей. В первой части твой организм приспосабливается к тебе, к твоему характеру. Во второй — ты приспосабливаешься к организму. И вот тут-то уж он припоминает тебе всё.
Поэтому мы с Ириной отправляемся в Израиль. Тель-Авив. Клиника “Ихилов”.
Запись 15 сентября 2016 года
Тель-Авив. Сарона, торгово-развлекательный квартал, парк на месте немецкой колонии, старых тамплиерских домов. Потрясающий рынок под крышей. Десятки бутиков, ресторанчиков, пиццерий. Очень удобное место для теракта.
“Террористическая атака 8 июня 2016 года, произошедшая в 21.26 по местному времени, в ходе которой 4 человек погибли и 20 человек получили ранение при стрельбе”.
ВикипедияПоразительно свойство израильтян, воспитанное годами отважного одиночества лицом к лицу с врагами, — никаких комплексов неполноценности. Было? Было. Увезли раненых, смыли кровь. Всё! Надо жить и не бояться. И не думать. А хасиды вообще советуют — по любому поводу — плясать и смеяться.
Плясать и смеяться!
Запись 15 сентября 2016 года, продолжение
Сидим под вечерним небом в ресторанчике “Киплинг” — недалеко от того места, где три месяца назад была стрельба.
Младшая сестра Оля, дочь моего отчима Бориса, спасенная здесь от рака и живущая ныне постоянно в чудном городе Хайфа, ее внучка Машка восьми лет, сын маминой подруги Давид Маркиш и мы с Ириной.
Я собрал всех не просто так — сегодня день рождения мамы.
Мы поминаем ее и всех наших мам — мы все теперь сиротки. Кроме, конечно, внучки Машки. А ее и нет за столом. Она бесится на детской площадке, где уже мгновенно подружилась с двумя девочками — еврейкой и арабкой. А я — в виде тоста — говорю о том, как много бесценного о жизни и людях прошлых лет я не узнал от мамы. И вот вспоминаю, пишу, пишу, а спросить не у кого — так ли было…
Успев порадоваться, что я живой, мама умерла в декабре 98-го — через год после моей операции.
Дочку Катю мама — она же Баба Жанна — очень любила, Катька с детства ее тоже. Она уже жила не с нами. Теперь в “Катькиной комнате” на Плющихе — под Ириным присмотром — лежала мама. Читала в тысячный раз своего Диккенса, грустила и огорчалась, что не узнает, кто родится у Кати — та была беременна.
Так и вышло — не узнала.
Врачи убедили нас: ей нужен особый уход и аппаратура — мы не справимся.
С нашей проклятой лестницы снесли ее на стуле. Мы ездили к ней в хоспис. В тот день Ирина — одна — повезла ей домашнюю еду. А я не смог — отправился на Курсы. Мы с Володей Хотиненко набирали нашу первую общую — режиссерскую — мастерскую. Я должен был заведовать драматургией. К нам присоединился Володя Фенченко.
Мастерская наша, существующая сейчас уже девятнацать лет, для нас троих была первой, но мои отношения с Курсами начались гораздо раньше. С 1987-го.
Когда — в начале пути — я еще ничегошеньки не понимал в профессии, но делал вид, что понимаю всё. И почему-то это производило впечатление, ко мне даже некоторые олухи обращались за советами. Позже я даже нагло начал преподавать, хотя мало что изменилось с моим пониманием. Но надо было соответствовать обману, и вот постепенно… постепенно…
“Тот, кто усвоил старое и способен понимать новое, может быть наставником”.
КонфуцийСтранное дело, сейчас, когда я работаю с будущими режиссерами, мне гораздо интереснее, чем тогда, когда пытался наставить будущих сценаристов. Может быть, потому что я сам учусь вместе с ними. И это не кокетство пожилого мастера, это правда. Но на кого учусь? На режиссера?
Когда-то Саша Княжинский готовился защищать диплом. Вопреки давней договоренности — без своего постоянного друга-соавтора Юры Ильенко. А ведь должны были вместе. А как иначе? Княжинский-Ильенко — это же такой знаменитый вгиковский кентавр.
Перед этим Яков Сегель, снимающий на Ялтинской киностудии “Прощайте, голуби”, расстался с оператором Ильей Миньковецким. Старший брат, известный киевский оператор Вадим Ильенко, предложил Сегелю Юру. И Саша остался один.
Защищаться ему было нечем. Стали думать. Летом Саша и Юра снимали халтуру — заказную рекламу о кемпингах, тогда только возникших — от Прибалтики до Черного моря.
Пригласили — в качестве героя рекламного путешествия — друга Шуру Ширвиндта и чудно провели время. А я, когда они вернулись с упоительными рассказами, написал к снятому — довольно красивому изображению — какой-то — по-моему, чудовищный — дикторский текст.
Теперь это творение — делать нечего — стало Сашиным дипломом. И Саша пришел ко мне со своими дипломными соображениями об операторском мастерстве — чтобы я помог ему напечатать “теоретическую часть”.
Я сел за свой канцелярский “Континенталь”, Сашка — рядом. Он долго и серьезно молчал, думал — с чего начать, и, наконец, произнес первую фразу:
— Кино — искусство синтетическое.
Я засмеялся.
— Почему ты смеешься? — обиженно спросил Сашка.
В ответ я рассказал. У Шкловского — кажется, в “Гамбургском счете” — написано про то, как к отцу Есенина пришли журналисты расспросить о трагическом его сыне. Старый крестьянин прошелся в валенках по избе, подумал и сказал:
— Шел дождь.
Княжинский понял и перестал обижаться.
Но кино действительно искусство синтетическое. Однако то, что в кино каждая профессия тоже синтетична по сути своей, и режиссер не меньше драматург, чем драматург — режиссер, понимают, увы, немногие
Я учусь не на режиссера, конечно, — уже поздно. Я учусь кинематографу. Это не поздно никогда и безумно интересно. Всегда.
К тому времени, когда началась наше первая мастерская, мы с Володей Хотиненко уже работали вместе — на киностудии “12-а”, где директором был Саша Михайлов, — над документальным фильмом к 850-летию Москвы. Володя Фенченко нам помогал — и в Красногорском архиве, и при съемках.
Придумано было неплохо и просто. Соединение документального и игрового.
Плывет — с утра до вечера — кораблик по Москве-реке — через праздник. У штурвала старый капитан — актер Вадим Вильский с очень выразительным лицом. Мимо проплывают не только берега с их яркой и шумной праздничной суетой, но и — нетрудно догадаться — его воспоминания.
Конечный пункт плавания — Воробьевы горы. Вечером праздничного 6 сентября там небывалое для Москвы грандиозное световое шоу, специально для юбилея поставленное знаменитым композитором Жан-Мишелем Жарром. На высотку МГУ проецируются, под его музыку сменяясь, кадры из истории Москвы.
На Воробьевы горы мы приехали заранее — с утра. На могучем операторском ЗИСе, арендованном на “Мосфильме”, с таким же могучим водителем.
Пока разгружали аппаратуру, устанавливали камеру, пока Володя Хотиненко с оператором Володой Шевциком выбирали точки для съемки, народу было еще мало. Редкие веселые группки, уже с утра затеявшие здесь дружеские пикники. Но постепенно площадь стала наполняться, со всех сторон прибывали людские потоки — лица в основном молодые. Музыка их привлекала.
“Концерт посетили около 3,5 миллиона человек, что вошло в Книгу рекордов Гиннеса”.
ВикипедияНам казалось, народу было еще больше. У Гиннеса одни глаза, а у страха другие, и они, как известно, велики. Страху натерпеться можно было с лихвой. Оглянуться не успели, оказались, прижатые к своему “ЗИСу”, — островком среди океана, волнуемого постоянными приливами все новых и новых людских масс.
А тут уже шоу началось. И те, кому было видно плохо — особенно с детьми, — полезли на наш ЗИС. Но места на нем всем лезущим, конечно, не хватало. Стали ссориться. Выпито ведь — под праздник, за несколько часов ожидания, — уже было ох как прилично. Кто-то из киногруппы схватился с кем-то из толпы. А она все подступала и подступала, смыкаясь вокруг нас и давя друг друга, ничего не соображая, не чувствуя, кроме желания глазеть, лезть, орать, давить.
И если бы не наш водитель, который, сев за руль, направил огромный автомобиль, как танк, прямо в толпу, и она, на мгновение оторопев, расступилась, и мы вырвались из ее тисков, — не знаю, право, как бы это все могло закончиться.
Ибо ничего нет страшнее толпы.
Я с тобой, мой народ!
Для съемок на воде мы выбрали какую-то доисторическую лоханку с красным крестом, приписанную к речной санитарной службе. Свое кинопутешествие она должна была начать из тихого осеннего затона. Осень тогда была ранняя, прохладная, с густым листопадом. Затон показался мне совершенно из фильма, который мог бы снять Шпаликов по своему сценарию.
Лоханку немного подкрасили, декорировали, иллюминировали — и получился очень лирический кораблик.
Команда из трех речных волков несколько дней честно служила кинематографу. Но в тот день, когда нужно было снять последний — важный вечерний — красивый — кадр у Каменного моста, волки, видимо проникнувшись ответственностью художественного момента, прикладываться начали уже с утра.
К вечеру это сказалось.
Одна камера была на кораблике. Вместе со вторым оператором при ней находился Володя Фенченко, помогавший режиссеру. Даже он, так сказать повидавший подобные виды, как потом рассказывал, пришел в ужас от происходящего на борту.
Несмотря на вечернее время, прохладу и, наверное, какие-то правила, волки были в трусах. Капитан — не игровой, его, к счастью, не было, а реальный, — спал в крошечной каюте. Кто стоял у штурвала и стоял ли кто-то вообще — было неясно. Кораблик управлялся какой-то высшей силой, возможно, самим Провидением. Но, похоже, оно еще не решило его судьбу.
Единственный трезвый — пятнадцатилетний юнга — да, там даже был такой, совершенно очумевший от поведения старших товарищей Дик Сенд, — когда кораблик мотануло к берегу, ухитрился прыгнуть на ступени лестницы, ведущей на набережную, и смыться без оглядки.
Основная камера стояла на штативе на противоположном берегу, на набережной напротив Театра эстрады, рядом с Каменным мостом. У камеры Шевцик и Хотиненко, и я с ними. Поначалу мы довольно легко обсуждали странные маневры кораблика. Но уже вскоре начали происходить совершенно невероятные события, повергшие и нас, как и Фенченко, в ужас.
На кораблике, который был виден камере, зажглась иллюминация. Как оказалось впоследствии, всё на воде подчиняется строгому порядку и установленному регламенту. И едва ли не в первую очередь освещение.
Пик последнего юбилейного вечера. Музыка, фейерверки. На воде тесно. В обе стороны, празднично украшенные, идут различные плавсредства. Они в изумлении. Дезориентированы непридусмотренными огнями и странными, дикими движениями нашего лирического кораблика. Маневрируют, лавируют, чтоб не столкнуться, и кроют его страшенным матом — на всю Москву-реку.
А он — поперек реки — прет под мост — тараном — в стенку набережной.
Я увидел, несмотря на темноту, как побледнел Хотиненко. А сам стал пятиться к арке Дома на набережной, видимо в подсознательном стремлении спрятаться там в темноте от надвигающейся катастрофы
Праздничные зеваки на Каменном мосту в восторге — уверены, что всё это — часть запланированного — веселого — речного шоу. Кричат и плещут в ладоши.
Катастрофы, к счастью, не произошло. То ли Провидение в последнюю секунду решило помиловать, то ли Фенченко потряс капитана мастерством и этажами народных выражений и тот все-таки проснулся, — сейчас точно не скажу.
И как-то так само собой получилось, что мы все трое, не расставаясь, стали — во главе с Хотиненко — руководить одной из первых — в новой истории Курсов — режиссерской мастерской нового типа. Кажется, по нашему образцу во всех других мастерских была тогда тоже использована одна и та же схема: “режиссер + сценарист”.
Алексей Герман, Андрей Добровольский — Светлана Кармалита.
Владимир Меньшов — Александр Гельман.
Андрей Смирнов — Наталья Рязанцева.
Андрей Герасимов — Леонид Гуревич (мастерская неигрового кино).
Трудно представить себе трех таких совершено разных — во всем — людей, как Хотиненко — Финн — Фенченко. Но двадцать лет просидели рядом за столом в первой аудитории. Перед нами все менялись, и менялись лица — десять мастерских! И сейчас мы часто ловим себя на том, что, никогда не сговариваясь, оцениваем и советуем — совершенно одинаково.
В самом начале я — призна́юсь — ужасно волновался и трусил. Одно дело работать сценаристу с режиссером над сценарием, и совсем другое — соответствовать в преподавании режиссуры. Весь предыдущий опыт — не в помощь. Но меня сразу же увлекла изобретенная Хотиненко и уже опробованная им и Фенченко во ВГИКе система, которую Хотиненко называет “курс молодого бойца”. Как только мне самому стало интересно, перестал трусить и стесняться.
И уже несколько моих — личных — принципов выработалось за это время.
Вести себя с ними — с учениками — так, будто все они твои товарищи: спокойно и откровенно. И весело. Честно. И при этом как можно чаще хвалить. Знаете, как много значит в молодости похвала?
В этом, собственно, и заключается вся моя “педагогика”. Ведь всегда можно найти что-то для похвалы. И тогда вся самая суровая критика будет воспринята.
Давать им то, в чем сам был обделен — в начале. Участие и сочувствие.
“Сочувствие необходимо, но такое сочувствие истинно лишь тогда, когда человек по-настоящему глубоко признает перед самим собой, что случившееся с одним человеком может случиться со всеми. Только тогда человек становится реальным приобретением для себя и другого”.
Сёрен КьеркегорВ тот день 7 декабря 98-го, как я уже писал, мы набирали первую нашу мастерскую. Я вместе со всеми другими мастерами сидел за столом, к нему — с разной степенью волнения и испуга — приближались абитуриенты. А ко мне неожиданно тихо подошла Оля Агишева, милая сотрудница Курсов, дотронулась до плеча и, переживая, тихо сказала:
— Паша, вам звонит Ирина.
До этого — как только Ирина вышла из гардероба в коридор хосписа, сразу же услышала — от сестры:
— Скорей!
Она поспешила в палату. Другая сестра сидела рядом с кроватью. Ирина все сразу поняла и переняла у нее мамину руку. Видимо, почувствовав это, мама открыла свои огромные голубые глаза…
— Дождалась тебя и ушла, — сказала сестра.
Меня не дождалась. Я еще только узнаю, я еще только сорвусь с Курсов и полечу. А может, и не ждала. Я же ведь так занят.
Когда-то, когда мне в очередной раз было особенно плохо, и бедно, и неудачно, мама сказала — вдруг и как-то не очень похоже на нее и на ее слова:
— Все еще у тебя будет. Я верю, ты будешь мастером.
Отпевали маму в Храме Воскресения Словущего на Арбате — в Филипповском переулке. Наши с Ириной друзья. Много молодых — друзья Ольки, сестры. Со школьных лет паслись у нас, любили маму.
Пройти от храма метров двести-триста до Сивцева Вражка, по нему влево, тут и наша родная улица Фурманова. Наш дом снесенный. Здесь с 1933 года жила молодая прелестная женщина с голубыми глазами. Когда она первый раз вошла в квартиру, над которой была квартира Осипа Мандельштама и Надежды Яковлевны, ей был двадцать один год.
Ее кроткой душе, витающей над церковью, наверное, было приятно это последнее соседство.
…Видимо, земля воистину кругла, раз ты приходишь туда, где нету ничего, помимо воспоминаний.
Иосиф БродскийПечальный парадокс моей жизни. Кино всегда было для меня самым главным. Но полного удовлетворения в кино я так никогда и не получил.
Одних кино любит, других — нет. Уж не знаю, к какой категории себя причислить. Где-то, наверное, посередке.
Но если даже не было удовлетворения, оставалась дружба с режиссерами.
В конце семидесятых в Союзе кинематографистов устраивались творческие вечера известных кинооператоров.
Я с того времени, когда Юра Ильенко разрисовывал цветочками коров для фильма “Ночь накануне Ивана Купалы”, был дружен с Вилей Калютой. Тогда еще он был “вторым” у главного оператора — Вадима Ильенко. Потом сам стал “главным”. Приехал из Киева в Москву, уже как мастер, на свой “вечер”, и показывал картину “Бирюк”.
Я увидел на экране кино, о котором мечтал. Настоящее кино, и понятое, и выраженное пластически — своим единственным языком — только как кино, без малейшей примеси литературы, хотя в основе был Тургенев.
Не дожидаясь, пока Виля познакомит меня с режиссером, о котором я раньше только что-то — как обычно, как обо всех, слегка насмешливое, — слышал от Сережи Параджанова, я подошел к нему сам — с восторженными словами.
С тех пор мы дружим с Ромой Балаяном.
Он утверждает, что всегда терпеть не мог снимать кино. Но каждый раз любил собирать вокруг новой картины друзей. И потому, если сценарист, так Рустам Ибрагимбеков, оператор — Виля Калюта или Паша Лебешев, актеры — обязательно Олег Янковский и Саша Абдулов…
По вечерам. В номере гостиницы. Выпить, рассказать историю. Как он умеет — серьезно, медленно, с блеском глаз и так, что все помирают со смеху. Кажется, друзей он любит больше, чем кино.
Видимо, именно по дружбе он и предложил мне писать сценарий по повести Лескова “Леди Макбет Мценского уезда”, хотя прекрасно мог это сделать сам. Так, собственно, в конце концов и вышло.
Вот ведь как бывает: говорим — в кино — на одном языке, а договориться не смогли. Но мне все равно приятно быть в одних титрах с ним.
Встречаемся каждый раз, когда я приезжаю в Киев, где он знаменит и любим, как и в Ереване. Чему я свидетель.
Фестиваль “Золотой абрикос”. Июль. Адская жара. Идем есть мороженое. Он, его жена Наташа, я. Незнакомые люди почтительно здороваются с Балаяном.
В кафе пытаюсь заплатить.
— Ты что, с ума сошел? Будешь платить за меня в Ереване?
Гордый карабахский армянин!
Как будто в Киеве, в любимой хинкальной, он позволяет мне расчитаться!
Вот еще Валера Рубинчик. Тоже — совершенно мой режиссер, хотя вместе ни одной картины. Только всё собирались, только договаривались. Однажды несколько дней встречались у нас на даче, которую мы тогда снимали в Мамонтовке, и обсуждали кино по “Двойнику” Достоевского.
Много умных слов и вдохновенных соображений. А как это делать, не знали ни он, ни я. Сейчас мне кажется, я понимаю — как. Да вот беда — Валеры уже нет.
1985 год. Мы познакомились с Рубинчиком в коридоре Минской студии, где он тогда еще работал. А я приезжал смотреть материал картины “Свидетель”, которую снимал по моему сценарию Валерий Рыбарев.
Перед этим Миндадзе дал ему прочитать мое “Ожидание”. Дачное детство, маленький мальчик по имени…
(Вот ведь какой настырный тип — этот мой постоянный герой Сашка. Так и не терпится ему — в любой своей ипостаси — прорваться на эти страницы.)
Рыбарев сценарий оценил. Но он был погружен в фактуру совсем иной жизни. Только что закончил “Чужую вотчину” — по романам белорусского писателя Вячеслава Адамчика. Западная Белоруссия, деревня на границе с Польшей, 1938-й — предвоенный — год.
Меня просто поразила эта картина. Максимальная выразительность пластики. Доведенная до поэтического совершенства достоверность. В этом вообще его главная сила как режиссера. В достоверности. В чем я еще раз убедился, работая с ним потом над фильмом “Свидетель”.
Но до этого он предложил мне делать для него сценарий продолжения “Чужой вотчины”. Я увез в Москву напечатанную на машинке и, по-моему, еще не опубликованную третью часть трилогии Адамчика. Та же деревня, та же “вотчина”, но уже началась Вторая мировая война.
Я написал большую заявку. Вызвали в Минск — на обсуждение. Оно было ужасным. Не помню фамилию тогдашнего главного редактора Минской студии — то ли он был писателем, то ли еще кем-то. Он, как дважды два, доказал нам всю опасную идеологическую несостоятельность наших устремлений.
Заявку оскорбительно и бесповоротно “зарезали”. Я заявил, что отрясаю прах и ноги моей больше на Минской киностудии не будет.
— В чем был принцип так напиваться? — говорил один отец своему сыну, когда друзья приносили того домой.
В чем был принцип постоянных запретов? Мы ведь хотели хорошего. А хорошее на пользу всем. И власти тоже. Разве не так? Наивные и жалкие вопросы. И все же я уверен, что, если бы больше разрешали, а не запрещали, власть бы не нарвалась на то, на что нарвалась в конце концов.
“Толстой говорил, что многое совершенно необъяснимое объясняется иногда очень просто — глупостью”.
Иван БунинВпрочем, неизвестно, что лучше. А если бы та власть не нарвалась?
В нашем деле нельзя зарекаться. Все же переступил порог Минской студии. После того, как мне позвонил Рыбарев и сообщил, что ему разрешили делать кино по повести другого белорусского писателя Виктора Козько — “Судный день”.
Послевоенный детский дом. Здесь живет Коля Летечка — жертва “киндерхайма”, концлагеря, где фашисты проводили над детьми свои “научные” исследования и эксперименты.
Так вот — о достоверности.
Наше кино стало называться “Свидетель”. Его герой Коля — свидетель. На суде, который идет над теми предателями-белорусами, кто служил в безжалостных зондеркомандах.
По самым что ни на есть реальным материалам следствия, немного стилизуя, но и сохраняя подлинные тексты допросов, я смонтировал монологи бывших зондеркомандовцев на процессе. Всё должны были разыграть актеры, в основном непрофессиональные.
Смотрим материал. И у меня, написавшего эти монологи, — абсолютное впечатление: Рыбарев снял живых, реальных — кающихся — преступников. Так же и сцены облав и задержания детей — абсолютный — голографический — эффект документа у абсолютно “художественного” кино.
Мастер!
Когда же картина была почти готова, я решил убрать свою фамилию из титров.
Для меня совершенно невероятное решение. Я считаю, надо отвечать всегда и за все. За всю жизнь только один раз — и то не убрал, а поменял на псевдоним.
А с Рыбаревым было так: покажу ему сцену, со всем согласится — искренне, он вообще человек искренний и даже немного наивный. “Да, — говорит, — то, что нужно”. А в ночь перед съемками сядет и переделает. Такая у него режиссерская физиология.
Я кипел, я был возмущен. И все же оставил свою фамилию и не жалею об этом. А если о чем и жалею, так о том, что Валерий давно уже не снимает кино.
Три имени объединил. Почему? Разные люди — только сверстники — очень разные режиссеры. Общее — одно. Чувство подлинного кино, свобода и неповторимость языка и стиля. По нынешним временам — такая же редкость, как перо Жар-птицы, которое Иван хоть и дурак был, да все ж сыскал.
О, если бы этим ребятам дали настоящую волю, когда они были полны богатырских сил! Как бы двинулось вперед наше кино!
В мире еще остались осколки красоты. Как собрать из этих осколков целое?
Сколько в жизни мелочей и подробностей, которые остаются без внимания, без сочувствия, без воспоминаний, но которые и есть сама жизнь.
Весь путь кино — это та или иная форма борьбы с жизнеподобием, навязанным ему его собственной сущностью.
И неугомонно вокруг суетятся те, кто делает кино так же, как “поэты”, которые точно знают, что, если слова рифмовать, обязательно получатся стихи.
“Треплев: Нужны новые формы, новые формы нужны, а если их нет, ничего не нужно”.
Антон Чехов, “Чайка”Делает ли искусство своей задачей не оставить никаких тайн в человеческом существовании, никаких закоулков, никакой пыли и темноты под кроватью. А вообще — ставит ли искусство перед собой какие-либо задачи?
“Разве можно было бы назвать картиной большое, обрамленное квадратное полотно, хотя бы и самого прекрасного черного цвета?”
Стендаль, 1817В каждом искусстве — свой “черный квадрат”, то есть максималистская, консервированная концепция сущности данного искусства. Можно и киноязык выхолостить до такого состояния. Но зачем? Нужен какой-то баланс между индивидуальностью, совершенством языка и содержанием. Как у Бергмана, например.
Чтобы сквозь черноту квадрата всё же прорывались другие цвета.
Шестидесятые и девяностые! Два котла, в которых кипело варево нашего времени. Одни пытались выхватить из котла лакомый кусок. Но только обжигались, дули на руку и отходили в сторонку. Другие, хоть и получали ожоги разной степени, свой кусок в котел назад не бросали.
Вот они и остались.
Новое время как будто бы разрешало многое из того, о чем и подумать нельзя было раньше. Я постоянно хотел как-то выразить то, что накопилось у меня в памяти и душе. Почему-то был убежден, что должен — должен! — об этом сказать. И постоянно кружился вокруг одной истории, в которой соединилось так много из накопившегося и пережитого.
История компании. История дружбы. Любовь. Тоска. Тайна. Вражда. Распад.
В центре сюжета два друга и — между ними — бывшая девочка, а ныне — полуспившаяся, со всеми переспавшая, талантливая и злая, саркастичная, всех — и себя — презирающая, но жаждущая любви. Та самая, в белых гольфах, в детстве молящаяся на окно героя девочка.
Жажда любви! Никому на этом свете не хватает любви — вот такая была у меня главная идея. И от этого, как говорил Толстой, “все качества”.
Один друг в христиане, другой — в осведомители. Признаётся в том, что осведомитель. Впрочем, не очень понятно, действительно стукач или это маниакальный алкоголический бред. Хочет взять на себя вину за все, что было? За всех?
Правда о предательстве, сексе, жадности, зависти, добыче. И в финале солдатик-узбек сваривает каркас нового дома для генералов на месте дома Мандельштама и Булгакова.
Так и не написал, конечно. Бросил назад в котел.
О, Новое Время!
“Во мне пробудился галутный еврей, тянуло ехать, ехать, ехать…”
Ехезкел КотикМир уменьшился, но не потому, что появились самолеты. А потому, что исчезли таинственные острова и острова сокровищ.
Мой стол — мое государство.
Синие драконы из Шанхая, улыбаясь, несут почетный караул справа и слева от реки Тибр, снятой мной с римской набережной сквозь желтые листья.
Я вообще люблю фотографировать реки и корабли на них.
Дунай, Сена, Темза, Хуанхэ, Меконг, Влтава, Висла, Днепр…
Кони пасутся на зеленом сукне моего стола между рекой По и Гефсиманским садом. Монах-францисканец — на моей фотографии — поливает из шланга, возможно, то самое место, где, как у Пастернака:
И лишь сказал, неведомо откуда Толпа рабов и скопище бродяг, Огни, мечи и впереди — Иуда С предательским лобзаньем на устах.— Радуйся, Равви!
Кожаный красавец конь, купленный по дешевке на блошином рынке в Вероне. И недалеко от него — белый — костяной, — проданный мне большим другом, одноглазым персом на Пишпишиме — “клопином” рынке — в Яффо.
Узкие, уходящие неизвестно куда, набитые темными коврами, старой мебелью и поддельной бронзой лавки-коридоры рынка в Яффо.
Так всегда бы и ходить и ходить по нему.
Купить сандаловые четки, ковер, древнюю кинокамеру, связку ненужных ключей, гигантского дракона, китайскую пожелтевшую кость, изумительную старинную тюбетейку, горящую, как драгоценность, на яффском солнце, немецкие гравюры с видами Мюнхена, фарфоровую куклу с румяным лицом и глупыми голубыми глазами, мебель, завезенную некогда евреями из Польши и Румынии, наверное, как раз вместе с теми клопами, которые дали название рынку.
Мой стол. Старый деревянный еврей — “жидок” — из Варшавы с обрывком Торы в руках смотрит на веселого голого и с большим пупком — ярко раскрашенного Будду из Хошимина, он же Сайгон. Как я довез его — глиняного — до Москвы и чудом не разбил? Загадка.
“Привлечь к себе любовь пространства…”
После Пятого съезда все, как с цепи сорвавшись, бросились привлекать к себе любовь пространства. В основном, конечно, секретари Союза.
Женя Григорьев, замечательный сценарист, один из секретарей “климовского” секретариата, по каким-то своим причинам отказался от полета в Бразилию, в Рио-де-Жанейро, и предложил лететь мне — отбирать фильмы для Московского кинофестиваля.
В 1987 году от Рождества Христова в граде Москва были перебои с белыми штанами. А как еще идти по улицам Рио, если не в белых штанах? То есть вообще их не было в наших магазинах одежды — уж поверьте. Мы с Ириной, смеясь над собой и понимая весь идиотизм этого, обошли несколько комиссионных.
— Нет, извините. Никто такие не сдавал. Но вот возьмите — очень симпатичные. Настоящая Франция, серые в полоску.
Пришлось одолжить у Вити Проскурина белую легкую куртку — хоть какая-то компенсация. Конечно, Остап Бендер меня бы осудил, но что делать?
В конце концов, штаны можно было купить в самом Рио и уже на следующий день равноправно влиться в поток счастливых белоштанников. На этот предмет у меня было аж пятьсот долларов командировочных, полученных в Интерфесте, у Юры Ходжаева. Огромные деньги по тем временам. И я очень гордился этим и был морально и финансово готов к завоеванию сказочного и загадочного Рио.
Забегая вперед, должен сказать, что и там белые штаны я не увидел — ни на бразильцах, ни в витринах магазинов. Может быть, не сезон?
Неприятности начались по дороге.
В Буэнос-Айресе я расставался со своими недолгими спутниками — режиссерами Игорем Масленниковым и Калью Кийском. Тогда еще не было прямого сообщения: Москва — Рио-де-Жанейро.
Они летели в бизнес-классе, как секретари Союза, я в экономическом, как рядовой. Такая была у нас демократическая иерархия.
Они остались в Аргентине, я должен был пересесть в самолет другой компании, кажется SWISS, и — через Сан-Пауло — лететь в Рио. Тут-то и выяснилось, что доблестные сотрудники Аэрофлота забыли поставить мне в билете “OK”, а не менее доблестные сотрудники международного отдела Госкино не удосужились проверить билет перед тем, как выдать его мне.
Я не мог лететь в Рио, не мог лететь назад в Москву, не мог оставаться в Аргентине без визы. А что я мог? Это было совершенно никому не понятно. Глядя в равнодушные глаза местных аэрофлотовцев и говоря про себя “какие же вы все козлы”, я, не задумываясь, поступился национальной гордостью великоросса и униженно — чуть ли не со слезами на глазах — умолил их позвонить в консульство в Рио, предупрежденное обо мне.
Оказалось, что все довольно просто, и всем, в общем, плевать, есть ли у меня этот чертов OK. Мне его, истерзав нервы, проставили наконец в билет и пожелали счастливого пути.
В Рио прилетел поздно вечером. В огромном, как город, аэропорте — я такие никогда и не видел — меня должен был встретить представитель “Совэкспортфильма” по имени Саша. Как ни трудно было догадаться, он представлял в Бразилии и в соседних странах не только советское кино. Очень симпатичный парень, но жуткий раздолбай. Может быть, это было частью его тактически разработанного образа? Не знаю, во всяком случае, он опаздывал каждый раз, когда должен был за мной заехать.
Так получилось и в аэропорту Рио-де-Жанейро. Не забудем о том, что я не знаток португальского языка. Одни лингвисты считают, что всего языков в мире 3000, другие — 6000. Я не знаю ни одного, кроме русского.
Получил багаж, прошел границу. Куда дальше? Обычно цепляюсь за кого-нибудь из соотечественников-пассажиров, и куда они, туда и я. Но на этот раз я был единственный советский в самолете швейцарской компании.
И все-таки — с грехом пополам — добрел туда, где меня, согласно полученным в Москве указаниям, должен был ждать Саша.
Но он меня не ждал.
Прошло полчаса, час… Зал, в котором я мыкался, опустел. За дверью — Бразилия, ночь, странные — бразильские — звуки. Я остался один со своим чемоданом. Бразильянки-красавицы в униформе, сидевшие за стеклянной перегородкой, и усатые гиганты бразильцы-красавцы в униформе, выстроившиеся у стены, поглядывали на меня доброжелательно, но с некоторым недоумением.
У меня был телефон этого Саши. Но как позвонить, если у меня проклятые доллары, а не бразильские деньги, которые вроде бы тогда назывались крузадо.
На лице моем, видимо, выразилось такое отчаяние, что бразильянки-красавицы расстроились, а бразильцы-красавцы стали приближаться и окружать меня, знаками спрашивая — что случилось, дорогой синьор?
В запасе у меня, как у дикаря, было несколько слов. Кино. В моем переводе — синема. Фестиваль. Потому что прилетел по приглашению кинофестиваля в Рио-де-Жанейро и его директора, продюсера. Звали его Ней Срулевич. Потом оказалось, что такой же бразилец-красавец с седыми висками и усами, но предков имел — одесситов.
— Срулевич, синема, фестиваль, Совьет юнион! Руссо! Рашен фестиваль! — стал я выкрикивать беспорядочно. — Фестиваль, синема, Срулевич!
Они смотрели на меня ласково и сочувственно, переговаривались и очень хотели мне помочь, но не могли. И тогда я вспомнил. Боже, как же я забыл! У меня же в чемодане маленькая книжечка — русско-португальский и португальско-русский разговорник!
Они окончательно уверились, что я не опасный псих, когда я стал бешено рыться в открытом чемодане. Потом с интересом смотрели в книжечку, опять переговаривались, наконец один из них похлопал меня по плечу и ткнул пальцем на страничку. Ура, порядок! Сейчас они свяжут меня с вожделенным Срулевичем, а Срулевич меня спасет.
“Не волнуйтесь”, — было написано на страничке.
И хоть я продолжал волноваться, мне стало смешно.
А Саши из “Экспортфильма” по-прежнему не было.
— Синема, — поникнув, пролепетал я. — Фестива… Сру…
Тогда один из усачей задумчиво и внимательно посмотрел мне в глаза, показал на меня пальцем и спросил:
— Dostoievski?
— Достоевский? Сумасшедший дом! Какой я Достоевский? Он давно умер! Не слышали?
Естественно, что из всех слов усач понял только одно и очень обрадовался. Повернулся к своим таким же усатым товарищам и, словно успокаивая их, доверительно сообщил:
— Sim! Dostoievski! (Да! Достоевский).
— Да какой я вам Достоевский? Я — синемафестивальсрулевич!
И тут появился Саша. Не прошло и часа с лишним. Я никогда не видел его раньше, но в этот счастливый миг я его обожал. Хотя должен был ненавидеть.
Мы ехали в его автомобиле через чернейшую бразильскую ночь.
— Саша! Почему они называли меня Достоевским? В чем дело?
Он засмеялся и пообещал, что скоро узнаю.
Он привез меня не куда-нибудь, а на пляж Копакабана. Но не с тем, чтобы я немедленно бросился в волны океана. Гостиница была на улице, выходящей прямо на пляж. Невероятная громада чернела и шумела совсем рядом — когда я доставал чемодан из багажника — всего в двух шагах.
Черт побери, я в Бразилии!
Но почему — Достоевский?
— А вот почему, — показал Саша. — Смотрите…
Маленькая улица, на которой мне предстояло жить десять дней, упиралась в другую — большую, шикарную, даже в этот поздний час полную яркими бразильцами и туристами. И в точке соприкосновения этих двух улиц, на фронтоне кинотеатра светилась реклама нового фильма и крупными — светящимися — буквами было написано: “Dostoievski”, еще что-то по-португальски и цифра “26”!
Не в честь моего приезда — случайность, совпадение — “Двадцать шесть дней из жизни Достоевского” уже второй день крутили в кинотеатрах Рио.
Потому “синемарашендостоевский” и был я.
И вот ведь — объехал, как говорится, полмира, но никогда не был в Датском королевстве.
В отличие от моего Сашки.
Наброски из ненаписанного романа
Тем временем знакомый нам СО паровоз, ворча, тащил за собой вагоны — с моим Сашкой у окна — по снежной равнине — сквозь ледяной март 53-го года.
Отцовский дом спокинул я, Травою зарастет. Собачка верная моя Завоет у ворот, —спел печальную песенку Ванька-Клещ и — так вашу мать! — сиганул — бо́сыми ножищами вперед — с верхней полки. Поскреб ногтями суровую пятку и ступил в проход. У Сашки тут же кожа под рубашкой похолодела — прямо до мурашек. Всегда так было, кожей спины и низом живота чувствовал приближение чего-то необъяснимого — то ли опасного, то ли прекрасного.
Опасного на сей раз.
— Хочешь, пацан, Москву покажу?
Ладонями стиснул сразу же запылавшие уши, потянул вверх, отрывая, и приподнял Сашку над полом. И потащил по коридору — к тамбуру.
— За что? За что?
— Не знаешь? А кто Христа распял?
— Это не я! Не я! Чесслово! Я русский! У меня папа русский. Борис. Он актер. В Эльсинорском драматическом русском театре…
Хотел было добавить “имени Полония”, но осекся — мало ли что, кто его знает, какое у Ваньки-Клеща отношение к Полонию.
Да что Сашка? Жалкий, испуганный, беззащитный мальчишка. Даже праведники, между прочим, не идеальны, нет, не идеальны. Взять, к примеру, Лота из Содома. И уж совсем близкий пример — Петр-Камень. Помните? Петр во дворе первосвященника? “Тогда начал он усиленно клясться: я не знаю Этого Человека. И тотчас пропел петух”.
А вы говорите — Сашка отрекся. От своего народа. А я его оправдываю. Потому что Иисус оправдал Петра. Да и Павла, кстати, тоже.
Сказав: один из вас отречется от Меня, и вместе с тем приняв его как ученика и тем самым утвердив его в вечности, Он как бы дал право навсегда человеку быть непростым и противоречивым и познать глубину падения и возможность возрождения.
Наброски из ненаписанного романа
— Русский, говоришь? Русак? А штаны с тебя сыму, позырим, какой ты русский? — засмеялся Ванька, и все вокруг тоже.
Готов был Сашка и на такое унижение — во спасение — ведь оно ему ничем не грозило. Под штанами и трусами все было в норме — природной — соответствовало ГОСТу.
Ванька же вдруг остановился.
— Сымай. Да не штаны, фраер поганый. Колеса сымай! С чего это мы бо́сые, а вы все обутые?
— Да, пожалуйста… пожалуйста… — тщетно надеясь заслужить помилование, заторопился Сашка, на коленях распутывая ненавистные ботиночные шнурки.
Но уже жестоким, неотвратимым холодом пахнуло на него. С грохотом железным — Ванька постарался — распахнулась дверь тамбура. Над летящим мимо пространством. Над летящим мимо временем.
В тот же миг — в пространстве и времени — на краю большого леса, в дощатом дачном домике — под несчастливой березой, — разбуженный криком птиц, вздрогнул и очнулся старый человек.
Вроде пасынок он чей-то был, какого-то, кажись, актеришки, давно уже концы отдавшего. Или не актеришка то был — актерище. Кого-то он там играл — знаменитого — то ли Гамлета, то ли еще кого — из таких же.
Представляете? Кожа у старого пасынка враз похолодела под рубахой, прямо до мурашек — так было у него с детства, когда кожей чувствовал приближение чего-то необъяснимого — может быть, опасного, а может, прекрасного.
Встать и идти. Скомандовал он себе. Через темноту и страх ночного сада. По холодной траве. К чернеющему за дорогой лесу.
А две ночные птицы — Сирин и Алконост — уже начинали свой полет…
“События, протекающие только в сознании, могут достигать такого предела, после которого эмпирическое переживание уже ничему не может научить человека”.
Лидия ГинзбургВ девяностые тайная история хоть и робко, но все же нет-нет да и выглядывала из подполья, где отсиживалась многие годы.
Нередко взгляд Юстиниана служителям его внушал гадливый ужас. Они подозревали нечто, но не смели высказать, Пока не обнаружилось случайно, Что он и вправду выходец из ада, демон: он поздно ночью из своих покоев вышел по дворцу ходил безглавым. Константинос Кавафис, “Из тайной истории”Договорившись в Роттердаме, в баре “Хилтона”, стали делать с Семеном Арановичем документальное кино, названное “Большой концерт народов, или Дыхание Чейн-Стокса”. Дело Еврейского антифашистского комитета — врачи-”убийцы”, смерть Сталина.
Тайны в этом не было, но об этом — с нашего экрана — впервые.
Прилетели в сентябре 1991-го — первый раз в жизни — в Израиль, в Тель-Авив. Снимать Фиру Маркиш, дочерей Михоэлса, дочерей Зускинда.
Через год уже с готовой картиной летели на фестиваль в Хайфе. Мы с Семеном и Рустам Ибрагимбеков. Он был тогда во главе им же придуманной “производящей” кинокомпании АСК (“Американо-советская киноинициатива”).
Очень хорошая была идея и очень толково реализуемая.
АСК финансировал наше кино, Рустам был нашим продюсером.
Тогда еще не было прямых рейсов, летели — транзитом — через Будапешт. Который потом уже станет одним из моих любимых городов.
Запись 2006 года. Будапешт, гостиница “Гранд-Отель”
Ну вот, то, о чем когда-то мечтал в своих дурацких, мальчишеских мечтах. Хмелеть — одному — именно одному, — спускаться в ресторан. Цыган с лукавым, жирным лицом гениально играет на скрипке. “Мне Брамса сыграют, — я вздрогну, я сдамся…”
Я сдаюсь.
Рядом — за большим круглым столом — шесть старух-американок — видно, венгерского происхождения — очень самоуверенно и громко — так, будто, кроме них, никого нет в зале, — говорят по-американски. А лица у них такие, словно поверх настоящих надеты пластические маски, в каких — в кино — грабят банки.
Мой Будапешт — это еще — а может, и в первую очередь — Миклош Янчо, удивительный, неповторимый человек и режиссер. Меня с ним свел мой и его друг и продюсер Эндре Флориан. Я в каждый приезд обязательно встречался и говорил с ним — слушал его — и даже — с продюсером Мишей Алексеевым — снимал Янчо в его доме. И пил с ним паленку, закусывая салями.
Из письма Ларисе Садиловой — из Будапешта, 2011 год
…А вообще — это потрясающий тип, этот Миклош Янчо, в свои 90 лет. Найди в интернете его картину, впервые принесшую ему мировую известность, — “Без надежды”. По ней ты поймешь, какой это мастер, ни на кого не похожий. А после этого он снял еще тучу картин, а последнюю — историческую — год назад. А сам — как будто светится. Ходит как молодой, смешлив, обаятелен, умен необычайно…
Запись 2014-го
Умер Миклош Янчо. Утром, еще не зная об этом, я вошел в кабинет и на минуту почему-то задержался у книжного шкафа возле фотографии, снятой Иришей перед его домом. Мы втроем — Миклош, Эндре и я. А его уже не было.
Тогда, в 91-м году, в будапештском аэропорту к нам с Рустамом и Семеном присоединился Ермек Шинарбаев, талантливый режиссер из Алма-Аты. Изысканный, начитанный, знающий несколько языков — симпатичный, весьма интеллигентный.
Рейс на Тель-Авив уходил утром, нам предстояло ожидать его всю ночь без возможности покинуть аэропорт — время-то было дошенгенское.
Веселая была ночка. Веселая была компания. Два мусульманина, два еврея и одна бутылка коньяка. И, кроме нас, никого — в пустом здании аэропорта. Наговорившись, насмеявшись, легли спать — кто на полу, кто на лавке.
Надо вспомнить и еще одну нашу общую ночь. В Иерусалиме.
Саша Кляйн, продюсер с израильской стороны, извиняясь, сообщил, что по вине отеля нам отказано в номерах. И он — добавил смущенно — вынужден устроить нас на ночь в другом отеле. В арабском квартале.
Ехали в минивэне. Был неописуемый — багровый с чернью — закат над Иерусалимом. Другой отель назывался — “American colony”.
В жизни я, кажется, многое хоть по чуть-чуть — но попробовал — и вокзальный захарканный пол, и пять гостиничных звезд. Но в такой сказочной роскоши — в этом бывшем дворце турецкого паши с завтраком, похожим на пир, — я не был ни до ни после, и не буду уже никогда.
Но вообще-то, я люблю простую жизнь. Выпивку на траве, можно и на газете. На локоть опершись. А если на половинку крутого холодного яйца с просвечивающей синевой устроить кильку — нету лучшей закуски на свете…
В нашей маленькой кухне на Фурманова всегда кто-то жил. В доисторические времена Василиса с огромным мужем дядей Шурой-Геркулесом, который был больше кухни. Потом у нас долго была домработница Шура с бородавкой, знаменитая тем, что на все телефонные звонки к маме, была ли мама дома или нет, она отвечала одним и тем же: “Ей нету”.
Последней нашей домработницей была Нюра, незадолго до этого вышедшая из тюрьмы. К ней приезжали из деревни родственники, и все каким-то чудом помещались на кухне. Очень скоро узнав мои — уже студента — простые вкусы, обязательно привозили большого, худого — жаренного в деревенских условиях — гуся, на пупырчатой коже которого было видно, как из него драли перья, и большую бутыль с мутным и обманчиво легким самогоном. Я садился в “столовой” за круглый стол красного дерева и сразу же съедал обе гусиные ножки, попивая самогон, выгнанный черт-те из чего, и приходя в чудное состояние.
Все наши домработницы были добрые и несчастные, и любили и жалели маму, тоже добрую и несчастную. И меня они все любили. Мы постоянно были им должны приличные суммы, и они прощали маме катастрофическую нерегулярность зарплаты. Продавленное прокрустово ложе с клопами между газовой плитой и стенкой — на кухне — в центре Москвы, — видимо, стоило мессы.
Утром в Иерусалиме — в своем номере — я проснулся, разбуженный молитвой муэдзина. В окне были видны минареты. Высокий голос пел хвалу своему Богу. И этот звук, вдруг вызвавший озноб и мурашки, запал в мою грешную душу — еврея по крови, христианина по вере.
И в память тоже. Почти двадцать лет спустя он будет камертоном, когда я начну писать пролог сценария “Кипяток”, впоследствии ставшего фильмом “Подарок Сталину”.
В свободное от съемок время гуляли с Семеном по Тель-Авиву, славному городу из кубиков, как я его — ласково — называю. И — между прочим — говорили о том, что сегодня в нашем любимом государстве так, а завтра эдак, и черт его знает, каким еще окажется этот самый эдак.
И ведь как в воду глядели. И 91-й, и 93-й были впереди.
Так, может, не дожидаясь того, дернуть, например, сюда — в Израиль? — говорили мы. Но не просто на ПМЖ, а сколотить сильную компанию кинематографистов — уговорить Лешу Германа — они тогда еще с Семеном не враждовали, дружили, — Юру Клепикова. Он, правда, русский, ну и что? И сделаем этим израильтянам кино.
Нам в тот момент как-то в голову не приходило, что мы совершенно не нужны израильтянам в этом качестве. Они, кстати, и сами сейчас стали делать хорошее кино.
А мы поговорили и забыли.
Почему не уезжаешь? — спрашивали меня и тогда, и сейчас. Почему? Покажется странным, кому-то, может, смешным, но все дело — в языке.
Он — моя историческая родина.
За высоту ж этой звонкой разлуки, О, пренебрегнутые мои, Благодарю и целую вас, руки Родины, робости, дружбы, семьи.Кто бы еще, кроме Пастернака, поставил в один ряд эти слова?
Родина, дружба, семья — и между ними: робость.
Как сказал Оден, о чем я узнаю из Бродского: время боготворит язык. Дальше Бродский пишет — и это замечательно: “Если время боготворит язык, это означает, что язык больше — старше, — чем время, которое в свою очередь старше и больше пространства….Не является ли тогда язык хранилищем времени?”
Давид Маркиш мне рассказал. Они с братом Симоном были у Бродского в Нью-Йорке, и он два часа рассуждал про Платонова. И сказал, что язык Платонова — это “язык тупика… бешеная философия сюрреализма”.
Да, конечно, платоновский язык — это язык отчаяния. А что такое сюрреализм, как не отчаяние формы?
“…Всякая великая литература — это феномен языка, а не литературы”.
Владимир НабоковВ тот приезд снимали в Тель-Авиве, Хайфе. Снимали и в Иерусалиме.
От Гефсиманского сада до Стены плача расстояние небольшое. Я рассказывал Семену — на этом пути и дальше — между Стеной плача и Храмом Гроба Господня — о том, что значил для моего поколения Осип Мандельштам — в пятидесятые годы особенно.
“Мы живем, под собою не чуя страны” — стихотворение Осипа Мандельштама, написанное в ноябре 1933 года, одно из самых знаменитых стихотворений ХХ века, эпиграмма, посвященная кремлевскому горцу Сталину”.
Википедия“Кто за честь природы фехтовальщик? Ну конечно, пламенный Ламарк”.
Поменяем в его стихотворении “природу” на “народ”, и тогда вместо имени Ламарка — на это место — встанет имя самого Мандельштама.
Кто за честь народа фехтовальщик? Он! Кто оправдал всех — боявшихся даже шептаться — бесстрашными строками? Он! Кто бросил перчатку тирану? Он! Трус — щегол — Мандельштам!
Скажете, дуэль — дело дворянское? А что народ говорит об этом — слыхали?
“Тот дворянин, кто за многих один”.
Семен загорался моментально.
— Будем делать кино о Мандельштаме.
Я начал писать заявку. Интернета, который с его поисковиками сейчас упрощает работу во много раз, не было. Пришлось быть самому “поисковиком”. К тому времени опубликовано о Мандельштаме было уже немало. И конечно, книги Надежды Яковлевны. Я рыл, рыскал, вынюхивал и находил какие-то совсем незаметные упоминания, в них открывались неожиданные подробности, места и персонажи.
Наконец, с письмом от Союза кинематографистов пришел на Лубянку. Тогда в Комитет государственной безопасности войти было гораздо проще, чем в ресторан “Арагви”. Продолжалось, впрочем, это недолго.
Хорошо помню молодую француженку-журналистку, босую, с восхитительно грязными подошвами, которые она ничуть не скрывала, а наоборот, нахально задрала одну ногу на колено другой так, чтобы все видели, какие прелестные заграничные ножки случились вдруг — в 93-м году — на ступенях входа в КГБ. Но не с того 5-го подъезда с Лубянки входа, куда, оглядываясь, порой входили кой-какие деятели культуры и науки, а с обычно им недоступного — с площади Дзержинского.
Компания веселых иностранных журналистов окружала ее. А она еще и шмалила, не выпуская изо рта сладкий косячок и весело меняя пленку в фотоаппарате.
Всего лишь несколько секунд я понаслаждался этим небывалым зрелищем — сном среди бела дня 93-го года — и вошел — без всякого пропуска — внутрь и в маленький зал, где с разрешения гостеприимного генерал-майора КГБ в штатском — кажется, Михайлова — мне выдали для ознакомления дело Мандельштама.
Был бы я последним лицемером, если бы не признался, что время от времени босая француженка на ступенях КГБ возникала перед моим мысленным взором, как бы проступая сквозь равнодушно-ужасные страницы “дела”. Но возникала не потому, о чем вы подумали, а как фантастический символ безумного и неповторимого времени.
93-й!
Заявка называлась “Прекрасный Иосиф, или Говорит Мандельштам”…
Решили — особым образом — столкнуть на экране две стихии — игровую и документальную. Принцип для нашего документального кино не совсем тогда обычный, но очень близкий Семену.
Самого Мандельштама на экране не будет. Говорит не он. Говорят о нем. В этом и был главный фокус, прием.
Следователь болгарин Шиваров. “Христофорович”, как его называет Надежда Яковлевна, который ходил в гости к Лиле Брик, а потом покончил с собой в лагере. И те, кого он допрашивал по делу Мандельштама. Свидетели его жизни — от юности до гибели, поэты, друзья, враги, женщины, которым он писал стихи, доносчики, завистники, конвоиры по пути в ссылку…
Прием этот был тогда нов. Но Семен — неожиданно для меня — отказался от уже утвержденного, уже с выделенными — под заявку! — деньгами — проекта и стал снимать “Год собаки”. После этого изобретенный мной прием со следователем и свидетелями благополучно разошелся по другим картинам — художественным.
Ну что ж, значит, не судьба. Что делать? Последовать совету хасидов? Плясать и веселиться? Нет, просто забыть, засунуть — навсегда — в дальний ящик — к другим таким же несбывшимся надеждам.
Семен умер 8 сентября 1996 года в Гамбурге. Там и похоронен.
Казалось, после Шпаликова и Авербаха никто не должен умирать. Ан вышло не так. Список открыл Алёша Габрилович в октябре 95-го. И грянул страшный 96-й.
Потрясенный им, устав хоронить и оплакивать, собрался было — подражая Ходасевичу — написать “Мой некрополь”. А эпиграфом взять блоковское — из любимых “Вольных мыслей”:
Все чаще я по городу брожу, Все чаще вижу смерть — и улыбаюсь Улыбкой рассудительной. Ну что же? Так я хочу. Так свойственно мне знать, Что и ко мне придет она в свой час.В январе умер Бродский. Не из друзей вовсе. Но все же — мой друг, хоть он и не узнал об этом. И как же не подружиться было — мне — с ним, владевшим — как некогда знаменитая перуанка Има Сумак — диапазоном более четырех октав — от державинской одической до улично-ленинградской.
В тот день я был у нас в Союзе на Васильевской, Сережа Соловьев попросил меня написать несколько слов от имени российского Союза, чтобы отправить в Нью-Йорк.
“Не на Черной речке, не на дальневосточной гулаговской пересылке, не в голодной военной Елабуге — в своем доме в Нью-Йорке, как сказали нам, во сне. Всей судьбой, всем смыслом своего существования вобрав весь опыт жизни и смерти русских поэтов, Иосиф Бродский покидает нас не в дни благополучия, а в смутное и грозное время, и от того еще больнее расставание. В этот миг, ошеломленные известием, мы, может быть, не в силах понять, какой удар постиг нашу культуру. Но тоска России по Бродскому будет осознана. Лишенные возможности проводить его в последний путь, мы встретим его, как встречаем каждый день Пушкина и Тютчева, Пастернака и Ахматову. Ныне он приобщился к ним, светлым ангелам России, и вечно пребудет с ними. А мы — туда, в Нью-Йорк — нашему великому поэту — с Васильевского острова и от Александровского сада — шлем прощальный и благодарный поклон”.
Уж не знаю, дошло ли и до кого?
“Великий поэт. Чтобы заслужить подобный эпитет, поэт обыкновенно должен убедить нас в трех вещах: во-первых, в том, что он создал несколько незабываемых стихов; во-вторых, в том, что он по-настоящему глубоко почувствовал свое время, и, наконец, в том, что он с сочувствием откликнулся на самые передовые идеи эпохи”.
Уистен Хью ОденПервый раз — в апреле 2007-го — мы с Ириной долго искали его могилу на острове Сан-Микеле. В 2015-м — под вечер — нашли легко — в протестантском отделении, даже не справившись у указательной таблички, где его фамилия приписана фломастером.
На могиле цветы — и наши лилии — были недвижны. А фотография — нет, чуть двигалась — жила. А свеча горела ровно.
Только “Осеннего крика ястреба” хватило бы ему на монумент — может быть, в виде ястреба, на какового, впрочем, он не очень похож.
Запись 1996-го, июнь
Ночью умер Саша Княжинский. В 3:20. Примерно в это время я проснулся.
Я не верил в то, что это может быть, до последней минуты.
Неудачная операция по пересадке почки в НИИ трансплантологии — клинике академика Шумакова.
Это была не первая операция. В 86-м мы — объединенными усилиями — отправляли Сашу в Берлин. В последний момент, когда они с женой Таней уже сидели в поезде, а мы стояли на перроне, все еще могло сорваться. Но помог Георгий Шахназаров, тогда заместитель заведующего международным отделом в ЦК КПСС.
Та операция была удачной, хватило на десять лет.
Запись 2014 года, июль
В храме на Армянском кладбище и на могиле Микаэла сильным голосом ангела пела армянская девушка-певица.
Мы в этот день обычно приходим к нему.
Таривердиев. Кумир Москвы шестидесятых годов, артистичный и простодушный, похожий, как и Пастернак по словам Цветаевой, на какое-то благородное верховое животное.
В те годы я только смотрел на него со стороны.
Подружились мы на “почве общественной жизни”, когда в Союзе кинематографистов и Киноцентре происходили бурные события и мы, наивные борцы за справедливость и демократию, встречались каждый день.
Он был очень темпераментен и искренен — как и во всем.
Умер в Сочи, в любимом Сочи. В июле того же 96-го.
В 92-м мы там весело жили.
В том году у “Кинотавра” было два жюри. Одно — наше с Княжинским, под предводительством Вадика Абдрашитова. И второе — с Таривердиевым и Гребневым — председатель Володя Меньшов.
Компания наша расширялась за счет жен и друзей.
Вадим Абдрашитов и Нателла Тоидзе, Саша Княжинский и его жена Таня, Ира Рубанова и ее муж Леня Пажитнов. Микаэл со своей Верочкой.
Через год мы встретились с Микой в Швейцарии.
Я на один день прилетел в Москву из Нью-Йорка, где был на фестивале с “Большим концертом народов”. И уже через день пересел на самолет до Цюриха.
С большими сложностями — на огромном вокзале, — перепутав все, что можно перепутать, — в ужасе, но все-таки нашел нужный мне поезд — до городка Золотурн. Там тоже меня ждал фестиваль.
Вышел с чемоданом на вокзале. Маленькая площадь, на ней бесцельно пасутся такси. Сунулся было к ним, назвал — по бумажке — отель. Они посмотрели на меня как на сумасшедшего. Делать нечего, надо идти. Куда? Сколько километров? С тяжеленным чемоданом! Потащился через мостик.
— Павел Константинович!
На чистом русском. Встречный. А я-то думал, он швейцарец! Слава богу! Спрашиваю в изнеможении — далеко ли до отеля.
— Да вот он, перед вами, два шага. Видите, у входа Микаэл Леонович стоит? Ждет вас давно. И очень вами недоволен.
Уж и не припомню, чем он был недоволен. Возможно, это было связано с моим недостаточно радикальным выступлением на секретариате Союза месяц назад.
Отель был маленький, скромный, но, как ни странно, пятизвездочный. Потому, оказывается, что там останавливался Наполеон с Жозефиной. Номер у Мики был просторный, возможно даже “наполеоновский”, во всяком случае, так хотелось думать.
К вечеру недовольство его, конечно, рассеялось — он вообще был очень добр ко мне, — и мы сошлись у него. Неожиданно и к моему удивлению достает бутылку спирта. Вообще-то он не пьющий, а тут — спирт!
Еще в Сочи он придумал про меня, будто я каждую свою историю начинаю со слов: “Так вот, просыпаюсь я утром со страшного бодуна…”
— С похмелья, Мика, похмелья, — каждый раз терпеливо поправляю я его. — И не каждое утро.
Спирт, значит, был прихвачен из Москвы — специально для меня.
Разбавили, выпили. Балкон открыт. Ночь, тишина. И мы так замечательно говорили — долго, долго, дружески, откровенно, по-мужски.
О любви. О нашей любви.
Всю жизнь отбиваюсь, как от преследующих по пятам бродячих собак, от стаи банальностей. Но не всегда успешно.
Да, конечно, — по словам Бродского, ставшими, увы, расхожими, — все эти смерти — “конец прекрасной эпохи”.
Для нас, для друзей моих — ныне ангелов — прекрасной. Потому что мы были.
Наброски из ненаписанного романа
Март 53-го года, противоречивый, как и всё в этом мире и природе, уже начал свою работу. Наст был и твердый, и хрупкий. Выпав с воплем из тамбура, Сашка неглубоко проломил наст своим легким босым телом.
Ванька-Клещ весело пхнул его в зад ногой — руки были заняты его же, Сашкиными, худыми ботинками. Летел Сашка с поезда лицом вниз. Больно ожег его о колючую — почерневшую уже — мартовскую корку. Ванька, сволочь, уносился с вагонами — вперед.
СО паровоз — он смешливый был — поспешал, пыхтел и под нос гундел:
— Отряд не заметил. Потери бойца, — чух-чух-чух, и паром на всю окрестность: — И яблочко песню. Допел до конца.
Пора было ему исчезать из Сашкиной видимости. И из романа. Навсегда.
Вагоны шли привычной линией, Подрагивали и скрипели, Молчали желтые и синие, В зеленых плакали и пели. Александр БлокНаброски из ненаписанного романа
Вагоны перед поворотом — в навсегда — круто изогнулись — серпом, СО оглянулся, увидел свой хвост и ужалил себя в пяту. Просто так, без надобности. Для смеха.
Может, надо было пойти на все, но остаться в том поезде? Выть, драться, кусаться, умолять, хвататься за поручни, повиснув над движущейся под ногами бездной, — волочиться за поездом, вцепившись в него стесанными, кровящими ногтями, — но остаться? Может быть, это грех — не быть со всеми? Может быть, это грех — эта тяга к себе? Может быть, грех, который он теперь искупает — или ему кажется, что искупает, — в центре этой белой пустоты — наедине со своим ужасом?
Бедный маленький Кай! Что ты делаешь здесь один, Кай? Где же твоя Герда?
Но ведь это только моя — авторская — воля — и это предназначенное ему пространство могло и не быть снежным. Например, зеленая трава и желтые цветы?
Но это было бы неправдой.
И если бы все же Сашка был я — или, наоборот, я был он, — я бы подумал тогда, переходя снежное поле, — да, да, так и надо, это в наказание — за страсти не по возрасту, за грешные мысли и грешное воображение — не по возрасту. А за то, что жизнь чужую разрушил, чужую любовь, — разве не должен быть наказан?
Но он был не я, и он не думал ничего такого, он просто шел по снегу, обжигая босые красные лапы, и знал, что будет идти, никуда ему не деться. Жизнь — ожог, и ты идешь по ней бос, наг и сир. И эта ровная — снежно-зернистая — поверхность — искрящиеся зёрна, не дающие никаких всходов, — только волшебство бессмертной, бесконечной красоты этого ужасного мира.
И это было еще не самое главное его испытание. Потому что большая жизнь состоит из маленьких жизней. И у каждой свое поле, которое тоже надо перейти.
Глава 12
…Однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда.
Владимир НабоковСтрашненький выдался на этот раз декабрь — с зеленой травой, на глазах нагло наливающейся ярким соком, и с теплым воздухом, от которого в душе поднималась тоска. Многие думали — это конец, на самом деле это было только начало.
Стали пышно расцветать цветы, все вообще пошло наперекосяк. Среди дня частенько было темно, и лампы наливались водяным мертвым светом, а ночью становилось видимо так далеко, как у Гоголя.
Безгрешный свет не виноватой ни в чем природы освещал скопище домов, именуемое городом. Автомобили зло лаяли друг на друга. Воры, смеясь, фланировали по улицам, и обиралы выбегали на стогны городские, поджидая простаков, которые охотно спешили им навстречу. Птицы хором заполошно голосили в пустых деревьях, любили друг друга и радостно готовились откладывать яйца.
Так — в декабре — шел куда-то двадцать первый век.
Вот новое время. В глубине двора — на доме — гигантскими красными буквами: “Интим”. И еще — на Старом Арбате, на доме, очень крупно: “Мальвина шлюха”.
Как? Девочка с голубыми волосами?
Две девочки играют перед нашим подъездом.
Голубенькая обнимает розовую и кричит:
— Беру за девочку пятьдесят долларов!
Реальность, коей мы не слишком внимательные свидетели, иногда успевает стать Историей в настоящем времени, пока мы не успеваем оглянуться. А оглянувшись, понимаем, что мы ее проморгали.
Как там в “Улиссе”? “История — это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться”.
Со Стивеном Дедалом — да и с Леопольдом Блумом — у меня вообще много общего. Я шепнул об этом Джойсу в Триесте — фамильярно, — когда вечером стоял рядом с ним — маленьким и бронзовым, на мосту через канал.
“Что несло ему утешение в его сидячем положении? Непорочность, нагота, поза, безмятежность, юность, грация, пол, участие статуэтки, стоящей в середине стола, участие Нарцисса…”
Джеймс Джойс, “Улисс”В Триесте он начал писать “Улисса”, продолжил в Цюрихе, где я был проездом, закончил в Париже, где я был не раз. Пил пастис и кофе в Ротонде. В “Гиппопотамусе” наблюдал за черной богиней-официанткой, у которой большие, плоские ступни, как подставка у статуэтки. Ел луковый суп в La Coupole и устриц в рыбном ресторане на перекрестке бульваров Монпарнас и Распай. В Люксембургском саду пил виски из фляжки в честь Марселя Пруста, слушал детей-музыкантов и следил за тем, как старики играют в шары. Жил в квартале Бельвиль на улице Рю-Море. Приходил к Отару Иоселиани в квартал Маре. Кланялся Бальзаку, одетому Роденом в халат.
Могу ли я в связи со всем вышеизложенным заявить о своей непосредственной близости к Джеймсу Джойсу?
Нет, не могу. Хотя совершенно согласен с ним: история — кошмар.
Запись 2007 года
Простились с Ельциным… И не только с ним…
Перед входом в храм Христа на ступеньках, в стороне от нашей очереди, стояли несколько начальников с такими важными и значительными лицами, как будто это не его, а их отпевают.
Чреду веков питает новость, Но золотой ее пирог, Пока преданье варит соус, Встает нам горла поперек. Борис ПастернакСемь с половиной тысяч книг в моих шкафах и на полках! Представляете, если все пустить на цитаты?
“Цитирование есть основа ткани, которую можно ткать до бесконечности”.
Жан Старобинский. “Чернила меланхолии”Цитаты, цитаты… И то, что не цитата, тоже цитата?
Мое рождение — в некотором смысле — тоже было цитатой. Я жил среди цитат, жрал их за обе щеки, пил допьяна и закусывал цитатами, дрался с ними и защищался ими. Влюблялся в них и разлучался. Предвижу — смерть тоже будет не более чем цитата. Так и расстанусь с миром — который, собственно, тоже цитата — с цитатой на устах. Например, от Рабле, умирающего: “Иду искать Великое Быть Может”.
Время не лечит. Я болен прошлым.
Время — бремя.
То, что близость этих слов не случайна, заметил еще Мандельштам:
У меня остается одна забота на свете: Золотая забота, как времени бремя избыть.Всю жизнь я гнал время вперед, теперь начинаю расплачиваться.
Был молодым — не любили молодых, стал немолод — не любят немолодых.
Вдруг время делает мощный рывок и начинает — одного за другим — стряхивать с себя всех, цепляющихся за него. И это называется — смена поколений.
Пропитавшись всеми словами, услышанными и прочитанными, надышавшись всем воздухом, зараженным и чистым, насмотревшись всех смертей и рождений…
— Ну? Что же еще тебе остается, парень?
— Да ведь не всеми… — жалобно, заглядывая в глаза, — не всем… не всех…
А сколько слов сам выбросил в воздух… Ну и что? И где теперь они?
Пытаюсь собрать, рассыпанные по всей жизни. Шарю по всем закоулкам памяти, шурую шваброй под кроватью, лезу на антресоли…
Главное, говорю себе при этом, не злословить, не открывать ничьих тайн, не сводить счеты — жить в прошлом, как в настоящем, самому быть сегодняшним.
Когда-то, когда мне еще казалось, что слово “старость” лишь звук пустой, я написал: “Старость — это всего лишь неспособность изменяться к лучшему”.
И что же?
Каждое утро просыпаешься — похрустев костями — с желанием стать лучше. И здоровее. И опять ничего не получается.
Раньше Заболоцкого это сказал Сенека: “Но что бы ты ни делал, скорее возвращайся от тела к душе, упражняй ее днем и ночью, — ведь труд… питает ее. Таким упражнениям не помешают ни холод, ни зной, ни даже старость”.
Заметнее стареют руки, ведь мы их видим первыми, когда видим себя не в зеркале. Когда сидим за компьютером.
Старит даже не возраст, а традиционные обязательства перед ним. Правда, долго пытаешься их не выполнять.
Как там у Олеши — “Ни дня без строчки”? Не помню точно — надо найти… “Старик!” Он оглядывается — это смерть.
Так и начать сценарий. Три условия Смерти: “Расскажи самое плохое в твоей жизни, самое хорошее и самое непонятное. И если я узнаю, что ты за человек, — отпущу”. Рассказывает. Она уж и готова его отпустить, да он сам не хочет.
Узнав от себя — о себе.
“Собственно, есть одна книга, которую человек обязан внимательно прочитать, которая для него по-настоящему поучительна, — это книга его личной жизни”.
Василий РозановНикто почти не обратил внимания, когда из литературы сбежал пейзаж, испугавшись возможности стать пошлостью.
Но ведь как волнует, если это Бунин.
Стоишь перед этой природой, опустив руки, как дурак, смотришь на нее — один, без свидетелей — и думаешь: все равно лучше Бунина не напишешь.
Я помню первую книжку Бунина, которую увидел мальчиком. В жалком, бесцветном переплете. Воронежского, кажется, издательства. “Антоновские яблоки”. Как много значил он для нашего поколения. Не меньше, чем Хемингуэй.
Никогда не было необходимости писать пейзажи. В сценариях они не нужны — зачем? Напишешь: “Снежное поле. На его границе через дорогу — лес”. И вполне достаточно. В одном слове — в одной ремарке — весь пейзаж. “Лес”.
Или — если нужно по сюжету — “море”.
Наброски из ненаписанного романа
По ночам — натянув на голову одеяло — с захватывающим все его существо наслаждением переселялся Сашка в свой Эльсинор — сквозь одеяло слушая — невольно — тихий шелест задыхающегося маминого голоса. И на скалистом морском берегу, перекрикивая волн шум, жизни, ночи шум — как Гамлет, изливал свою обиженную на весь мир душу.
“Нейроинтерфейс позволил обезьянам напечатать текст «Гамлета». Новую версию интерфейса тестировали на двух макаках-резусах… Обезьянам показывали на экране отрывки из «Гамлета», и они должны были напечатать их, выбирая курсором буквы на экранной клавиатуре. При этом одной обезьяне удалось достичь…”
Из интернетаИдеи романов возникали у меня и раньше. Придумывалось название, которое — в результате — и становилось самим “романом”; дальше дело не шло.
Первое — “Деньги”. Не путать меня с Золя. (Голос из зала: “Никто и не спутает, не волнуйся!”) Второе — “Пьяницы”. Не путать с Достоевским. (Голос из зала: “Ну, совсем с ума сошел, парень!”) Правда, у него идея, превратившаяся в “Преступление и наказание”, называлась немного иначе — “Пьяненькие”.
Два романа. Один о том, как мы жили без денег и что мы делали ради денег. Другой — как и почему спивалось наше поколение и как оно все же не спилось.
Но только соберешься велосипед изобрести — и вдохновение, и силы богатырские, и чертеж хорош… Готово, изобрел! Глядь — а это не велосипед, а “джойс”.
“Он призрак, он тень сейчас в утесах Эльсинора…”.
Джеймс Джойс, “Улисс”“Улисс” — это “Шинель” авангардистской литературы ХХ века. Модерна и постмодерна.
“Джойс” как единица. Один “джойс”, два “джойса”…
А Керуак — сколько “джойсов”? А Беккет? А Павел Улитин, которого я открыл для себя недавно?
“В СССР произведения П. Улитина распространялись в самиздате”. И почему-то прошли мимо меня. Хотя я, конечно, мог их читать, да и Улитина мог видеть. Он, оказывается, заседал в кафе “Артистическое”. Моя же компания предпочитала “Националь”. Иногда заглядывали и в “Артистик”, но там не нравилось.
Там завсегдатаями были Толя Макаров, Саша Асаркан, к Улитину очень близкий — в одной тюремной психиатрической больнице (ЛТПБ) содержались.
“Был тише воды, ниже травы. Все равно голову сняли. Они косцы. Для них ты гадюка в траве. Коси, коса, пока роса. Подними голову, и коса срежет”.
Павел УлитинВ 1935–1936 годах в журнале “Интернациональная литература” опубликовали десять эпизодов “Улисса”. Шестнадцатилетним я нашел этот журнал на полках во Внукове — в дачной библиотеке Виктора Гусева, перешедшей к моему отцу.
Тогда — во вгиковские времена — мы все говорили: “Джойс… Джойс… Как у Джойса”… Но никто его не читал. Я прочитал с интересом, но довольно равнодушно — по молодой глупости — потом уже он меня захватил.
Улитин, а этот журнал наверняка попался ему, читал внимательнее. Он знал английский. Значит, мог прочитать роман целиком.
Совершенно явно — те же подводные силы, что у Джойса в “Улиссе”, — управляют монтажом фраз и у него. Невидимое напряжение одному ему — Улитину — ведомой задачи рождает — в результате сочетания запечатленных — будто на бегу — случайностей — музыку, которая держит и оправдывает все.
И чего-чего только нет в его загадочной прозе — и Шекспир, и Эльсинор…
Запись 2017 года
О боже! Как я уже устал от этого своего дурацкого — ненаписанного — романа, от Гамлета, от Эльсинора! Запутался, заблудился! Забываю то, что было до, и не знаю, что будет после. Ну не мое это дело!
Мое — вот! Кино!
Общ. пл.: снежное поле, мальчик, черная фигурка резко выделяется на белом фоне. Музыка.
Шаг за шагом, пятипалые следы. Небо и поле — одно белое пространство.
— Вона куда забрел малый!
Это две птицы видят Сашку в снежном поле, выкинутого с поезда.
“Я — несчастный Робинзон Крузо, потерпев кораблекрушение во время страшной бури, был выброшен на берег этого ужасного злополучного острова, который я назвал островом Отчаяния… Отчаявшись получить откуда-нибудь избавление, я видел впереди только смерть”.
Даниэль Дефо В шорохе мышином, в скрипе половиц Медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей там смех звенит, Все мы — капитаны, каждый — знаменит.Я обожал — нет другого слова для моих чувств, — все мы обожали эту передачу. “Клуб знаменитых капитанов”! Какие, к чертям, уроки, тягостная повинность двоечника! Каждое воскресенье сам отправлял себя в угол “большой комнаты”, где висела на стене “тарелка”, прилипал к ней и слушал Плятта, Абдулова, Сперантову…
Нет на свете далей, нет таких морей, Где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, Обнажаем шпаги за любовь и честь…Не смейтесь над нами, но мы поголовно готовы были обнажить свои шпаги.
До пятидесяти мне снилась школа — власть советского детства…
Анна Прокофьевна — учительница начальных классов. 1947–1951. Высокая, худая, похожа на Гоголя. Я ее вижу. Она носила дешевую полушерстяную кофту, синюю с красным, с узкими и короткими на запястьях рукавчиками, из которых торчали бескровные кисти — острые тонкие косточки. На уроках у нее шла кровь из носа — от недоедания, конечно. Я вижу эту розовую каплю на кончике носа. Она закидывала голову и прикладывала к нему розовую промокашку — с зеркальными отпечатками ее росписи в классном журнале.
Кто же я был все-таки такой, если запомнил эту каплю и эту промокашку?
Но при чем тут школа? Ах, да!
В третьем классе меня — с первого раза — не приняли в пионеры. Уже выучена назубок клятва, уже все строятся на торжественную линейку, уже приготовлены галстуки. И тут мы с Сандриком Тоидзе — черт дернул — стукнули в большой барабан. Несколько раз. В благоговейной тишине.
— Кто ударил в барабан?
А кто действительно ударил — первый? Он или я?
Рыдая, мы не выдали друг друга. Пионервожатый — “перед лицом товарищей” — вернул нашим мамам галстуки.
Все же комплекс честолюбия возник позже. Когда меня — уже, конечно, пионера — в классе шестом не выбрали в совет дружины, и я страдал.
Потом меня не приняли в комсомол. Но я тогда не страдал — меня уже навсегда смутило вольнодумство. Комплекс, увы, остался. Осталось — при внешнем равнодушии — внутреннее волнение на съездах Союза кинематографистов и выборах куда-то и кем-то.
Становился членом, заместителем, председателем. Стоически выдерживая насмешки и даже угрозы со стороны моей родной жены, убеждал ее — и себя, — что я только лишь хочу — в это бурное время — принести пользу своим братьям-кинематографистам.
“Платон говорит, что кому удается отойти от общественных дел, не замарав себя самым отвратительным образом, тот, можно сказать, чудом спасся”.
Монтень. “Опыты”Я придумал когда-то определение: “эсхатологический характер”. Что это такое? Это когда 1 июня человек начинает горевать, что лето уже кончилось…
2000 год. Снимаем дачу в Мамонтовке.
С детства название это было на слуху.
В Мамонтовке — “до войны” — снимали дачу Габриловичи. Здесь в коварной Клязьме — в 36-м или в 37-м — утонул чудный, одаренный подросток, сын Нины Яковлевны и приемный Евгения Иосифовича, — Юрочка.
В “Объяснении в любви” он — Васька, но там не тонет, а попадает под мотоцикл — это было связано с какими-то производственными сложностями.
Юрочка учился в одном классе с будущим гроссмейстером Авербахом — в Староконюшенном переулке, в 59-й школе, где позже будут учиться его младший брат Алёша и я. Большой портрет его — с большим бантом — всегда висел в квартире Габриловичей — и в квартире на Фурманова, и на “Аэропорте”.
Я почему-то засматривался на него в детстве. Что-то, видимо, волновало и пугало меня в его судьбе. К тому же меня еще и пугали постоянно:
— Ради бога, будь осторожен на реке, помни, что произошло с Юрочкой.
Заблудиться, утонуть — вот ужасы дачного — летнего — детства.
Я был осторожен, но как-то своеобразно, потому что тонул в разных реках трижды. Один этот раз описан в сценарии о дачном детстве “Ожидание”, где тонет и чудесно спасается “первый” Сашка.
Наброски из ненаписанного романа
С каждым шагом Сашки снег под ногами делался уже каким-то другим: острым, хрупким, словно его изнутри съедало подземное — медленное — тепло.
Как по волшебству, как в сказке про двенадцать месяцев, обнажилась весенняя короста земли. Закопошилась всякая мелкая Божия тварь, откровенно радуясь весне, как неожиданной новости. Без долгого предисловия трава стала зеленой, цветы желтыми, обозначилась граница между полем и лесом.
Шагнуть — и поле, казавшееся без конца и края, ты уже перешел. Но прежде Сашка оглянулся напоследок и увидел чудо. Невидимые руки вылепили из остатков снега город с путаницей улиц и улочек, с башнями и крепостной стеной.
— Ба! — воскликнул путешественник, а это был не кто иной, как Гулливер из Клуба знаменитых капитанов. — Да это же родной наш Эльсинор!
Поразительно то, что Свифт, написавший “Гулливера в стране лилипутов”, спохватился и отправил героя в страну великанов. Гениальность Свифта еще и в том, что он каждый раз напоминает нам, что каждый великан может стать лилипутом.
Наброски из ненаписанного романа
Населенный крошечными человечками, Эльсинор был как настоящий. Как в мечте о собственном городке в табакерке. Крошечный Счастливый принц стоял на площади, почти невидимая крошечная ласточка вилась вкруг его головы.
Сначала городок был только двух цветов — черный и белый. Но постепенно — тут и там — стали вспыхивать и другие цвета. Много было красного. Плащи и рожи стражников, например. Много оттенков зеленого. Дубы и ясени шумели над головами, синие с желтым попугайчики перелетали с ветки на ветку.
На каждой улочке, в каждом доме и замке что-то происходило — крошечное. Пили, ели, плодились, размножались. Все как у людей. Крошечные бесенята носились и бесились. Крошечные стражники преследовали мышь, уж такую крошечную, что им казалось — они ничего не преследуют.
В дальней комнате замка крошечная девочка поднялась с кровати. Положила на коленки книгу с картинками и — при свете свечи — стала рассматривать нагую Венеру с волосами, извивающимися, как рыжие змеи, стоящую в створе раковины, плывущей по волнам морским — к берегу.
Вдруг гора — слепилась — возникла над городом. Крошечный Ной на крошечном ковчеге пристал к двум ее крошечным вершинам и бросил крошечный якорь. Даже крошечный Хам был на борту ковчега. Видать, братья, крошечный Сим и крошечный Иафет, уговорили-таки батю — простить грубого, непочтительного хулигана.
Две крошечные шлюхи, веселые той особенной, невеселой и злой веселостью, какой могут веселить себя — с ненасытной хмельной тоски — пропащие души, глядели на Сашку в четыре глаза, ворочая пьяными языками:
— Вай, какой мальчик! Рахат-лукум! Куда ты? Хочешь к нам? Ведь хочешь! Вернись, мы будем твоими мамочками!
Но он не вернулся. Эльсинор стал таять.
Сначала мы жили в Мамонтовке летом, потом — семь лет — круглый год.
Стоит осень, от которой невозможно оторваться. Дым с соседнего участка, там весь день жгут сосновые ветки, чистый, тяжелый запах гари, голоса детей. И будто тень промелькнула вдруг мимо балконной двери, по ту сторону стекла — на фоне дыма, поднимающегося снизу. Чья тень? Кто явился ко мне из Ниоткуда? Предостеречь, простить, обвинить? И исчез вместе с дымом — в небе осени…
Тихий, ровный, темный шорох зимней ночи, вдруг усиливающийся в такой же ровный шум, прерываемый только редким, задумчивым скрипом дерева. Вот дует невидимый ветер. И странный, нежный перезвон буддийского колокольчика в морозном саду за окном далек, словно на краю земли. И легкий, очаровательный холод проникает через открытую фортку в мою теплую комнату.
Ночью, в загородной тишине, особенно слышно, как летит жизнь.
Прекрасная тревога шумящего весеннего леса… Ирина слышала ночью, как растет трава, раздвигая палые — прошлогодние — листья.
Вдруг неожиданный и мгновенный взрыв пульса, прилив весеннего света, который делает нежную, тонкую зелень еще зеленее и ярче.
Улитки вылезли хрустеть под ногами. Тюльпаны — клониться на бочок…
Я люблю этот момент, освещенный солнцем с майского неба — светом наступающей Пасхи, когда все вокруг, жмурясь и улыбаясь, подставляют свои лица, чтобы их коснулись капли святой воды с кропила.
Длинный стол буквой “г”, на нем будут святить куличи и крашенки. И вечные русские тетки в синих, желтых, малиновых, зеленых, красных кофтах и платьях — сами такие же яркие, как их крашеные яички. И над грубой, изрытой, искалеченной землей — вечный благословенный дух черемухи.
— Передайте к Плащанице…
И я передаю три тонкие красные свечи.
— Позвони ангелу, — говорит маленькая внучка Маня.
Как заворачивал Крестный ход, ночь, огни, рытая земля под ногами… Запах земли — ночной, весенний — вечный… Запах родины… Моей — родины…
Синий тент, плещущий на ветру — над столом — в саду. Я не слышу дудочку, но память знает, что дудочка играла в тот день. В то мамонтовское лето.
Голубое пластиковое полотнище — в руках ветра — бьется, как парус, преданно приникает к кустам, мелкие листики нежно просвечивают сквозь голубое.
— Сыграй бурю, — просит дудочника наш младший внук Каспар. — Сыграй смерч.
Запись 2007-го, сентябрь
Ах, бедный дудочник! Умер Микола Гнисюк.
Сначала появлялся ком спутанной серой шерсти. Назывался он тибетский терьер Чарлик. Можно было наглухо — как подлодку на глубине — задраить забор и весь дом, он все равно каким-то чудом проникал к нам — с целеустремленностью Ромео. Джульеттой выступала наша Бекки, ротвейлер, 55 кг живого веса.
Он был по уши влюблен в нее. И она, надо сказать, совершенно отвечала ему взаимностью. Потому что обаятелен был чертовски. Увы, существенная разница в размерах и весе оставляла их отношения чистыми и дружескими.
Вслед за влюбленным — с вопросом “Чарлик не заходил?” — появлялся любезный наш Микола, сосед. На тролля похожий, рассказчик, фантазер, простодушный хитрован, родившийся в селе Перекоренцы, что недалеко от Винницы, — талант с фотоаппаратом, любимец кинематографистов.
В отличие от нас — дачников — он, Надя и Чарлик жили в собственном домушке, ветхом, но очень подходившем сказочному образу хозяина.
На маленьком участке, где осенью светились в темноте яблоки.
Я особенно люблю у него портрет Иоселиани — с неподражаемым выражением Отарова лица и мухой на лбу.
Микола дружил со всеми героями своих работ. С Инной Чуриковой, Глебом Панфиловым, Элемом Климовым, Ларисой Шепитько, Юрой Клепиковым… С Марчелло Мастроянни и Милошем Форманом…
Под водочку и закусочку, сооруженную Иришей, засидится дотемна. Его чудный говор, его анекдоты на мове, его фантазии о восхитительном будущем…
Вдруг встрепенется:
— Все! Пошел я нафиг! Меня Надя ждет!
Но первым ухожу я — наверх, на второй этаж. Я рано ложусь и очень рано встаю. Проснусь вдруг — внизу свет и голоса. Ира и Микола — вот же трепачи — любили друг с другом беседовать — под водочку и закусочку.
И опять:
— Пошел я нафиг! Меня Надя ждет!
Через год после его смерти Надя пришла к нам на улицу Правды посмотреть новую квартиру и на новоселье подарила — в рамке — Миколину композицию.
Темное небо, облака, кромка поля с кустами по горизонту. И будто с неба — на шнурке — свисает циферблат старинных карманных часов — он вообще любил снимать часы, запечатлевать идущее Время.
Да вот беда — стрелки остановились.
“Все забыть. Открыть окна. Вынести все из комнаты. Ветер продует ее. Будешь видеть лишь пустоту. И будешь искать по всем углам и не найдешь себя”.
Франц КафкаИра просила прощения у нашего дома на Плющихе — двадцать пять лет жизни — за то, что мы его покидаем.
По наводке риелторши Оли приходим в странное и бедное жилье на Тихвинской, где хозяйка — молодая калека, хозяин — ее муж, вздымающий штангу и работающий на токарном станке. И дочка, трехлетняя Роза, которая говорит нам, поднимая к нам бледное городское личико: “Посмотрите, какая я красивая”.
У матери тоже красивое — угрюмое — лицо с крутым, скошенным лбом и вызовом — калеки — во взгляде исподлобья. У нее уродливый широкий торс и короткие ноги, одна из них, видно, вывихнута в бедре — последствие полиомиелита.
Она жмется к стенам. Пока мы смотрим санузел, шумно рушится в коридоре, натолкнувшись в полутемноте на Розу. Сердится на нее и приказывает не шляться по квартире у всех под ногами, а сидеть, не вставая. Роза сидит на тахте, поглядывая на нас — смиренно — хитренькими и веселенькими глазками.
“Подумай-ка, много ли людей, серьезно ищущих правды?”
Апполон Григорьев, из письма А. Г. СтраховуИгра слов — ищем, отказываемся, снова ищем и, наконец, находим. Правду. Квартиру на улице Правды. Я начинаю изгаляться по этому поводу. “Приходите! Недалеко от проспекта Кривды, точный адрес — перекресток Правды и Истины”.
По поводу истины. Всем почему-то далась эта истина. Ну, сыщется наконец. Ну и что? Что нам от этого? Да и кто поручится, что она и есть — истина?
Итак, еще одно наше жилье. Последнее? Что начнется здесь, что закончится? Шкловский говорил о литературном произведении: “Все хорошо, что хорошо начинается”. Наша жизнь тоже — в некотором смысле — литературное произведение.
Ирине квартира нравится, а улица — нет. Чужая. А я — арбатский изгнанник — рад близости к молодости — к улице Горького, к Бродвею.
Для меня улица, конечно, тоже не своя. Но знакомая. Вспоминаю, что с ней связано. Когда-то — совсем юный — ходил в “Комсомолку”, напечатали там какую-то мою рецензию. Потом — уж постарше и почаще — в журнал “Смена”. Туда меня привлек Аркаша Локтев, сокурсник Алёши Габриловича и Бори Андроникашвили.
Заведовал отделом Александр Сергеевич Лавров, соавтор убойно популярного телецикла “Следствие ведут знатоки”. Он посылал меня в командировки — в город Волжский, в Одессу, в литовский город Биржай и молдавский — Кагул…
“Комсомолка” и “Смена” помещались в здании комбината “Правда”. Меня более всего поражала там пневматическая почта. Напротив — вход в редакцию журнала “Октябрь”. Я сопровождал туда Валю Тура, когда он приходил за гонораром.
Еще цепочка ассоциаций. Они ведь вообще юркие, как ящерки, эти вспыхивающие в памяти ассоциации. Ухватишь за хвост — они его легко отбросят и исчезнут. Ищи потом свищи. И все же пытаюсь.
Журнал “Смена” — Боря Андроникашвили — улица Правды. Почему? Какая связь? И все-таки она есть! Ухватил и не отпускаю.
Улица Правды — это ведь бывшая 2-я улица Ямского поля. Здесь в давно не существующем доме на левой стороне — ближе к Ленинградскому проспекту, вернее, к Ленинградскому шоссе, с 1927-го по 1936-й, — жил Борис Пильняк. В шестидесятых годах в этом доме еще жила его дочь. К ней, к своей старшей — сводной — сестре, приходил Боря Андроникашвили — а с ним и я — одалживать деньги, которые нам были крайне необходимы и которых у нас никогда не было.
В тридцатых годах Пильняк, уже имевший двух детей, женился на красавице-грузинке, актрисе Кире Андроникашвили, младшей сестре Нато Вачнадзе. А та была женой великого кинорежиссера Николая Шенгелая и матерью двух будущих замечательных режиссеров — Эльдара и Георгия, двоюродных братьев Бориса.
Мы во ВГИКе гордились, что среди нас есть сын запрещенного Пильняка. А я гордился еще и тем, что дружу с этим бесстрашным и насмешливым красавцем и, благодаря ему, вхож в блистательную грузинскую компанию.
Развеселое и лихое еще было содружество — Алёша Габрилович, Боря Андроникашвили, Дима Оганян, Вадик Мильштейн.
Выходили они — четыре мушкетера — из нашего дома на Фурманова — из квартиры Габриловичей. Я, еще школьник, стоял у окна нашей кухни и с высоты пятого этажа с ужасной завистью смотрел им в спины, исчезающие за угол на Гагаринский переулок и дальше — в какое-то неведомое для меня и необычайно манящее пространство вольной городской жизни — на поиски великих приключений…
Теперь уже здесь — в этой квартире на Правде — неудержимо идет время.
Напротив — через дорогу — уже не живет Белла Ахмадулина, и Боря Мессерер уже не выводит своего старого шарпея. Раньше выезжали они на Правду — Боря за рулем, Белла — рядом. Остановятся, увидев меня. Белла, как всегда, смотрит ласково, улыбается — видит, наверное, не этого меня, а того мальчика-студента, того самого “паша-позвони-маме”… Ах!
Из автомобильного окошка приглашает заходить по-соседски в гости. Я — конечно, конечно, спасибо! И ни разу не пришел. Почему? Дурак потому что. Как ни странно, стеснялся. Теперь жалею.
Были с Иришей на Новодевичьем. Памятник Белле, работа Бори. Рядом лежит Ия Саввина. Вспомнил — давно было, — как подсел к ним в нижнем баре Дома кино. Обе были пьяненькие, веселые-веселые, смеялись, как два колокольчика, и говорили, как два Пятачка.
Запись 2012-го, май
Вчера у нас. Рома Каплан — из Нью-Йорка, Боря Мессерер — перешедши улицу, Миша Петров — традиционно из Питера. Это, наверное, ужасно смешно, — были “шестидесятники”, стали — “семидесятилетние”.
Мое мрачное примечание — через несколько дней: “Прямо обхохочешься!
После переезда на улицу Правды я еще год расставлял книги. Шкафы повсюду, даже на кухне. Сейчас книги уже на стульях и подоконниках. Каждый раз клянусь завязать с наркотиком — не покупать больше. Но все равно мистическая сила влечет меня на Новый Арбат — в Дом книги, на Тверскую — в магазин “Фаланстер” и магазин “Москва”. Здесь букинистический отдел получше, чем на Арбате.
Открываю изданного в 1918 году Гершензона. На форзаце четкая, совсем не выцветшая за девяносто девять лет надпись: “Вячеславъ Ковалевский. 1918”.
Кто ты, Вячеславъ Ковалевский?
А на изнанке обложки мой экслибрис: “Из книг Павла Финна”.
Сколько пройдет лет, когда кто-то так же спросит: “Кто ты, Павел Финн?”
“Книга для меня всегда вопрос судьбы”.
Карл ЮнгНикогда не сетовал на судьбу, никогда не был особенно очарован жизнью. Всегда знал: чем сильнее очарование, тем сильнее разочарование. А я не хотел быть разочарованным. Поэтому не торопился очаровываться.
Забрасываем в будущее наши надежды, как якоря. И наивно думаем, что, перехватывая слабеющими руками канат, подтягиваем себя ближе к бессмертию.
Никогда не разрешал гадать мне и предсказывать, отмахивался от цыганок. Не желаю знать свое будущее. Я его и так знаю.
Иногда кажешься себе бесконечно малым. Какой-то крошкой — на дне огромного храма, — увиденной сразу — и кем-то сверху, и тобой самим. Видишь колонны, бесконечно тянущиеся к свету, проникающему в храм сквозь купол. Видишь ангелов, парящих над храмом — на воздушном океане.
К счастью, ангелов там не достанут ни БУКи, ни С-300.
Вдруг остро захотелось читать Пастернака. Открыл старую синюю книгу с предисловием Синявского. “Спекторский”:
Мы рано, может статься, углубимся В неисследимый смысл добра и зла. Но суть не в том. У жизни есть любимцы. Мне кажется, мы не из их числа.И все же нет-нет, но в считаные разы попадал в это число. Так было, когда работал с Авербахом, когда встретил Иру.
Так было и в тот раз, когда я узнал — возможно, апокрифическую — историю маленького еврейского мальчика, спасенного в 49-м году казахом-железнодорожником. Из одного этого зернышка мне нужно было вырастить целый сад.
Тогда и появился “второй” Сашка.
Слушайте, дети. Я расскажу вам историю о том, как зеленый крокодил из пластилина стал агнцем, а тот в свою очередь превратился в козленка.
Зеленого крокодила, слепленного молодой соседкой по ереванской гостинице Зоей, женой полковника, я нес в 1949-м в школу, чтобы семидесятилетний Иосиф Виссарионович Сталин увидел его среди других детских подарков. И, взяв в руки, по-доброму усмехнувшись в усы, сказал — по-грузински:
— Ра мшевениери ниангиа! Молодец бичи! Еко Ереванши цховреба. Чамовидес Московши! (Какой замечательный крокодил! Молодец мальчик! Хватит ему жить в этом Ереване. Пусть возвращается в Москву!)
Мой подарок не был принят комиссией.
Утро. Рабочий поезд тащится из Алматы в Сары-Озек. Это то самое место, где происходило действие романа Чингиза Айтматова “Буранный полустанок”.
Нет у меня еще никакого сценария, я вообще еще не очень понимаю, как и что писать. Пока что — за вдохновением — направляюсь в аул, где меня уже ждет Нуржеман Ихтембаев — Нурике — могучий человек, замечательный актер. Уже ясно: он будет играть главную роль — железнодорожника.
Проводница, проходя мимо меня, глядящего на степь за окном:
— Еще не бешбармачили?
Нет, мне еще только наверняка предстоит бешбармачить, когда прибуду на место, в аул, где живет старший брат Нурике — фермер.
Воздух необычайно свеж, прохладен и сладостно пахнет землей, лошадьми, навозом. Маленькое чудо — Ерасл, внук хозяина. Ему нет двух лет. Серьезен. Стриженная наголо девочка в штанах водит его по двору. Дочка кого-то из рабочих или работниц. Они сейчас перебирают картошку под карагачем.
Лева — черный, жиловатый, русский, похожий на цыгана — приезжает на маленьком и очень громком тракторе. Он ловкий и поворотливый. Ерасл — руки в кармашках джинсов — ходит за ним. Лева подхватывает его, целует, говорит:
— Заберите от меня басурманчика.
Мы сидим на стульях во дворе у крыльца дома и степенно беседуем. На заднем плане Лева с помощниками проносит барана со связанными задними ногами.
После бешмармака выхожу в степь. В двух местах на земле я дышал таким волшебным воздухом — на Соловках и здесь. И совершенно уверен, что, не наполнись мои легкие этим воздухом, не было бы никакого сценария “Кипяток”, позже из прокатных соображений переназванного в “Подарок Сталину”.
Для начала я превратил крокодила в ягненка.
Теперь уже девятилетний ссыльный еврейский мальчик Сашка, сирота, помещенный мной в далекий казахский аул, должен был отдать его местному чекисту как подарок Сталину — в надежде, что тот отпустит арестованных Сашкиных родителей. На самом деле — расстрелянных.
Режиссером Рустемом Абдрашевым уже снималось кино. Сцена намечалась хорошая. Степь. Мальчик с белым жертвенным агнцем по прозвищу “Кипяток”. Чекист — его изображал Саша Баширов — в открытом “виллисе”.
— Пожалуйста, передайте его товарищу Сталину, пусть он отпустит моих родителей! — должен был просить Сашка, протягивая чекисту ягненка.
Все было бы замечательно, если бы не одно немаловажное обстоятельство, которое, как всегда бывает в кино, выяснилось буквально накануне съемок. В то время года, когда эти съемки происходили, ягнята у овец не рождаются.
И что прикажете делать? Ждать несколько месяцев приплода? И тогда было принято соломоново решение — ягненок превратился в козленка. Почти не утратив свое символическое значение. Милый белый козленок. Смирный и резвый. Но не ягненок. Впрочем, думаю, никто на это внимания не обратил.
Запись 2007-го, сентябрь
Вчера ездили с Рустемом Абдрашевым по степи. Показывал мне места съемок. Тайна степи и воздуха. Лошадь на кургане. Сначала показалось — изваяние. Нет, живая, машет хвостом. Рядом чабан, живой. Ничем не машет, сидит, как каменный, как сидел тысячу лет назад. Внизу отара. Выхожу из машины и пью этот воздух — взахлеб. Все равно не напиться впрок…
Словно темную воду, я пью помутившийся воздух. Время вспахано плугом, и роза землею была… Осип МандельштамПамять так плотно набита стихами, деревьями, лицами, домами, лестницами, поцелуями, грозами, рассветами…
Кто-то спасается от грозы, кто-то целуется на лестнице и шепчет стихи, а кто-то просыпается на рассвете, потому что не может спать, зная, что за стенами совсем другой — новый — мир, в котором он пока еще только гость.
Проснуться на Соловках. 2011 год. Накануне прилетели из Архангельска — сорок пять минут полета — на маленький аэродром — с режиссером Мурадом Ибрагимбековым и съемочной группой. Будем делать документальный фильм.
Здесь тоже особенный — волшебный — воздух, исполненный какой-то стойкой живой прохлады.
В 1989 году мой друг Максуд Ибрагимбеков попросил меня выступить во ВГИКе на защите диплома его сыном Мурадом. Что я и сделал, не зная, конечно, тогда, что оцениваю работу своего будущего режиссера.
Три картины вместе.
Одна — экранизация великой повести Максуда “И не было лучше брата”. Которая решительно автору повести не понравилась. Хотя, по-моему, достойная работа режиссера. Но я понимаю и автора повести.
Кино, как бы талантливо оно ни старалось, все равно бессильно передать интонацию и музыку авторской прозы так, как он услышал ее сам. И поэтому там, где кино не может справиться, оно начинает свою самостоятельную игру. Как бы она ни была хороша, все равно разница между книгой и экраном переживается автором драгоценных слов, вырвавшихся из душевных глубин.
Для меня Баку всегда был городом двух братьев. Я прилетал туда — к ним.
Обычно жили с Ириной — если не в гостинице — то у Рустама в Крепости, то у Максуда в Нардаране, недалеко от Баку — на даче, на берегу Каспия.
В самый первый мой приезд Максуд повез показать строительство этой дачи. Под вечер отправились в кебабную. В маленьком полутемном помещении мрачноватые люди в больших кепках пили чай из маленьких стаканчиков, называемых “армуды”. Видимо, сложный этикет не позволял им проявлять хоть какие-то чувства, и потому наше появление не вызвало у них вообще никакой реакции.
Максуд, чтобы вы знали, был неповторимо обаятелен. Перед тем как сказать что-то заведомо забавное и только что лукаво придуманное, его маленькие глазки за толстенными стеклами очков как-то особенно щурились и светились.
— Ты не смотри, что они такие спокойные, — совершенно не таясь, сказал он мне про кепочников. — Все — самые настоящие убийцы и браконьеры.
Отчасти он был прав. И хотя убийцами они все-таки, наверное, не были, но такой осетрины, только что незаконно выловленной, и такой — “незаконной” — черной икры, как в Нардаране, я не ел больше нигде и никогда.
“Убийцы” даже бровью не повели, молча и серьезно пили чай. Один из них — при молчаливом одобрении остальных — вдруг встал из-за стола, подошел ко мне, положил на плечо тяжелую рабочую руку рыбака.
— Максуд-муаллим, — сказал он мне очень внушительно, — великий человек!
Именно там — в Нардаране, в августе 1991-го, — встав по обыкновению рано, по дороге в душ я встретил нашу любимую Аню, жену Максуда.
— Не волнуйся, — сказала она. — В Москве переворот.
Связь была плохая, с трудом дозванивались с дачи в Москву — Рите Синдерович, через нее подписывали какие-то заявления. Наконец с Рустамом поехали в Загульбу к его другу Вагифу — он тогда занимал высокий генеральский пост.
Горбачев еще был в Форосе.
— Ребята, — невесело сказал Вагиф, — приготовьтесь, это надолго.
К счастью, он ошибся.
И через несколько дней три выдающихся “представителя интеллигенции Азербайджана” — писатель Максуд Ибрагимбеков и два художника, Таир Салахов и Фарик Халилов, — отправились в Москву, чтобы заявить о поддержке тех, кто противостоял гекачепистам и подавил мятеж.
Мы взволнованно провожали из Нардарана эту знаменитую троицу в черных костюмах и произносили горячие тосты за свободу и братство.
…А в конце девяностых началась и длилась более десяти лет счастливая эпоха бакинского кинофестиваля “Восток-Запад”.
Придуман и великолепно организован он был Рустамом, великим выдумщиком и организатором. У него как-то на все хватало время — на литературу и на кино, на постоянные перемещения по миру и на фестивальные нелегкие хлопоты и усилия по добыванию денег и гостиничных мест. И, конечно, на дружбу.
Он, так сказать, гений дружбы.
К Рустаму — именно к нему — слетались и съезжались в Баку отовсюду — из Москвы, Питера, Казахстана, Украины, Грузии, Франции, Италии, Венгрии, Израиля…
Наше время с радостью тратилось на встречи, просмотры и прогулки по Баку и разнообразные застолья.
Я помню — первый или второй фестиваль? — восхитительный состав “московской делегации”, исправно собиравшейся в нашем с Ириной гостиничном номере.
Дуся Германова, Толя Ромашин, Паша Лебешев, Сережа Соловьев, Саша Абдулов, Володя Ильин, Алик Шейн…
Рустам жил тогда еще в кинематографическом доме на Васильевской.
Алик Шейн неподалеку, даже рядом — на Большой Грузинской. И у него была собака, он ее любил. Симпатичная небольшая дворняга по имени Дуня. Нетрудно догадаться, что в силу собачьей физиологии вышеназванную Дуню надо было время от времени выводить на целевую прогулку. Пописать, короче говоря.
Мы часто заседали тогда по вечерам у Рустама. По веселым, но и печальным поводам. За столом собиралось иногда человек до двадцати. Как-то так получилось в жизни, что друзья Рустама — и в Баку, и в Москве — становились и моими друзьями. Так, кстати, вышло и с Шейном.
Вернемся, однако, к собаке Дуне и ее физиологии.
Взяв собаку на поводок и сообщив прелестной жене Ире, что он отправляется по неотложным собачьим делам, Алик выходил на улицу. Сердцем он был с нами. А сердце у него было горячее. И оно вело его к нам. Настойчиво попросив Дуню не задерживаться попусту и не увлекаться отправлением своих нужд, он стремительно направлялся за стол к Рустаму.
Понемногу умная и наблюдательная собачка привыкла к этому маршруту. И, подчиняясь указаниям второй сигнальной системы, решила, что ее водят по “делам” не на улицу, а к Рустаму, и что прихожая его квартиры и есть наиболее подходящее для этого место. Ей это понравилось. И, наконец, она так полюбила это мероприятие, что — не задерживаясь — уже сама вела Алика в дом друзей.
“Два ангела сидят на моих плечах: ангел смеха и ангел слез. Их вечное пререкание — вся моя жизнь”.
Василий РозановНет больше Алика. Талантливый, он был кинематографист до мозга костей. Его все знали, все любили, с ним все дружили. Знаменитый хирург Покровский дружил с ним и пытался спасти. Жена Ира и сын Саша боролись за его жизнь изо всех сил. Но не победили.
Смерть — магнит. Она притягивает нас, как металлические опилки, с рождения.
Запись 2016 года, 22 марта
Вот горе! Умер Максуд. Распадается, исчезает мой мир.
2011-й. Деревянная гостиница на Соловках, где стоим мы с сыном Максуда Мурадом и вся наша съемочная группа, называется “Приют”. Хозяйка живет в Аргентине, а на турсезон возвращается на остров — зарабатывать деньги.
Из окна моего номера видны куски майского снега на зеленой траве — как куски сала. За бухтой Благополучия, где поднимается из воды поклонный крест и пристает катер “Святитель Филипп”, заговорила кукушка. Я ее ни о чем не спросил.
Запись 2011 года
Вчера — на некоторое время — забыл, что мне семьдесят первый год.
Фантастический день! Все было — и подъемы, и спуски. По обледенелым дорогам. Мимо мрачной хвои, корявых берез и выступающих из снега валунов с узорами лишайника. Селезенка с печенкой внутри меня менялись местами.
Собака Гром, спокойная лайка, ровно и легко бежит за нашим УАЗом двенадцать километров туда и двенадцать километров обратно — за своим хозяином, нашим водителем, усатым шоферюгой с лихой металлической улыбкой.
Секирная гора, могильная гора. Верхний Свято-Вознесенский скит, церковь-маяк над невероятным простором. Деревянная лестница из трехсот ступеней — копия той, обагренной кровью мучеников.
“Кресты страдали, как люди. Их срубали, спиливали, расстреливали, сбрасывали, сжигали”.
Георгий Кожокарь, главный кресторез на СоловкахКладбище казненных на Секирке во времена СЛОНа, Соловецкого лагеря особого назначения, — тонет в талой воде.
Безымяные могилы — кресты с дощечками: зарыто четырнадцать, девять, три…
И постоянно в голове, в душе: покуда не будут искуплены страшные эти грехи, ничего не выйдет.
Сильнейший холодный ветер… Погода здесь способна меняться несколько раз за один час. Туман. Пока улететь не получается — военные почему-то закрыли воздушное пространство над Соловками. Что дальше — непонятно… Вроде бы все-таки небо открыли. Обещан вылет.
Дома на улице Правды включаю диктофон — интервью на острове — для работы над фильмом. И слышу в наушниках соловецкий ветер.
Он не давал мне покоя — соловецкий ветер, соловецкий воздух — соловецкое горе, всей России — горе.
Тогда мы уже не первый год — не первое лето — жили в стране Черногории, в благословенной деревушке Крашичи на берегу Боко-Которского залива.
Поначалу — только мы с Ириной и две наши девочки-внучки, Манька и Лизка. А уже года через два на нас посыпались — к нашей непреходящей радости — и наши родные киевляне. Шумный наш сынок Алёшка, красавица Аня, его жена, и ее родители — Нигора и Игорь, большие наши друзья. И, конечно, с ними два маленьких чуда — два внука, Женька и Максик. Вот такая интернациональная — русско-украино-немецкая-еврейская-узбекская — мишпуха.
Просыпаюсь до света — еще все спят, конечно. Несу компьютер на веранду, повисшую над бухтой. Каждый раз, встав в пять утра, оказываюсь в центре грандиозного представления, которое называется “Восход солнца в Крашичах”. Участвуют горы, облака, море.
Подробности медленно начинающегося дня… На моих глазах он наливается жаром, ярким солнечным соком.
— Свежа риба-рибе! Риба! Риба!
Теперь уже я в центре постоянного шума. Голос старика-продавца рыбы, цикады, тяжелая музыка из проезжающей машины, голоса черногорцев, голоса соседей, друзей-литовцев, лай собак, лепет ребенка, посвист невидимой птицы, грохот камионов… Как я люблю этот знакомый черногорский шум… И вместе со мной — два молчаливых брата-кипариса — справа от веранды.
Смиренно плещет синее море. Косяками спешат к берегу Золотые Рыбки и наперебой безвозмездно предлагают Старикам свои услуги. Мне бы они пригодились. Я уже который день мучительно пытаюсь преодолеть сопротивление нового сценария, который я сочиняю для режиссера Володи Фокина — о старом актере, мечтавшем сыграть трагическую роль Нахлебника в комедии Тургенева.
В то лето 2011 года на моем высоком челе смешались два загара — черногорский и соловецкий. И Соловки не давали мне думать о “Нахлебнике”.
Звоню Фокину в Москву, предлагаю отложить “Нахлебника” — как потом оказывается, навсегда — и рассказываю ему идею сценария о театре в Соловецком лагере. Он соглашается.
В моей жизни два прекрасных случая встреч с широтой души и бескорыстием.
Гия Канчели, знакомством и общим делом с которым я искренне горжусь, написал прекрасную музыку к нашему документальному фильму о Нико Гомелаури, актере и поэте, любимце Грузии, — и отказался от денег.
Юлик Ким, замечательный человек и поэт, голос и слава нашей молодости, написал зонги к нашему сценарию.
Из сценария “Лучший театр всех времен и народов, или Остров чудес”
Чайки летят. С моря на остров. Десятки, сотни… С криком. Закрывая небо. А из тумана времени, разрывая серую пелену, возникает пароход.
Мачта с трепещущими на ней флажками расцвечивания, труба. И вдоль борта спасательные круги с надписями: “Глеб Бокий”… “Глеб Бокий”… “Глеб Бокий”…
Он надвигается на нас, медленно и неотвратимо, как судьба. И нам уже никуда от него не деться.
Заглушая чаек, гремит со сцены музыка. Русский рок.
Клавишные, три гитары, труба, ударник. Свитера, джинсы. Играют, поют:
Заревела сирена Пароходной трубы, Словно вечная тема Нашей вечной судьбы. Она взвоет и грянет, Душу всю изведет И любому предъявит Неоплаченный счет.Героем нашим был пятнадцатилетний подросток, осужденный на десять лагерных лет “за попытку злодейского покушения на товарища Сталина”. Я нашел реальный его прототип — Юрия Чиркова — в воспоминаниях о Соловецком лагере, “изводящих душу”.
Ни один продюсер не взялся за наш сценарий о Соловецком лагере со стихами Кима. Хотя все хвалили.
И сценарий благополучно канул в вечность.
На всякий случай оставляю памятку. Сценарий был опубликован в журнале “Искусство кино”, который не раз и не два спасал меня от беспросветной тоски.
“Отсюда возможен только один вывод: старайся сохранить в себе жар души, не давай ей увлажняться и остынуть, тем более — отвердеть”.
Михаил ГершензонВ той же самой “вечности” — и в том же журнале — можно будет так же найти и следующий мой — непоставленный — сценарий, написанный для замечательного польского режиссера Ежи Гофмана. Я еще в 1963-м веселился, смотря комедию “Гангстеры и филантропы”, сделанную им вместе со Скужевским.
Время комедий давно прошло. Теперь я писал для Гофмана сценарий по его — драматическим — воспоминаниям о детстве в сибирской ссылке — “Моя Сибирь”.
Поначалу все складывалось не так уж плохо. Я жил у Ежи на горбатых Мазурах, на берегу озера — в осенней красе. В таком же прочном и грубоватом доме на мощных каменных ногах, как и сам его хозяин.
Мы дружили. Ходили в Варшаве в его любимый “restauracja zydovska” есть форшмак и пить крепчайшую еврейскую водку.
Он отправил меня смотреть “Катынь” — в варшавском мультиплексе “Сильвер Скрин”, бывший кинотеатр “Москва”. Туда меня привезла смешнейшая картавая кобета Камилла, с постоянным “супер” среди быстрой, как у птички, польской болтовни.
Я не сразу нашел нужный мне зал в мультиплексе. Вошел уже в темноте и сел в первом ряду. Когда зажегся свет, я оглянулся. Тишина. Никто не встает.
В зале я самый молодой — в свои 67 лет. Старики и старухи. Они всё помнят. И молчат. Скорбно и строго.
На ходу, на прогулках — я записывал на диктофон яркую повесть Гофмана о сибирском детстве, об отце-враче, офицере-пулеметчике в Первую мировую, о матери, тоже враче, о друзьях и врагах детства. О преображении польского мальчика, жившего, пока не началась война и не пришла Красная Армия, в своих Низких Бескидах, как в раю, — в подростка-хулигана, в волчонка.
В Сибири далекой — тайга, снег и ветер. Но поляк не сдастся ни за что на свете. Перед врагом не дрогнет, даже если сгинет. Мы вернемся в Польшу, Бог нас не покинет. Песня польских ссыльныхПочему Ежи не стал снимать “Сибирь”?
Душа кинорежиссера так же загадочна, как душа инопланетянина. Горячо увлекся воспоминаниями о детстве, потом — не впервые — историей Польши. И тоже очень горячо. Снял — вместо нашего сценария — блокбастер “Варшавская битва, 1920”. О том, как красноармейцы под командованием Тухачевского были отброшены от польской столицы.
Подсчитал, что за свою жизнь я имел дело с тридцатью кинорежиссерами. А может, даже и больше, если я кого забыл. Но, конечно, не Ларису Садилову. Хотя наше содружество с ней не похоже ни на какое другое.
Мы делали вместе картину “Она”, сценарий к которой я не писал.
Ее первая картина “С днем рождения”, снятая выпускницей актерской мастерской Сергея Герасимова на какие-то копейки, — настоящий шедевр. И другая — через пять лет картина “С любовью, Лиля” — тоже. Я влюбился в ее кино. И, конечно, работать для такого режиссера — только мечтать.
2012 год. Дачный поселок Внуково. Приезжаю сюда из Москвы чуть ли не каждый день — к этому скромному загородному дому, совсем не дворцу. Нажимаю звонок на заборе. Собака Соня, огромная среднеазиатская овчарка-алабай, доброжелательно смотрит на меня через щель — она уже меня хорошо знает. Сейчас Рустам впустит меня на участок. Лариса выйдет на крыльцо, улыбаясь.
Лариса Садилова. И ее опора — Рустам Ахадов, муж, продюсер, звукооператор, соавтор и — хороший парень. И плов хорошо готовит.
Сначала мы некоторое время будем колебаться — с чего начинать? Сейчас ли есть плов, а потом сесть работать? Или — наоборот? Все же, избежав искушения, склоняемся к работе — после настоящего таджикского плова воображение решительно замедляет свой полет.
“Режиссерская экспликация Ларисы Садиловой
Основа истории, которую я хочу рассказать, не выдуманная и не высосанная из пальца. Это история реальная. Она происходила достаточное время у меня на глазах, в дачном поселке, где я проживаю. Семнадцатилетняя таджичка приехала вслед за своим любимым в Москву, куда тот уехал из родного кишлака на заработки. Он ее позвал, и она бросила все. А потом он бросил ее и вернулся к себе домой. А в Москве она никому не нужна”.
Итак, на столе ничего, кроме чая в пиалах. И диктофон. Я каждый раз записываю все наши разговоры. Восклицания “гениально!” и сразу же другой голос: “Говно!” Бесконечные предложения и изобретения. И признания в собственной беспомощности и тупости.
Срываемся, садимся в машину, едем на Мытищинский рынок, пробираемся по узким ходам между павильонами и попадаем в ад — убогое поселение гастарбайтеров. Первобытная стоянка. Как будто скрыто от глаз, но все знают. Но так же знают — “крышует” милиционер.
Жалость, боль, сочувствие, гнев… Люди так не должны жить.
Вечерами я уезжал из Внукова домой с каким-то странным ощущением.
Обсуждать, придумывать, спорить, советовать, оценивать мне интересно. Но с некоторым ужасом думаю, что нужно будет все это писать или, вернее, записывать. Соблазнившись работой с талантливой Ларисой, я как-то изменил своему главному принципу — абсолютное одиночество при сочинении сценария.
И когда Лариса прислала мне черновые наброски, я понял, что так не напишу, лучше, чем она, — не напишу. Когда картина была снята и дело дошло до титров, я убедил Ларису поставить против моей фамилии только — “при участии”.
В 2013-м — одновременно с картиной Садиловой — вышла еще одна, со мной в титрах. Ситуация для книги Гиннеса — сценарий “Воспоминание о Плотникове Игнате”, постоянно запрещаемый, был поставлен через тридцать лет, правда в отчасти измененном Костей Лопушанским виде и под другим названием — “Роль”.
Мой бедный Игнат, одинокое дитя русской литературы времен Серапионовых братьев, заблудившийся в дикой коммунальной жизни двадцатых годов, хоть и устоял, как характер, но перенес операцию. Это был и Плотников, и в то же время некий актер эмиграции, играющий Плотникова в реальной жизни. Все в духе идей Николая Евреинова о “театрализации жизни”.
Мы даже получили “Нику” за лучший сценарий. Одну на двоих.
Порой думаю: может, все странности финала моей сценарной “карьеры” — мне поделом? Кино последних лет уж очень грешило. И я грешил вместе с ним. Особенно в тщетных попытках справиться с безденежьем — за счет сериалов.
Запись 1999-го, 18 апреля
Вчера — разговор с Германом по телефону.
Он: Картина будет признана только после моей смерти.
Я: После нашей смерти вообще будет много интересного.
Последняя картина Германа — это искупление грехов нашего кинематографа последних десятилетий. Полное разрушение стереотипа — во славу кино. Реальность страшного сна, снятая документально. Можно даже сказать — репортажно.
“Какие сны в том смертном сне приснятся?”…
Какие сны — ленинградскому мальчику 38-го года рождения?
Записи 2013-го, февраль
Поезд “Сапсан”, “Москва — Санкт-Петербург”.
Еду хоронить.
…Как дивно отпевали Лешу в церкви на Конюшенной. И это та же церковь, где отпевали Пушкина.
И самый тяжелый миг — прожорливая яма, отвратительная пасть смерти…
“Смерть! Где твое жало? Ад! Где твоя победа?”
Осия, 13:14Два моих непоставленных сценария — Соловки и Сибирь — как невыполненный долг. Перед Соловками и Сибирью. И в том и в другом герой — подросток. В борьбе с несчастьями и с самим собой.
И в каждом из них — так или иначе — скрывался мой Сашка.
Наброски из ненаписанного романа
Уж никто не гнался по лесу за Сашкой. Он раздвигал ветки и собирал с лица липкую паутину. Короткий, как дыхание зверя, жар пахнул на него из-за деревьев.
Где бы ты ни был, бродя по свету, трава под босой стопой всегда одинакова. Листья прошлой осени, тронутые ржавыми пятнами, как руки старика пегментом, попадались Сашке под ноги. И мертвый крот поперек дорожки. Очень может быть, тот самый, который хотел жениться на Дюймовочке, — мертвый жених Дюймовочки.
Две птицы с женскими лицами поднялись выше самых высоких деревьев. Отсюда им было видно все Хозяйство — во все концы.
Брошенный всеми, одинокий в дачном домике на краю леса, несчастный.
Так хотелось Старику думать о себе, жалеючи себя, и так думалось. Нужно было стонать и жаловаться кому-то, но никого рядом не было.
Забытый, заброшенный, нелюбимый, — жалея себя — до слезной влаги.
Гулко и отдаленно лаяли собаки, обозначая горизонт — край земли.
“Проснись, старый пень”, — промолвила первая птица. “Пора! — вторила ей сестрица-вторая птица. — Встань! Настал этот час!”
Послушаться? Встать? Зажечь свет — всюду, где можно? Зажечь — возжечь — запалить — маяк, манящий, спасающий…
Дачный — заоконный — свет — через деревья — сквозь шелест — сквозь тишину.
Белеющий в темноте ствол березы на первом плане — крупно. И на общем — линия крон, почти растворяющаяся в белизне, еще остававшейся от заката.
Ветер маленькой и нежной ручкой тронул буддийский колокольчик в саду. Как будто ушедшие навсегда души заговорили с ним.
Однако соприкосновение пробирающейся в темноте осторожной ноги с сухим листом на лесной тропинке — шуршание осенних листьев под ногами мальчика, пробирающегося по заколдованному лесу, — прозвучали отдельно от всех других звуков ночного неба и ночной земли.
И тут меня осенило! А может, избавиться от Сашки — раз и навсегда, чтобы не тревожил больше, не докучал? Очень удобный момент. Заблудился в лесу, волки съели, медведь задрал. Вот мне и облегчение! И если подумать, сколько приличных людей авторы приносят в жертву сюжету. Анна Каренина, например. А тут какой-то Сашка…
Наброски из ненаписанного романа
Старик пошел навстречу этим звукам, перешел дорожку — границу поселка и вошел в лес. Босой мальчик стоял под деревьями и смотрел на него.
“После смерти рабби Моше один из его друзей сказал: «Если бы ему было с кем говорить, он бы не умер»”.
Из Мартина БубераВот ведь — почти не осталось постоянных собеседников. Раз, два — и обчелся. С Маркишем — по скайпу. С Иоселиани из Парижа — иногда, но подолгу — по телефону. С Рустамом Ибрагимбековым, когда он в Москве.
И каждый вечер, как правило, набираю номер Иры Рубановой. Мы знаем друг друга так давно, что уже и забыли — сколько.
Говорим обо всем. О Польше, которую мы оба любим. О Вайде, с которым она дружила много лет. Об Авербахе, у которого она брала интервью. О Париже, где она бывает чаще меня. О кино — критически. О детях — с любовью. О Юре Богомолове и Нине Зархи, об артериальном давлении, о наших общих воспоминаниях и, как ни странно, о будущем — в мировом масштабе.
Случается, раздражаемся, не согласившись в чём-то и с чем-то. Но все равно — на следующий день набирается номер. Как правило.
Слава богу, есть еще с кем говорить по вечерам.
Наброски из ненаписанного романа
Садись, ноги в таз. Не надо. Что значит, не надо? Слушайся меня. Ты что? Стесняешься? Меня? Христос мог, а я не могу? При чем тут Христос? При всем. Интересно, он теплой водой или холодной? Кто? Да Христос. Нет никакого Христа. Кто тебе это сказал? Я же еврей? Ну. Так вот, у евреев нет Христа. Кто тебе это сказал? Шекспир. Что? Шучу. Борис мне это сказал. Ах, Борис! Ну да, конечно. Это было в 45-м году на площади Арбатской — возле того фонтана с голым мальчиком. А вы откуда знаете? Я все знаю.
А в Крашичах неспокойно сине море. Чем-то на этот раз недовольна Золотая Рыбка. Море — густой и мрачно-яркой синевы с белыми гребешками-барашками. Второй день сильно штормит. Пальма на углу нашей улицы трагически заламывает руки под ветром.
Был бы я Ганс Христиан Андерсен — написал бы сказку, героиней которой стала бы одинокая белая яхта, мечущаяся на привязи у берега — напротив моей веранды, мечтающая оторваться и броситься в безумное плавание — к нему, к нему, к принцу! — которое ее погубит…
Два дня бунта и неврастении, ураганного ветра и метания моря, а сейчас все снова пришло в свое обычное кроткое состояние — бухта, горы, небо. Прозрачная у берега вода, бесшумная яхта.
Ночь. Три рыбачьи лодки с фонарями. Лучи ярко уходят в воду, соединяя невидимых и неизвестных мне людей с невидимой и неизвестной глубиной.
Рыженькая ящерица на белом потолке балкона. И маленькие летучие мыши, которые вдруг появляются и исчезают, словно клочки дыма и тишины. И ночная бабочка испуганно взмахивает крылышками.
Заканчивается наш месяц — наша жизнь — в Черногории. Вещи, которые за месяц привыкли к этой жизни, сейчас покорно ждут, когда их завтра будут укладывать в чемоданы, и вызывают жалость…
Тиват — Москва. Летим.
Пишу в айпаде, а рядом — у окна — Лизка, и тоже пишет в айпаде. Рассказ или роман, одним словом — прозу. Я подглядываю. Начинается так: “Субботнее утро. Весь город спит. Кроме, конечно, Сэма”.
Под нами — в черноте — невидимые грозы. Трясет и качает. Лизонька боится, прижимается. Я и сам, честно говоря, боюсь. Но долетели с Божьей помощью.
Черногория — теперь в прошлом, мы были там в последний раз.
В который раз разбойно свистануло и прыгнуло время. Что-то все-таки останется от него или нет?
“Но звук наших слов висит, как солнце в пространстве…”
Казимир МалевичЗапись 2000 года
Слово и время, время и слово — вот два кумира, два божества. В каких они отношениях? Кто из них кого торопит и кто кого останавливает?
Вся жизнь — все ощущения, все впечатления, все запахи, весь паровозный дым, все облака за всеми иллюминаторами всех самолетов, все волны и все приливы всех морей и океанов, все голоса птиц по утрам…
Вот последовательность наших последних перелетов и поездок…
На поезде в Киев, в Лисовичи — охотохозяйство и гостиница сына, оттуда на автомобиле в Одессу и назад в Киев. И сразу же — самолетом из Киева — в Ригу.
Спустя некоторое время — из Москвы в Тель-Авив. К врачам.
В раю должна быть такая же тишь, как в Лисовичах в пять утра. Но петухи тоже пусть кричат в раю. А ко мне на балкон прилетал князь Гвидон, я его не тронул, а он меня. Погудел и спокойно в свой удел через море полетел.
Пора и нам — к морю. Едем в Одессу…
Проезжаем населенный пункт Умань. Привет хасидам! Плясать и веселиться!
Направо — сто пятьдесят километров — родина мамы, Елисаветград.
Закадычный — старый — мой одесский друг Гарик Щербаков, он же — Арбузный. Однажды стащил — на Привозе, что ли? — не помню — арбуз нам на закуску. И мы с Валькой Туром тут же наградили его этим почетным прозвищем.
Мы жили с ним в одном доме на улице Советской Армии — ныне Преображенской — на разных этажах. Я в семье Коншиных, он в семье Островских. “Примаки” — кажется, так это называется. Его тесть, отец прозрачной и тоненькой Наташи, был известный Островский, директор Одесского театра музыкальной комедии, по тем временам — большой человек города.
Семья Островских терпеть не могла меня, семья Коншиных — Гарика. Но нас это мало трогало.
Познакомились в первый мой — вместе с Сашей Шлепяновым — приезд в Одессу и сразу же — быстро — сошлись. Молодые были, веселые, легкие — нищие. Вся жизнь тогда была как нарочно придуманная — для смеха и веселья — история, которая потом будет рассказываться, к удовольствию слушателей.
Ту Одессу, которую мое воображение — с сильной натяжкой — делало “бабелевской”, — я пил как брагу на свадьбе, пил и захлебывался.
Гарик — обаятельный и нахальный — был “центровой” в Одессе. Его знали все, и он знал всех. Он был моим вожатым, моим Вергилием. Чуть ли не каждый день, как-то отбрехавшись от жен и родственников и схимичив какие-то рубли, мы с восторгом погружались в наш одесский Декамерон.
Но сколько же мне дало это прекрасное время!
Запись 2016 года
Что сделали из берега морского гуляющие модницы и франты? Наставили столов… Во что превратили одесскую Аркадию! Мою Аркадию! Какая уж тут скала и шторм, скала и Пушкин!
Вчера. Дерибасовская вечером. Толпа. Шум, музыка. Какие-то огни с треском взлетают. Туристы. Веселье и беззаботность? Странное время!
Два дня живем в большой квартире Гарика на Греческой. Он здесь один. Дети и внуки за границей. Он один — среди статуэток, ваз, старинных часов и картин неизвестного мне художника Капустина.
Мы уверяем друг друга, что мы — не внешне, конечно, — ничуть не изменились, что главное наше достижение — что мы такие же, как в молодости.
Так ли это? Скорее, да.
Старость напрямую зависит от молодости. О чем мы, конечно, понятия не имеем, когда молоды. Если ты смог быть молодым по-настоящему, старость не так уж заметна. Но только тебе, наверное.
Уезжаем. Милый наш Арбузный провожает во дворе. Голуби и кошки, которых он ежедневно щедро прикармливает, сбегаются к нему со всех сторон. И главный среди них — любимый кот Фима, наглый, как все фавориты.
Одесса вспыхнула и погасла.
Долгое время все то, что не Москва, казалось мне “заграницей”. В Армении — по малости лет — я еще не ощущал разделения стран и языков. Но уже в юности входил в Ригу и даже в Ленинград, как в другой, отличающийся мир.
Последний раз мы с Ириной были в Риге ранней весной 1988 года, жили в Юрмале — в Меллужи. Небольшая часть Дома композиторов Латвии принадлежала тогда нашему Союзу.
Запись 1988-го, Меллужи
Неужели я тот, какой-то мальчик, который двадцать девять лет назад, сентябрьским дождливым днем ехал из Дзинтари в грузовике верхом на дачных вещах жениться в Ригу? Сентябрьский дождливый день, мокрое шоссе, серая река, башни города и радостное чувство взрослой жизни, обладания, победы…
Боже! Какой же был дурачок…
Тогда — в 88-м — была разруха, бедность. Сейчас Рига — яркая, громкая, с уличной музыкой, с дивными парками, с нарядными лодками на воде, с ресторанами на каждом шагу, с туристами и нищими. Неузнаваемая окраина. Преображенный “Особторг” — сейчас уже никто и не помнит, что так называли послевоенный магазин “особой торговли”. Сейчас — большой роскошный маркет.
Рядом, кажется, дом, где был тот дымный ресторан “Амур” со смертельно гуляющими рыбаками, вернувшимися с путины. И куда как-то вечером завалились мы с Давидом Маркишем…
Еще в Москве — по интернету — искал квартиру для недолгой аренды в Старом городе, желательно на улице Вецпилсетас, где жил с первой женой Леной Ратнер у ее родителей — 57 лет назад.
Сначала удалось, потом — сорвалось. Но взамен сняли очень приличную квартирку — в первом этаже — на улице Алдару, тоже в Старом городе. С сумасшедшими чайками за окном.
В 60-м году вторая квартира родителей жены — после Вецпилсетас — была на Петрас Стучка, ныне — снова — Тербатас. Дом времени Ульманиса, двор. Там было невероятно много черных кошек, они все время перебегали мне дорогу.
Едем с Иришей на электричке. Когда еще не было Юрмалы, мы говорили — взморье. Поедем на взморье. Я живу на взморье.
Дача Ратнеров, улица Турайдас, за рестораном “Юра”, недалеко от Концертного зала. И ресторан теперь “Юра” другой, и на месте дачи — новый ресторан. И знаменитое “Лидо” не сохранилось. А залив сохранился. И загар — балтийский, песочного цвета — на курортниках. А сами курортники — тоже другие.
Едем назад… И эта женщина с розой в желтой сумке… И старик в зеленой рубахе с зонтиком… И я сам, кашляющий на весь вагон… И сосны — на дюнах — за окном… Что со всем этим делать?
Чужая жизнь! Зачем ты мне подарена?
Перед Домским собором две девочки-скрипачки старательно играют Двойной концерт Баха. А у меня слезы на глазах. Почему? Жалко. Кого? Девочек. Туристов. Себя. Ригу. Весь мир?
Одесса и Рига. Они — как бы кольцевые рифмы моей молодости.
“Кольцевая (опоясанная, охватная) рифма… соответствующая схеме: абба, то есть созвучны первая и четвертая…”
ВикипедияСозвучны первая и — последняя? Первый раз в Одессе и последний? Первый раз в Риге и последний?
Что осталось? Слушать змеиный шепот бессонницы? Нет! Нельзя сдаваться. Нельзя!
Сны — когда они все-таки приходят — даются не для того, чтобы их отгадывать, а для того, чтобы их вспоминать, для того, чтобы некоторое время, пока они не растворятся в памяти, жить в другой реальности.
Запись 2015 года
Поверить все-таки в мистическую связь снов и яви?
Мы с братом в какой-то комнате. Я чувствую, что это наша квартира на Фурманова. За дверью мама страшно кричит на сестру. Чего никогда в жизни не было. Страшно так, что мне становится страшно. В чем провинилась маленькая сестра?
Она ничего не делает и не хочет делать — так страшно кричит мама. Наконец я не выдерживаю и врываюсь в соседнюю комнату. Мама, в нижней рубахе, лицо, как раскрашенная маска, искаженное гневом и горем. Я хочу ее обнять, хочу ей что-то сказать. И не могу — пропал голос, задохнулся голосом. Так у меня бывало в детстве. И так со мной сейчас, когда я это пишу, — отказывают связки, хриплю.
Во сне голос возвращается, пытаюсь утешить, успокоить маму — напрасно.
Может быть, она — там, у себя — услышала мою недавнюю просьбу и дает мне знать, что она — с Олей? И требует, чтобы Оля делала что-то — боролась, жила.
Сегодня Олька должна улетать в Израиль. Лечиться. Спасаться. От рака.
Запись 2016-го, сентябрь
Тель-Авив, улица Бен-Иегуды. Собираемся в Хайфу — к Ольке.
В Хайфу — на двухэтажном красном поезде. Дивный город. Гора Кармель, морская панорама с горы. Сладкая уличная вонь…
“В Израиле борются с беспрецедентными пожарами и новым проявлением терроризма. По подозрению в поджогах арестованы 13 человек. Только в Хайфе пострадали 600 строений, 165 человек доставлены в больницы…”
Из интернета, ноябрь 2016 годаСнять, как сестра, жилище на склоне — с видом на море, — вдыхать уличные запахи и бесконечно лечиться… лечиться?
Нет, все не так. Хочу не хрипеть, хочу, чтобы с неба к моим ногам упал миллион долларов, хочу ничего-ничего не делать, хочу купить квартирку в Юрмале, хочу плевать в потолок…
Запись 2006 года, Тель-Авив
Комплекс апартаментов “Андромеда”, которую я — ночью — таксисту тбилисского происхождения — упорно называл “Армагеддон”.
Запах скошенной травы и моря. Синие — яркие — арабские дети выбегают из своих школ. В саду “Андромеды” какая-то неизвестная птичка все время приговаривает: “Алла Акбар… Алла Акбар”. В соседней католической церкви бьет утренний колокол, поют монахи — служба на латыни. И одновременно выпевает муэдзин с ближнего минарета — азан. Сегодня суббота, евреи в синагогах, и в этом общем хоре не хватает сейчас только громкой иудейской молитвы.
Дорога — под тяжелым и темным небом хамсина — из Ор-Иегуды в Яффо. Синее солнце. У всех автомобилей, мчащихся навстречу нам по шоссе, синий глаз во лбу — отражение безумного солнца. Хамсин. Что такое? В этом какая-то тайна. Следы — на ветровых стеклах машин — воздушной атаки, начавшейся в Аравии.
Пока горит красный и мы все недолго стоим, танцуют веселые молодые хасиды в белых шапочках, выскочив из своего вэна, откуда разносятся зажигательная музыка и пение.
Им действительно так весело?
Люди враждуют между собой из-за религии. А что в это время делают их боги?
Религия и деньги создали эту цивилизацию, они же ее и хоронят.
Встретить апокалипсис на Святой земле было бы, в общем, нормально?
“Но когда стоишь лицом к лицу с действительностью, оскорбляющей и сокрушающей все твое нравственное существо, разве достанет силы, чтобы не отвратить порою взора и одурманитъ голову иллюзией… Но страшная действительность и не думает о том, видят ее или нет.
Ей достаточно того, что она существует… Она есть, она идет, она наступает… И мы еще далеко не коснулись самой сути того положения, какое она нам приготовила”.
Федор Тютчев“Не бывает времени настолько бедственного, чтобы человек не мог быть честен”.
Шекспир, “Тимон Афинский”.Наброски из ненаписанного романа
Ой, хватит, щекотно! Так, теперь эту давай. Правую… Смешно! Что вам смешно? У тебя второй, третий и четвертый, сросшиеся корешками… Как у меня… На вот, возьми мои, вот эти, они еще крепкие. А то босиком могут не пустить. Куда? Узнаешь. Не велики? Нормально. Идем. Куда? Идем, не пожалеешь.
И Старик взял Сашку за руку.
Вот не могу решить, где же устроить финал? В пропахшем зеленой масляной краской театре? Но его уже не будет никогда. Тогда в Кейсарии или на Крите?
В пользу Кейсарии, конечно, небо, прошитое вереницей птиц, как стежками шва. И амфитеатр — римский — на четыре тысячи мест. Здесь бы и развернуть представление?
И все-таки есть опасность, что фигура актера, исполнителя главной роли в трагедии, будет подавлена размахом вечного пространства, а голос не будет услышан даже на нижних скамьях.
Тем более — грохот и гон колесниц и ржанье коней с соседнего гипподрома. Тем более, музыка, добытая с небес.
Прометей похитил с небес огонь, Бах — музыку. Боги отнеслись к этому спокойно, сделали вид, что не заметили, и не послали к нему орла.
Нет, скорее, все же Западный Крит. Двести метров над уровнем моря. Древний город Аптера, руины маленького римского театра, как будто бы домашнего. Тоже амфитеатр — с осыпающимися каменными скамьями — и — среди трав и маков с безвольными лепестками — небольшая сценическая площадка. И — тишина.
“…Это взято не из жизни, я бы сказал сложнее, взято из выходящего за ее пределы”.
Жан КоктоНаброски из ненаписанного романа
Старик и Сашка сидели рядом на нижней скамье.
Гамлет явился внезапно — из воздуха, весь в черном. И сразу же — кожей спины, низом живота — приближение необъяснимого — необъяснимо прекрасного.
Сашка вздрогнул и двинулся вперед, хотя и так было видно: это — Борис. Мальчик потрясенно повернулся к Старику. Старик усмехнулся: “Смотри, смотри”. На заднем плане — за спиной Гамлета — медленно возникало — словно темное облако… Нет, скорее, застывший смерч…
— Святители небесные, спасите! — завопил Гамлет, оглядываясь и шарахаясь.
Старик с интересом следил за мальчиком — как реагирует?
Сашке казалось, что Гамлет смотрит ему в глаза. Но это было не так — зрителю обычно кажется, что актер глядит только на него.
А он продолжал:
Благой ли дух ты, иль ангел зла, Дыханье рая, ада ль дуновенье, К вреду иль к пользе помыслы твои, Я озадачен так твоим явленьем, Что требую ответа…— Вот, вот! — Старик вдруг схватил Сашкину руку и сжал. — Слушай!
…Отзовись На эти имена: отец мой, Гамлет…Гамлет — Борис с таким горем и тоской произнес это: “отецмойгамлет”, что у Сашки вдруг сами выступили слезы. Он плакал. Ему было жалко Гамлета, жалко маму, отца, Бориса, себя — всех. Старик еще сильнее сжимал его руку и шептал так близко в ухо, что он чувствовал запах его дыхания:
— Вот в чем вся штука, в чем смысл. У них одно имя! И тот и другой — Гамлет! Понимаешь? Понимаешь?
— Нет, — сказал Сашка.
У него уже прошел первый восторг, он отвлекся и взглянул на Старика, сидевшего к нему в профиль. Лысина, волоски в носу и незаметный прыщик, прикрытый седыми волосками бороды.
“Я считал, только у нас прыщи, а не у взрослых”, — подумал Сашка. “Что?” — спросил Старик. “Я вас себе другим представлял”, — шепотом ответил Сашка.
А на сцене уже не было Призрака и дело дошло до последнего монолога. Борис играл его великолепно, на высоте трагедии.
О низость, низость с низкою улыбкой!
Где грифель мой?..
Вдруг Гамлет — падая с высот трагедии — каким-то придурковатым шутовским фальцетом, словно уже начал притворяться безумным: “Я это запишу, что можно улыбаться, улыбаться…”… И совсем уж ерничая — по-гамлетовски — совсем как пьяный Борис, подмигнув, подпустив петуха: “…и быть мерзавцем!”
Сашка вытер глаза, шморгнул носом и засмеялся. Старик покосился на него и тоже засмеялся.
— А вы чего смеетесь? — ворчливо спросил Сашка.
— Когда тебе весело, мне тоже весело, — ответил Старик.
Но Борис, пережив за эти секунды несколько состояний и перейдя поле, вновь вернулся на высоту:
…А теперь девиз мой: “Прощай, прощай и помни обо мне”, Я в том клянусь”.Блок вступает:
“И закрылся веселый балаганчик”.
Не знаю — откуда, почему вдруг это воспоминание?
72-й год. Ресторан ЦДЛ. Мы с Валей Туром вдвоем за столиком. Точно помню, где сидели. В углу, как войдешь из коридора в дверь ресторанного зала — напротив “парткома” — через два года там будет панихида по отцу — налево, в неглубокой нише.
Дубовый зал. Сюда приходил на “елки” — помню пригласительные билеты с золотыми и зелеными буквами и отрывным талоном на “подарок”. Столики или убирались, или сдвигались ближе к камину, а нам ставили несколько рядов стульев — напротив самой елки и рояля, — и мы видели вблизи артистов — театра и цирка. Кто-то нам пел, кто-то разыгрывал сценки. Помню человека-змею, он просовывал ноги под мышки и на руках скакал по полу, как лягушка…
Вдруг — маленький, взъерошенный, седой и похожий на старого попугайчика, но очень яркого и цветного — в светлом сером костюме и с красным галстуком. А может, и без галстука — ворот белой рубахи расстегнут? Дубовый зал был полон и гудел писательскими голосами. Почему Семен Кирсанов выбрал наш столик? Знал Вальку и что тот — писал стихи. Поэтому?
Кирсанов был уже пьяный. Он выпил еще рюмку и, хрипя — это был больной — опасный — хрип, — сразу стал читать стихи. “Только что написал”, — сказал он. Наверное, ему было не так уж важно, кому читать — лишь бы читать, хрипя горлом: “Смерти больше нет, смерти больше нет…”
Смерти больше нет, Есть рассветный воздух. Узкая заря. Есть роса на розах. Струйки янтаря на коре сосновой. Камень на песке. Есть начало новой Клетки в лепестке. Смерти больше нет.…Когда утром жена, дочка и внук в пятнистом костюме американского рейнджера, веселые, радостные, нарядные — с сумками, полными сыра, который он так любил, и пивом любимой им марки — из дорогого магазина, судя по надписям на пластиковом пакете, — подошли к дачному домику, он лежал на крыльце, рука его была протянута в сторону леса, как для объятия.
“Если мы не имеем развязки, то не получаем ощущение сюжета”.
Виктор ШкловскийБоже! Как мало я вспомнил! Да и всё не то, что нужно!
Последняя цитата
“Думаю о том, как нелепо идти дальше, когда некуда идти. Потом я думаю: «Нелепость? Ну конечно же, всегда есть куда идти. Иди своим делом занимайся»”.
Джек КеруакВкладка
Автор в учебной студии ВГИКа.
Автор на руках у мамы. Слева — брат Витя.
Мама была очаровательна.
Родители — Константин Финн и Жанна Гайсинская. Мама говорила, что предвоенный 40-й был самый обеспеченный и беззаботный.
Брат Витя — будущий доктор двух наук, профессор — на фоне радиоприемника “Пионер”. Когда началась война, приемник и автомобиль “эмку” государство у отца забрало в долг, и, кажется, так и не вернуло.
Отец — военный корреспондент.
Ташкент, эвакуация. Автор на руках у приятельницы мамы, Валентины Грюнзайт (Петровой). Ей Олеша посвятил “Трех толстяков”.
После войны — на даче под Москвой.
Год, наверное, пятидесятый. Дача в подмосковной деревне. В центре — отчим автора Борис Авилов.
Начало сложного творческого пути…
54-й год. Справа — Сандрик Тоидзе. На груди у автора — значок с изображением Мао Цзэдуна.
Писательские дачи в Переделкине. Рядом коттедж, где живет Таня Алигер.
Десятый класс. Друзья-хулиганы.
Скоро выпускной.
ВГИК, третий — “сценарный” — этаж. Господи! Сколько волос!
Первая сценарная работа на экране. Курсовая операторов Саши Княжинского и Юры Ильенко (справа от камеры).
58-й год. Летняя творческая практика. Автограф автора под фотографией, сделанной Княжинским: “Я скакал на горячем и злом казахском коне по тургай-ским степям и пустыням и думал, Шпаликов, о твоем таланте и будущем русской литературы. Тургай — Москва — Метро Кропоткинская. 15 окт.”
59-й… Год дружбы с Беллой Ахмадулиной. Мы все виделись тогда почти каждый день.
Два студента литературного института — Белла и Давид Маркиш.
Балкон дома автора на Фурманова. Белла и Саша Княжинский. Мыльные пузыри. Фото Юры Ильенко.
Защитили диплом! Что дальше?
Гена Шпаликов… Всё еще впереди…
Cлева от знамени с автоматом — суворовец Шпаликов. Сцена из фильма “Честь товарища”, снимавшегося в Киевском суворовском училище. Единственная “актерская” его работа.
Он уже писал стихи.
Гена Шпаликов и Наташа Рязанцева, муж и жена. Весна 61-го.
Шпаликов и операторы-однокурсники Миша Ардабьевский и Саша Княжинский.
Студия им. Горького. Снимается “Застава Ильича”. Режиссер и сценарист. Хуциев и Шпаликов. Автор — в качестве актера — в это время готовится к съемке в эпизоде “Вечеринка”.
Николина гора. Друзья — Гена Шпаликов, Юлик Файт, Саша Княжинский. Автор — за кадром.
Режиссер Шпаликов на съемках фильма “Долгая счастливая жизнь”.
Лариса Шепитько и Элем Климов. Время работы Ларисы и Шпаликова над фильмом “Ты и я”.
Шпаликов — герой нашего времени.
Болшево. Письмо исчезнувшему другу. Автограф Шпаликова.
Ваганьковское кладбище. 1 ноября 1984 года, десять лет со дня смерти Гены. Наташа Рязанцева, Рита Синдерович, Саша и Таня Княжинские, Саша Миндадзе, Владимир Валуцкий и автор с женой Ириной.
Анатолий Гребнев и автор.
Саша Княжинский, Толя Ромашин, Андрей Хржановский, Андрей Смирнов.
Вадим Абдрашитов и Андрей Смирнов.
Наконец-то! Первая картина! “Миссия в Кабуле”. Прошло семь лет после окончания ВГИКа.
Таджикистан, на съемках “Миссии”. Автор в чудном настроении и пробковом шлеме.
А это Таллин, 72-й год, и уже третья картина. “Сломанная подкова”, режиссер Семен Аранович.
Московская красавица Нина Габрилович — Зиночка из “Объяснения в любви”. Это она впихнула автора во ВГИК.
Алёшка Габрилович. Друг и брат. С мамой Ниной Яковлевной.
Алексей Габрилович, студент сценарного факультета ВГИКа.
Евгений Иосифович и Алексей Евгеньевич, отец и сын…
Похожи были очень… Старик любил Алёшку больше всего на свете.
Автограф Евгения Габриловича на его книжке “Четыре четверти”. По ней написан сценарий “Объяснения в любви”.
Ленфильм. Павильон.“Объяснение в любви”. Снимается эпизод “На полустанке”. А нас с режиссером Ильей Авербахом снимает замечательный Микола Гнисюк.
Мы любили дурачиться и веселить друг друга. Но память оказалась действительно долгой… Автограф Ильи Авербаха.
Тоже в павильоне. Другой эпизод — “Квартира Зиночки”.
Зиночка изменяла Филиппку, но он был счастлив с нею… Филиппок не изменял Зиночке, но она не была счастлива с ним… А нам с Авербахом надо было доказать, что все равно — это была любовь.
Моя любовь…
Автор и жена Ирина. Фоторафия Алёши Габриловича.
Портрет работы Лены Фокиной.
Событие! Княжинский — оператор Тарковского! Он снимает “Сталкер”!
Он же с презрением смотрит, как автор неумело открывает водку на берегу реки Клязьма — в Болшево.
Юлик Семенов и Андрей Тарковский… Мы все жили в одном мире…
Молодой Отар Иоселиани. ВГИК. Начало дружбы.
Дружим до сих пор.
Тбилиси, на лестнице знаменитого дома Сережи Параджанова по улице Котэ Месхи, 9.
Веселый был вечер у нас в доме на Плющихе. Княжинский, Абдрашитов, Аранович. Фото Ирины Финн.
Баку, фестиваль“ Восток-Запад”. Экскурсия в музей вина. Паша Лебешев, Сережа Соловьев и автор; в глубине — Рустам Ибрагимбеков, скромный хозяин фестиваля. Фото Ирины Финн.
Верона. 2015-й. 75 лет. Только часть нашей семьи, разбросанной по разным городам. Сын Алёша, невестка Аня, внуки Женя и Максик.
Дочка Катя, художница, выпускница ВГИКа. Кажется, она гордится тем, что я получил “Нику”. Возле Театра оперетты нас снимал любимый зять Андрей.





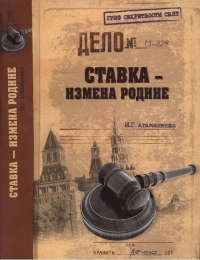

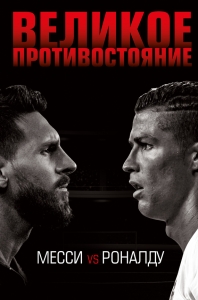
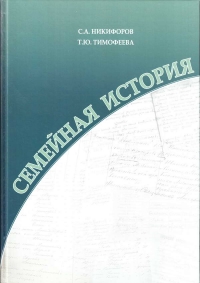
Комментарии к книге «Но кто мы и откуда. Ненаписанный роман», Павел Константинович Финн
Всего 0 комментариев