Имя на камне
ОБ АВТОРЕ
В этот сборник включены военные, документальные повести и очерки писателя, специального корреспондента газеты «Известия» Бориса Гусева. Более двадцати лет он занимается поиском безвестных героев Великой Отечественной войны, художественным воссозданием облика погибших.
Еще в середине шестидесятых годов на страницах «Известий» сверкнуло имя дивизионного комиссара И. В. Зуева и фотография бугорка у насыпи железной дороги — его могилы, найденной на границе Ленинградской и Новгородской областей; об обстоятельствах трагической гибели Зуева Б. Гусев рассказал в очерке «Смерть комиссара». Возникли десятки школьных музеев комиссара Зуева, пионерское движение красных следопытов. Теперь на месте гибели героя воздвигнут мемориальный комплекс.
До февраля 1969 года никто не знал ныне легендарных имен — выдающегося советского разведчика Кузьмы Саввича Гнедаша и его радистки Клары Давидюк. Б. Гусев отыскал в военном архиве документы, поведавшие о выдающихся подвигах этих людей, а затем нашел их соратников. И открылась новая страница войны.
На фотографиях, опубликованных в этой книге, читатель увидит имена на камне. Это памятники героям книги Б. Гусева, которые сооружены на Украине и в Белоруссии; именем его героев названы открытые планеты. Под Ленинградом стоит памятник, на граните высечено: «…Героям документальной повести Б. Гусева «Подвиг разведчицы…» Одна из них — Валя Олешко и ее соратники до 1974 года считались пропавшими без вести. Ныне след их найден. Все это достигалось не просто, на поиск ушли годы, десятилетия упорного творческого труда…
Борис Сергеевич Гусев родился в Ленинграде. В 1942 году пятнадцати лет ушел добровольцем на фронт — защищать Ленинград. Службе в армии он посвятил автобиографическую повесть «Сережин круг». Кроме военных книг им написаны книги на современные темы: «Ось жизни», «Люди, которых я знаю», повесть «Открытие», получившая широкое признание читателей и критики. Эти произведения посвящены самым насущным проблемам рабочего класса.
Произведения Бориса Гусева переведены на языки народов СССР, а также изданы за рубежом; в частности, в Болгарии, Венгрии, Польше, Чехословакии.
КИМ И КЛАРА
Часть I. КАК ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ
В НОЧЬ НА 19 ИЮНЯ 1944
Лес. Ночь. У землянки сидят люди — семь мужчин и одна девушка. Они не зажигают костра. Курят, прикрывая самокрутки рукой. Один из мужчин ранен и лежит на носилках, сделанных из ветвей ивы. Он первым нарушает молчание.
— Что ж, будем говорить как товарищи. Давайте другой вариант!
Все молчат.
— Я жду…
Снова молчание.
— Значит, второго варианта не существует. Его действительно нет. Принимается первый. Есть возражения?
Молчание.
— Если так, буду спрашивать поименно. Виктор!
Один из сидящих быстро встает:
— Слушаю!
— Жду ответа.
— Не знаю… Пусть говорят другие.
— Это товарищеский разговор?! Следующий! Кто там, не вижу. Алеша, ты?
— Я…
— Приказ слышал? Пауза.
— Товарищ командир, так вы и сами сказали — по-товарищески…
— Не получается. Подписку давал?
— Свои об этом своих не спрашивают.
— Не спрашиваю. Напоминаю.
— Все помню.
— Тем лучше.
Так постепенно он обращается ко всем мужчинам по очереди. Остается девушка. С ней он говорит после паузы:
— Клара, я очень тебя прошу…
— Меня не надо просить.
— Но слушай… Клара, ты же все понимаешь!!
— Не пойду, — чуть даже вызывающе отвечает она и, помолчав, уже мягче добавляет: — Я только осложню положение группы. Им предстоит бой.
— Ну, бой!.. Ты бывала и не в таких переделках.
— Спасибо за комплимент!.. Ты забыл, что я женщина.
— Клара!
— Если Клара, позвольте мне выбирать! Я не знаю, что опаснее — идти с ними или остаться с тобой, капитан. Нашу землянку замаскируют, нас не найдут.
— А если найдут?
— А я точно уверена — нет, верно ведь, Цыган?
Тот отвечает не сразу.
— Я понимаю так, — взвешивая слова, говорит он, — фриц не найдет. За это я гарантирую. Если только местный христопродавец найдется или — с собаками.
— Товарищи, я приказываю взять ее с собой! — говорит раненый.
Тон необычный. Опять нет ответа. Часы бегут. Два пополуночи. Осталось три часа до восхода. Всего три. Тишина. Что в ней таится?
— Да отвечайте же, черт побери!
— Если Клара хочет остаться, пусть остается, — говорит Алеша.
— Да, уж пусть выбирает, — поддерживает его Виктор.
— Семен?
— Не знаю. Пусть решает сама.
— Здесь я решаю. Высшей властью, доверенной мне…
— Вот и застрели меня высшей властью… Никуда не пойду, — вдруг зло перебивает девушка.
Чей-то тихий голос произносит со вздохом:
— Умрешь, девонька.
— Ну и умру. И что? Бросить его одного, раненого? А? Вы это мне посоветуете?! Мужчины…
Доводов нет. Все исчерпаны. И Клара, чутьем сознавая, что победила, встает, начинает что-то искать в темноте.
— Вот мы здесь спорим, и все без толку. Лучше подсчитаем, что осталось у нас.
И тотчас все включаются в дело, встают, начинают искать. Доносятся голоса:
— Тол, три пакета.
— Вот еще часовые мины — две штуки. Ну и гранаты.
— Сколько?
— Считай, по паре на каждого, штук пятнадцать.
— Тол и мины оставьте нам с капитаном. Все равно они вам ни к чему. Ну и пару гранат…
Да, она уже все решила. Разверзнись земля, явись сюда вся армия «третьего рейха» — ничто не изменит ее решения. Клара останется с ним, а они, подчиняясь его приказу, будут прорываться сквозь немецкие цепи, которыми плотно блокирован лес. Утром, с рассветом, автоматчики станут его прочесывать.
Три часа. Капитан и Клара в землянке. Снаружи слышится мягкий шорох — те, кто сейчас уйдет, маскируют землянку ветвями и папоротником. Тихий голос:
— Схоронили — не подкопаешься.
— Спасибо. До свиданья, товарищи. Доберетесь до первой же нашей точки, свяжитесь с центром, обрисуйте общую картину — и на запад, на Брест! Линия фронта уже приближается…
— В вашей станции «Север-бис» питание совсем кончилось? — спрашивают сверху.
— Почти, — озабоченно отвечает Клара. — Ну, может быть, хватит на несколько фраз. И то не уверена. Как выйдете на связь, моим в Москву на Ново-Басманную привет передайте… Жива-здорова! Писать некогда…
Шаги удаляются. Наступает тишина. Ветра нет. Лес молчит в ожидании рассвета. Оставшиеся не знают, что товарищи их, отойдя от землянки шагов пятьсот, останавливаются. И вновь совещаются. Они говорят приглушенными голосами:
— Братцы, я не могу… Это первый завет — не бросать раненого командира.
— Но это его приказ…
— Приказ-то приказ… А мы — люди…
— Мы — разведчики, подписку давали…
— Подписку на верность, не на предательство!
— Вот как! Тогда вернемся… Погубим и их, и себя. Кто будет отвечать перед центром?
— Ш… ш… Хватит, поговорили! Как старший по званию, я приказываю всем идти на прорыв.
Они уходят. Спустя полчаса доносится автоматная очередь, короткие перестрелки, разрывы гранат…
— Прорвались, — тихо произносит Клара.
— Прорвались, дело знают. Если только шальная пуля кого положит…
И снова все тихо. Время как будто остановилось, страшась рассвета и того, что придет вместе с ним.
Это происходило в глубине белорусских лесов, в районе города Слоним Барановичской области, 19 июня 1944 года.
И прошло четверть века. Россия тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. Где-то в центре ее, на безымянной улице, высится здание. Оно едва ли отличается чем-либо от других, стоящих с ним по соседству домов. Все как будто обычное. Лестница. Переходы. Тихие комнаты. Черные папки на стеллажах. И в каждой — жизнь, и какая… В небольшом вестибюле висят портреты Я подхожу к ним.
— Это те, кто когда-то вышел отсюда и не вернулся, — поясняет мой собеседник.
Читаю подписи под портретами. Армейский комиссар Ян Берзинь, долгие годы стоявший во главе советской военной разведки. С ним рядом — знаменитый его воспитанник Рихард Зорге. Третьим идет портрет майора Гнедаша Кузьмы Саввича.
— Это он, — говорит собеседник. — Вы когда-нибудь слышали это имя?
— Нет, никогда…
— Видите ли, это все постепенно отыскивается. Через годы.
— Он совсем молод…
— Ему и тридцати не было. Майора и Героя Советского Союза ему дали уже потом, после его гибели.
— В войну о нем, наверное, много писали?
— Кто о нем мог писать? Как разведчик он был дважды зашифрован. Я вам так скажу — его и свои знали под другим именем. Трагично, но… даже на могиле его надписали другое имя.
— А там-то зачем?
— Это уж просто недоразумение, впрочем, логичное в тех условиях. Потом, конечно, исправили. Прочитаете до конца — поймете. В деле есть все, вплоть до последних радиограмм из леса в районе Слонима.
— За три часа до рассвета?
— Да.
Я получаю тяжелую черную папку…
Вот оно, личное дело разведчика Кузьмы Гнедаша. Сначала мне бросилась в глаза короткая справка:
«Потопил десять пароходов и четырнадцать барж. Пустил под откос 21 эшелон с живой силой и боевой техникой противника. Уничтожил более тысячи фашистов».
Спрашиваю:
— Данные эти проверены?
— Здесь все проверено. Но ведь главная его заслуга не в этом, вы почитайте дальше…
Я стал читать и понял, что собеседник мой был прав. В Отечественной войне были такие периоды, когда наш Генеральный штаб, координировавший действия фронтов и армий и готовивший наступательные операции, принимал те или иные решения, во многом опираясь на донесения Кузьмы Гнедаша и его центра.
Курская битва… Но ведь он действовал на Украине… Однако постепенно и это проясняется: незадолго до великого сражения Гнедаш взорвал железнодорожные мосты через Днепр, по которым немцы перебрасывали эшелоны с подкреплением к Орловско-Курской дуге. Читаю дальше. Оказывается, и прорыв Днепровского вала, форсирование Днепра нашими частями были осуществлены также с помощью центра Гнедаша, который раскрыл нашему командованию систему обороны немцев на Днепре. В Белоруссии тоже чтят его память. После успешно проведенной белорусской операции маршал Рокоссовский лично ходатайствовал о присвоении Гнедашу звания Героя Советского Союза.
А вот его соратники: Тисовский, Курков, Науменко, Тимошенко, Дужий, Кочубей — разведчики, партизаны. Но главными героями моего повествования будут двое — Кузьма Гнедаш и Клара Давидюк — радистка подпольного центра. Четыреста раз выходила она в эфир, находясь на территории, оккупированной немцами, подчас в каких-нибудь ста метрах от их пеленгатора. И в самый страшный час эта девушка осталась рядом с раненым командиром и разделила его участь.
— А ее фотография есть? — спросил я.
— Пока только в личном деле.
— Но прошло уже четверть века, — сказал я.
— Прошло всего четверть века, — возразил подполковник.
Мы нашли ее фотографию. Девочка. Милое личико. С модной тогда челочкой. Глаза большие. И никакой «профессиональной непроницаемости».
— Красивая была…
— Да, красивая, но суть-то не в этом, — отвечал собеседник.
Но мне почему-то представилось, что суть и в этом.
На его и на ее личном деле стоит гриф: «Хранить вечно». Да будет вечной людская память.
ПО ОДНОЙ ЛЕСТНИЦЕ
Сорок первый год странно переплел судьбы людей. Все как бы сдвинулось, вышло из привычного состояния. И люди, которые — не случись беды — никогда не узнали бы друг друга, неожиданно встретились на перекрестках войны. До того каждый жил своей жизнью, шел своей дорогой, и в какой-то час все дороги слились в одну.
Когда началась война, Кларе шел семнадцатый год. Все детство и школьные годы она прожила в Москве на Ново-Басманной улице. Отец ее, Трофим Степанович Давидюк, в юности служил телеграфистом на станции Коростень Юго-Западной ж. д. В первый же год революции в городке происходили бурные события. Трофим Степанович оказался вовлеченным в них. Летом 1918 года, во времена гетмановской власти на Украине, он вступил в подпольную организацию большевиков. Уже спустя полгода он возглавил забастовку рабочих-железнодорожников. Был схвачен оккупационными властями и приговорен к расстрелу. Революция в Германии спасла ему жизнь. Гражданскую войну он закончил комиссаром бронепоезда, потом рабфак, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта и служба по Наркомату путей сообщения.
В 1922 году он женился. Когда он явился в домком и предъявил ордер на вселение, комендант, вручая ключи человеку в кожанке с маузером, сказал:
— Берите любую комнату, квартира пуста, хоть всю занимайте…
— Ну, зачем же? Нам хватит одной комнаты, а, Катя? — он обернулся к своей спутнице.
— Конечно, — отвечала она.
Трофим Степанович и Катя заняли угловую комнату в огромной квартире. Позднее, когда родилась Клара, комната была разделена фанерной перегородкой. Трофим Степанович был по натуре человек тихий, сдержанный, много читал. В Наркомате путей сообщения он не сделал большой карьеры, хотя, казалось, имел для этого все данные: и партийный стаж, и героическую комиссарскую биографию, и высшее образование. Как специалиста путейцы его, однако, очень ценили. Он одним из первых в стране получил звание почетного железнодорожника. После войны Трофим Степанович решил уехать из Москвы, Екатерина Уваровна долго болела и надеялась, что новая обстановка подействует на нее к лучшему. Его направили в Южно-Сахалинск, начальником Холмского отделения дороги, так что комната на Ново-Басманной семь лет простояла запертой. Хозяева вернулись лишь в 1953 году, когда Трофим Степанович вышел на пенсию.
Через всю жизнь он пронес большую любовь к своей жене Кате, которая была моложе его на десять лет. В семье их всегда царила атмосфера преданности высоким идеалам. Были свои святыни — они хранились в среднем ящике стола. Там лежали именное оружие Трофима Степановича, его партийный билет и отдельно в коробочке метрическое свидетельство Клары, прядь ее первых детских волос. Позднее в этом же ящике стали храниться ее ордена и медали.
В такой семье росла Клара.
Кузьма Гнедаш был родом с Украины. В Сумской области, на берегу реки Сулы, есть древний городок Ромны, которому уже скоро девять столетий. В нескольких верстах от Ромен на высоком холме стоит старое казачье село Салогубовка — здесь родился и провел детство Кузьма, здесь крестьянствовали его родители — украинские казаки — отец Савва Иосифович и мать Анна Антоновна. Здесь жили его деды и прадеды. В семье Саввы Гнедаша были три дочери — Анна, Евгения и Христина и сын Кузьма, любимец матери, женщины строгой и волевой, управлявшей всей хозяйством в доме. Впрочем, хозяйство было скудное — Гнедаши принадлежали к бедной части казачества. По старой казачьей традиции отец обучил сына мастерски владеть оружием — саблей, кинжалом, а также стрельбе в цель на полном скаку. Это искусство, которое он позже в армии довел до совершенства, очень пригодилось ему как разведчику.
В Салогубовке была четырехлетняя школа, построенная еще земством. Кузьма окончил ее, а дальнейшее обучение проходил уже в Ромнах. То было время становления новой, советской школы. Кузьма был избран от учащихся в комитет, который управлял школой. В тридцатом году в селе была образована комсомольская ячейка; Кузьма стал одним из первых салогубовских комсомольцев. Ему поручили заведовать сельским клубом.
Гнедаш был старше Клары почти на десять лет. Но они как бы поднимались по ступеням одной лестницы. Она пошла в школу — он уже окончил восьмилетку и поступил на курсы колхозных механиков. Потом стал работать трактористом в Талалаевской МТС. Она стала пионеркой — он красноармейцем, его призвали на службу. Он уже участвовал с войсками в походах, освобождал Западную Украину, потом воевал с белофиннами, а она все училась в школе, вступила в комсомол. К началу Великой Отечественной войны Клара перешла в десятый класс; Кузьма Гнедаш окончил Киевское военное училище и был направлен в танковые войска.
Вечером двадцать первого июня в школе был бал. После торжеств, спектакля, танцев вместе с одноклассниками Клара отправилась на Красную площадь, чтобы встретить там полночь и посмотреть, как сменяется почетный караул у дверей Мавзолея.
А в это время рота Гнедаша была уже приведена в боевую готовность. Он уже знал, что вот-вот должна начаться война. Последние недели весь командный состав полка жил в напряженном ожидании грозных событий.
Клара ничего не подозревала. Она уже задумывалась о будущем, планы ее были неопределенны, она колебалась, куда пойти — в геологоразведочный или… в театральный институт. Такая мечта была, были разговоры со знакомым режиссером и чтение стихов. В том или другом случае будущее ее представлялось одинаково ясным и безмятежным.
…Школьники молча постояли у Мавзолея, потом отправились бродить по тихим московским улицам. Они гуляли долго. Когда Клара подошла к дому, начинало уже светать. Вставало утро воскресенья двадцать второго июня. На цыпочках прошла она по длинному коридору. Неслышно приотворила дверь в свою комнату и едва легла — сразу уснула.
…А его танки, будя утреннюю тишину леса, повинуясь полученному приказу, уже двинулись к границе. И в головной машине был Кузьма Гнедаш. Он уже знал, что фашисты напали на нас. Но он не знал и даже представить не мог, что́ ему предстоит совершить, прежде чем там, в тихой лесной землянке, превращенной им в бастион, найти место последнего упокоения. И Кларе не снилось, что и ее путь в ту землянку уже начался…
В сентябре 1941 года Клара вместе с одноклассниками убирала картошку в районе Волоколамского шоссе и впервые попала под артиллерийский обстрел.
Машину политрука танковой роты Гнедаша подбил снаряд. Он удачно отделался легкой контузией и остался в строю. Немцы рвутся к Москве. Клара бежит в военкомат и упрашивает отправить ее на фронт. Ей отказывают. Кларе еще нет и семнадцати.
Осенью 1941 года из Москвы начинается эвакуация населения и учреждений. Школы не работают. Клара поступает на курсы радистов при местном штабе ПВХО. Ей сказали, что радистки очень нужны в армии и если она получит квалификацию, очевидно, сделают скидку и возьмут добровольцем.
В роковые ноябрьские дни 1941 года Кузьма Гнедаш — уже комиссар танкового батальона. Он ведет свое подразделение в атаку. Колонна его попадает на минное поле. Комиссар Гнедаш открывает люк и под огнем противника показывает нашим танкам, как обойти мины. Его ранят. Он попадает в госпиталь и находится там почти полгода до ранней весны сорок второго. За это время Клара заканчивает курсы радистов и получает высшую квалификацию радистки первого класса, которую давали очень немногим.
Капитан Гнедаш выписывается из госпиталя. Он просит направить его в свою часть, но неожиданно для себя получает предписание явиться в Москву в одно из управлений Генерального штаба, к майору Бондареву.
…Кирпичная проходная. Окошко. Сержант молча берет документы Гнедаша. Окошко захлопывается. Он ни о чем не спрашивает. Он уже знает, в какое управление его вызвали. Проходит минут сорок.
В течение этого времени Гнедаш многое передумал. Вначале было простое любопытство — зачем он понадобился. Но по мере того как большой маятник старинных часов медленно отбивал свое «тик-так», любопытство сменилось тревогой, недоумением. Время было суровое. Жизнь его прошла открыто, в ней нет ни одного эпизода, о котором он мог бы вспомнить с сомнением или тревогой. И он не может понять, зачем его вызвали сюда. Единственный повод — это, возможно, его беседы в госпитале с соседом по койке, подполковником. Они были очень откровенными. Но в общем-то они говорили о том, о чем думали все. Гнедаш много размышлял о партизанской войне в тылу… Сколько там наших осталось людей!.. В той же Сумщине. Подполковник больше молчал и слушал. Иногда задавал вопросы. Нет, если так думать да искать, если два командира, коммуниста должны опасаться друг друга… тогда вообще?..
Что… «вообще»? Ничего. Ничего. Все правильно. Что «правильно»? А Крым? Керчь?
— Капитан Гнедаш!..
Он не слышит. Он погружен в свои мысли, от которых не так-то легко отойти.
— Капитана Гнедаша здесь нет? — вновь, уже громко, произносит молоденький штабной офицер, вышедший в проходную.
— Простите, вы… кого назвали?
— Капитан Гнедаш — это разве не вы?
— Я.
— Товарищ капитан, я третий раз называю вашу фамилию, — укоризненно говорит штабист.
— А, извините… Слушаю!
— Вас вызывали к майору Бондареву?
— Так точно.
— Пройдемте со мной…
Странно. Но это-то просто дежурный, у него спрашивать бесполезно. И они идут по длинным коридорам. Он снова мысленно вспоминает свои беседы с подполковником. Случилось так, что Гнедаш рассказал ему о своей жизни, просто почувствовал расположение к нему. Нет, не может быть… И Гнедаш еще раз твердо отвергает возникшую у него версию. Сейчас все станет ясно. Выдержка. Всегда и во всем.
Они входят в небольшой кабинет. За письменным столом пожилой майор. Сопровождающий рапортует и удаляется. Гнедаш и майор Бондарев остаются одни. Следуют первые общие фразы: «Садитесь, курите…» Затем пауза. Майор первым нарушает молчание:
— Вы догадываетесь, капитан, зачем мы вас сюда вызвали?
— Нет, — отвечает Гнедаш.
— А мы дали вам время подумать… Там, в проходной.
— Да, конечно, я думал об этом.
— И гадали, в чем же вы могли провиниться? А?
Пауза. Капитан как бы подыскивает точные слова для ответа.
— Ну… были соображения и такого порядка.
— И что же вы нашли за собой?
— Не знаю, право… Так прямо и не скажешь… — он невольно улыбается и добавляет: — Гадал… Вспоминал госпиталь.
— Почему именно госпиталь?
— Там было время для размышлений, бесед…
— В том числе и таких, за которые вы можете упрекнуть себя?
— Я себя — нет.
— …Другие — возможно. Так можно вас понять?
Пауза.
— Пожалуй, — говорит Гнедаш.
— Добрались… Ну, да чтоб не крутить вам голову, скажу откровенно: полковник Михеев рассказал нам о ваших беседах с ним.
Гнедаш молчит. Удивляться словам майора — наивно. Недоумевать? А чему? Раз уж майор начал, значит, продолжит, объяснит.
«Он хорошо владеет собой», — замечает майор про себя.
— Что ж… у вас такая профессия, что вам должно быть известно все, — говорит капитан.
— И вы не раскаиваетесь в своей откровенности?
И снова Гнедаш отвечает не вдруг, а после некоторого раздумья.
— Раскаиваться можно в чем-то дурном.
«…Он должен был бы добавить: «…а наши беседы носили вполне лояльный характер…» — размышляет майор, — впрочем, это было бы уже оправданием себя. А он, очевидно, считает, что оправдываться ему не в чем. Хоть это и в самом деле так, но он-то откуда уверен? Будь на месте Михеева какой-нибудь дуболом, все мог приписать… Пораженческие настроения, мало ли?»
— Собеседник мой казался мне умным, думающим человеком.
«Казался?»
— Ну а сейчас? — спрашивает майор.
— Сейчас я проверю, так это или нет, — спокойно отвечает Гнедаш.
«Очень точно говорит. Михеев хорошо его понял».
— Ну так я вам скажу. Вы не ошиблись в нем. Михеев и рекомендовал вас нам… Как вы относитесь к тому, чтобы работать у нас?
Пауза.
— Не знаю, право… Мое отношение зависит от того, смогу ли я у вас быть полезным.
Пауза. Майор говорит:
— Нам нужны люди т у д а… Волевые, смелые командиры-организаторы… Да, прежде всего организаторы… сплотить силы, установить агентуру… наладить связь… Партизанские группы разъединены, нет единого центра, нет единого руководства… Хотя сопротивление оккупантам растет…
— Не уверен, смогу ли я в короткий срок освоить профессиональные навыки, — говорит Гнедаш.
— У вас они отчасти имеются. Да!.. Разведчиками рождаются. Поверьте, прежде чем пригласить вас сюда, мы изучили вашу, скажем так, биографию. Она нас устраивает… Выдержка, трезвость ума… Знание языка — вы ведь владеете немецким?
— Да, здесь мне повезло. В нашем селе издавна жили немецкие колонисты — двор ко двору. Я с детства научился говорить. И в школе мне, естественно, легко давался язык. Но меня тревожит произношение.
— Это специалисты послушают. Главное — основа есть. Ну, а стрелять ведь тебя не надо учить? — майор переходит на «ты».
— Нет.
— Значит, язык, спецподготовка… А главное, чтоб голова на плечах была. По характеру ты аналитик. Это и хорошо, и плохо. Пока ты избираешь оптимальный вариант — время ушло. А подчас нужно решать мгновенно. Что на этот счет думаешь?
— Это меня тоже в какой-то мере тревожит, — задумчиво отвечает Гнедаш. — Заторы бывают, но… Под Медынью у меня был такой случай. Наша колонна двинулась в бой. Танки шли развернутым строем. Вдруг радируют: «Впереди минное поле…»
Майор понимающе закивал головой:
— Ну, ну, знаю, слышал, даже читал в газете. Газетчики постарались рассказать про твой подвиг. Можно считать, что реакция была мгновенной, хотя вариант ты избрал самый опасный для себя — во время атаки высунуться из люка по пояс и показывать направление машинам!.. Это, дорогой мой, все равно, что закрыть собой амбразуру, а? Видишь ли, у нас ты все время рисковать будешь. Но риск риску рознь. Надо взвешивать. Открытый бой — это совсем другое. Что ты!.. Там ты знаешь, что нужно делать… Ты выполняешь команду… Все! Разведчик — нет… Тут у тебя для каждой минуты — своя ситуация… На пальцах не объяснишь… Речь идет о вполне реальной перспективе работать у нас.
— Я понял.
— Пойдешь?
— Если все зависит от моего ответа — то да.
Майор на секунду останавливается как бы в нерешительности и затем, улыбаясь, продолжает:
— Не обидишься? Тебе на роду написано быть разведчиком и работать именно там, у немцев. Не догадываешься, почему?
Гнедаш молчит.
— Что, похож? — смущенно спрашивает он.
— Ну! Блондин с голубыми глазами! Чистый тип арийца!
Дав себе отдых этой шуткой, майор пускается в рассуждения о роли разведчика:
— И солдат на фронте, и разведчик в тылу врага делают одно и то же дело. Но солдат, снайпер, может в лучшем случае убить двести, триста фашистов, подбить десяток «тигров», А разведчик, если он точно действует, может уничтожить целую армию, развалить фронт. Возможности их неодинаковые. В чем же тут дело?
— Очевидно, в специфике…
— Верно, но в чем она? Да, нелегко… Приходится все рассчитывать и даже быть скупым на такие качества, как смелость, риск, то есть все это остается, но где-то подспудно… Провел «приятный» вечер с каким-нибудь группенфюрером, и, может быть, даже по-человечески он не внушил тебе особого отвращения… Угощал тебя коньяком, говорили о женщинах… Среди своих они вроде и на людей смахивают. И дружба у них есть, и верность… свастике. М-да… Как будто неловко тихо придушить его ночью в номере… А необходимо. И еще: уж решил действовать — действуй без колебаний, это, по-моему, еще Бисмарк изрек. На этот раз железный канцлер был прав.
— В точном переводе его мысль звучит так: «Любое решение лучше политики колебания», товарищ майор.
— Ты читал его в подлиннике, на немецком?
— Да.
— Серьезно работаешь… Наверное, и мемуары штудировал…
— Что мог достать — читал.
— А о мадемуазель Марлен Руа читал?
— Конечно. Вот женщина, — вздохнул Гнедаш.
— Вот разведчица! — поправил его майор. — Ведь знала, что суп отравлен, но стала есть, чтобы убедить врагов в своем незнании испанского языка. Это подвиг… О нем узнали. А ты совершишь подвиг — и никто о нем не узнает… что бы ты ни совершил. Все. Тебя нет. И фамилия твоя никогда упоминаться не будет, у тебя вообще не будет фамилии. То есть она будет, но только для тебя. Ну и еще для твоего командира. Ну как, будешь думать еще, или?.. — выжидательно спрашивает майор, кинув мгновенный взгляд на собеседника.
— Да ведь все равно советоваться я ни с кем не могу. Так?
— Да, к сожалению, это отпадает. Что ж, тогда возьми, почитай, и если согласен — подписывай. — Майор подает капитану лист бумаги, на котором напечатан текст примерно в полстраницы. У него, капитана Гнедаша, спрашивают, готов ли он добровольно вступить в органы военной разведки, строго хранить доверенную ему государственную тайну, подчиняться установленной в секретном органе дисциплине и выполнять все его требования.
Гнедаш прочел и молча поставил свою подпись.
— Этой фамилией ты подписываешься в последний раз, — сказал майор.
ВЗГЛЯД НАЗАД
…Я сижу в той самой комнате, где стеллажи, и листаю страницы дела… Справки, донесения, наградные листы… А мысль все рвется туда, в лес, в замаскированную землянку, где с тревогой ждут рассвета те двое. Ведь можно, можно представить себе, как свершилось все это. Это же было, было! И вот их радиограммы оттуда, их последний привет родным и, наконец, два загадочных слова «согласно программе». Лишь позже, прочитав боевой приказ, полученный разведчиками перед уходом их в тыл, я понял значение тех слов…
Но до них еще далеко. Впереди три часа до рассвета. Сколько слов еще успели сказать друг другу они — Ким и Клара?
— Клара…
— Что, капитан?
— Попали мы с тобой… в мышеловку. Но у меня-то иного выхода… не было.
— Замолчи!
— Если тебе все-таки уйти в лес… Пусть лучше они обнаружат тебя одну. Скажешь, заблудилась в лесу, заснула… Еще одна легенда, а?
— Не выдумывай. Я-то? К ним в лапы сама? Никогда! Лучше смерть. Ничего не случится. Цепи пройдут над нами…
— Если бы я не был ранен!.. Мы бы с тобой победили целую армию, а?
— Конечно. Мы и сейчас победим.
— Иди к рации, может, она заработает?
— Села. Ну… Что передать? Только коротко, несколько слов.
— Всего?
— Всего…
— Тогда постой… Сейчас передашь две фразы и оставь питание еще хоть на одну передачу, на одну фразу…
— Та фраза будет длинной?
— Нет, не длинной… Два слова. А теперь поднеси огарок, я еще раз просмотрю донесения. Вот… Запасы горючего в танковых частях в районе Барановичей. У них всего на сто километров хода, резервных складов нет, взорваны. Это очень важно…
…И где-то в Москве, в разведотделе заработал приемник и пошли цифры…
И вновь тишина. Что-то тягостна она. Действовать, бороться уже поздно. Или еще рано? Надо ждать, надеяться и говорить.
Эти три часа до рассвета, как ни странно, первые в их жизни часы, когда они вдвоем, только вдвоем и могли говорить не о деле. Там, в лагере, всегда кругом были люди — партизаны, разведчики. И даже когда Клара в неурочное время, случалось, и ночью, приходила к нему с важной шифровкой, Ким настолько углублялся в работу, что подчас, наверное, забывал даже о ее присутствии. Или они вдвоем с Кимом шли на задание. Но тогда была лишь одна мысль — как лучше справиться с ним. А Клара мечтала когда-нибудь поговорить с Кимом просто так, хотя не представляла себе, о чем она может его спросить. Что ж, теперь время есть. Спрашивай. Но она молчит.
— Клара, а почему ты решила идти в разведку?
— Не знаю, очевидно, наследственность. Мой папа в гражданскую был разведчиком. Вернее, он всем побывал. И разведчиком, и комроты, и комиссаром бронепоезда.
— А сейчас он кто?
— Он путеец… В Наркомате путей сообщения работает, начальник отдела…
— Как он тебя отпустил?
— А я сама все решила…
— Значит, ты уже тогда была взрослой…
— Ой, Ким, мне кажется, что это было так давно. Далеко-далеко.
Молчание. И вот уже мысли ее там, в этой дали.
А какая «даль» у нее, девятнадцатилетней? Но даль уже есть — детство. «Два капитана», «Военная тайна»… Комиссарская фуражка отца и он — сосредоточенный, строгий в полувоенном кителе, с орденом.
…Мама. «Кларочка, ты пила молоко?» — «Мама, мне некогда, у нас комсомольское». — «Боже, это одна минута!»
Клара стоит в передней у зеркала, поправляет косынку.
— Но ты совсем уже взрослая… Ты будешь красивой.
— Ну, ма-ма…
И вот она уже бежит по Басманной. Красивая? Секунда размышлений, и уже другие заботы. Что-то очень много надо сделать, сказать, договориться. И все ускоряя шаг, она взбегает по лестнице. И вот их восьмой «б».
Ряды парт. Голоса ребят, хлопанье крышек. Кто-то просит: «Клара, ты решила геометрию? Дай посмотреть…»
Хороший был класс… Клавдия Александровна, классный руководитель, все просила, чтобы Клара привела на воспитательский час своего папу и чтоб он рассказал, как воевал в гражданскую. Но папа всегда очень поздно возвращался с работы. Прежде чем сесть ужинать, он подходит к Кларе, чтобы проститься на ночь. Но, присев на край постели, заговаривал с ней, расспрашивал о школьных делах, потом начинал что-нибудь рассказывать. Затем спохватывался, вставал: «Поздно, спать пора». «Папа, ну подожди, не уходи, расскажи еще!»
Входила мать, Екатерина Уваровна:
— Трофим, ведь она опять спать не будет. Она и так, если ты задерживаешься, не спит, а ждет тебя…
И свет гаснет. Темно. Только вверху тоненькая полоска света вдоль фанерной перегородки, которая чуть не доходит до потолка. Эта тоненькая полоска — ее детство, короткие мгновения перед сном, когда глаза уже закрываются сами. В голове обрывки мыслей. Скоро зимние каникулы. Какую-то папа достанет елку? В прошлом году была огромная — до потолка. У папы на работе тоже будет веселый утренник.
День рождения. Накануне, засыпая, Клара знает, что, проснувшись поутру, найдет рядом с постелью подарки. А вечером придут одноклассники. Мама с утра в хлопотах, пахнет сдобным тестом. Хорошо ли подойдет — мама волнуется. Но волнения всегда оказываются напрасными: тесто поднимается вовремя. Приходят подруги, товарищи, собираются в огромной передней. Здесь таинственный полумрак. Можно поиграть, побегать. Сегодня все можно. И вот мама зовет к столу. Шумно рассаживаются.
— Тебе уже пятнадцать, — говорит мама, — в будущем году получишь паспорт.
Будущий — это 1941 год.
— А я так больше и не увидел своего отца, — говорит Ким, — он умер в марте сорок третьего.
— Он был строгий? — спрашивает Клара.
— Отец-то? Нет, мягкий, уступчивый. Вот как ты рассказываешь про своего отца, мой такой же был… у него хранилась старая казачья сабля. Я все, конечно, к ней подбирался. Помню, он взял ее и говорит: «Без нужды не вынимай — без славы не вкладывай». Потом повел на задворки, поставил здоровый ком глины — и показал, как надо рубить. Вот мама была построже — помню, покрикивала на сестер, у меня их три… Когда Сумщину освободили, я все же на сутки вырвался, дали машину, махнул в Салогубовку…
— А мама как? Обрадовалась?
— О!.. Я подъезжаю к дому. А мама из погреба выходит, в руках — тарелка, вижу… Я открыл дверцу, выскочил из машины — и к ней. Она как стояла, руки опустились, и тарелка полетела с огурцами… Сестры бегут, окружили. Потом соседи пришли, набралась полная хата… И я им до ночи рассказывал.
— И про меня?
— И про тебя. Помнишь, я вернулся в Клинцы и угощал вас лепешками?
— Конечно помню. Ужасно вкусные!
— Вот. Я маме сказал: «Дай мне с собой… там есть у нас одна девушка…»
— А она что?
— Она… Вот и послала. Да, недолго побыл… сутки.
— Еще побываешь, — говорит она.
— Что ж… Через две недели Слоним будет освобожден.
— А может так быть, что раньше?
— Возможно, через неделю.
— А еще раньше?
— Раньше вряд ли… Если только какие-нибудь чрезвычайные обстоятельства…
— Ну, например, какие?
— Трудно сказать… Военный совет может принять решение сделать прорыв фронта именно в этом месте.
— А вдруг Военный совет уже принял такое решение? А, Ким? И утром вместо карателей придут наши танки, — таинственным шепотом, говорит она.
— На войне все возможно. Конечно. И даже фантастика.
— Правда, а?.. Мы выглядываем, а они идут и башенками покачивают… Здорово, правда?
— Башенками покачивают? Это и правда здорово, — улыбается он.
МОСКВА СОРОК ПЕРВОГО
Москва. Ноябрь сорок первого. Страшная опасность нависла над Родиной, над столицей ее. Уже пали Можайск, Волоколамск, Боровск, Рогачев. Бои шли в районе Дедовска. С юга немцы подошли к Серпухову. Стремясь к полному окружению столицы, немцы хотят перерезать канал Москва — Волга в районе Яхромы. И вот уже передовые части прорываются через канал. Из Москвы эвакуируют школы, детские сады, учреждения.
В эти-то дни Клара впервые подходит к старому трехэтажному зданию военкомата. Это слово она и раньше слышала дома. Но оно существовало как некое отвлеченное понятие, связанное с военным прошлым отца. И вот теперь это слово обрело новый, реальный смысл.
Здесь, у дверей военкомата, много таких, как она, — целая толпа. Шныряют совсем мальчишки, ее ровесники. Молча стоят ровесники отца, появляются и совсем старые люди. Кто-то составляет список. Проходит слух, что формируется ополчение и возьмут всех. Потом выходит военный с тремя кубиками и говорит, чтобы те, кому нет восемнадцати лет, шли в райком комсомола. И, обгоняя друг друга, ребята и девушки устремляются в райком. Здесь действительно идет запись добровольцев в ополчение, но Кларе отказывают — рано.
Что делать? Вместе с матерью Клара ходит в подшефный Наркомату путей сообщения госпиталь ухаживать за ранеными. У нее была трудная палата, там лежали одни ампутированные. Зима, а паровое отопление не работало. В центре палаты стояла печурка с выведенной в окно железной трубой. Придя рано утром, Клара растапливала ее. Из разных углов палаты, с постелей слышались просьбы подойти, поправить одеяло, подать воды. Клару полюбили в палате. Она писала письма родным под диктовку, иногда, когда ее просили, сочиняла сама. Но ей казалось, что всего этого мало. Слишком мало.
Она вновь пришла в военкомат и, наверное, с час простояла в толпе. Из здания вышел военный, спросил у стоящих людей:
— Радисты среди вас есть?
Толпа молчала.
— Ну хоть один, один? — вскричал военный. — Вот как нужны!.. Пусть без диплома, лишь бы морзянку знал.
Никто не вышел. Досадный вздох прошел по толпе.
Но теперь Клара знала, кто тут требуется. И в этот же день получила в райкоме комсомола путевку на курсы радистов. Но дома ничего не сказала об этом. Зачем тревожить родных раньше времени? Каждое утро Клара шла в школу, так что внешне все выглядело как обычно. И возвращалась она примерно в два-три часа дня. Но однажды, заглянув в лежащую на столе тетрадь Клары, Екатерина Уваровна увидела в ней какие-то странные знаки. Она ни о чем не спросила дочь. Вначале мать подумала, что в школе ввели новый предмет. Это было вполне возможно по тем временам. Но вскоре мать обнаружила, что обычных тетрадей по математике, русскому языку у Клары вообще не было. Все у нее сосредоточивалось в одной общей тетради. И предмет был тоже, очевидно, один, все какие-то непонятные знаки.
— Кларочка, что это? — решилась наконец спросить Екатерина Уваровна.
Клара молчала. Нужно было сказать все сразу. Что уж теперь?..
— Мама, я не хожу в школу… Я записалась в заочную, но это, — она взяла тетрадь, — другое. Я… хожу в кружок.
— Какой же это кружок?
— А… Это… обычный кружок радиолюбителей.
— Где этот ваш кружок?
— При штабе МПВО.
— А что потом, когда закончишь свое учение?
— Ничего. Я буду иметь специальность. Там дают разряд по окончании. Может, и пригодится.
— Клара, ты что-то недоговариваешь.
Но теперь уже Екатерина Уваровна чувствовала, что она не может, как прежде, посадить рядом Клару и строго сказать ей: «Давай-ка поговорим серьезно. Расскажи все как есть». Это уже было позади. Мать видела, как изменилась Клара за год войны, как незаметно переступила порог детства и отрочества.
В конце мая Клара вновь подала заявление в военкомат и приложила к нему справку о том, что ей присвоена квалификация радистки. Уже знакомый ей старший лейтенант сказал: «Ну, на этот раз, кажется, твой номер пройдет… На радисток у нас голод». Он ушел с ее заявлением к начальнику третьей части. Долго отсутствовал, потом вернулся и сказал, чтобы она шла домой и ожидала повестку. В тот же вечер Клара объявила родным о своем решении. Она ждала возражений, особенно со стороны матери, и внутренне готовилась к сопротивлению и даже борьбе. Но год этот многое изменил и в психологии матерей. Екатерина Уваровна понимала, что споры бессмысленны. Она только сказала, вздохнув: «Зачем же самой-то? Уж дождалась бы, когда призовут…» Отец встретил известие с какой-то растерянностью. Долго молчал задумавшись. Потом с укором спросил:
— Кларик, но отчего же ты ничего не сказала нам?
— Что я должна была сказать, папа?
— О своем решении. Мы б посоветовались.
— Но ведь вы с мамой стали бы меня уговаривать подождать еще полгода. Я знаю наперед. И я б мучилась, и вы бы страдали. А теперь все. Назад я уже не возьму заявления. И… давайте об этом больше не говорить.
Кларе было очень жаль отца. Она смутно догадывалась, что ему особенно больно сознавать очевидную несправедливость судьбы: ему, командиру запаса, из-за его гражданской профессии путейца отказывают в праве идти добровольцем. А дочь, такая молодая, такая неопытная, идет туда, где бой, кровь, смерть. Как это пережить? Весь вечер Трофим Степанович не проронил ни слова.
Между тем новость эта стала известна в квартире. В кухне собрались жильцы, оставшиеся в Москве, — одни женщины. Сочувствовали матери, вздыхали, укоряюще смотрели на Клару.
…Седьмого июня Клара была зачислена добровольцем в 40-й резервный радиобатальон. Ее отпустили домой на несколько часов. Она пришла уже в красноармейской форме, возбужденная, полная впечатлений. Снова сбежались жильцы.
— Только не начни курить, пожалуйста, — просила мать.
— Мамочка, ну зачем мне?!
— Табак ведь будешь получать, ну и… начнете там баловаться.
— А я табак обменяю на сахар, — весело отвечала Клара.
— Смотри, замуж не выйди, а то сейчас все военные девушки поимели моду выходить замуж, — вздыхали соседки.
— Тетя Валя, ну что я, маленькая?
— Вот именно, ты уже взрослая…
— Кларочка, береги себя ради нас с отцом… Пиши чаще!
— Обязательно… Прощайте, прощайте, пора мне!
— Прощай, доченька… Милая моя, родная, побереги ты себя! — заплакала мать.
В последнюю минуту, когда Клара уже натянула на плечи вещмешок, подъехал с работы Трофим Степанович. Он был сдержан и даже пытался улыбаться. Но улыбка его была хуже слез.
Их батальон был расположен на окраине города, в здании школы. Уже ни о чем постороннем нельзя думать, просто некогда, запомнить бы слова команды и вовремя сделать шаг, когда тронется стоящая впереди. Только в обед, выстроившись с котелками у полковой кухни, девушки знакомятся, разглядывают друг друга. Весь взвод — одни москвички, все старше Клары, она самая младшая. Потом вновь построение, маршировка по двору школы. А за невысоким забором идет своя жизнь. Женщины спешат отоварить карточки. Парочка прошла, ровесники Клары. Какой-то старик подошел к плакату на заборе, читает. А вот Клара уже не может выбежать за ворота. С гражданкой покончено. Она не просто Клара. Она красноармеец Клара Давидюк. Вот и сбылось!..
На следующий день бойцам велели готовиться к торжественному акту. И Клара учила наизусть короткие звучные фразы присяги. Но принимать присягу ей пришлось совсем в другом месте. Пришел старший лейтенант, собрал всех девушек-радисток в аппаратной. Там стояла рация. Девушки по очереди садились к аппарату, и старший лейтенант диктовал. Он диктовал цифры: 17, 32, 11, 115, 275, 39 и т. д. — без всякого порядка — дву- и трехзначные. Клара вела передачу. Потом принимала. Прямой текст. Морзянка. Отдельные слова. Это был своеобразный экзамен на точность приема и передачи. Из взвода радисток были отобраны две — Клара и Надя Курочкина, тоже москвичка, чуть постарше Клары. У них оказались лучшие результаты.
Вечером того же дня Клару вызвали к комбату, который занимал кабинет директора школы. За столом сидели комбат, комиссар и еще какой-то военный с тремя шпалами и орденом Боевого Красного Знамени. Ей предложили сесть.
— Вы в школе, в кружке радиолюбителей занимались? — спросил комбат.
— Нет. Вот только последний год на курсах, товарищ командир, — отвечала Клара.
— А дело это нравится?
— Нравится…
— Оно и видно. Четко работаете, товарищ Давидюк.
Она молчала.
— Как положено отвечать?
— Служу Советскому Союзу! — сказала она немного смущенно.
Потом расспрашивали о родных, о родственниках. Всем интересовались, даже тем, какую в школе имела общественную нагрузку. Спрашивая, комбат заглядывал в какую-то папку, лежащую перед ним. Затем он обратился к своему соседу с тремя шпалами:
— Товарищ подполковник, у вас будут какие-либо вопросы?
— Будут, — сказал тот, — почему, товарищ Давидюк, вы пошли добровольцем в армию?
Клара ответила не сразу. Она не знала, как отвечать. Все то, что испытывала она, простаивая часами в военкомате, просительно заглядывая в глаза проходившим начальникам, о чем думала ночью, лежа в комнате с плотно затемненными и склеенными крест-накрест бумагой окнами и слушая частую дробь зениток и глухие, тяжелые разрывы фугасных бомб, — все это не укладывалось в одну фразу, да и не находилось нужных слов. И, совсем «по-граждански» растерянно пожав плечами, она сказала:
— Не знаю, как ответить… Война.
— Война. Вот вы и ответили, — вздохнул подполковник. — И война жестокая, не просто с врагом — с фашизмом.
Все молчали. Вдруг комиссар спросил:
— А как вы посмотрите, товарищ Давидюк, если вас завтра отправят на фронт? Разумеется, вы, как дисциплинированная военнослужащая, комсомолка, подчинитесь приказу, но… не струсите?
— Не в том дело, чтобы не струсить, — вмешался военный с тремя шпалами. — Увидеть впервые фронт, передовую — это всякому страшно… А идут люди. На смерть идут. Вот в том и дело — пойдет ли человек на смерть, если потребует Родина?
Зачем они это спрашивали? Ведь ответ-то был предрешен. Ответить можно было лишь одно: «Пойду». Как ответить? Чтоб и глаза, и голос, и весь ты был в одном этом слове.
— Пойду, — отвечала Клара.
Командиры переглянулись, а лицо подполковника вдруг подобрело. Но Клара, не зная, кем является ее собеседник, и решив, что разговор и в самом деле идет об отправке ее на фронт и командиры, щадя ее юность, возможно, колеблются, решила помочь им.
— Разрешите, я сейчас напишу заявление, — попросила она.
— Кому и о чем? — спросили ее.
— Чтоб меня направили на передовую, — отвечала Клара.
— А если… за передовую? — спросил подполковник.
— Как это?.. — не поняла Клара.
— В тыл врага.
— А… а?.. Да… Я понимаю…
Она напряженно улыбнулась, глаза ее заблестели. Она еще ничего толком не понимала, лишь догадывалась по их серьезным лицам, их озабоченности: то, что предлагали ей, — это больше чем фронт и передовая. И до слез волнуясь, что ей откажут, посчитают девочкой, она встала, вытянулась и быстро проговорила:
— Я знаю… Я все, все понимаю. У меня папа тоже работал в подполье… Я оправдаю, честное комсомольское! Честное ленинское…
Подполковник вдруг как будто сердито встал и подошел к окну. Потом, не оборачиваясь, глухо произнес: «Оформляйте… в распоряжение Генштаба».
Через полчаса документы были оформлены. Подполковник и Клара с вещмешком сели в зашторенную эмку, и машина помчалась по темным московским улицам. Мелькнула и Ново-Басманная улица. На какой-то миг знакомые силуэты возбудили в ней дорогие воспоминания детства, и сердце ее сжалось. Но это продолжалось мгновение. И вновь мысли ее ушли в будущее, которое она смогла создавать лишь в своей мечте. Тяжелые железные ворота отворились сами собой, пропустили ее и вновь затворились.
ОГОНЬ БЕЗ ДЫМА
Автобиография
Я, Давидюк Клара Трофимовна, родилась в 1924 году в Москве. В 1932 году поступила в школу, окончила девять классов. Кроме того, я закончила московскую радиошколу. В армии с июня 1942 года. Отец, Давидюк Трофим Степанович, работает в НКПС начальником отдела особых перевозок. Мать, Давидюк Екатерина Уваровна, работает в этом же наркомате. В комсомол вступила в 1939 году. Билет № 10646391.
К. Давидюк.Говорил с ней тот же майор Бондарев. Он листал анкету, попутно выясняя детали. Потом отложил ее, заметив: «Все у тебя хорошо, девочка». Клара молчала.
— Пойдешь в тыл, это тебе уже говорили?
— Да.
— Смотри же, береги рацию. Для тебя это — главное.
Спустя почти год, встретив Клару уже после освобождения Киева от фашистов, майор, прослышавший о том, как вела себя его «крестница» там, в тылу, скажет ей: «Эх, милая девочка, не понял я тогда твой характер. Понял бы — мне б другое тебе сказать: «Рацию, конечно, нужно беречь, но помни — без тебя, радистки, рация никому не нужна. Себя береги в первую очередь». «Уберегла же», — улыбаясь, ответит Клара. «Нет-нет, так нельзя. Мне все рассказали». Теперь же майор смотрел на девушку и с сожалением думал: «Ну как она будет там, мамина дочка? Если б хватало радистов — ни за что не послал бы».
— А куда пошлют меня? — спросила Клара и, тотчас спохватившись, добавила: — Или это нельзя?
— Можно, отчего же, — возразил майор, — все равно через несколько дней узнаешь, когда начнешь изучать местность… Полетишь в места, где, как видно по анкете твоей, жила твоя бабушка.
— Правда? На Украину?
— На Украину. Но сначала придется пройти специальные курсы.
Бондарев дал ей прочесть бумагу с напечатанным на машинке текстом, пояснив при этом: «Прочти. Если согласна, то впиши в первую графу свою фамилию, а внизу поставь подпись». Клара прочла и выполнила то, о чем он просил. Теперь этот документ ляжет в ее дело.
— Я еще увижу родных? — спросила Клара.
— Увидишь, — сказал Бондарев.
Последовала пауза. Клара нерешительно проговорила:
— Папа у меня член партии и ответственный работник Наркомата путей сообщения. Ему я могу сказать, что поеду на Украину?
— Можешь… Только этим ты доставишь ему много лишних волнений, стоит ли?
— Да, правда, — тотчас согласилась она.
— Ну, а спросит — скажи, что зачислена в войска связи. Какое хочешь взять себе имя?
— Какое нужно…
— Да любое… Смирная — нравится?
— Мне все равно.
На этом беседа закончилась. В обведенный черной рамкой квадрат майор вписал ее псевдоним: «Смирная».
Тринадцатого июня Гнедаш (теперь уже Ким) расписался в получении оружия, взрывчатки, немецких рейхсмарок, продовольствия и прочего снаряжения, а семнадцатого небольшой отряд его был заброшен на самолете в тыл врага. Местом действия разведывательного центра Кима были избраны земли, лежащие в междуречье Днепра и Десны с их притоками — Припятью и Остром.
Территория Междуречья начинается у Киева, где сливаются Днепр и Десна; расширяясь, она тянется до Чернигова, захватывая довольно обширную площадь с городами Нежин, Остер, Бахмач, Чернобыль, Козелец, Прилуки, Чернигов и десятками украинских сел и хуторов. На магистрали Киев — Чернигов были сконцентрированы железнодорожные узловые станции, крупные скопления войск противника. Здесь, наконец, находились такие важные сооружения, как мосты через Днепр, и прежде всего железнодорожный — Дарницкий — в Киеве, по которому немцы непрерывным потоком гнали подкрепление на Восточный фронт.
К началу лета 1942 года обстановка в Междуречье была крайне трудной и сложной. Карательным экспедициям удалось парализовать действия партизан. Партийные организации и комитеты, оставленные перед отходом наших войск для подпольной работы, были частью разгромлены, как, например, в Остре и Моровске, частью ушли в глубокое подполье, как в Чернигове.
Междуречье казалось мертвым. Из групп сопротивления (исключая киевское подполье, которое продолжало вести борьбу) в Междуречье продолжал действовать лишь один отряд, состоящий из трех братьев и очень узкого круга их ближайших друзей. На территории Междуречья, куда предполагалась заброска разведчиков, не существовало ни одной нашей рации. Таким образом, разведотдел не был точно уверен, что в намеченном месте высадки десантников не дислоцируются немецкие части. Но приходилось идти на риск. Место выбрали глухое — Выдринские болота, в двадцати километрах от Остра и в шестидесяти от Киева.
В отряд Кима входили, кроме него, шесть человек. Заместитель командира Иван Курков, радист Андрей Немчинов, разведчики Павел Дужий, Петро Кочубей, Николай Черепанцев, Мария Бокарева. Курков уже бывал в тылу врага, остальные шли в первый раз. До появления Гнедаша предполагалось, что командиром будет Курков. Об этом знали его товарищи. Курков был отличный исполнитель, смельчак, с мгновенной реакцией, подрывное дело знал во всех тонкостях и как солдат разведки не имел равных себе в отряде. И вначале планировали, что группа будет заниматься исключительно диверсиями, рельсовой войной, убийствами видных фашистских начальников. Но в процессе подготовки группы Генеральный штаб потребовал расширения ее функций.
Перед отрядом, помимо диверсий, поставили задачи более широкие — объединить разрозненно действующие партизанские группы в крупные соединения; наладить связь с киевской подпольной организацией; установить на узловых железнодорожных станциях радиофицированные точки советских разведчиков, наконец, исследовать систему обороны противника — Днепровский вал. Для руководства такой группой, точнее, уже центром, требовался человек иного плана — тактик, политик, который может быть по необходимости и разведчиком, и командующим, — словом, глава нашей разведки на Украине. Стали искать такого человека. Бондарев первый указал на Гнедаша.
Гнедашу поручили составить план работы группы на ближайшие месяцы. Он был родом из тех мест, когда-то учился в Прилукской школе механизаторов. Плана никакого он не представил, но на, нескольких листках набросал свои предложения по организации разведки. Записка его попала к опытному, думающему человеку, и дело решилось. Назначение его главой военной разведки на Украине подписал начальник Генштаба РККА. И Ким получил все полномочия вплоть до права карать предателей. Но члены группы лучше знали Куркова. Кима они, повинуясь дисциплине, встретили дружелюбно, но он чувствовал, что ему предстоит многое сделать, чтобы оправдать свое назначение. В условиях работы в тылу врага одной дисциплины мало. Нужна любовь к командиру, преданность ему. Вот сказал он разведчику: иди на смерть — и тот без слов…
«Ребята, не забудьте, в два сорок рассвет» — это было последнее напутствие уходящим в тыл. Летчик был опытный и сбросил парашютистов точно в заданный район. Местность эту они изучали по картам. Никто не встречал их. Никто не готовил конспиративных квартир. Разведчики приземлились в болотистую топь и сразу встретились с первым своим врагом — мошкарой. Они выбрали полянку посуше и развели небольшой костер из веток. Курков предложил вырыть землянку. Ким нажал ногой на почву, послышалось хлюпанье.
— Бесполезно, все зальет. На первое время построим шалаш из веток хвои, обложим дерном, можно использовать и парашюты, — сказал он.
— Черт бы побрал эту мазь комариную, вонючая, кожу дерет, а все без толку. Жрут!.. — ругался Курков.
— А ты заминируй себя, — усмехнулся Немчинов.
— Давай я тебя заминирую, так что комар носу не подточит, жах — и нет, испарился… И как здесь люди живут?
— А ты уверен, что живут?
— Ну партизаны…
— Ты уверен, что здесь есть партизаны?
В то время как они препирались, Ким набросал текст первой радиограммы — о благополучном приземлении, велел Андрею Немчинову подготовить ее и передать в Москву. Пока Андрей возился у рации, Ким и Курков произвели близкий осмотр местности. Никого и ничего не обнаружили. Выставили часового и расположились на первый ночлег.
На следующий день разведчики уже более глубоко обследовали местность. Лес, зыбкая почва, редкие лужайки, кустарники и ни одного человека. Ни немцев, ни партизан. В нескольких километрах от стоянки обнаружили небольшое, с виду пустое село. От него к шоссе шла проселочная дорога. На ней не было следов автомобильных колес или танковых гусениц, из чего Ким заключил, что немцев в деревне нет. Но там могли быть полицаи или хотя бы староста. Некоторое время Ким и Курков вели наблюдение за дорогой. Вскоре показалась лошадь с телегой. На телеге сидел мужик в брезентовой робе; он проехал совсем близко от тех кустов, где засели разведчики, но его решили не останавливать.
— Мрачная личность, от него ничего не добьешься, — шепчет Ким.
— Наверное, здесь все мрачные, — отвечает Курков.
— Посмотрим… Село как вымерло.
Но вот появился мальчик, подросток лет двенадцати. Когда он оказался шагах в десяти, Ким негромко позвал его.
— Постой, парень, — сказал он, выглядывая из кустов, — постой и послушай нас, мы свои, русские…
Мальчик быстро и испуганно обернулся.
— Ну, кто ты?
Тот молчал и продолжал пятиться.
— Звать как?
— Леня. — Он произнес свое имя очень тихо, так что можно было догадаться лишь по движению губ.
— Леня, послушай, мы свои, понял? Ты же взрослый, должен все понимать. Нам нужно узнать, есть ли в селе немцы?
— Нема.
— А полицаи?
— Полицаи е. Еще староста е.
— А твои отец и мать дома?
— Мама е. Тато воюе.
— Значит, он в Красной Армии?
— Ни! — испуганно кричит мальчик и снова пятится.
— А где же, в полицаях?
— Ни…
— Тоже — «ни»? Ну, скажи, когда его взяли в армию?
— Як война стала…
— Ясно, Леня, где твой отец. Ты нас не бойся. А мама дома?
— Мамка дома.
— Ну, позови к нам ее, поговорить надо. Скажи, чтобы вышла. Только никому ни слова. Мы из той же армии, в которой твой отец воюет. Только обратно иди спокойно, не беги, не оборачивайся, как будто не видел нас.
Мальчик не двигался, как будто раздумывал. Потом тихо сказал:
— Мамка больная… Я Марии скажу.
— Кто такая Мария?
— Соседка. Маме помогае…
— А что она еще делает, кроме как маме помогает? — спросил Ким.
— Не знаю…
— Работает где?
— Ни. В лес ходит…
— За грибами?
— Ни, грибов нема…
— Понятно. Для грибов рано еще. Охотится? Ну, хорошо, Леня. Зови ее. Только никому ни слова.
Мальчик ушел.
— Здорово их запугал немец, — задумчиво проговорил Ким.
— Не выдаст? — спросил Курков.
— А он еще и выдавать не умеет… А соображать соображает…
Через некоторое время из села вышла девушка с корзинкой. Она шла медленно, словно что-то искала на дороге. Раза два она нагибалась, чтобы сорвать подорожник. Подойдя к кустам, она совсем замедлила шаг.
— Привет, землячка, мы здесь, — негромко произнес Ким.
— Шо вы за люди? — так же негромко, не оборачиваясь, спросила девушка.
— Мы свои, ищем партизан. Бежали из фашистского плена, — отвечал Ким, взяв подходящую для данного знакомства легенду.
Девушка помолчала, потом сказала:
— Шукайте Науменко.
— Это кто — партизан? — спросил Курков.
— Шукайте Науменко, — повторила она. — Еды нема?
— Нема, нема, — подтвердил Гнедаш.
— Пройдите шагов сорок до просеки, я оставлю там хлеба буханку, яйца.
— Спасибо, землячка. А где нам сыскать Науменко?
— Он сам до вас придет. Вы с Выдры пришли?
— Оттуда.
— Он придет до вас, — повторила девушка и пошла к просеке. Потом она наклонилась и незаметно положила буханку хлеба, несколько яиц и повернула обратно.
— Спасибо, Мария, — тихо крикнул ей вслед Ким.
— Девка вроде своя, — сказал Курков, когда они углубились в лес.
— Да, будто так… и осторожность соблюдает. Науменко — видимо, кто-то из местных партизан и имеет с селом связь.
Буханка хлеба и яйца оказались как нельзя кстати. Продукты, главным образом консервы, шоколад и крупа, были в ограниченном количестве. Пятидневный запас на группу. Экономия началась с первых же дней. Ким распорядился создать НЗ. Вернувшись с Курковым в лагерь, он собрал разведчиков и сказал:
— Пока что помощников у нас нет. Будем обходиться своими силами.
Он оглядел сидящих у костра людей, с опухшими от комариных укусов лицами и руками. Но он увидел, что они по-прежнему собранны и готовы к выполнению любых заданий. Он продолжал:
— Сегодня, с наступлением темноты, Бокарева и Дужий в крестьянской одежде пойдут по направлению к шоссейной магистрали Киев — Чернигов, это примерно километров двадцать пять отсюда. Задача: определить состав перевозимых грузов, их количество, род войск, по возможности номера частей. Кочубей пойдет на близлежащую железнодорожную станцию и возьмет под контроль ветку Киев — Чернигов. Осторожно, но надо проверить работников станции — диспетчеров, стрелочников. Представится возможность — можно привлекать. Курков и остальные будут пока со мной. Будем искать связь с партизанами и подпольной организацией ближайшего города Остра.
К вечеру трое ушли на первое задание. Весь следующий день был проведен в безрезультатных поисках партизан. Погода стояла жаркая. По-прежнему изводила мошкара. Спасались дымом от костра и махоркой. Курков, с разрешения командира, ходил на дорогу Остер — Коржицы. Почти у самой дороги на возвышении стоял огромный старый дуб. Курков залез на него и часа три наблюдал за дорогой. За это время прошло 12 автоцистерн с бензином. И Курков подумал, что где-то неподалеку находится немецкий аэродром. Вернувшись, он рассказал о своих наблюдениях.
— Шум моторов не слышен? — спросил Ким.
— Нет.
— Возможно, это просто склад горючего.
— Тоже неплохо. Вот и будет наша первая акция… а?
— Пока подождем, ладно?
Первой вернулась Бокарева со сводкой первых суток наблюдения за трассой Киев — Чернигов. На Киев прошла танковая колонна: 20 танков и 14 самоходок, 28 автомашин со всевозможным вооружением. Из Киева — значительное количество автомашин с пехотой, зенитки. Скупые сведения. Ну, ничего. Начало.
И эти цифры лягут на стол какому-нибудь молчаливому офицеру в управлении разведки, и он сопоставит их с десятками других, будет анализировать… Пока Немчинов устанавливал связь с центром, Ким ходил взад и вперед по их небольшому лагерю. Все идет своим чередом, хотя не так быстро, как бы хотелось. А в Москве ждут даже таких сводок. Установятся связи, и тогда пойдет разведка более глубокая. Методичность, последовательность, постоянное расширение сферы — вот три кита, на которых он будет строить свою систему.
Ужин разведчиков был очень скромным, и, чтобы поднять настроение товарищей, Ким стал шутить, рассказывать смешные истории. В то же время он наблюдал за Бокаревой. Она вернулась с первого задания. Каково ее состояние?
Мария была неприметная, молчаливая молодая женщина лет двадцати шести. Одна среди мужчин, она чувствовала себя немножко неловко. Часто смущалась, улыбалась, обнаруживая неровные, некрасивые зубы. Ким знал о ней все, что можно было узнать из документов и личной беседы. Видимо, она принадлежала к тому типу людей, которые, может быть, без особого блеска, но всегда старательно делают свое дело. Мария рассказала, что они с Дужим добрались до шоссе без каких-либо приключений. На обратном пути ее остановил полицай, из местных. Проверил документы и отпустил, заметив: «Много вас тут шляется. Катай домой, пока в Германию не замели».
На ночь Ким вновь выставил часового. Сам он долго не ложился, все ходил, думал. Потом развернул карту и при свете фонарика делал на ней промеры циркулем. Он прикидывал расстояние до своих родных мест — Сумщины, Салогубовки, которая тоже была под немцем. Как там сейчас? Живы ли отец с матерью, сестры? Но больше всего он беспокоился за жену. Они расстались незадолго до начала войны. Таня поехала в Шепетовку к родным. Она была на восьмом месяце беременности. Ким должен был приехать к ней в отпуск — и война. Ни от нее, ни от родных он не имел никаких сведений. Кто у него — сын, дочь… А может, и в живых уже нет?..
ВСТРЕЧА С НАУМЕНКО
Положение разведчиков осложнялось с каждым часом. В незнакомой местности, на территории, занятой противником, без каких-либо связей, они страдали по меньшей мере от трех зол — голода, мошкары и вынужденного бездействия. Люди в отряд были подобраны все энергичные, сильные, ловкие и, главное, молодые. Им хотелось взрывать мосты, уничтожать склады, стрелять — словом, действовать, бороться. А Ким посылал их на шоссе следить за проходящими машинами и записывать номера частей. И вот теперь гибель Кочубея, которого все любили. Курков пришел к командиру и оказал, что, если так и дальше пойдет, всех их по одному перешлепают.
— Возможно, — подумав, отвечал Ким. Он понимал настроение Куркова.
— Но это, наверное, не самый лучший вариант.
— Что поделаешь… Значит, они умнее нас.
Курков долго молчал. Он не ожидал такого ответа. Потом, уже колеблясь, проговорил:
— Я так размышляю… Может, я, конечно, ошибаюсь… Уж гибнуть — так с помпой.
— И то верно. — Ким как-то странно усмехнулся, и было непонятно, шутит он или говорит серьезно.
— Тогда надо действовать! На террор отвечают террором…
— Верно. Что предлагаешь?
— Взорвать склад…
— Это террор? У Щедрина есть хорошая сказка, там заяц говорит медведю: «От тебя ждали кровопролитьев, а ты чижика съел».
— Товарищ командир. Я серьезно…
— Дался тебе этот склад!.. Да их с десяток в одном Междуречье… Взорвем один и раскроем себя.
— Я это уже слышал…
Ким помолчал. Ему не нравились эти слова, этот тон. И все-таки ему не хотелось быть сейчас резким. Он сказал:
— Ваня, вот что… Не заводи себя и остальных. Гауптвахты здесь нет, сам понимаешь. Не согласен со мной — подай форменный рапорт на мое имя.
— Не в этом дело…
— Тогда не морочь мне голову, и так тошно!
Новый глухой взрыв донесся с той же стороны Выдры. На этот раз ближе. Курков определил расстояние в четыре километра.
— Не мина и не снаряд, а что-то подземное, — сказал он. Ким послал Куркова с Немчиновым в направлении, откуда донеслись взрывы. Минут через тридцать вернулся один Немчинов.
— Ну?! — набросились на него все.
— То ж рыбак рыбу глушил, — отвечает Немчинов. — Курков там сидит, наблюдает…
— Рыбак один? — спросил Ким.
— Один. Батька уже, лет, наверное, пятьдесят. Мы подошли, а он плавает в пруду, рыбу выбирает, что вверх брюхом всплыла. Мы пока не открывались ему. Курков ждет указаний.
— Пошли, — сказал Ким.
К тому времени, как разведчики подходили к пруду, рыбак уже вылез из воды, оделся и теперь укладывал в мешок рыбу. Курков ждал в условленном месте. Ким некоторое время наблюдал за рыбаком, потом вышел из засады и не спеша направился к нему, не вынимая оружия. Он не дошел метров пять… Рыбак вдруг сделал молодецкий скачок к дереву, выдернул гранату и, замахнувшись ею, заорал:
— Як вы фашистская сволочь, всех положу, гады!! Як свои — клади оружие, предъявляй документы…
Ким остановился и ответил:
— Неосторожный, батя, ты человек. Если б мы были фашистская сволочь, мы б тебя голыми руками взяли, когда ты рыбку вылавливал.
— Хто ж вы? — спросил рыбак уже более спокойно, но все еще не опуская гранату.
— Да ты-то кто сам?
— Я ж Науменко!..
— Свои, свои мы, — вскричал Ким. — Ну иди, смотри документы!
Он вынул пистолет и бросил его на землю шагах в трех от себя.
— О це дило! — и рыбак аккуратно положил на землю гранату и, улыбаясь, подошел к Киму.
— Яки це документы, побачимо…
Он достал очки, надел их, а Ким подал ему удостоверение из белого шелка, на котором было напечатано несмываемой краской:
«Удостоверение.
Дано капитану Киму Остапу Федоровичу в том, что он направляется в тыл врага для выполнения заданий командования. Всем командирам партизанских отрядов, частей и соединений предлагается оказывать т. Киму и его группе всемерную поддержку и помощь.
Генерал-майор Белов».Рыбак прочел, повернул зачем-то на свет и, возвращая шелковый лоскуток ее владельцу, сказал:
— Правильный документ. Значит, я понимаю так: мне предписывается оказывать содействие тебе?
— Если ты партизан.
— Я кажу, який я есть, — отвечал рыбак. Он быстро скинул сапог, потом вынул стельку, затем вторую стельку и достал партийный билет, обернутый в кусок тонкой кожи. — Читай, убеждайся: Науменко Степан Ефимович. Партбилет с какого году? С 1924. Бачишь?
— Бачу, Степан Ефимович.
— Вот то ж! Оставлен райкомом командовать партизанским отрядом «Победа».
— А где же отряд твой?
— В Выдре, — подмигнул Степан Ефимович.
Разведчики вышли из засады. Началось знакомство. Степан Ефимович пожимал своей сильной рукой тянущиеся к нему руки.
— Вы ж голодные, а ну за мной на уху! — и он повел всех за собой по одному ему известным болотным тропам. Дорогой он рассказал, что только вчера узнал от своей связной Марии Хомяк о появлении в округе двух неизвестных, которые, по их словам, бежали из плена.
— Ну, это были мы, — отвечал Ким.
— То я понял. Обрисовала Мария мне вас.
— Так что ж ты, батя, на нас с гранатой тогда? — спросил Курков.
— На всякий случай, для порядка, — отвечал Науменко.
— Так ведь «для порядка» и мы б могли тебя укокошить, — рассмеялся Курков, — очень даже запросто.
— Н-е, тогда б не было порядка… — усмехнулся Науменко.
После получасовой ходьбы небольшой отряд был остановлен окриком:
— Стой? Кто идет?
— Свои, Василий, — отозвался Науменко. Однако это не подействовало.
— Стой! Стрелять буду, — повторил тот же голос.
— Выстрелит, — вздохнул Степан Ефимович, останавливаясь. Потом крикнул: — Василь, то ж наши, советские, иди бачь.
— Всем стоять! — приказал голос. — Нехай выйдет старшо́й с документами, без оружия.
Ким дал знак разведчикам залечь и быть наготове, а сам вместе с проводником подошел к кустам, откуда слышались слова команды.
Спустя некоторое время разведчики уже сидели у костра, над которым на треножнике висел котелок с кипящей ухой. Степан Ефимович говорил:
— То ж и есть наш партизанский отряд «Победа». Все Науменки. Я, Степан, командир. Василь — комиссар; младший, Терентий, наш заместитель.
— А где ж, батя, твои подчиненные? — с усмешкой спросил Курков.
Степан Ефимович крякнул и стал подробно объяснять трудности ведения партизанской войны в Междуречье. Вначале у них был отряд. Немцы загнали партизан в болото и блокировали их там. Силы были явно неравные. Начался голод. Чтобы уберечь людей, братья Науменки приняли решение — распустить людей по селам и хуторам. И вот их осталось трое. Раз в неделю к ним приходят связные из Остра, Сукачева, Сорокашич и других близлежащих сел, приносят еду. Но летом проще — можно промышлять рыбой. Зимой совсем беда…
— Значит, все же верные люди в деревнях есть, — сказал Ким.
— Куда ж они девались? Есть. А толку что? В Выдре сидеть, мошкару кормить? Масштабов нет, лесов мало. Опять же вся коммуникация в его руках.
— Ну а вы сможете собрать сюда в лес своих людей? Ну хотя бы человек тридцать на первый случай?
Старший, Степан Науменко, молчал. Средний брат, Василий Ефимович, подумав, ответил:
— Это можно. Сколько даешь времени?
— Сорок восемь часов, — улыбнулся Ким.
— Малость пожадничал… Трое суток — пойдет?
— Договорились…
Уха поспела. Голодные разведчики набросились на еду.
— Погодите, — сказал Степан Ефимович, — за ради такой встречи нужно по чарке. Из моего командирского запасу.
И он принес два пол-литра белого, как слеза, первача.
— Сами гоните? — спросил Ким.
— Нет, носят иногда, балуют…
Разлили по кружкам.
— Что ж, давайте за встречу, — сказал Степан Ефимович.
«НИЧЕГО НЕ ЗАПИСЫВАЙТЕ!..»
Небольшой зал старинного особняка с невысокими колоннами. Сцена. Экран для кино. Собравшиеся чего-то ждут, переговариваются шепотом. Входит военный с четырьмя шпалами в петлицах, и все встают. Затем, повинуясь его жесту, снова садятся в стоящие рядами кресла. Полковник оглядывает притихших курсантов. Он говорит:
— Я вижу у некоторых тетради, блокноты — все это лишнее. Записывать ничего не нужно, учитесь запоминать все с первого раза, оттачивайте, тренируйте свою память. Память — оружие разведчика. Это первое. Второе — многие из вас москвичи, имеют родных в Москве. Никаких свиданий, никаких встреч. Письма посылать можно с указанием номера полевой почты, и все. В письмах никакого намека, что вы в Москве. Третье: времени у вас очень мало. За несколько месяцев вы должны пройти большую, напряженную программу. Не теряйте ни одного часа. Впитывайте в себя каждое слово своих наставников. От этого зависят успех и ваша жизнь. Там, в тылу, поздно будет учиться…
Ветхий деревянный дом с примыкающим к нему садом был скрыт от посторонних взоров. Такие домики и сейчас можно увидеть в столице. Но здесь пробыли недолго. Ночью подошли машины и вывезли всех куда-то за город. Дважды школа меняла адрес. Делалось все для того, чтобы устранить всякую возможность засечь разведчиков еще до того, как они уйдут в тыл.
Учение началось с самого обычного. Пришел наставник. Познакомился с курсантами. Себя велел называть старшиной. У Клары спросил, держала ли она когда-нибудь в руках револьвер.
— Держала… Папа показывал, — отвечала она.
— Дареный, с гражданской? — спросил старшина, который, конечно, знал, кто такая Клара и кто ее отец.
Клара кивнула.
— Но стрелять не приходилось?
— Нет.
— Ну и ладно. Научишься, девочка. Глаз у тебя хороший.
— Почему вы так уверены?
— Уверен? Я вижу. Я таких, как ты, обучил с сотню, наверное… Все — там, работают ребята.
Он помолчал.
— Ну, получай, — он подал ей ТТ и стал объяснять, как надо держать его. Заметив легкое дрожание руки, по-отечески, совсем как ребенка, погладил Клару по голове, приговаривая: «Ну, милая, успокойся. Это учение».
Первый день она стреляла по мишени. Учитель хвалил ее, хотя Клара видела, что пули ложатся в пределах большого белого круга — за пятым номером: черное яблочко было недосягаемо.
Потом — урок немецкого языка. Слушали пластинки с немецкой речью. Почему-то особенно нажимали на слово «натюрлих». Пластинка повторяла его раз двадцать.
— На этом слове немцы проверяют произношение, — пояснил наставник.
Все это было ново, захватывающе. Настроение Клары чувствуется в ее письмах домой. Вот одно из первых, датированное 12 июня 1942 года:
«Здравствуйте, мои дорогие!
Пишу вам уже второе письмо. Надеюсь через несколько дней получить от вас. А как хочется получить весточку! Ну, теперь о себе немного. Дела мои пока идут далеко не плохо. На этой проверке знаний (она у нас происходит через каждые две недели) думаю быть пятерочницей, т. е. по всем предметам иметь 5. Предметы у нас разные, но все очень интересные. Вообще все здорово. Мамочка, мне очень-очень повезло. Я очень подружилась с моими соседями по столу (мы сидим за столами, как студенты, а не за партами) Юрой и Надей. Надя очень хорошая девушка, радистка, как и я, и тоже москвичка. Юра — из Курской области. Он очень смешной, немножко похож на актера, который играл Ваню Курского в кинофильме «Большая жизнь». Мы так и зовем его Ваня Курский.
Насчет питания и одежды можете быть спокойны: и сыты, и одеты, только об одном жалею — тапочки зря не взяла, а посылки сюда посылать нельзя. (Тапочки очень нужны для физкультуры.) Ты пишешь про деньги, но они не нужны мне. Как наш огород? Ездите ли вы туда? Ну, пока все, с приветом, Клара».
На занятиях всегда присутствовал молчаливый человек средних лет. Вначале было неясно, кто он — курсант или наставник. Как-то вечером он пришел в общежитие, где жили будущие разведчики, и занял одну из коек.
После ужина все обычно собирались в красном уголке, там же иногда показывали учебные фильмы. Вошел незнакомец, сделал общий поклон и медленно, с легким акцентом проговорил:
— Будем знакомиться. Зовут меня Иван.
Он помолчал.
— Но я соотечественник Иозефа Швейка. Знакомы с ним?
— Знакомы, знакомы! — оживились курсанты.
— Швейк любил поговорить. Я тоже, но не умею.
— Мы это уже заметили, — прыснул Ваня Курский.
— Это делает честь вашей наблюдательности, — поклонился Иван.
Потом он подошел к каждому и молча пожал руку и, лишь знакомясь с Кларой, улыбнулся и сказал: «Клара… Микки-Маус».
— Почему? — смущенно спросила она.
— Микки-Маус — маленькая мышка. Не сердитесь, я ласково.
Так это прозвище и осталось за ней. Вскоре Иван сделался общим любимцем. Выяснилось, что он знает шесть языков — чешский, польский, русский, украинский, немецкий, французский. И при всем том это был самый молчаливый человек в мире. Его так и звали в своем кругу — Молчаливый. Говорил он лишь в случае крайней необходимости. Курсантов он обучал правилам конспирации.
По возрасту он был самый старший — тридцать пять лет, из них семнадцать отдал подпольной работе в Компартии Чехословакии. Настоящая фамилия его была Франкль, звали Иоанн Бертольдович. Зашифрован был как Тиссовский. Когда фашисты захватили его родину, он по указанию своего ЦК эмигрировал в Польшу, откуда перешел к нам. Наша военная разведка имела на него данные. Ему предложили работать в тылу у немцев, и он с радостью согласился, высказав единственное пожелание — получить советское гражданство. «Понимаю, что такую высокую честь надо заслужить, — писал он, — но, может быть, в будущем…» Начальник отдела, генерал, обещал войти с соответствующим ходатайством в Президиум Верховного Совета СССР.
Франкля-Тиссовского тоже готовили в центр Кима. Он имел огромный опыт подпольной работы, и курсанты многому от него научились. Девушек он учил тайнописи, давал им предметные уроки — как ввести собеседника в заблуждение. Метод его был весьма парадоксальный. «Хочешь обмануть — говори правду, — наставлял он, — и учитывай психологию врага».
— А в гражданской жизни можно применять этот метод? — с серьезным видом спросил Ваня Курский. Тиссовский позволял отвлекаться, шутить на его уроках, считая, что разрядка всегда полезна.
— А мой метод с успехом применяется, главным образом девушками, вы еще не испытывали на себе? — смеялся наставник.
— Испытывал… — пригорюнился Ваня.
— Сочувствую, — под общий смех заключил Тиссовский.
Потом группы разделились. Девушки работали с рациями, а ребят Тиссовский выводил во двор обучать самбо. Сам Тиссовский, несмотря на худобу, был чрезвычайно силен и ловок.
Пробыв в школе примерно два месяца, Тиссовский отбыл на задание. Курсанты уже привыкли к тому, что кто-то вдруг появлялся, кто-то отбывал. Обстановка в школе была товарищеской. Увлеченность делом, соревнование друг с другом в стрельбе, самбо, в точности приема зашифрованного текста, в скорости расшифровки его, наконец, общее дело — все это объединяло курсантов. «Мы вас посылаем на смерть, но вы должны выстоять», — говорили им. Из рыцарски честного юного довоенного поколения, которое к началу битв вступало лишь в жизнь, были отобраны самые лучшие, сильные, смелые. Курсанты были строги к себе, может быть, слишком строги. Атмосфера романтики, нравственной чистоты, веры в будущее создавалась самой молодежью. Уж если посвятил свою жизнь такому важному делу, то целиком, без остатка.
…Первый затяжной прыжок с самолета. Земля стремительно летит на тебя. В руке спасительное кольцо. Клара следит за секундомером. На цифре «20» она должна дернуть кольцо. Не раньше. Иначе враг, если он окажется где-то рядом, достанет тебя автоматной очередью.
Клара проходит практику. Ее учат минировать, разводить костер без дыма, с одной спички. Периодически устраивались проверки. Приезжало начальство. Один пожилой полковник, наблюдавший работу будущих разведчиков, заметил, вздохнув:
— Какой материал!.. Способные ребята… Мне б их годика на два на выучку, и потом хоть к самому фюреру в логово. С легкой душой отпустил бы…
— Нас торопят, Петр Федорович, — ответил начальник курсов.
— Понимаю, голубчик, все понимаю. Война…
Темп становился напряженнее и направленнее. Требования жестче. Теперь Клара училась стрелять на свет, на звук, не целясь. Походка ее стала легкой, неслышной. Однажды вечером после занятий командир собрал группу и сказал:
— …У кого в Москве есть родные — можете навестить. Форма одежды — военная. Легенда: вашу часть перебрасывают через Москву на восток. Отпустили на два часа до отхода поезда. К двадцати трем часам быть на месте. Приказ ясен?
Она подошла к дому № 12 и завернула во двор. Все то же. Вот где совсем ничего-ничего не изменилось. Чернеют два клена, голые, обсыпанные снегом. Бочка из-под извести так и стоит в углу. И скамеечка у стены. Клара сразу словно бы окунулась в детство. На мгновение она закрыла глаза, и ей почудилось, что вот сейчас откроет их — и снова день, солнце, школа, мальчишки, подруги — и ни облачка впереди.
Она открыла глаза. Солнца нет. Никого нет. Черная громада дома без единого просвета в окне. Только белеют крест-накрест наклеенные бумажные ленты на стеклах. Все то — и все другое. Тоска охватила ее сердце. Но она тотчас взяла себя в руки. Что за глупости! Она здесь, в Москве, у порога своего дома. Вот сейчас вбежит в квартиру — и там мама. Папа тоже, наверное, дома уже. Мама достанет где-то запрятанную банку варенья. И они снова будут все вместе. Она заторопилась и быстро пошла к парадному. В парадном было темно. Нога ее привычно скользнула по знакомой ступеньке, и она быстро взбежала на второй этаж. Пятая квартира. К Давидюк — четыре звонка. Но звонок не работал, она постучала. Шаги. Мамины шаги. И вот уже она обнимает плачущую маму.
— Папа дома?! — был первый ее вопрос.
— Дома… Прилег он. Он очень много работает, устает. Ты надолго?
— Мамочка, я на часик…
— Боже, у меня ничего нет…
— Какие пустяки, мамочка, я сыта…
— Ты сильно вытянулась, но похудела…
Пока они шли через большую переднюю, а затем по длинному коридору, Клару не оставляло ощущение, что вот сейчас вновь вернется кусочек прежней жизни. Но когда она вошла в свою комнату и увидела старинную лампу-молнию на столе (электричества не было), окна, непривычно завешенные поверх белых штор темной материей; увидела постаревшего, в простом армейском ватнике отца, удивленно-радостного, поднимающегося ей навстречу с тахты, она поняла: ничего уже не вернется. Между тем мирным детством и сегодня лежит черная полоса — почти полтора года войны. И на всем ее пепел.
Однако не прошло и пяти минут, и все как будто вернулось. Запричитали соседки. Мама, конечно же, отыскала заветную банку с вареньем и при свете коптилки хлопотала на кухне. И папа сидел за столом, склонив голову, как раньше, в мирные времена. Когда мама вышла из комнаты, лицо его вдруг стало серьезным. Он взял ее руку в свою, тихо спросил:
— Тебя… потом туда пошлют?
— Куда? — не понимая вопроса и в то же время догадываясь, что означает это значительное «туда», растерянно спросила Клара.
— Ну… Я ведь все понимаю, догадываюсь… Прошу, доченька, побереги себя, — голос его странно зазвенел. — Маме я ничего не скажу.
Нервы ее не выдержали, она заплакала от жалости к отцу, к маме, к этой комнате, которую она, может быть, никогда не увидит…
ПРЫЖОК ВО ТЬМУ
…И снова зал в старинном особняке. И снова в нем собрались те же, что и полгода назад. Те же и в то же время не те. Что-то объединяет их, словно они знают какую-то тайну. Они и в самом деле знают ее. Учение окончено. Впереди — заброска в тыл к немцам. Многие ли вернутся? Четверть века спустя я найду лишь одного из них — Ваню Курского. Стареющий штабист-подполковник подойдет ко мне на Тверском бульваре. Сядет рядом, закурит и долго будет молчать, прежде чем начнет свой печальный рассказ. А тогда — в ту минуту — эти парни и девушки стояли уже у порога…
К ним обращается генерал и желает им успешной работы:
— Все, что мы смогли вам дать за эти месяцы, мы вам дали. Дальнейшее зависит от вас. От вашего ума, дисциплины, выдержки. Помните: вы — представители Красной Армии в тылу врага. Достойно несите же это высокое звание.
Он помолчал. Потом продолжал:
— И еще помните: ваша работа нужна для победы, результаты ее, то есть поступающие от вас данные, будут ежедневно докладываться в Ставке Верховного Главнокомандования и лично товарищу Сталину.
Напряженная тишина. Только слышны мерные удары маятника больших старинных часов.
— Вопросы есть?
Пауза.
— Вопросов нет, все ясно, товарищ генерал, — ответил старший сержант Уколов, он же Ваня Курский.
— Разрешите вопрос, — краснея от своей смелости, сказала Клара, и когда генерал кивнул, спросила:
— А как с письмами? Что можно сообщать родным. Ведь они будут ждать писем от нас…
— С письмами так. Рекомендуем написать несколько писем родным, указав разные даты, скажем — с перерывом в две-три недели, чтобы не волновались. А мы соответственно будем в указанные сроки отсылать их. Связь с вами будет, но не исключено, что возможны перерывы… А нам пусть пишут по прежнему адресу. Переправим. Ясно? Сегодня отдыхайте, запасайтесь силами… Завтра предстоит трудный день. Желаю удачи.
В тот вечер Клара писала:
«Дорогие мама и папа!
На днях нас снова отправляют на практику. По-прежнему много учимся, зато уже, наверное, я буду ученая-ученая. Скоро нам присвоят звания — старших сержантов связи. Мамочка, ты, пожалуйста, не волнуйся обо мне. У меня очень хорошие друзья, все у меня хорошо, и я очень довольна своей судьбой. Только б война скорей кончилась, так хочется снова повидать вас. У нас было собрание по поводу великой победы наших войск под Сталинградом. Вот это герои!..
Пишите мне по тому же адресу. Целую, ваша Клара».
«Дуглас» шел низко, метров шестьсот над землей. За окном было черно. Потом внизу замелькали огни, какие-то яркие всполохи, и выглянувший из кабины второй пилот объявил:
— Фронт проходим… Над самой передовой летим, — и, заметив, что кто-то из сидевших парашютистов развязывает свой вещмешок, добавил: — Вот это самое правильное. Только немного, пару глотков.
Все приникли к окнам. Вскоре совсем близко, кажется под крылом самолета, раздался сильный взрыв. «Дуглас» бросило в сторону. Потом другой взрыв — подальше. Это внизу били зенитки. Клара только сейчас заметила, как сильно она сжимает ручку сиденья. У ног ее лежала рация, за спиной — парашют и вещмешок с продуктами. Оружие — финка и пистолет — на ремне.
То ли немцы не придали значения случайному самолету, то ли потеряли наблюдение за ним — погони не последовало. Сидели молча. Юрка Уколов, во все и всегда вносивший веселье и шутку, и тот затих. Всем помнились слышанные в школе рассказы о возможных провокациях фашистов. Правда, центр Кима подтвердил прием парашютистов, но все может быть. Об этом могли узнать немцы и направить к месту приземления отряд. Вот так — спуститься на свет четырех костров, а вместо наших — фашисты. «Хенде хох!»
Около часу ночи пилот сообщил:
— Находимся в заданном районе. В пятидесяти километрах от Киева. Наблюдайте землю, готовьтесь.
Довольно долго кружили, искали костры. Наконец обнаружили внизу четыре светящиеся точки, расположенные условным квадратом. И вот последние приготовления к прыжку. Бортмеханик открыл люк, и парашютисты выстроились по номерам. Клара шла третьим номером.
— Первый! Пошел…
Кларе еще не было восемнадцати. Она, казалось, мало чем отличалась от девочек-выпускниц в белых платьях, которых встречаешь июньскими ночами на набережных. Она писала сочинения об образе Татьяны Лариной, учила наизусть стихи Некрасова и Маяковского — знала все то, что положено по школьной программе. И плакала, когда мама не пустила ее однажды в Большой театр.
Потом война, трудная зима 1941/42 года, школа разведки — полгода изнуряющей, напряженной работы. И все же, несмотря на всю серьезность дела, на высокое понимание долга, то, чему ее учили, чуть-чуть напоминало увлекательную игру в войну. Она еще не видела ни одного живого фашиста, не знала, что такое окопная жизнь, фронт, бой, кровь. И всеми силами души своей стремилась быть полезной Родине. Идя навстречу тяжелым испытаниям, она все ждала, когда же начнется э т о. И вот, остановившись на мгновение у черного зияющего отверстия, откуда шел ледяной холод, Клара вдруг поняла, что учение кончилось и э т о уже началось. Э т о наступило, и никакие силы уже не отвратят уготованного судьбой. Еще вчера она могла выпросить у командира увольнительную на несколько часов, побежать на Ново-Басманную, увидеть маму, друзей, столик со своими учебниками и тетрадями. Теперь это невозможно даже представить себе. Внизу оккупированная территория.
Она вся сжалась, положила руку на кольцо и ушла в жуткую черноту ночи. Холод ударил в лицо. Раз… Два… Три… Четыре… Пять… За спиной что-то зашевелилось, зашелестело — рывок. Парашют раскрылся. Ее сильно встряхнуло. И началось медленное по сравнению со свободным падением снижение на парашюте. Светящиеся точки внизу становились ярче, кружились. На самом деле это кружило ее. Она вертела головой, натягивала стропы, пытаясь направить полет в нужную сторону и боясь, что костры исчезнут. И в самом деле они куда-то пропали, и вдруг оказались прямо под ней, внизу. Ближе… Она уже различала языки пламени и какие-то движущиеся тени. Она упала на землю, спружинив коленями и повалившись набок. Но мгновенно вскочила, выхватила револьвер, как предписывала инструкция, и встала в боевую позицию. Все это уже было отработано заранее. И вдруг совсем рядом услышала чей-то голос:
— Ну, молодец девочка, молодчина же, прямо на цель!..
К ней, в темноту от света костров, шел человек. Она напряженно ждала, и, как только он приблизился, крикнула низким, незнакомым ей голосом: «Пароль?»
— Рассвет, — отвечал он.
Человек подошел, она все еще не видела его лица. Он сказал:
— Я Ким. Вы — Смирная?
— Так точно, товарищ командир. Радистка Смирная прибыла в ваше распоряжение.
Он пожал ей руку и поздравил с удачным приземлением. Теперь она увидела его лицо, умное и простое. Ему одинаково подошла бы и фуражка с гербом маршала, и пилотка солдата. Но Клара об этом не думала. Ее поразил сам факт, что она рядом с Кимом, имя которого к тому времени было окружено ореолом легенд. Доходили они и до курсантов.
— Что ж, пойдемте искать Левого и Зоркую, им не так повезло, как вам. Но они где-то здесь, в радиусе до пятисот метров, — сказал он.
Он познакомил Клару с двумя разведчиками, сидевшими у костра, один из них был адъютант Кима, второй, совсем мальчик, по кличке Цыган, — его связной. Все вместе они направились к темневшему невдалеке лесному массиву. Вскоре нашли Надю Курочкину, почти наткнулись на нее. Она сидела на своем вещмешке и потирала ушибленную ногу.
— Ты чего не мигала? — спросила ее Клара.
— Фонарик выпал, — отвечала девушка.
Лес глухо шумел. На земле тонким покровом лежал снег — была мягкая украинская зима.
— Вот и другой, — вдруг произнес Ким и трижды мигнул фонариком. В голом кустарнике мигал слабый огонек. Вскоре послышался скрип снега, треск веток, и Левый (Юра Уколов) предстал перед ними. Он отдал рапорт и сообщил, что парашют его зацепился за ветви деревьев и он повис на нем.
— Вначале я хотел было обрезать стропы, но потом понял — высоко. Стал раскачиваться, пока не достиг ствола дерева. Спустился… — рассказал Юрка.
Затем мужчины, несмотря на протесты девушек, взяли у них рации, и небольшой отряд двинулся в путь. Вскоре они вышли на проселочную дорогу. Ночь была безлунной.
В лагерь пришли под утро — усталые и голодные.
В ЭФИР
Стоит яркий солнечный день. Тает. Воздух чистый-чистый, дышится так легко. Выйдя из землянки, Клара, жмурясь, оглядывает окрестность. Невдалеке виднеются землянки, из труб их вьется голубой дымок, дальше повозки со снаряжением, без лошадей. Двое мужчин пилят дрова. Она тотчас вспоминает события прошедшей ночи. Она в партизанском краю, в резиденции Кима.
Надя еще спит. Холодновато. Надо принести дров и разжечь печурку. Клара накидывает ватник и выходит на поляну. Здесь стоянка отряда. Крутом лес. Она подходит к партизанам, пилившим дрова, здоровается.
— Здравствуй, если не шутишь, — отвечает один из них, продолжая работу. Другой, помоложе, оглядел ее и спрашивает:
— Ты чья?
— Мамина, — смеется в ответ Клара.
Пильщики с недоумением оглядывают незнакомую девушку.
— Правильно, дочка, — говорит тот, кто постарше, и добавляет, обращаясь к товарищу: — Не задавай глупых вопросов.
…И вот резиденция Кима. Она совсем в стороне, в лесу. Постучав, Клара вошла к нему в курень. Он сидел на низенькой скамье у самодельного столика, в сером шерстяном свитере и что-то писал. Увидев ее, улыбнулся, встал, спросил, отдохнула ли она после тяжелой ночи.
— Я очень хорошо отдохнула, — отвечала Клара.
Некоторое время Ким молча смотрел на девушку, как бы изучая ее лицо. Но во взгляде его не было настороженности. Потом спросил:
— Как в Москве?
— В Москве… — повторила Клара и задумалась. — В Москве еще совсем зима, здесь теплее. В Москве… Я даже не знаю, что сказать — последние полгода я вовсе не видела города, была очень напряженная программа. Но перед отлетом я была дома… Стало лучше — и настроение, и с продуктами, особенно после Сталинграда.
— Театры, кино работают?
— Да, конечно! Днем там как раньше, почти как раньше. Много народу на улицах, много военных с погонами.
В дверь постучали.
— Войдите, — крикнул Ким.
Вошла девушка с широкими скулами, в полушубке и валенках с галошами.
— Шура, познакомьтесь — это наша новая радистка Смирная. Для вас она Клара.
Клара встала и протянула руку вошедшей.
— Шура Тимошенко, — представилась та. Затем подошла к печурке и, налив стакан чая, подала его Кларе, достала сахар, хлеб и сало.
— Кушайте, у нас порядок такой. Кто пришел, первое дело — покормить надо. Ведь, наверное, не ели еще? — мягко спросила она.
— Спасибо. Нет, не завтракала.
Шура вышла. Клара с удовольствием выпила горячего чая.
— Как мне называться? Смирная или своим настоящим именем? — спросила она.
— А кто знает, что Клара — ваше настоящее имя? Ну, а если и так, то что? Пусть вас зовут Кларой — к этому имени вы привыкли…
— Да, конечно, — согласилась она, не все еще понимая.
В дверь снова постучали.
— Войдите!
Связной сообщил, что пришел человек от Жоржа.
— Пусть зайдет через минуту, — сказал Ким и, обращаясь уже к Кларе, добавил:
— Подготовьте донесение связного для передачи в Москву. Он дал ей листок бумаги и карандаш.
Вошедший посланец Жоржа — одного из боевиков киевского подполья — сообщил, что за минувшую ночь через Киев прошло два эшелона с танками, по два на каждой платформе, всего двадцать семь платформ.
Кроме того… — и он стал подробно рассказывать о передвижениях войск в Киеве. Это была обычная военная информация о количестве провезенных орудий, прошедших машин с боеприпасами и т. д.
Выслушав, Ким помолчал, размышляя об этих цифрах.
— Ну хорошо, — сказал он, — а какие планы у вас насчет операции «Днепр»?
— Жорж просил передать — «Днепр» будем брать штурмом.
— Все, что он просил передать?
— Да. Так и окажи, говорит, Киму — штурмом. Просит назначить срок.
— Непонятно.
Посыльный пожал плечами.
— Непонятно, — повторял Ким. — Зачем нужен штурм? Что он даст?
— Товарищ Ким, можно доложить свои соображения?
— Говори.
— Наши спорили. И решили: это единственный вариант — взять штурмом и уничтожить.
— Что уничтожить? — улыбнулся Ким. — Да говори, не стесняйся — это же не игра. Ты знаешь, о чем идет речь, я тоже. А эта девушка — радистка, через нее пойдет вся информация.
— Та я ж говорю — Жорж предлагает взять ночью штурмом и, ну значит… взорвать. Долго говорит, понимаю, не удержаться, но на момент диверсии вполне достаточно.
— А самим потом куда?
— Рассеяться.
— Ясно, как утренний туман. Передай — срока пока назначать не будем. Я подумаю. И еще: независимо от него, штурмом или что-нибудь похитрей придумаем, — все ваши люди, участвующие в операции «Днепр», должны уйти в лес.
— Все?
— Дарницкая группа…
— А если Жорж спросит зачем?
— Разве мало уже принесено жертв?
— Так ведь, товарищ Ким, Жорж сказал: «Полная безопасность». Алиби!
Ким вздохнул. «Алиби»! Наивные люди… Как будто можно ждать от немцев соблюдения хотя бы формальных норм правосудия!..
— Рекомендую уйти всей группе, — повторил он.
Посыльный кивал головой, иногда добавлял: «Понял, слушаюсь». Потом Ким дал ему с собой пачку листовок, и он ушел, а Клара, немного запинаясь, глядя на записанные ею цифры, стала повторять текст донесения.
Выслушав до конца, Ким сказал:
— Ну и отлично. Сегодня в пятнадцать выйдете на связь с Москвой и передадите эту шифровку. Подпись: Новый, Смирная.
В этот день в пятнадцать часов Клара впервые самостоятельно вышла в эфир. Она надела наушники и склонилась над рацией… Два цвета — оранжевый и синий — сошлись в одном кружке, слились в один цвет… Перед ней лежало подготовленное сообщение, состоящее из длинных колонок цифр. С ней рядом находился Немчинов. Он следил за каждым ее движением. Сеанс еще не кончился, когда Немчинов вышел из землянки. Увидев Кима, сказал ему только два слова: «Работать может».
Клара очень устала. Точность, с которой она давала текст, требовала большого напряжения нервов и сил. А к тому же она волновалась. Выключив рацию, она снова и снова сверяла цифры. Потом вышла на волю из землянки.
— Здравствуйте, Микки-Маус, — вдруг раздался голос позади. Она обернулась. Голос был знаком, но исходил от незнакомого человека с бородкой. Человек догонял ее, улыбался ей.
— Товарищ Иван?! — радостно вскричала она. Да ведь это Тиссовский-Франкль, которого борода изменила до полной неузнаваемости.
— Я, Кларочка… Поздравляю с удачным приземлением.
— Спасибо. А вы тоже здесь… Из наших здесь Ваня Курский и Надя — целая компания…
— Хорошо! У всех нас одна судьба — воевать. Ну, повоюем, — сказал он.
— Повоюем, — улыбнулась Клара.
Часть II. В ТЫЛУ ВРАГА
«ТЫ МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ…»
Время летит, забирая у летней короткой ночи минуту за минутой. Раненый капитан впал в забытье. Рядом с ним у рации, притулившись спиной к выемке в песчаной стене, дремлет Клара. Он шевельнулся. Она тотчас склонилась над ним.
— Хочешь пить?
— А?.. Вот ты спросила, и мне захотелось пить.
Он улыбается, гладит ее руку.
— Воды или… может быть, хочешь согреться, здесь сыро и земля свежая…
— Что у тебя еще есть?
— О, много чего! Целых три фляжки, мы богачи. В этой — клюквенный морс… Спирт есть, ну и вода.
— Спирт-то откуда?
— Помнишь, мы заходили в лесной госпиталь, к партизанам? Там доктор дал мне полную фляжку. Я припрятала, а то бы мальчики живо все растранжирили, особенно Андрюша…
— Налей немного: разбавь пополам с морсом… Потрогай у меня лоб, кажется, жар?
Она кладет руку ему на голову.
— У тебя лоб холодный. Холодный и влажный. Это хорошо. Пей…
Клара подает ему кружку, и, поднявшись на лежанке, он делает несколько глотков.
— Дать кусочек хлеба с салом?
— Не хочется.
— Нога болит?
— Не очень. Только когда шевелишься — острая боль. Сам виноват… Пошел не пригибаясь, а они простреливали этот участок шоссе. И знал ведь… Глупо, легкомысленно…
— Тогда, по-твоему, и Тиссовский тоже легкомысленно поступил?
— Нет, у него другое… Рукопашная схватка, тут от шальной пули не гарантирован. Всю жизнь провел в подполье, а погиб в открытом бою…
— Я так плакала, когда узнала об этом.
— Он спас тебе жизнь.
— Дважды.
— Один раз, когда снял автоматчика в районе Барановичей… Мы отходили, это я помню. А второй раз?
— И второй раз ты знаешь когда… Я могла б быть на месте Нади.
— Кто тебе сказал об этом? Не он, разумеется…
— Конечно, не он!.. Ты!.. Ты сердился на меня несколько дней, я поняла почему.
— Но пойми, я иначе не мог… Я и на него, на Ивана, сердился, что он отправил тебя в отряд.
— Я понимаю. Молчи.
И он замолкает.
— Ким… — тихонько зовет Клара.
— Да…
— Ты куда-то «ушел». О чем ты думаешь?
— Вспоминаю все случаи своего легкомыслия. Помню, еще до встречи с тобой я ездил в Киев… Пристрелил генерала на Крещатике, бежал… Потом отправился осматривать Дарницкий мост. Как они не схватили меня? Не понимаю… А это ранение? Ведь если бы…
Она перебивает его:
— «Если бы» — это бессмысленно говорить. Жизнь не имеет второго варианта.
Пауза. Он улыбается.
— Это ты очень умно сказала. Просто здорово. Ты мудрая, я и не знал.
— А что ты вообще знал обо мне? Точка — тире — точка — все?
— О нет, ты ошибаешься.
— Что же?
— Многое. Например, я знал, что ты красивая, умная, сдержанная.
— Не надо…
— Правда… Что верный товарищ — тоже знал. И знал, что ты не уйдешь.
— А если бы я ушла?
— «Если бы»? Но ты же сама говоришь, что жизнь имеет один вариант и второго не существует, — задумчиво говорит он. — Тот единственный, какой есть, создаем ведь мы сами, а?
— Конечно.
— И то, что я сейчас скажу… это тоже единственный вариант?
— Ты впервые так откровенен со мной…
— Клара, я люблю тебя, и ты мой единственный вариант. Ты слышишь?
— Да, — шепотом отвечает она.
И ей кажется, что все-все еще впереди, что все эти испытания как бы нарочно устроены, чтобы вот здесь, в землянке, он произнес эти три простых и желанных слова: «Я люблю тебя». Она верит в его силу и всемогущество.
Они лежат, прижавшись друг к другу. А в лесу уже начинает светлеть. Ночной сумрак уходит. Контуры деревьев все отчетливей вырисовываются в туманной мгле июньского утра.
НЕВИДИМЫЙ ДИРИЖЕР
Мелкие диверсии, поджоги, сбитый мотоциклист на шоссе и тому подобное — все это случалось в Междуречье и до появления центра Кима. Но практически эти акции не наносили сколько-нибудь серьезного ущерба фашистам. Противник не придавал им значения, ограничиваясь каждый раз посылкой взвода карателей на место происшествия.
Установленный немцами режим с назначенными ими бургомистрами, старостами, полицаями, гестапо, с комендантским часом и поголовной регистрацией населения и был тем «новым порядком», который казался незыблемым. И надо отдать справедливость, немцы вводили его с железной, методичной последовательностью.
Как оркестр, собранный из разных инструментов, призванных дополнять друг друга, так и «новый порядок» располагал широким арсеналом различных средств. От газет на украинском языке до виселиц — все было направлено к одной цели: заставить население оккупированных областей безропотно повиноваться и выжать из покоренного края максимум выгод для Германии. Дирижер продолжал размахивать своей палочкой, музыканты усердно играли, но до слушателей вдруг стала доноситься иная музыка. Вначале слышались лишь отдельные ее звуки, они становились все ближе, явственней, но тот, кто дирижировал ею, был невидим.
Уже к концу 1942 года немцы перестали быть полновластными хозяевами положения на оккупированной ими Украине.
Диверсии в то время уже обрели планомерный характер. Масштабы их уже были иные. На Десне идет ко дну караван барж со снаряжением и боеприпасами. Выводится из строя на три недели железнодорожная ветка Киев — Чернигов — Иванково. Дорога Чернигов — Гомель постоянно находится в заминированном состоянии.
Разрушение коммуникаций парализует движение транспорта оккупантов. Летит в воздух Остерская база горючего. Бомбы советской авиации имеют очень точные адреса. А кого карать за все это — неизвестно. Нужно поголовно истреблять все население Междуречья. Но после Сталинграда немцы уже не те. Они не могут снять с фронта две-три дивизии и бросить их на борьбу с непокорным краем. Но даже если б это было возможно — как бы справилась регулярная армия с разветвленной по всей Украине сетью разведчиков, укрываемых местными жителями?
Самый сильный враг становится беспомощным, если он не видит противника. Он может стрелять, крушить, впадать в неистовство, но это не избавит его от ударов невидимой руки. Такой невидимой карающей рукой стал центр Кима.
Слухи о Киме, конечно, дошли до немцев, хотя каких-либо более или менее точных сведений о нем они не имели. В немецких газетах появились фельетоны о «бандите по кличке Ким», где он изображался уголовником, рецидивистом, который «решил на старости лет искупить свою вину перед большевиками». Такая версия вполне устраивала фашистскую пропаганду и совсем ничего не давала контрразведке. Гестапо и контрразведка получили приказ во что бы то ни стало уничтожить Кима. Разумеется, гестаповцы понимали, что газетная шумиха, равно и объявления о награде за голову Кима, едва ли дадут результаты. Нужна работа более серьезная.
Под Киевом организуется школа по подготовке специалистов для борьбы с партизанами. Параллельно контрразведка засылает в районы активных действий партизан группы террористов с одним заданием — влиться в партизанские отряды и через них добраться до Кима. Шесть таких террористов были выявлены центром в отряде Науменко и расстреляны. Двое прожили в отряде около месяца, но так ни разу и не видели Кима.
В начале января 1943 года в поселке «Красные казармы» собрались командиры партизанских отрядов. Это совещание в «Красных казармах» положило начало объединению всех партизанских сил Междуречья. В крупных городах — таких, как Киев, Житомир, Чернигов, а также на железнодорожных станциях позиции оккупантов оставались незыблемыми, там стояли многочисленные гарнизоны. Но в дальних селах немцы были уже не в силах удержать власть, и километрах в пятистах от линии фронта на захваченной врагом территории кое-где начали возрождаться Советы.
Была встреча в Сорокошичах. И уже не сорок жителей окрестных сел, как там в лесу, вскоре после приземления Кима, а почти тысяча собралась на митинг. Ким не выступал перед ними. Он сделал свое дело и отошел в тень, как всегда бывает с разведчиками. И вскоре выдвинулись новые фигуры партизанских вождей — братьев Науменко, Юрия Збанацкого. Имена Ковпака, Федорова уже гремели на Украине.
А между тем центр, состоящий из двенадцати человек, ближайших сподвижников Кима, жил своей замкнутой жизнью со своими делами и заботами. Ким приблизил к себе кое-кого из подпольщиков, оставленных для работы Остерским райкомом партии перед отходом наших войск. Мария Хомяк — первая, кого встретил Ким в Выдре, — стала его связной. Ее сестра Шура стряпала обеды для разведчиков, муж Шуры, Павел Тимошенко, вошел в группу — в помощь Куркову.
Главной радостью разведчиков были письма и небольшие посылочки от родных — оттуда, с Большой земли. Обычно самолет приходил ночью, раз в месяц. Двое-трое разведчиков шли встречать его в условленном месте — на какой-нибудь глухой полянке. И там, разложив костры, ждали иногда по трое суток. Самолет доставлял необходимое снаряжение, питание для раций, боеприпасы, газеты, почту. И быстро выгрузив все, вновь уходил в черное небо.
По вечерам часто собирались в землянке Степана Ефимовича Науменко, который теперь командовал крупным отрядом в тысячу партизан. Ждали последнего сообщения Совинформбюро. Возможно, будет приказ Верховного. В землянке появляется Клара со сводкой. Все окружают ее. Потом начинается обсуждение. Если приказ радостный — Степан Ефимович Науменко непременно достанет из своего командирского запаса две-три бутылки знаменитой сорокошичской… И тут уже пойдут воспоминания, легенды. В знак поощрения в землянку к Науменко «на прием» приглашаются отличившиеся командиры рот, разведчики, доставившие ценные сведения. Степан Ефимович начинает уговаривать Клару «чуть пригубить».
— Нет, дядя Степа, мне мама не позволяет, — отшучивается она.
— Война, дочка, все спишет… Эх, был бы я молодой, я б за тобой приударил… А сейчас нельзя. У меня, милая, детки постарше тебя…
…Много лет спустя, вспоминая эти встречи, связная Кима Мария Хомяк скажет: «Я счастлива тем, что была среди этих людей, работала с ними. Все мы жили надеждой на победу, верой в будущее. Были это самые светлые дни в моей жизни. И все сбылось. Пришла победа. Наступил мир, но тех людей уже нет…» Те дни остались в ее памяти, как первая любовь, на всю жизнь.
Приблизительно в марте-апреле сорок третьего Ким появляется в Киеве. Вокруг его визитов в оккупированную столицу Украины ходит очень много легенд. Рассказывают, например, что он, пользуясь изготовленными Тиссовским документами, в мундире офицера СС проник в фашистскую верхушку киевского гарнизона, установил там связи и выкрал карту обороны Днепровского вала. По другим рассказам, он пришел в Киев в обычной гражданской одежде под легендой виноторговца. Здесь с помощью киевских подпольщиков совершил налет на штаб, убил генерала, вскрыл сейф и, похитив секретные документы, бежал. Имеется и такая версия, что Ким завел дружбу с штандартенфюрером Боделем в бильярдной офицерского казино и что даже одно время вместе они занимали номер люкс в старом «Днепре».
Что ж, каждая из этих версий могла реально существовать, но вместе они исключают друг друга. Но когда о человеке создаются такие легенды — это уже что-нибудь да значит. Очевидно, это был действительно выдающийся человек, если о нем выдумывали героическое. Но почему «выдумывали»? В самом деле, жизнь Кима превзошла многие легенды о нем. Однако о ней знали всего лишь два-три человека, которых ныне уже нет в живых. Слухи о его подвигах распространялись. Вот люди и строили различные предположения, догадки, которые, передаваясь из уст в уста, становились легендами.
Но мне не хочется повторять их. Сообщу лишь то, что достоверно известно. Да, он бывал в Киеве, это подтверждают многие его соратники, хотя ни одной из его конспиративных квартир мне так и не удалось отыскать. Возможно, что людей, укрывавших его, уже нет в живых. Но, с другой стороны, если он находился в Киеве действительно под легендой прибывшего из Берлина офицера СС, то в конспиративных квартирах ему не было никакой надобности. Он мог занять номер в любом отеле. Но здесь начинаются догадки.
В радиограммах Кима в Москву о походах его в Киев ничего нет. Но в отчете секретаря партийной организации центра П. Т. Тимошенко имеются очень скудные сведения о рейдах Кима по Междуречью и о поездках его в Киев, а также об убийстве им высокопоставленного фашистского чиновника.
Возможен такой вариант: появляясь в Киеве, Ким надевал эсэсовский мундир, пользовался им для свободного хождения по улицам, осмотра Дарницкого моста, но каких-либо серьезных контактов с фашистами, по крайней мере в Киеве, он избегал.
…Время постепенно все проясняет. Уже после опубликования этой повести в журнале «Знамя» я нашел человека, который видел Гнедаша в форме офицера СС на шоссе Ромны — Прилуки, совсем недалеко от его родного села Салогубовки. Гнедаш ехал в «оппеле» один.
Обнаружились также свидетельства, что он бывал в Киеве в форме полицая с повязкой. Его визиты были кратковременны — он появлялся, чтоб на месте организовать крупную диверсию и принять личное участие в ней. Вряд ли всегда это вызывалось крайней необходимостью, но временами он вдруг отбрасывал всякую осторожность и совершал дерзкий поступок. Он словно давал разрядку себе, отыгрывался за всю ту сдержанность, которую приходилось ему проявлять. Ему было всего двадцать восемь.
Он знал, что примет смерть в случае провала. Центр тогда перейдет в надежные руки Тиссовского и Куркова.
Странно, но это давало ему уверенность. Как акробат, совершающий опасный номер на большой высоте, работает смелее и спокойнее, зная, что невидимая публике спасительная лонжа у него за спиной, так и Гнедаш в стане врагов постоянно ощущал эту лонжу. Этой лонжей было — «согласно программе»… Во имя Родины и победы.
ВЫБОР
С увеличением числа радистов и раций Ким решил установить радиофицированную точку в самом Киеве с самостоятельным выходом на Москву. Это сулило большую оперативность в передаче разведданных. Киевских подпольщиков он попросил подготовить конспиративную квартиру на какой-нибудь тихой улице. И теперь лишь ждал от них сигнала. Вначале он хотел направить туда Немчинова, но потом решил, что по условиям конспирации выгодней послать женщину — все меньше подозрений. Значит, нужно было выбирать между Кларой и ее напарницей Надей.
Прежде чем посоветоваться с помощниками, Ким хотел решить для себя — готов ли он на любой вариант. Ибо лишь в этом случае стоило советоваться. Нужно было знать Кима. Он принадлежал к тому редкому типу людей, которые, посвятив себя делу, исключают из него всякий личный интерес и даже при двух, казалось бы, равных вариантах избирают худший для себя, следуя правилу: хочешь сделать как лучше, поступай не так, как хочется. Правило это имеет большую житейскую мудрость. В самом деле, при решении любой дилеммы даже очень умный человек невольно бросает на колеблющуюся чашу весов какой-то свой небольшой интерес: а как мне лучше, как мне выгодней? Но это-то и мешает ему быть объективным. Это свое «я» Ким полностью вывел из игры. В одном отношении ему стало сразу свободнее, легче — исчезли всякие сомнения, симпатии, пристрастия. Взвешивал его разум, решал холодный расчет. Конечно, по-человечески такой подход порядком осложнял ему жизнь, лишал многих удовольствий, радостей. Но в то время, без сомнения, именно это его умение все подчинить интересам дела помогло ему стать признанным руководителем украинского подполья. Окружающие сразу почувствовали в нем человека идеи, для которого цель выше всего.
Кого послать в Киев? Кто сильней — того и послать, размышлял он. А кто сильней? И он вызвал к себе Тиссовского, рассудив, что ему, опытному подпольщику, лучше знать, кто более подходит для этой работы. Когда Тиссовский пришел, Ким спросил, кого, по его мнению, следует послать в Киев. Тиссовский назвал Зоркую (кодовое имя Нади).
— Но как радистка и разведчица Смирная посильней, — возразил Ким.
— Да, пожалуй… Впрочем, Зоркая — девушка не без хитрости, Микки-Маус более простодушна… А в тех условиях?.. — задумался Тиссовский.
— Ну да! — рассмеялся Ким. — А случай с полицаем? Не всякий мужчина так среагирует…
— Это качество у них у всех отработано еще в школе разведки. Профессиональная реакция, не больше, уверяю вас. В остальном она — девочка.
— Да ведь и другая тоже девочка! Что делать — война.
— Ну Надя немного постарше — кажется, на год.
— Гм… То есть вы хотите сказать, что Зоркая, как наш агент в Киеве, будет более надежна? — помолчав, спросил Ким.
Пауза.
— Я бы судил… или, как у вас принято говорить, ставил вопрос не так. Радистка Смирная должна остаться не потому, что она слабее своей напарницы. Просто она нужна здесь. Какие еще требуются аргументы моему командиру? — улыбаясь, спросил Тиссовский.
— Это уж другое дело, — медленно проговорил Ким. — Теперь объясните мне, почему Клара нужна здесь, в центре, больше, чем Надя?
— Это нужно объяснять?
— Да.
— Кому?
— Мне.
— Но мне кажется, что я дал вам уже достаточно аргументов, чтоб, опираясь на них, принять то решение, которое вы считаете нужным и правильным.
Ким посмотрел на Тиссовского очень внимательно, как бы говоря: «Прости, вот теперь уж я перестал понимать тебя». Но Тиссовский не понял этого молчаливого вопроса или просто ушел от него.
— Товарищ командир, я могу быть свободным? — спросил Тиссовский.
— Иван Бертольдович! Очевидно, я обалдел сегодня от всех дел. Решительно ничего не понимаю. Сформулируй свою позицию.
— Дорогой друг, я тоже не совсем понимаю вас… Ваша цель…
— Цель вполне определенна, вполне определенна, Иван Бертольдович! Послать в Киев нашу лучшую разведчицу — Клару Давидюк. Не ясно?
— Вот этого я не понимаю.
— Все! Я понял, вы считаете разумным лучшую разведчицу оставить при центре. Это уже позиция.
— Одну минутку. Это несколько вольная интерпретация моих слов. Мы что, уже определили, кто из них лучшая?
Ким устало рассмеялся.
— Послушайте, Иван Бертольдович, ну что вам за охота морочить мне голову?
— Наоборот, я проясняю…
— Ладно, пошли спать, — Ким махнул рукой. — Утро вечера мудренее.
— Это самая любимая ваша пословица…
— Иван Бертольдович, ну признайся, ты меня сегодня спутал с немцем и отрабатывал на мне свою школу, — уже мирно сказал Ким.
— Но в отличие от немца вы знакомы с моей системой… Могли бы ответить тем же…
Придя в землянку, Ким еще долго размышлял над разговором с Тиссовским. Попытка возложить решение на помощника окончилась неудачей. И это бы решило дело. Но ему было б легче, если бы Тиссовский нашел какой-то веский аргумент в защиту своей позиции. Однако никаких аргументов не последовало. Да их и не могло быть. Оставалось одно: отправить в Киев Клару. Утром Ким послал за Кларой связного. Но тот вернулся один. По словам Нади, Клара ночью разбудила ее, сказав: «Меня посылают на задание». И ушла.
Ким отпустил связного и вызвал Тиссовского, который один имел полномочия без ведома командира распоряжаться людьми.
— В чем дело, где Давидюк? — спросил он.
— Радистка Смирная вместе с рацией послана мною в отряд Збанацкого.
— То есть как? — проговорил Ким, вставая.
— Збанацкий уже давно просил направить к нему радистку на две недели — на время его рейда к Чернигову, чтобы он мог поддерживать с нами связь. И вы дали принципиальное согласие.
— Да, но это было до того, как мы решили послать Смирную в Киев. И вы превысили свои полномочия…
Тиссовский покачал головой:
— Товарищ Ким, я старый солдат, дисциплину знаю… Окончательного решения послать Клару в Киев вы не приняли, по крайней мере еще вчера, — значит, полномочий своих я не превысил.
Он был прав. Ким советовался с ним, но последнего слова так и не сказал.
— Ну, делать нечего, готовьте Зоркую в Киев, — сказал Ким и отвернулся.
ЛОГИКА РЕЗИДЕНТА
По вечерам Ким и Тиссовский обычно работали в штабной землянке за столом из толстых дубовых досок, положенных на четыре березовых чурбана. Тиссовский при свече раскладывал пасьянс, то есть схему созданной ими на Украине разведывательной сети — небольшие кружки из картона с нанесенными на них условными знаками. Такие кружки лежали на Киеве, Остре, Чернигове, Прилуках, Житомире, Полтаве и еще на десятках мелких городов и деревень. В эти часы никто не тревожил командира и его заместителя, даже начальники разведывательных групп центра, имевшие прямой доступ к Киму в любое время суток. Разложив схему, Ким и Тиссовский несколько минут молчали, как бы входя во все детали создавшейся ситуации, которая постоянно менялась.
Сеть пульсирует, поступают новые донесения, разведчики меняют свою квартиру, выходят на связь, организуют диверсии и прочее. Все это отражается здесь, на карте. В начале марта сорок третьего года Ким получил задание взорвать Дарницкий железнодорожный мост через Днепр, по которому фашисты непрерывно гнали подкрепления на восток, в район Орловско-Курской дуги, где в скором времени развернется великая битва. Понимая стратегическую важность моста, фашисты поставили там усиленную охрану.
Ждать больше было нельзя. Сперва отталкивались от мысли, что план должен быть очень дерзким, даже невероятным. Имелся такой вариант: разведчику-подрывнику с толом ночью сесть на проходящий поезд и в момент, когда тот пойдет по мосту, спрыгнуть где-то в середине, поджечь шнур, броситься в Днепр и попытаться спастись вплавь. Курков сам брался за это дело, но сам же позднее засомневался в реальности осуществления его. Замысел этот не гарантировал успеха. Взрывчатку нужно было заложить капитально, где-то у основания фермы, так, чтобы по крайней мере один пролет рухнул в Днепр и немцам как можно больше времени потребовалось на восстановление моста.
План киевских подпольщиков захватить мост вооруженной силой, взорвать и уйти отверг Ким. У немцев под Киевом было достаточно войск, чтобы отразить любое нападение партизан.
— Винтовка против танков — это не по науке, — сказал Ким, — и давайте отбросим все эти экстраординарные варианты. Тут работа бирюлечная…
— Доступ к мосту — вот что нам нужно. Откройте мне доступ, и я вам дам много-много верных людей, — сказал Тиссовский.
— Гм… Доступ? В этом вся штука, дорогой Иван Бертольдович!.. Послушайте, а если каким-то образом спровоцировать немцев и заставить их ремонтировать мост? Это, пожалуй, мысль?.. — Ким вдруг замолк.
Пауза длилась довольно долго.
— Мой командир куда-то ушел, — улыбнулся Тиссовский. — По логике вещей мосты сперва взрывают, потом ремонтируют. А вы хотите наоборот?
Но Ким не слышал его. Он вдруг быстро подошел к папке б донесениями и раскрыл ее.
— Товарищ Ким, скажите, что нужно вам, — та папка уже здесь, — Тиссовский постучал пальцами по лбу.
— Где дислоцируются их строительные отряды? По-прежнему в Киеве?
— Отправлены под Орел неделю назад. Они все гонят на фронт.
— Отлично! Теперь надо как-то хитро подбросить эту идею немцам — пусть они начнут ремонт, а мы станем им помогать.
— Вы шутите, — усмехнулся Тиссовский.
— Пока фантазирую. Но согласитесь, что лучшая возможность заложить взрывчатку у самого основания ферм вряд ли представится.
— Да, но, чтобы воспользоваться ею, вам, командир, нужно хотя бы на час стать комендантом города Киева.
— Это было бы кстати. Но для того, чтобы сделать эту карьеру, мне потребуется минимум месяц, а время не ждет. Нужен другой вариант. Будем отталкиваться от того, что ремонт — это единственная возможность получить доступ к мосту. Раз у них солдат не хватает, они сгонят местное население, а вы присоедините к нему наших подрывников.
— Все великолепно, но как принудить немцев начинать ремонт Дарницкого моста? Вначале взорвать его немножко, не так ли? — сострил Тиссовский.
Ким, не реагируя на это, сказал:
— Вы как-то говорили, что немцы большие формалисты.
— Готов и сейчас подтвердить.
— Прекрасно. Это нам на руку… Дайте-ка мне схему Киевской городской управы или магистратуры. Что там?
Тиссовский снимает со стола карту и кладет на стол иную документацию. Ким просматривает ее, потом говорит:
— Вот видите, у них там есть строительный отдел… Это то, что нужно. Теперь надо искать должностное лицо.
— Лиц там предостаточно. Верных нет.
— Надо найти.
— О, это ваше «надо»!
Ким знал, что заместитель его поворчит, но сделает все как нужно. И верно, дисциплинированный Тиссовский уже перебирал служащих городской управы, на которых у него были заведены карточки. Здесь имелись сведения о тех, кто сотрудничает с немцами. Люди самые разные: авантюристы, делающие карьеру при «новом порядке», и просто жители, застигнутые оккупантами врасплох, наконец, специалисты, мобилизованные немцами.
— Службой мостового хозяйства у них ведает инженер Сенкевич Николай Иосифович — фигура для нас весьма мало удачная, — уточнил Тиссовский после того, как отыскал нужную карточку.
— Что известно о нем?
— До войны сидел в тюрьме. В связи с этим пользуется доверием у немцев.
— Что ж, это как раз хорошо.
— Меня всегда поражает оригинальность вашего мышления, возможно, это чисто русское качество, — улыбнулся Тиссовский. — Значит, если б на этом месте сидел верный человек, патриот, было б хуже?!
— Но патриот не работал бы у фашистов!.. Впрочем, могут быть особые случаи. Сейчас для нас важно именно то, что он пользуется доверием врага, иначе он вряд ли мог бы помочь нам… Вы говорите, сидел в тюрьме? И что же? И вернулся, или как?
— Перед войной вновь оказался в Киеве… Очевидно, отбыл срок наказания?..
— Возраст?
— Солидный, пятьдесят восемь лет. Образование получил еще до революции. Видно, еще из царской интеллигенции.
— Русская интеллигенция, Иван Бертольдович, никогда не была царской, но это уже особый вопрос.
— Тем не менее арест его…
— …Пока еще ничего не доказывает. Его домашний адрес у вас есть?
— Да. Хотите применить угрозу?
— Нет!.. Что вы, дорогой Иван Бертольдович, совсем не та ситуация, где можно угрозой… Тут нужен единомышленник.
— А как вы убедитесь, что этот «единомышленник» в самый важный момент не изменит нам?
— Я должен побеседовать с ним.
— Что ж, пошлем Валюшкевича с группой. Он доставит его сюда.
— Зачем? Лучше нам навестить его. Там, в Киеве, беседа будет непринужденной. Человек почувствует, что ему верят, а это много значит.
— И вы полагаете?
— Посмотрим! Других вариантов пока нет. А время не терпит. Но на этот раз нам с вами, кажется, не уберечь Клару от прогулок по Киеву. Для такого дела, как взрыв моста, нам потребуется рация в непосредственной близости от объекта.
— А Немчинов? — попробовал возразить Тиссовский.
— На Немчинове вся связь, Иван Бертольдович, — сухо заметил Ким.
— А этот юноша… Ваня Курский, очень способный!
— Девушка безопаснее — этого вы не будете отрицать.
— Не буду. Ваш характер очень упорный.
— Упрямый! Но вы думаете, мне от этого легче жить? Пойдет Клара, и довольно об этом. Ненадолго, дней на десять… До взрыва, даже лучше — накануне, отозвать. Попросите Жоржа подобрать ей надежную квартиру на набережной, с видом на мост.
— Контакт с Надей, думаю, лучше исключить, — предложил Тиссовский.
— Согласен. А он и не нужен. У Клары будет локальное задание — следить за развертыванием событий на мосту и сообщить нам по рации.
Тиссовский наклонил голову и сказал:
— Пошлем ее без рации. Нет-нет! — замахал он руками, заметив недоуменный взгляд Кима. — Рация будет там, где Кларочка… Но я доставлю ее туда своими средствами.
— Хорошо. Согласен.
Ким направился к выходу.
— Мой командир, последняя неясность: кому мы поручим сопровождать Микки-Маус в Киев?
— С Кларой пойду я, — отвечал Ким.
Пауза. Тиссовский понял, что возражать бесполезно.
— Какую вам приготовить легенду? — спросил он.
— Ну, здесь — ваше слово. Мне безразлично, но легенда должна быть на двоих…
— Тогда я вас обвенчаю, — улыбнулся Тиссовский.
Круглые сутки в комнате легонько подрагивали стены и стекла от проходящих тяжеловесных составов. Едва ночной сумрак уходил, Клара подсаживалась к окну. Оно выходило на Днепр, а мост был справа. Каждые три часа менялся караул. Часовые стояли не только наверху, у въезда на мост, но и внизу, непосредственно у воды. Таким образом, мост просматривался на всем его протяжении десятком автоматчиков. Кроме того, неподалеку на холме имелась вышка для обзора окрестностей. От нее шли провода к строениям барачного типа, где расположились казармы отряда мостовой охраны. Судя по утренним построениям, отряд насчитывал примерно усиленную роту солдат.
На восток эшелоны шли главным образом с живой силой, о чем можно было судить по раздвинутым дверям теплушек; прошло два состава открытых платформ с танками, один состав с артиллерией и один — цистерны. На запад шли составы пассажирских вагонов — санпоезда с ранеными и товарные крытые, очевидно, с мукой.
Накануне отъезда в Киев Клару долго и тщательно инструктировали Тиссовский и Немчинов. Каждый по своей части. А в Киев ее провожал Ким. Все было, в общем, проще, чем Клара предполагала. Ким, одетый по-крестьянски, тащил на себе мешок с картошкой, она — кошелку с салом. Они вышли на шоссе Остер — Киев и стали голосовать, при этом Ким размахивал зажатыми в руке рейхсмарками. Первая же грузовая машина остановилась, и выглянувший из кабины немец спросил: «Wohin?» И Ким на ломаном немецком языке прокричал: «Нах Киев!.. Картофэль».
Опытный Тиссовский перебрал десяток легенд, но всем им предпочел такую — крестьянский парень с молодухой. И не случайно: накануне связной доставил из Киева вывешенное в городе обращение коменданта к населению окрестных сел везти на продажу в город излишки сельскохозяйственных продуктов. А Феня Кисель сообщила дополнительно, что полицаям дано строгое указание — в первые дни не изымать продукты у приезжающих крестьян, а, напротив, всячески поощрять их. Городские рынки к весне пустовали, и это придавало особо трагичный колорит и без того пустынному городу.
Немец предложил Кларе сесть к нему в кабину. Случай этот был предусмотрен, и Клара согласилась. Ким с мешком забрался в кузов. Ехали часа два. У въезда в Киев машина была остановлена на КП. Ким предъявил бумагу, написанную на украинском и немецком языках, — свидетельство оржицкого старосты о том, что г-ну и г-же Фроленко, крестьянам из села Оржицы, разрешается продать излишки сельскохозяйственных продуктов. Низший чин взял бумагу и пошел к кабине. Кима насторожил его разговор с водителем, но, прислушавшись, он понял, что чин выспрашивает о «фрау» и делает весьма лестные замечания по адресу Клары. Потом оба добродушно похохотали, и шлагбаум был поднят. Пошли пригороды Киева. Машина поднималась в гору. До войны Клара бывала в Киеве и сейчас старалась узнать знакомые места. При развороте вдруг открылся проспект… Слева на холме лежали руины… И дальше — высились остовы разрушенных домов… Большая улица — и почти ни одного целого дома. И Клара вдруг узнала Крещатик — внутри как бы что-то оборвалось. Да, да, это он, Крещатик. Она приезжала сюда с бабушкой в 1938 году… Многолюдная толпа, черные эмки, автобусы — совсем как в Москве на улице Горького. Они с бабушкой зашли в «Детский мир» и долго выбирали портфель — взрослый, кожаный — к новому учебному году. Воспоминание это пробудило другие картины детства, но лицо ее оставалось равнодушным. В кабине раздался стук Кима. Машина остановилась. Они вышли. Ким расплатился с немцем рейхсмарками. И они двинулись дальше уже пешком.
— Какой ужас, что натворили фашисты, — шепотом сказала Клара, когда они шли уже по бульвару.
— Вы о Крещатике? Да. Скорбное зрелище… Хотя тут есть и наша работа.
— Как это?
— Здание рейхскомендатуры, что на холме, подорвали мы сами. И гостиницу, там был штаб. Что поделаешь — война. Потом отстроим…
И вот домик на юге Киева, Кима и Клару встретила почтенная пожилая дама, с которой Ким, очевидно, был знаком прежде, ибо никакими паролями они не обменивались.
— Ну, а вот моя подопечная, дорогая Любовь Аполлинарьевна, — сказал Ким, представляя Клару.
Хозяйка бросила взгляд на гостью, который можно было перевести лишь однозначно: «Так вот вы какая, совсем девочка…» Она обняла Клару, а затем отправилась на кухню, к керосинке. И вскоре на сковородке шипела яичница с мелкими пожелтевшими шкварками.
— Можно рюмочку? — спросила хозяйка.
— Нет, благодарю. Мне предстоит один разговор, и собеседник пока неизвестен.
— Когда ждать?
— Сегодня нет, очевидно, нет, — отвечал Ким.
Любовь Аполлинарьевна понимающе опустила глаза. Затем она подала Киму сверток. Он вышел в другую комнату и вернулся переодетый. Теперь на нем был полувоенный френч, а на рукаве — повязка дежурного полицая. Он подошел к Кларе. Хозяйка вновь понимающе вздохнула и вышла из комнаты.
— Клара, вы обещаете делать все так, как учил Тиссовский? — спросил он.
— Я уже обещала это вам и ему.
— Все будет хорошо, это самая надежная квартира. И все-таки… берегите себя.
Клара молча наклонила голову.
— Прошу вас… не выходите из домика, отсюда все отлично видно.
— До свидания… Желаю вам всего-всего лучшего.
Клара протянула ему руку. Он задержал ее руку в своей.
— Идите!.. Я буду вас ждать. Ничего не случится, — сказала она.
Он поклонился и ушел.
Вскоре за окном послышался шум. Во двор въехала телега с дровами — на санях ездить было уже нельзя. Возчик разгрузил дрова, а затем внес и отдал хозяйке мешок с отрубями. В нем была рация.
Весь вечер Любовь Аполлинарьевна расспрашивала Клару, та, оживившись, рассказывала ей о маме, папе, учителях, подругах.
— Ой, девочка, девочка моя, тяжело вашему поколению, и жизни-то не видели вовсе… — вздохнула хозяйка. — Пройдет война… Все уляжется, а там видно будет. Вон я уж пятую войну переживаю… Японская, мировая, гражданская, финская — и эта.
— И вы все здесь, в этом домике? — спросила Клара.
— И родилась в Киеве, и, наверное, умру здесь… А немкой числюсь — по мужу. И фамилия — Виливальт. Да, Кларочка, муж-то мой немец был, из Силезии. В восемнадцатом году, когда их войска тоже стояли в Киеве, я познакомилась с ним. Он и остался здесь, как они у себя там кайзера сбросили…
— Он жив?
— Нет, не жив… Еще до войны умер, — вздохнула хозяйка. — Ну, Жорж Дудкин и придумал сказать, что муж был расстрелян Советами по обвинению в шпионаже в пользу Германии. И справку нужную достал, так что я теперь от Гитлера пенсию получаю. Заслужила милость. А Жоржика я с детских лет знаю.
Они проговорили до полуночи. Ким так и не пришел. Наутро Клара передала первое сообщение по рации. Принимал его Немчинов.
…Вечером, незадолго до комендантского часа, в домике Сенкевича на Подоле раздался стук, затем голос: «Отворите, полиция». Хозяин накинул пальто, пошел отворять и вскоре ввел в дом молодого человека в гражданском с повязкой на рукаве.
— Чем обязан? — спросил хозяин.
— Посторонние есть? — спросил вошедший, показывая полицейский билет.
— Нет никого, можете осмотреть помещение. В комнате жена и внуки…
— Тогда разрешите присесть, у меня к вам разговор.
Хозяин указал на стул, но сам продолжал стоять, выжидая. На вид ему можно было дать за шестьдесят. Это был тип старого киевского интеллигента, получившего образование еще до революции. Худое лицо, тяжелый, усталый взгляд.
— Я не буду вас обманывать, Николай Иосифович, — сказал гость, как-то странно улыбаясь, — я совсем не полицейский, я — партизан.
Пауза.
— Ступайте вон, — твердо сказал хозяин.
— Я понимаю… Вы не верите. Авантюристы тоже так действуют. И все-таки я партизан.
— Меня это не интересует… Прошу уйти или делать то, зачем явились… Я сейчас позову на помощь…
— Не позовете. Вы человек разумный, уравновешенный…
Поза гостя не была угрожающей. Он мирно сидел, облокотясь о спинку стула, и, очевидно, ждал, как дальше поведет себя хозяин. А тот, казалось, устал от всего на свете и сейчас его занимает лишь один вопрос: когда уйдет этот незваный гость, кто бы он ни был — партизан, полицай, хоть сам господь бог.
— Слушайте, вы, юноша, — наконец с горечью произнес Сенкевич, — к лицам, сотрудничающим с немцами, партизаны являются затем, чтобы пристрелить их. Действуйте!.. Или уходите.
— У вас есть смягчающее обстоятельство — не вы предложили оккупантам свои услуги, вас мобилизовали как инженера-строителя.
— Благодарю. Не собираюсь ни перед кем оправдываться.
Гость слегка наклоняет голову.
— А почему же так? Вы же понимаете, что все это временно. Фашистский режим рухнет, и очень скоро… Согласны?
Сенкевич молчал.
— Допустим, что вы можете возразить: «Мне безразлично, что обо мне подумают». Но вашим внукам — расти и жить при Советской власти. Об их будущем вы думаете?
— Они еще достаточно малы, чтобы нести какую-либо ответственность… Что касается меня… За свои поступки я сумею ответить.
— А особенность нашей с вами беседы в том и состоит, что вам передо мной не надо оправдываться. Мы все знаем. Знаем, например, что вы в отличие от некоторых ваших коллег ни на кого не писали доносов в гестапо.
— Это не моя профессия, молодой человек! На меня писали доносы…
— И это известно нам… И ваша реабилитация.
Инженер устало опустился в старое кресло и, закрыв глаза рукой, медленно произнес:
— Так… Говорите, зачем пришли… Я устал.
— За помощью…
— Я ни на что не способен….
Гость молчал, сосредоточенно размышляя о чем-то. Прошла минута, другая. Сенкевич сказал:
— Вы меня извините… Меня поражает ваша самоуверенность, если не сказать резче. Прийти к незнакомому человеку, подвергавшемуся репрессиям при советском строе, скомпрометировавшему себя затем службой у фашистов… Это… я не найду слов! На что вы рассчитывали?
— На честность старого российского интеллигента… и патриота.
— Не говорите чепухи!.. «Патриот»!.. Я служу немцам. Да, служу… У меня семья, внуки… Что еще связывает меня с жизнью? Я не герой.
Теперь гость замолчал. Кажется, у него какие-то свои мысли, от которых ему трудно отвлечься.
— Не герой… Да, конечно, это сложный вопрос, — как бы про себя замечает он. — Впрочем…
Он опять замолкает. Хозяина это уже начинает раздражать.
— Послушайте… Вы объясните мне наконец цель вашего визита? — говорит Сенкевич.
— Да, простите… Скверная привычка… Видите ли… Особенно героического мы от вас и не требуем, хотя… известное мужество необходимо для того дела, которое мы хотим вам поручить.
Гость снова выдерживает паузу, тянет. Но хозяин не указывает на дверь. Это уже маленькая победа Гость продолжает:
— Итак, вы удивлены моим визитом? Что ж, поставим все точки над «и». Партизаны действуют — в этом секрета нет. Что ж странного, что они обращаются за помощью к своим соотечественникам? Чем мы рискуем? Чем я рискую? Пропуск у меня есть, я свободно хожу по Киеву. Если даже предположим невозможное, что вы поднимете шум, я, поверьте, уйду дворами, отстреливаясь…
— Предварительно пристрелив меня, — усмехнулся хозяин.
— Откровенно? Даже если вы попытаетесь силой задержать меня, я не стану убивать вас. В худшем случае — нокаутирую… Это придется…
— Откуда такое великодушие?
— Не великодушие. Дисциплина. Я точно выполняю инструкции.
— Чьи?
— Своего командира. Посылая меня к вам, он сказал: «Как бы ни вел себя Сенкевич, даже если выгонит вас, — не убивайте его».
Сенкевич вдруг опустил голову и закрыл рукою глаза. Отворилась дверь, и из спальни вышла женщина в ватном халате. Поза мужа и незнакомец со свастикой на рукаве напугали ее. Она закричала:
— Герр полицай!.. Что это? За что? За что вы его терзаете? Он ни в чем не повинен… У него слабое сердце… Он честно служит вашему фюреру в страдал при Советской власти! Он сидел в тюрьме. У нас есть справки… Коля, что же ты молчишь? Покажи ему…
Она подбежала к мужу и обняла его. Он взял себя в руки и тихо проговорил:
— Оставь нас, Сонечка… Это вовсе не полицай — он партизан.
Еще больший ужас отразился в ее глазах. Она как бы застыла в отчаянии.
— Сжальтесь, — прошептала она и упала на колени перед грозным гостем. Тот смущенно встал, поднял женщину, стал успокаивать ее:
— Пожалуйста, не раскаивайтесь в том, что сказали… Это все вы неизбежно должны были сказать в создавшейся ситуации. Конечно! Я же «полицай». К кому апеллировать? К фюреру, ясно…
— Так вы… из энкаведе? — делая попытку улыбнуться, спросила женщина.
— Ну, если угодно — так, — усмехнулся гость.
— Сонечка, он не причинит нам зла, — сказал Сенкевич, — пожалуйста, дай нам договорить.
— Скажите, это правда?! Умоляю… У нас внуки…
— Я даю честное слово большевика, что ничего дурного не сделаю вашему мужу, — сказал гость.
Она прошептала что-то, опустила голову и вышла.
— Говорите, — отрывисто сказал Сенкевич.
И разведчик кратко объяснил ему свою просьбу. Сенкевич думал. Потом сказал, что вряд ли его мнения, даже если он изложит его на бумаге, будет достаточно. Все важнейшие коммуникации находятся под контролем СС в гестапо.
— Все дело в том, как аргументировать… — возразил гость. — Сошлитесь на то, что вы уже ставили в свое время этот вопрос перед советскими органами. Но к вам не прислушались…
— Почему именно сейчас я вновь поднимаю этот вопрос?
— Последний месяц интенсивность движения через мост возросла примерно в три раза… Вам эти данные неизвестны?
— Нет…
— Тогда этот повод отпадает. Вот что!.. Могли вы увидеть проходящий по мосту тяжеловесный состав? Это вас насторожило. Логично?
Инженер задумался.
— Пожалуй, это приемлемый повод, — сказал он. — Но я не могу гарантировать… Видимо, они создадут какую-нибудь комиссию…
— Пусть создают…
— И она, что очень вероятно, даст заключение не в вашу пользу.
— В том-то и дело, что это не очень вероятно. В таком сложном сооружении, как Дарницкий мост, наверняка есть узлы, которые нуждаются в текущем ремонте. Разве не так?
— Да, пожалуй… Ведь он и в самом деле давно не ремонтировался.
— Значит, в любом случае вы не ставите себя под удар. А остальным уж займемся мы.
Когда разведчик уходил, хозяин извинился за то, что встретил не так, за нервы и робко сказал:
— Скажите… ваш командир — это Ким? Не удивляйтесь, я просматриваю их прессу, когда-то интересовался политикой… Они, естественно, поносят его, обещают награды за поимку Кима — очевидно, это яркая личность?..
Посланец пожал плечами.
— Он командир…
— Он уже пожилой?
— Моих лет.
— Но вы совсем молодой человек.
— Я не такой молодой, мне скоро тридцать.
— И что ж… Он лично послал вас ко мне?
Гость молчал.
— Поймите, это для меня очень важно!.. Значит, меня не считают предателем?
— Просто Ким знает, что вы не предатель.
Гость ушел. Сенкевич долго сидел и курил.
В домике Любови Аполлинарьевны Ким появился к вечеру на третий день, веселый и возбужденный. Одет он был франтовато: серый шерстяной свитер с высоким воротом, кожаное пальто, высокие хромовые сапоги, и Клара поняла, что домик Любови Аполлинарьевны — лишь одна из его конспиративных квартир. Войдя, он сердечно поздоровался с хозяйкой, улыбнулся Кларе, прошелся по двум маленьким комнатам — и в доме вдруг стало тесно.
— Кларочка, на кухню! Мужчину надо кормить, — забеспокоилась Любовь Аполлинарьевна.
— Ужин — это отлично, тем более что я только что отказался от блестящей возможности поужинать за счет «третьего рейха»…
— Неужели ради нас? — спросила Клара.
— Ради вас и… ради еще одного человека, который сейчас должен прийти.
Женщины принялись готовить ужин. Клара начистила картошку, которую они же с Кимом и принесли. На большой черной сковороде уже шипело сало. Любовь Аполлинарьевна попросила Клару спуститься в погреб за кислой капустой.
— И поищи там бутылочку нашей косорыловки, — она рассмеялась. — Ну, первача, — пояснила она.
Когда уже стемнело, в дверь постучали. Любовь Аполлинарьевна взглянула на Кима, и лицо ее просветлело:
— Жорж!.. Его стук, — уверенно сказала она.
— Да, прийти должен он, — подтвердил Ким.
Вошел Жорж Дудкин, киевский боевик, минер, уже прославившийся своими делами. Красивый молодой парень с тонкими нервными чертами и стремительными движениями. Он обнял «тетю Любу», шаркнув ногой, представился Кларе, при этом его длинные волосы упали на лоб..
— Ждем гостя, а он вот кто!.. Жорженька… Ну, к столу, к столу, а то мои молодые без тебя не садятся, — суетилась Любовь Аполлинарьевна.
Ярко светила лампа-молния. В маленькой комнатке с ковриками и бесчисленными фотографиями на стенах было тепло, уютно и вкусно пахло жареным салом. А главное, Ким, этот непонятный всемогущий Ким, был рядом, и Кларе на мгновение показалось, что весь этот домик будто сказочный. Как все в жизни странно случается… Ведь если б тогда, в октябре сорок первого, она не пришла в свой райвоенкомат и не узнала бы, что армии очень нужны радисты, и если б она удачно не попала в школу разведчиков, наконец, не догадалась бы о заговоре мамы, тети Юсти и ее родственника, полковника Генерального штаба, — заговоре, ставившем перед собой коварную цель оставить ее в Москве, если б не эта счастливая цепочка удач — то ничего бы не было, она б не стала разведчицей и не узнала этих людей.
Девушка улыбалась и светящимися от счастья глазами смотрела на Кима — ей было хорошо и спокойно.
Клара уловила на себе взгляд Жоржа. Он держал бутылку над ее рюмкой.
— Не знаю… Право, я… — растерялась она.
— Можно, можно! Полную наливай, это — чистая, из свеклы, даром что зовут косорыловка, — разрешила хозяйка.
— Ну, так когда же к нам, Жорж? — вдруг проговорил Ким и наклонил голову. Немигающий взгляд его вдруг остановился на собеседнике, замер.
Жорж помолчал, легким кивком головы он дал понять, что вопрос услышан им, принят к сведению и теперь он будет думать.
— Так уже теперь недолго, наверное, — как бы вскользь заметил Жорж.
Ким покачал головой:
— А группа Найденова?
— Жертвы неизбежны… Но ведь как-никак держимся полтора года… И вроде есть результаты…
— Нет, Жорж, не успокаивайте себя сроками. Сейчас идет другой счет. Знаете, когда отлив… вода уходит. До какого-то момента плоскодонке удается кружиться среди камней, но все равно она сядет на мель. Эти полтора года здесь держалось на волоске.
— Вы имеете в виду их режим? — значительно сказал Жорж.
— Нет. Режим их пока что отнюдь не на волоске, к сожалению. Эта машина еще способна на многое…
— Вы так думаете? — усмехнулся Жорж.
— Я знаю это. Поднимитесь на лодке вверх по Днепру. Пройдите! Каждые сто метров доты, укрепления… Сейчас роют противотанковый ров. Они сделали выводы из Сталинградского котла и не намерены бескровно оставить Киев. Это для них рубеж. Но с приближением фронта служба СД приложит все усилия, чтобы обеспечить войскам твердый тыл. Это уже азбука войны. Никуда не денешься. Вы не удержитесь…
Женщины стали убирать со стола. Любовь Аполлинарьевна сделала Кларе знак, и обе они вышли на кухню. Голоса мужчин сюда доносились, хотя и глухо.
Ж о р ж. Это что — приказ?
К и м. Дело не в этом… Ваши Виктор и Леня — чистый клад для нас, но…
Хозяйка, видимо, привыкла к своей роли и не проявляла никакого интереса.
Войдя в комнату, чтобы убрать остатки посуды, Клара заметила, что собеседники как бы поменялись ролями: теперь Ким молчал, а Дудкин в чем-то его убеждал. Клара знала это свойство Кима: брать собеседника «на крючок» — по методу обратной реакции.
— Поймите, Ким, для меня оставить все и уйти… Это выше сил. Я не знаю, что я буду делать в лесу.
— Продолжать борьбу более эффективными средствами.
— Все понимаю. Но… я мечтал… надеялся — дождаться своих… встретить… Здесь, в Киеве. Меня знают в городе…
— Жорж, вы на краю пропасти… Слишком большой круг знает вас.
— И все-таки я не считаю, что положение нашей группы критическое, — возразил Жорж. — Но вы же сами, капитан… — в голосе прозвучали виноватые нотки, — эти ваши вылазки к нам… За вашу — не за мою — голову немцы сулят сто тысяч марок. И, кстати, приметы ваши довольно точно описаны в инструкциях полицаям.
— Жорж, мы говорим о разных вещах. Система и случай — вещи не однозначные. Разумеется, и я рискую, и меня тоже могут засечь — и даже здесь, в этом домике.
Наступила тишина. Затем Ким продолжил:
— Но это случай! А против вас методично работает их сеть. И в очередной заброс ее вы неминуемо попадетесь…
— А я не думаю! — вдруг запальчиво ответил Жорж.
Клара вышла на кухню. Было уже десять часов вечера.
— Напомнить бы Жоржику — в половине одиннадцатого на берег выходит ночной патруль. Эти после отдыха, свеженькие, — шепотом сказала хозяйка.
Но разговор Кима с Жоржем не обещал скоро окончиться. Вдруг в кухню вошел Жорж и, зачерпнув кружкой воды в ведре, выпил ее до дна.
— Что ж ты холодной, чаю бы, — забеспокоилась хозяйка.
Жорж остановился, взглянул на женщин.
— Жорженька, ты как?.. Может, останешься? — засомневалась хозяйка.
— Нет-нет… Я — не берегом. Через палисадник и — наверх.
И он снова ушел в комнату.
Усталая Любовь Аполлинарьевна присела на табуретку, закрыла ладонью глаза и проговорила:
— Господи, убереги ты их… Молодые, жизни совсем не видели… — Потом обернулась к Кларе: — Вот я… старая женщина. Ну что мне? Придут, возьмут — да и взять-то с меня нечего, пусть убивают. Я свое отжила. А вы?!. А ты?! Посмотришь — сердце кровью обливается. А матери каково? Она хоть знает про тебя?
— Догадывается. А папа точно знает, — ответила Клара.
— Мой-то сын, Гера, в финскую погиб, двадцати еще не было. Нет ничего, Кларочка, страшней, чем потерять сына. Теперь я уже ничего не боюсь. Пусть мучают…
Дверь отворилась. На пороге стоял Ким. Жорж одевался у вешалки.
— Любовь Аполлинарьевна, я бы советовал вам уговорить Жоржа остаться, — сказал Ким.
И Клара почти физически ощутила на себе его тяжелый немигающий взгляд.
— Боже мой, конечно!.. Жорженька! Хочешь, я у себя тебя положу?
— Тетя Люба, все будет нормально, — твердо произнес Жорж, надевая пальто.
Ким подошел к нему, обнял за плечи:
— Жорж, это уже серьезно. Сейчас одиннадцать без пяти. Вам предстоит миновать две магистральные улицы. Пропуск у вас до десяти. Рекомендую остаться.
И вдруг Клара заметила настороженный, как бы прячущийся взгляд Жоржа, — косясь на нее, он совал ботинок в галошу и не мог попасть. Наклонился и стал поправлять задник пальцами. Она подошла к нему и мягко сказала:
— Жорж, я очень прошу вас… Не уходите.
— Прошу вас, не беспокойтесь, хозяева здесь мы, — твердо сказал Дудкин и стал прощаться.
Инженер Сенкевич выполнил то, что от него требовалось: он написал на имя обер-коменданта города Киева толковую бумагу с инженерным обоснованием необходимости планово-предупредительного ремонта Дарницкого моста через Днепр. Эта бумага заканчивалась так:
«До войны в качестве инженера треста «Киевдормост» я ставил подобный вопрос перед советскими официальными органами. Но положительного ответа не добился; более того, был обвинен в саботаже. В настоящее время строительная служба магистратуры снимает с себя дальнейшую ответственность за эксплуатацию сооружения».
Следствием этой бумаги явилась резолюция о создании комиссии по обследованию моста. В нее вошли двое служащих магистратуры, помощник бургомистра, сам автор записки — Сенкевич. Председателем был назначен обер-лейтенант инженерных войск. Трудно сказать, к каким выводам пришла бы комиссия. Психологически разведчиками был сделан очень точный расчет на бюрократизм и перестраховку, процветавшие во всех сферах гитлеровской военной машины, где каждый чиновник боялся взять на себя ответственность за решение какого-либо вопроса.
А бумага Сенкевича именно этого и требовала! Рассказывают, что комиссия дважды обследовала мост, второй раз с участием двух эсэсовцев. Существует легенда, что этими двумя эсэсовцами были Ким и Тиссовский. Документально эта версия нигде не находит своего подтверждения. Есть лишь свидетельство одного из рабочих, что Ким появлялся на Дарницком мосту в форме офицера СС. Но это уже было позже, когда немцы начали ремонт моста и согнали на работы местное население.
Бесспорно, что Ким держал работу комиссии под своим наблюдением, иначе все затеянное им дело не имело бы смысла. Но вряд ли он пошел бы на авантюру. Ведь среди членов комиссии были официальные лица, знавшие местную службу СС. Разоблачение грозило не только гибелью руководителей центра, но и провалом всей задуманной операции со взрывом моста. Но каким же образом, если не личным участием в работе комиссии, Ким мог воздействовать на то, что комиссия все-таки сделала нужное ему заключение и ремонт Дарницкого моста начался? Или он предоставил все дело случаю?
Нет. Это почти что исключено. В отчете Кима, написанном им уже после освобождения Киева нашими войсками, есть такие строчки:
«В нашей работе были случаи, когда нам удавалось завербовать мадьярских офицеров и немцев из военных и гражданских. Они имели доступ к тем местам, которые нас интересовали. За деньги фашисты легко продаются. За деньги и спирт».
Скорей всего кто-то из членов комиссии, возможно что и сам председатель, был куплен Кимом через посредника. При этом лицу, получившему взятку, вовсе не обязательно было знать, от кого и за что он получил ее. Ему поставили единственное условие — дать нужное заключение, которое он, возможно, дал бы и без взятки, по объективным причинам.
Ну, а если все-таки следовать легенде и допустить, что Ким и Тиссовский принимали участие в работе комиссии? Элемент авантюризма нельзя начисто исключить в работе разведчика. Но если это и так, то Ким, учитывая психологию врага, очевидно, был противником ремонта моста. Можно даже представить себе, как он требовал от членов комиссии объективного подхода к оценке состояния мостовых сооружений, говорил о сложном положении на фронте и о невозможности перекрыть мост и прекратить подвоз важных грузов на Восточный фронт. Наконец, можно представить себе, как, вызвав нервозность среди членов комиссии, он согласился на ремонт при одном условии: ни в коем случае не приостанавливать его эксплуатацию, А если уж это крайне необходимо, то лишь на самые короткие промежутки — два-три часа, не более. Естественно, что комиссия должна была обрадоваться такому выходу, снимавшему с нее ответственность за выводы.
Так или иначе, но ремонт Дарницкого моста начался.
Немцы согнали на мост человек полтораста мобилизованных рабочих, в основном киевлян. Те стали возводить леса. Для прохода на мост рабочим выдали пропуска — «арбайткарте». В тот же день фотокопия пропуска была у Тиссовского. Дальнейшее уже было делом техники. Подрывники во главе с Курковым под видом рабочих проносили в карманах взрывчатку. За две недели у основания второй фермы было заложено около двухсот килограммов тола. В назначенный для взрыва день на мосту вновь появились эсэсовцы. Они провели тщательный осмотр работ. За несколько минут до взрыва они вошли в караульное помещение, оставили там засургученный пакет на имя коменданта и отбыли.
Визит этот и пакет, заключающий одну фразу: «Привет от Кима», — не были пустой бравадой. Ким должен был показать, что взрыв организован им, и таким образом хоть частично отвести удар от тех, кто работал на мосту. Все непосредственные участники были отозваны в лес. Сенкевичу тоже предложили уйти, но он отказался, ссылаясь на плохое здоровье.
Ровно в полдень 23 марта 1943 года второй пролет Дарницкого моста рухнул в Днепр вместе с проходящим по нему эшелоном. Спустя шесть часов, когда на левом берегу скопились десятки эшелонов противника, на цель вышли наши бомбардировщики.
НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ
К созданию радиоточки в Киеве готовились особенно тщательно. Поэтому разведчики были спокойны за Надю. Тиссовский разработал систему мер безопасности. За конспиративной квартирой постоянно наблюдали связные. Когда Надя появлялась в городе, ее непременно сопровождал и охранял один из связных Кима. Чаще всего Буялов. Это был очень верный человек, и Ким сам избрал его для такой работы. Радистка ежедневно меняла время сеансов и волну. Наде разрешено было передавать полученные ею сведения, минуя Кима, прямо в Москву. Но сам командир был все-таки неспокоен. Тиссовский чувствовал это и однажды прямо спросил своего командира, с чем связана его тревога за Надю и был бы он спокоен, если б в Киеве работала Клара.
— Да, за Клару я меньше бы волновался, — ответил Ким.
— Вы неисправимы, — улыбнулся Тиссовский. — Но почему, почему? Только потому, что сделали наперекор себе?
— Не потому, — ответил Ким и тотчас же поправился: — Не только поэтому. Обе они дисциплинированные девушки, но Клара более точна.
— А какой непосредственный повод для волнения? Ведь две недели все благополучно.
— Что ж, будем надеяться на лучшее…
— Тем более в Киеве у нас верные друзья, — заметил Тиссовский.
— Но одна группа у них уже провалилась. Случайно ли? Может быть, к ним проник гестаповский провокатор?
— В такой ситуации твердых гарантий быть не может, — сказал Тиссовский.
Решили пока оставить все так, как есть. По просьбе Кима Немчинов запросил из Москвы копии Надиных радиограмм. Таким образом, вся работа киевской радиоточки тотчас становилась известна Киму.
В апреле Кима посетило московское начальство — Петр Федорович Смирнов, старый полковник, воспитанник Берзиня. Он был послан инспектировать центр. Ким приставил к нему Тиссовского, который подробно рассказал гостю о связях центра, разведчиках, планировании очередных операций. Полковник слушал молча, не хвалил и не порицал.
— На тот случай, если наш человек допустит ошибку, введена система двойной подстраховки, — пояснял Тиссовский.
— Вижу. Профессиональный подход, — кивал Смирнов.
— Наших людей на местах мы стремимся держать на легальном положении.
— Это судя по обстановке. Вам видней.
— А какие, по вашему мнению, у нас просчеты? — спросил Тиссовский, закончив доклад.
Полковник задумался. В этот момент вошел Ким.
— Вот кстати, — сказал полковник. — Меня заинтересовал один ваш человек, я бы хотел встретиться с Сенкевичем. У командира нет возражений?
Ким с Тиссовский переглянулись.
— Я рассказал товарищу полковнику об участии Сенкевича в организации взрыва моста, — пояснил Тиссовский.
— Сенкевич в Киеве, — ответил Ким.
— Перешел на нелегальное?
— Нет. Отказался.
— Вот, пожалуй, это уже непрофессионально, — заметил полковник, — и как же?
— Работает в магистратуре по-прежнему.
— Но неизвестно теперь, на кого.
— Известно. На нас.
— Почему же фашисты его не тронули? Там дело знают.
— Мы приняли некоторые меры. Партизаны составили список лиц, подлежащих суду за сотрудничество с немцами. Включили в него Сенкевича и позаботились, чтобы гестапо заполучило этот список через своих шпионов.
— Усложненная комбинация… Но поскольку желаемый результат достигнут — не берусь осуждать. Вот вашу авантюру на Крещатике с убийством… группенфюрера вам бы вряд ли простили. Но поскольку бумаги его оказались действительно важными, — полковник развел руками, — скажу по секрету: вы представлены к высокой награде. Ваш помощник Франкль тоже представлен к ордену.
Неожиданно в центр прибыла еще одна гостья — Ольга Беклемешева. Дозорные партизаны обнаружили парашютистку в лесу. Она назвала себя и была доставлена в штаб Науменко. Тот известил Тиссовского. Ким был в отлучке.
— Но мы никого не ждем, — с недоумением сказал Тиссовский.
— Яка ж она есть? Может, подосланная? — встревожился Науменко.
Тиссовский пошел сообщить полковнику Петру Федоровичу Смирнову. Тот тоже удивился, что штаб, забрасывая разведчицу, не уведомил об этом центр, и велел тотчас же запросить московское руководство. Гостья просила встречи с Кимом, утверждая, что у нее есть инструкции, которые должна передать лично ему.
— Який такий Ким? — спросил ее Науменко. Здесь же сидели Тиссовский и Петр Федорович, пришедшие к нему в штабную землянку.
— Я не понимаю, вы со мной разговариваете как с ребенком… Я прибыла к Киму, в его распоряжение. Вот документы, — отвечала Беклемешева.
— Откуда вы прибыли? — спросил Петр Федорович.
Ольга Беклемешева внимательно посмотрела на него.
— Простите, а кто меня спрашивает об этом? — парировала она.
— Тот, кто имеет право на это, — сказал Тиссовский.
— Но тому должно быть известно, откуда я и кто меня направил сюда.
— Я — Ким. Слушаю тебя, — сказал Степан Ефимович, снимая очки.
— Вы не Ким.
— Бойкая ты, дочка…
— Будешь бойкой… Своя своих не познаша — это стиль вашей работы?
Полковник молча наблюдал за этой сценой. Затем, когда прибывшую гостью увели, посоветовал не допускать ее в центр до получения ответа из Москвы. Ответ вскоре был передан во время очередного сеанса. Москва ничего не знала о разведчице Ольге Беклемешевой. Предупредили: опасайтесь провокации, но добавили: не исключено, что Беклемешева послана разведотделом Центрального фронта, который последнее время проявляет большой интерес к Киму и его группе.
— «Квалифицированно» работают, — съязвил Тиссовский.
— М-да, — согласился полковник, — но учтите, штаб Центрального не так давно сформирован. Набрали новых, службы не знают…
Вернулся Ким. Он встретился с Беклемешевой в гриме, не называя себя. И, видно, тоже не пришел ни к какому решению. Тиссовский поручил охране наблюдать за прибывшей гостьей. Война. Все может быть. А возможно, все проще. Послали девчонку, потом забыли о ней. Опять же — война.
Однажды вечером Ким обсуждал с полковником ближние перспективы партизанской войны, и полковник посоветовал выдвинуть единого командующего партизанскими силами.
— Фактически командуешь сейчас ты, — говорил Петр Федорович, — а у тебя и так забот много. Сотни разведчиков, ими же надо руководить… Или уж тогда бери на себя командование, создавай свой штаб… Запросим Москву.
— У меня есть свое дело, — задумчиво проговорил Ким.
Движение требовало единого военачальника. Иногда он колебался. Как боевой офицер, Ким, естественно, стремился к руководству теми силами, которые уже при нем из небольших групп превратились в полки, батальоны. Но еще больше души он отдал организации центра. Здесь все было налажено. Разведывательная сеть набрала силы. Уже в некоторых городах существовали свои маленькие центры со своими рациями, связными. Оставить все это?
— А вы как считаете, Петр Федорович? — спросил Ким.
— Я думаю так, голубчик… Командующего мы найдем, а вот хорошего резидента — не уверен… Помощники у тебя отличные, они на своих местах, и не больше. Кого бы ты предложил поставить командующим?
— Степан Ефимович мог бы, но у него нет военного образования.
— Нежелательно, Ким, голубчик. Командующий должен быть кадровым военным. Кто еще?
— Юрий Збанацкий, но он политработник. Его можно комиссаром соединения поставить… Есть еще Таращук, он сейчас в походе… Строевой капитан…
— Так в чем дело?
Ким молчал.
В землянку постучали.
— Да… Кто там? — спросил Ким.
— Я, товарищ командир… — раздался знакомый негромкий голос.
Ким поспешно отворил дверь. На пороге стояла Клара.
— Здравствуйте, Клара, — улыбнулся он, пропуская ее в землянку. Она вошла, доложила, что явилась с задания. Ким представил ее полковнику.
— Видел в Москве в школе, помню, — улыбнулся полковник, — а вы меня? Впрочем, я в форме был, не как сейчас…
— Вы были у нас перед ноябрьскими праздниками, — отвечала Клара.
— Верно. Память не девичья, — улыбнулся Петр Федорович. — Далеко были?
— Ходили к Чернигову и севернее.
Она рассказала о своих впечатлениях, о встречах.
— Бои были? — спросил Ким.
— Не знаю… По-моему, что-то было, — смущенно отвечала она. — Я все время была у рации… боялась за нее.
— Станы громили?
— Да, полицаев… Но так боев не было… По-моему, их даже в плен не брали — распустили, и все… А это ночью было… В селе Новая Гута остановилась на постой рота немецкой пехоты. Збанацкий окружил село и ночью провел операцию.
— Никто не ушел?
— Нет. Взяли нескольких пленных, двух офицеров, все снаряжение роты, оружие, документы…
Помолчали. Потом Ким сказал, что теперь, в связи с командировкой Нади, Клара будет дежурить поочередно с Левым. Сейчас они работают на пару с Немчиновым, но Андрею тоже предстоит дальний вояж.
— Товарищ командир, а Надя надолго командирована? — спросила Клара.
— Она в Киеве, — отвечал Ким. — Надолго ли?..
Он замолчал, вдруг вспомнив все, что было связано с ее отправкой. Потом продолжал:
— Да… Сейчас трудно сказать. Завтра попробуем с ней связаться. Возможно, вам придется сменить ее через некоторое время.
Клара ушла.
— Славная девочка, — сказал Петр Федорович, как-то особенно взглянув на Кима.
— Да, она нравится мне, — ответил Ким, выдержав взгляд полковника. Тот первый отвел глаза.
— А от своих не имеешь вестей никаких? — спросил Петр Федорович.
— Нет…
— Далеко они?
— Километров двести с лишним — в Сумской области…
— Посылал проведать? Ким покачал головой.
— Пошли! Самому ходить опасно — тебя знают, а связного пошли…
Утром к Киму зашел командир отряда Збанацкий и рассказал подробности рейда.
— Хорошо сделали, — закончил он. — Они не ждали, конечно… Когда мы стали сжимать кольцо, немцы попытались выйти и ворвались в наше расположение… Стрельба! Клара твоя легла на рацию, закрыла ее собой, чтоб осколком или пулей аппарат не задело. Смелая девушка.
Ким молчал.
— И характер хороший. Сразу чувствуется воспитание.
— Разведчица, — сказал Ким. — Ты вот что лучше скажи, движение расширилось, действуют три отряда. Нужен командующий, нужен единый штаб, который бы координировал действия. А? Есть такое предложение.
Збанацкий задумался. Потом взглянул на Кима и медленно проговорил:
— В принципе я — «за».
— Кого предлагаешь?
Последовало молчание. Ким ждал.
— Пусть высказываются товарищи, — сказал Збанацкий, — я подумаю. На мой нехитрый ум — надо б тебя. Ты положил начало объединению, ты и…
— Это отпадает.
— Тогда не знаю… А твое мнение?
Но Ким тоже уклонился от ответа.
Отпустив Збанацкого, он пошел к Тиссовскому. Землянка конспиратора имела два входа. Один обычный, в доступную часть землянки, известный связным, другой — лаз сверху, под дерном — в секретную часть, о которой знали лишь Ким и Тиссовский.
Здесь было целое хозяйство. Пишущие машинки на разных языках, затем огромный пресс, на котором изготовлялись нужные документы. Ротатор для печатания листовок и прокламаций, немецкие печати, бланки и прочее.
— Все-таки кое-какие полезные вещи они печатают, — улыбаясь, сказал Тиссовский и подал Киму очередной листок «За вольную жизнь». — Пробегите-ка, командир…
Ким взял газету. На первой странице он увидел огромную фотографию человека в форме офицера СС, с казачьей саблей в руках. «Юрий Павлов — рыцарь украинских степей», — гласила подпись. В помещенной рядом заметке говорилось, что командир казачьего батальона, в прошлом капитан Красной Армии Ю. Павлов, добровольно сдался в плен и вступил в ряды армии «третьего рейха».
— Это каратели, — сказал Тиссовский.
— Целая боевая единица… Откуда они набрали столько предателей? Впрочем, надо еще смотреть…
— Это не просто предатели… Это уже обученные тактике борьбы с партизанами, — заметил Тиссовский.
— Что ж, СД продуманно действует, хочет связать их намертво. Партизан практически около двух с половиной тысяч. Батальону здесь делать нечего… Приманка. И политика. Русские против русских, — сказал Ким, И подумав, продолжал: — Проверьте этого «рыцаря»… Кто, что, откуда — все, что можно собрать о нем. Заведите досье на него.
— Хотите устранить?
— Просто так — нет. Возьмем и будем судить открытым судом. Но, сдается мне, если не спешить, его уберут сами немцы.
— Непонятно, какой смысл ям это делать?
— Смысл как раз есть. Тот, на кого можно положиться, им служить не будет. Им служит всякая шваль, и это они понимают. Предателей обычно сперва используют, а затем отделываются от них. Но посмотрим… А что нового в киевской точке?
— Я чувствую, вы хотите послать туда на смену Клару.
— Что ж, это было бы справедливо.
— Смотрите сами.
— Сейчас еще, может быть, рано. Надя тем около месяца?
Тиссовский ответил не задумываясь:
— Через два дня — месяц.
— Я думаю, что надо представить ее к награде. Ваше мнение?
— Да, конечно. Но я вот сейчас как раз сверяю правильность переданных ею в Москву данных.
— Расхождений с нашими источниками по-прежнему нет?
— Первые три недели почти полностью совпадают. А с девятнадцатого начинаются расхождения. Образуются ножницы…
КАЗАЛОСЬ, ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕНО…
Спустя некоторое время Тиссовский доложил Киму сведения о «рыцаре украинских степей», собранные среди местного населения. Но странно: по данным этим получалось, что Павлов вел какую-то непонятную карательную политику. Повешенный им в Черном Бору староста был заочно приговорен партизанами к смертной казни за выдачу немцам семей военнослужащих.
— Ошибки здесь нет? — спросил Ким.
— Случайность возможна, но ведь это не первый раз, — ответил Тиссовский.
— Да, бывает так — и нашим, и вашим. Страхуется ваш Павлов на всякий случай. Что я вам говорил? Нет, немцы его быстро уберут.
Ким сел за стол и, положив перед собой донесения из Киева, стал анализировать их. Последняя декада месяца явно давала пищу для размышлений. По данным Нади, через Киев к востоку шли эшелоны с пехотой. А связные утверждали, что с танками. Возможно, здесь было недоразумение. Хотя?.. Спутать полевую артиллерию с зенитной — это еще куда ни шло. Но танки с пехотой?..
В девятом часу вечера после сеанса с Москвой Клара принесла Киму только что полученную ею радиограмму. Это была копия очередного сообщения Нади из Киева в Москву. Ким прочел текст:
«Прошу прислать самолет с питанием для рации оружием боеприпасами тчк Место посадки прежнее костры прямоугольником двадцать на двадцать тчк Сообщите вылет встречаем Зоркая».
— Вы разрешите и мне пойти встречать самолет? — спросила Клара.
— С подругой хотите увидеться? Ее там не будет, — отвечал Ким.
— Тогда, конечно, нет смысла, — согласилась Клара. — Кто же будет встречать?
Ким молчал, уйдя в свои мысли. Она ждала.
— Да… — наконец произнес он. — Там есть кто… Буялов и другие.
— От нас никто не пойдет? Я хотела переслать с летчиком письмо родным.
— Возможно… Я буду говорить с Тассовским и извещу вас. Вы с Надей не пытались связываться?
— Меня предупредили, там пеленгаторы, лишний раз рисковать…
— Знаю. Это мое распоряжение. Но случай особый. Надо уловить хорошее время, обычно утром, часов в восемь, когда у пеленгов дежурит ночная смена. У них уже внимание притуплено.
— Хорошо. Я утром попробую. Мне можно идти? — спросила Клара.
— Да, если вы торопитесь. А то досидели б немного. Что-то плохо я соображаю… Рассказали бы что-нибудь, — попросил Ким и тотчас внутренне упрекнул себя: «Что-то плохо я соображаю», — мол, устал, пожалей…
— Еще бы!.. Вы сутками не спите, — отвечала она, садясь и сочувственно взглянув на него.
«Ну вот, все точно, можешь радоваться, разжалобил девочку», — пристыдил себя он и сказал вслух:
— И вовсе я не устал… Просто я это придумал. Хотелось, чтоб вы побыли еще…
Во взгляде ее скользнуло удивление, тревога.
— Я великолепно сплю, Кларочка! Ни разу еще не пользовался снотворными порошками… Все жду, когда потребуются. А ложусь — и как убитый.
— Я пойду, хорошо? А вы ложитесь и отдыхайте. Я скажу часовому, чтоб к вам никого не пускали.
— Если вы спешите… Но мне все равно не спать до прихода Тиссовского…
Клара молча смотрела на полукруглый синеватый огонь лампы. На самом деле, он чувствовал это, она думает о нем и решает что-то очень важное для себя и… для него. Подумал о том, как вела она себя обычно при ежедневных докладах. Тон всегда был серьезным, пожалуй, слишком даже серьезным. Девушка как будто подчеркивала, что приходы ее ограничиваются лишь служебной необходимостью. Во взгляде не было того любопытства, какое он с некоторых пор стал возбуждать у окружающих. Иногда он ощущал ее сочувствие. Ким не мог лгать себе: его влекло к этой девушке. Семейной-то жизни он почти и не видел.
И сейчас он смотрел на ее лицо, чуть раскосые глаза, плотно сжатые губы. Клара по-прежнему, не отрываясь глядела на огонь лампы. И вдруг то, чего он втайне желал, показалось ему возможным и близким. Он подошел к ней и положил руку на плечо. Она не двинулась. Секунду он ждал еще. И понял: она любит его.
— Клара…
Она взглянула на него. Потом опустила глаза. И ответила, после недолгой паузы.
— Я пойду…
Он молчал. Она встала.
— Уходите? — спросил он.
— Вам правда нужно отдохнуть, — повторила она, не глядя на него. — Значит, утром я ищу Надю в эфире? Я верно поняла вас?
Ким молчал. Он «отключился» и теперь вновь был в прошлом. Он видел себя юношей-курсантом, актовый зал училища… И он в новеньком мундире, со значком ГТО ищет глазами среди гостей зелененькое Танино платьице…
— Товарищ командир!
— А?..
— Я верно вас поняла? — спросила она.
— Да. — И, помолчав, добавил уже другим тоном: — А теперь вот взгляните-ка…
Он подал ей сравнительную таблицу. Она долго, напряженно изучала ее. Над тонкой переносицей сошлись едва заметные морщинки. Прядь волос упала на глаза, и она отбросила их резким движением, а затем поправила рукой. Вздохнула и вопросительно взглянула на Кима.
— В левой графе данные, переданные Надей в Москву, а в правой — полученные нами от других, — пояснил он.
— Это я поняла.
— С девятнадцатого начались расхождения.
— Я вижу. Но мне неясно, какие из этих данных правильные.
— Надины неверны.
— Это точно?
— Да, проверено по двум каналам.
— Тогда плохо… — сказала она и после небольшой паузы предложила: — Пошлите меня в Киев, может быть, я сумею что-нибудь выяснить.
Он покачал головой.
— Пока это исключено. Вначале нужно проверить то, что вызывает опасения. Карандаш есть? Запишите и подготовьте для передачи в Москву.
Она быстро приготовилась.
— Пишите: «По телеграмме Зоркой сообщаю. Готовьте к отправке самолет. Назначьте день и час вылета и поставьте ее в известность об этом. Между назначенным вами временем и фактическим вылетом самолета должны пройти сутки. В течение этих суток я пришлю подтверждение, без которого отправлять самолет не рекомендую. Ким». Все.
За дверью послышался шум шагов, потом там кто-то долго возился, наконец дверь отворилась и вошел Тиссовский. По одному его взгляду Ким понял, что заместитель его удивлен, застав Клару здесь в неурочный час. Очевидно, и Клара заметила этот взгляд: щеки ее и мочки ушей порозовели. Это рассердило Кима, и он, вместо того чтобы продолжать деловой разговор, замолчал, чем еще более усилил неловкость.
— Разрешите идти? — спросила она.
— Нет, — вмешался Тиссовский. — Прошу вас, Микки, побудьте еще, а то я стану думать, что ваш уход связан с моим приходом.
— К сожалению, нет, — ответил за Клару Ким. — Клара уже давно порывалась уйти, но я придумывал разные предлоги, чтобы задержать ее. — Он виновато улыбнулся, и неловкость тотчас рассеялась. Тиссовский стал жертвой своего же психологического приема и не поверил Киму именно потому, что тот сказал правду.
— А на дворе-то весна, — сказал Тиссовский.
Ким и Клара молчали. Тиссовский снял полушубок, присел к столу. Теперь все трое смотрели на синевато-оранжевый свет лампы. Клара ощущала прилив радости, сознавая, что сегодня она как бы коснулась тайны. Смутным, пробудившимся в ней женским чутьем она сознавала, что между нею и Кимом что-то возникло. Большего она не ждала и не требовала. И Ким испытывал внутренний подъем от сознания душевной близости с ней. Тиссовский наблюдал за ними со снисходительностью старшего.
— Я провожу вас, — сказал Ким Кларе.
Они вышли из землянки.
Лес шумел по-весеннему. В небе то проглядывал, то исчезал за облаками серп месяца. Тропинка заледенела, и Ким поддерживал Клару под руку. Шли молча. Он напряженно думал, ему хотелось сказать ей что-то хорошее. Но они уже приближались к ее землянке, а он все не находил нужных слов.
— Вот я и дома. — Она обернулась к нему, улыбнулась своей ясной улыбкой. Раскосые карие глаза ее на мгновение блеснули. Она протянула руку. Он молча пожал… и пошел обратно. А придя к себе, долго еще не ложился, сидел у стола и курил.
Кларе не удалось связаться с киевской точкой: Надя не принимала ее позывных. В ответ на радиограмму Кима Москва сообщила, что самолет будет выслан с питанием для радий, оружием, боеприпасами. И, конечно, был задан вопрос: «Для чего вам нужны резервные сутки?» «Не поняли», — сокрушенно вздохнул Ким и велел Кларе вновь подтвердить: в целях безопасности необходим разрыв между назначенным сроком и фактическим прибытием самолета. Ответная радиограмма носила шутливый характер:
«Слушаемся, товарищ начальник».
Но, принимая меры предосторожности, Ким все еще надеялся на благополучный исход. Судьба Нади сильно его тревожила, и интуицией разведчика он чувствовал, что что-то случилось. Передаваемые Надей данные очень походили на дезинформацию. Посланный в Киев разведчик вернулся ни с чем, он не нашел Нади. Квартира оказалась запертой. Если бы здесь побывали немцы, они, очевидно, устроили бы мышеловку и брали бы всех, кто подходит к этой квартире. Возможно, радистка просто сменила адрес, но в таком случае она обязана была предупредить Кима. Допустим и другой вариант: немцы все-таки засекли рацию, раскрыли квартиру, но хотят скрыть это от наших разведчиков и как можно дольше держать их в неведении.
Встреча самолета была назначена на полночь двадцать пятого апреля. Еще с вечера разведчики Кима подползли к условному месту у Красных полян и, не разжигая костров, засели в секрет. Мера предосторожности вскоре оправдала себя: за час до полуночи к посадочной площадке подошли немцы с фонариками. Их сопровождали полицаи, очевидно, для того, чтобы тотчас по прибытии самолета русской речью усыпить бдительность летчика, взять его живым. Отряд разложил костры квадратом. Для офицера поставили палатку, видимо, настроились на долгое ожидание. Разведчики Кима, следуя инструкции, тихо снялись с секрета и ушли. В ту же ночь Клара передала молнию Белову:
«Самолет не высылайте. Засада».
Теперь уже надеяться было не на что: сам факт появления фашистов на условленной площадке говорил о провале киевской радиоточки. Значит, Надя попала к ним в руки.
Вскоре одна из групп киевских подпольщиков была арестована гестапо. Очевидно, эти события имели прямую связь.
НА КОНСПИРАТИВНОЙ КВАРТИРЕ
Обыкновенно с утра Костя Буялов уходил в город по своим делам и возвращался лишь к вечеру. Надя оставалась одна в небольшой двухкомнатной квартире старого дома в одном из тихих, мощенных булыжником, нагорных закоулков близ Киево-Печерской лавры. Кто жил в этом доме, какие люди — она не знала. Большинство дверей на этажах казались заколоченными. Да и вся эта часть города была словно вымершей. Некоторое оживление царило лишь в самом центре, вокруг Крещатика.
На этой конспиративной квартире Надя жила уже почти три недели. Два или три раза в сутки она работала на рации, передавала в Москву сведения, которые доставлял Буялов. Поток информации был большой и разнообразный. Отправляя в Киев Надю с Костей, Ким сказал: «Ценность ваших данных определят там, в Москве. Вы об этом меньше всего думайте, не пренебрегайте ничем».
Относительно спокойный зимний период кампании подходил к концу. Ставке было очевидно, что немцы готовят силы для нового концентрированного удара. Но где? На каком из участков тысячеверстного фронта? Ответить на этот вопрос, от которого, быть может, в значительной степени зависел исход битвы с участием 2—2,5 миллиона людей с обеих сторон, могла лишь разведка, точнее — собранные ею сведения. Немцы тщательно скрывали направление предполагаемого удара, маскировали составы, заранее объявляли ложные маршруты их следования и лишь в момент отправки вручали командирам колонн запечатанный пакет с приказом и указанием фактического пункта назначения. И все равно сведения просачивались через диспетчеров, машинистов, линейных мастеров — слишком уж велик был масштаб передвижения контингентов всех родов войск. И на каждой станции, на каждом полустанке у Кима были свои люди. К весне 1943 года созданная Кимом резидентура фактически охватывала все основные железнодорожные коммуникации Украины.
…На улицу Надя выходила редко и только вместе с Костей. Очень много времени уходило на зашифровку передаваемых донесений. Но вот однажды вечером к ним зашел высокий парень, назвавший себя Женей. Двери ему открыли по паролю. Гость представился, сказал, что он от Жоржа, и спросил, не нужна ли какая помощь.
— Какая помощь? — усмехаясь, спросил Костя, как бы не понимая, о чем идет речь.
Это была обычная подстраховка. Костя подошел к Наде, положил ей руку на плечо. Для лучшей конспирации киевская радиоточка Кима работала локально, вне связи с киевским подпольем. Жорж Дудкин один знал, для чего Киму потребовалась конспиративная квартира, и больше никому об этом знать не следовало. Появление человека, предлагавшего свои услуги и помощь неизвестно в чем, — по крайней мере он не должен был бы это знать, — вызвало подозрение. Конечно, это можно было объяснить несогласованностью или ненужной самодеятельностью кого-то. Такие случаи бывали, к сожалению, иногда даже имели трагические последствия, На самом Крещатике одной из боевых групп было взорвано здание, в подвалах которого другая подпольная группа оборудовала тайную типографию и склад с различным снаряжением, и все это, конечно, погибло при взрыве. И случалось, стреляли по своим, и убирали по подозрению, которое не всегда подтверждалось.
Слишком большой круг смелых, честных, но неподготовленных и не всегда дисциплинированных людей был привлечен к сложной и опасной разведывательно-диверсионной работе. Центр Кима, во главе которого стоял кадровый командир Красной Армии, а в помощь ему был придан профессиональный конспиратор, по четкости работы и организованности стоял неизмеримо выше всех остальных групп.
— Костенька, чем он нам может помочь? — отозвалась Надя и взяла Костину руку в свою. Она подхватила его версию: мы, мол, молодые, приказали сидеть — сидим, чего горевать, нам хорошо. И, между прочим, мы ничего не скрываем. Такова примерно была логика их поведения.
— А может, в чем и могу? — значительно сказал гость.
— Ты что, богатый? Одолжи сто рейхсмарок, — простовато сострил Костя.
Гость понимающе улыбнулся.
— Бросьте, ребята, темнить… Ведете вы себя правильно, одобряю, — в голосе его послышались покровительственные, даже начальственные нотки. — Ну, давайте для первого знакомства…
Он достал из кармана пальто бутылку.
— А это кстати, — весело сказал Костя.
На самом деле бутылка еще больше встревожила его — не та ситуация, чтобы пить при первом знакомстве. Но в то же время жест гостя был человеческий и вполне объяснимый: зашел парень из местных, вроде бы он здесь хозяин, чего ж не выпить. Выпить теперь придется. А после? В инструкции был пункт об устранении провалившегося работника. Это был довольно жесткий пункт, а также жестки были и рамки, в которых разрешалось его применять.
Костя был вышколенный солдат, серьезный, глубокий парень, несмотря на свои двадцать четыре года. Несколько месяцев он работал с Кимом, охраняя его. Потом по его приказу отправился в Киев с Надей. Он понимал, что это — «техорг», как называли такую работу разведчики. Знал, что именно в это время настоящее дело делается не здесь, а на Восточном валу, на всем его протяжении. Но ему приказано быть здесь, и все. За одну возможность отвести от Нади предполагаемый удар он готов был отдать жизнь, без всяких колебаний, просто это была для него работа. Как всегда в таких случаях, он мгновенно вспомнил все наставления, все «за» и «против». Против гостя говорил такой наказ командира: «Киевское подполье пережило ряд тяжелых ударов. Были провалы отдельных групп. Учтите, туда могли просочиться и провокаторы». За него: «Помните, в нашей работе важно не перемудрить: своих постреляешь!»
Пришедший человек знал пароль, Жоржа. Какие основания для его устранения? Тут ведь жизнь человеческая. И вся их работа — это своего рода игра условностей, смертельная игра. Устранишь — ведь обратно не поставишь. И все трое сели за стол. В бутылке оказался самогон, крепкий, сладковатый.
— С мостом хорошо ваши сработали, ловко, добрый подарок к приезду Геринга. Сколько голов полетело… — сказал гость.
Закуривая, Костя уловил на себе вопросительный взгляд Нади, но как бы не заметил его.
— Точно, это наша работа, — с явным оттенком хвастовства сказал Буялов. «Ах ты так, ну и мы так», — решил он.
— Ну, Жорж тоже приложил руку к мосту, — заметил гость.
Эта реплика немного успокоила Костю. В ней он усмотрел отголосок тех «соревновательных» настроений, которые и в самом деле проскальзывали среди людей Кима и людей Жоржа.
— Мальчики, рассказали бы что-нибудь интересное, а это — скука, — сказала Надя.
— Давно скучаете? — тотчас спросил гость.
— Ну, в самом деле, все про одно, — не отвечая на вопрос сказала Надя.
— Да, братцы, вы сколько здесь? Ну, две-три недели, так ведь? — Гость остановился, сделал паузу. — И уже стонете. А мы скоро два года.
«Да нет же! Свой парень… Им и в самом деле труднее, чем нам в лесу», — решил про себя Буялов.
— Между прочим, Жорж интересовался, в какие дни и часы у вас бывает сеанс с Кимом? Жорж, может быть, сам подойдет сюда… Поговорить хочет.
Это уже был совсем глупый вопрос. Во-первых, такими вещами между прочим не интересуются. «Да это просто дурень какой-то, дела не знает, порет отсебятину», — с досадой подумал Костя.
— Какие сеансы? И зачем мы нужны Киму? — вдруг спросила Надя.
В ответ на эту реплику последовал точный вопрос:
— Вы, значит, прямо на Москву работаете?
От этого вопроса Косте снова стало не по себе. А почему это интересует пришедшего? И как быстро и ловко он сделал нужный ему вывод из, казалось бы, невинной Надиной реплики. У Кости мгновенно мелькнула мысль: «Убрать. Уже за одно это. И пусть потом судят». Но убирать здесь, в квартире, было нельзя, а главное — бессмысленно. Если гость в самом деле подослан провокатором, значит, дом уже окружен. Это можно выяснить лишь после ухода гостя. Буялов пойдет его проводить… И далее будет действовать, судя по обстоятельствам. Но сейчас надо держаться раз избранной линии, кто бы тот ни был. Общую картину поведения гостя нарушил его явный непрофессионализм. Мысль эта немного охладила Костю. «Что ж, возможно, парень не проходил специальной подготовки, к тому ж не очень умен, поставлен на роль связного, а хочет казаться начальником. Чудак».
— Ребята, надо допить…
Гость разлил в стаканы оставшийся самогон. Костя покосился на Надю. Напряжение ее как будто спало, она улыбалась.
— Так ты ж свалишься, — усмехнулся Костя.
— Кто, я?! Это еще кто кого перепьет.
Развалившись в старом кресле, парень нагловато оглядел насторожившихся Надю и Костю, как бы говоря: «Да бросьте вы, ребята, все гораздо проще, чем вы думаете».
— Ладно о деле. Можно и потрепаться, — снисходительно бросил гость и, не дождавшись ответа, продолжал: — А что, верно, ваш Ким ходит только с охраной и загримированный?
— Дурак ты, — четко проговорил Костя.
Теперь уж Костя искренне ненавидел сидящего перед ним парня, сознавал эту ненависть, но она-то и сдерживала его, мешая судить о нем объективно. «Истинный враг коварен и, конечно, постарался бы понравиться, не стал бы так глупо вести себя», — рассудил он, встал и сказал:
— Ладно, хватит. Поговорили. Ты зачем пришел?
— А я, между прочим, с самого начала тебе сказал: узнать, нужна ли какая помощь. Вы, я вижу, серьезные. С вами и потрепаться нельзя. Жалуйтесь Жоржу, пожалуйста! Он и так на меня крысится. Мало того, что немцы, так и свои еще, — совсем уже по-мальчишески, пьяно проговорил гость. И стал собираться. Костя пошел его провожать. Оружие было всегда при нем, вшитое в пиджак так, чтобы стрелять сразу из кармана. Костя решил про себя, что при первом же подозрении, если заметит, что за домом ведется наблюдение, он отойдет с гостем метров пятьсот и прикончит его. Но никто не встретился, улицы были пустынны, и Костя отпустил парня и с тяжелым чувством вернулся обратно.
— Костя, мне очень не понравился этот тип, — встретила его Надя.
— Мне тоже, — ответил Буялов. — А что делать, парень сволочной, мелкая душа, а свой, ничего не поделаешь, надо терпеть.
— Свой — это точно? — переспросила Надя.
— Свой… На роль провокатора они бы поумнее нашли, — убежденно ответил Буялов.
На другой день утром он, как всегда, отправился на железнодорожный вокзал. Он имел вид делового, озабоченного человека, был одет в форменку, в руках был инструмент. Ему предстояло сложное дело — уточнить конечный пункт назначения трех сформированных ночью эшелонов с боеприпасами. И он сделал все, что нужно, нашел людей и, освободившись к трем часам, очень довольный, своим успехом, отправился домой в Лавру.
День прояснился, светило солнце. Он миновал центральную, наиболее оживленную часть города с блестящей толпой офицеров, красивыми модно одетыми дамами, коммерсантами, дельцами, какими-то бедными старушками, крестьянами, приехавшими из сел Внешняя враждебность между этими различными группами, составляющими людской поток, ни в чем как будто бы не проявлялась, разве что в едва уловимой молчаливой сдержанности. Здесь, на улице, сохранялась внешняя благопристойность, цивилизованность, встречались даже парочки. Но Костя знал, что истинная суть взаимоотношений оккупантов с населением оккупированной ими территории проявлялась не здесь. И все это понимали.
Ближе к Лавре толпа редела, и вот уже пошли совсем пустынные улицы. Свернув в свой переулок, Костя быстрым взглядом окинул его и на мгновение застыл: из подъезда их дома вышла Надя в сопровождении вчерашнего парня с чемоданом в руке. В это же мгновение из подворотни дома напротив выбежали эсэсовцы, человек семь. Бегущий впереди с пистолетом поднял руку и крикнул: «Хальт!» Парень, словно испугавшись, бросил чемодан, побежал к Косте навстречу и тут же свернул в ближайшую подворотню. Костя успел выстрелить всего один раз, и передний эсэсовец упал Но вслед за этим раздался выстрел откуда-то сзади. Костя ощутил как бы легкий удар в голову, и вторая пуля его прошла уже мимо цели. Он свалился на мостовую. До него долетел крик Нади: «Беги!», обращенный к нему. От группы отделились два эсэсовца и устремились к нему. Тогда последним усилием воли он нащупал в кармане гранату и, когда немцы склонились над ним, сорвал чеку.
КНУТ И ПРЯНИК
В последних числах апреля Ким получил сообщение от Фени Кисель о готовящейся против него и партизан карательной экспедиции в масштабе моторизованного соединения. Это было последнее ее донесение. Где-то в начале мая Феня была арестована и исчезла в застенках гестапо. Никаких показаний от нее, по-видимому, не добились, и вообще сомнительно, чтобы у гестаповцев существовали против нее прямые улики. Но это не очень-то их тревожило. Кто-то — виновный или невинный — должен был расплачиваться за Дарницкий мост, за Павлова, за эшелоны, пущенные под откос.
Действуя про принципу отбора, служба СД и СС устраняли всех тех, кто, по их мнению, потенциально мог против них работать На какой-то миг Феня оказалась в поле зрения обергруппенфюрера Кранца — и участь ее была решена. С позиции гестапо такие действия были логичны и вполне оправданны. Несмотря на появляющиеся в газетах идиллические снимки встреч «освободителей» хлебом и солью, немцы отлично сознавали, что находятся во враждебной стране, среди враждебного им народа. У пропаганды были свои задачи, у гестапо — свои. Разделение их функций было четкое.
Предупреждение Фени Кисель о готовящейся акции фашистов сыграло огромную роль — партизаны успели вывести из готовящегося «мешка» свои главные силы и ушли за Днепр в белорусские леса. Отступали с боями. В этот период среди партизан впервые прогремело имя командира полка Павлова. Он проявил личную храбрость, пренебрегая явной опасностью, словно искал смерти. Но смерть настигла его не в бою…
По условиям своей работы Ким оставался на территории Междуречья вместе с Тиссовским, Кларой, Курковым, Дужим и еще несколькими своими соратниками. Они ушли в Выдринские болота, каратели туда практически не могли добраться. Ким здраво рассудил, что моторизованная дивизия карателей не станет гоняться по болотам за небольшим отрядом в десять — двенадцать человек. С точки зрения военной это было бессмысленно. Но, очевидно, через кого-то из своих агентов, работающих среди партизан, немцы проведали, что в этом отряде находится мифический для них Ким.
Каратели блокировали северную часть болот, заперев все входы и выходы. В отчете партийной организации центра говорится, что блокада продолжалась восемнадцать суток. Началась она артиллерийским обстрелом и бомбардировкой с воздуха. Это был массированный удар, рассчитанный, очевидно, на то, чтобы огромной мощью оружия произвести психологический эффект. Пожалуй, лишь тем, что лучшие немецкие офицеры находились на фронте, можно объяснить, что десятки тысяч снарядов и бомб были затрачены на перепахивание болотной топи, где не оставалось даже воронок.
Однако на третьи сутки обстрел прекратился. И над самой дремучей частью Выдры были сброшены листовки-обращения к Киму и его группе. Обращение это заключало обычный в таких случаях призыв «прекратить бессмысленное сопротивление и выйти с документами и радиостанцией». Были обещаны «свобода и хорошая жизнь». Кроме того, были сброшены специальные обращения лично к Киму только на немецком языке. (К тому времени секретные службы собрали довольно значительный материал о Киме, и им было, конечно, известно, что он в совершенстве владеет немецким.) Однако текст этих листовок не сохранился. Передают, что Ким, смеясь, рассказывал о предложении ему офицерского чина в войсках СС или, в случае его отказа от политической деятельности, крупная сумма, швейцарский паспорт и беспрепятственный выезд в одну из нейтральных стран.
Ответа не последовало, и бомбардировки возобновились. Восемнадцать суток — эта цифра имеется во многих документах и отчетах Черниговскому обкому. Однако существуют две версии о том, как все это кончилось. Согласно первой, Ким на восемнадцатые сутки, когда все запасы, продовольственные и боевые, подошли к концу, вывел свой отряд ночью бродом через один из безымянных притоков Десны. Версия эта имеет ту слабую сторону, что не отвечает на вопрос, куда вывел Ким свой отряд. Все Междуречье было буквально заполнено карателями и полевой жандармерией, и самым надежным местом были как раз болота.
По другой, официально принятой Черниговским обкомом партии версии, немцы сняли блокаду на восемнадцатые сутки потому, что сочли группу Кима уничтоженной. Так или иначе, но сообщения о «полном разгроме партизан и гибели их предводителя Кима» появились в немецких газетах, выходящих на украинском языке. Об этом объявляли и по радио. И на этот раз волчья пасть хлопнула где-то близко, совсем рядом: очевидно, позже, в Белоруссии, эта ошибка была учтена немцами…
Блокада не прошла бесследно. Рассказывают, что у большинства разведчиков развилась цинга, у молодых ребят появились седые волосы. Восемнадцать суток — срок небольшой. Но люди сидели в болоте, мокрые, голодные. Костер разводить было нельзя, сушить одежду не на чем, а май в тот год на севере Украины был холодный.
…Поражает, однако, мобильность разведцентра. Двадцать восьмого мая, на пятый день после снятия блокады, Ким организует одновременно несколько диверсий на основных железнодорожных магистралях, проходящих через Киев — Междуречье — Чернигов на восток. Вот-вот должна разгореться битва на Орловско-Курской дуге, и разведчики по приказу Москвы переключают все свои силы на рельсовую войну с тем, чтобы остановить подвоз резервов к месту сражения. Акт весьма предусмотрительный, если учесть, что победа в Курской битве пришла к нам после того, как боевые резервы противника были уже исчерпаны.
В ответ на немецкие сообщения о гибели Кима в Киеве, Чернигове появляются листовки за его подписью. В них имеется любопытный подсчет количества бомб и снарядов, бесполезно растраченных карателями за время их экспедиции. Немцы некоторое время молчат, а затем без всякой логики, даже не опровергнув своего прежнего сообщения, вывешивают в Киеве, Остре, Чернигове и наиболее крупных селах Междуречья очередное объявление о награде в 10 000 рейхсмарок за голову Кима.
Когда сопоставляешь все эти факты: грубость и очевидную непродуманность пропагандистской лжи, дешевые приемы, пустые, избитые фразы о «жертвах большевиков» и тут же наглядную демонстрацию своей собственной жестокости в виде публичных казней и массовых зверств, как в Бабьем Яру, безудержное славословие фатерланду и фюреру, восхваление своего «орднунга» и одновременно дискредитацию его на каждом шагу, — невольно приходишь к мысли о какой-то непоследовательности в действиях гитлеровской пропагандистской машины.
Однако это не так. Фашисты были весьма последовательны. Наглость и ложь, жестокость и фанфаронство просто были сутью их режима. Эти черты фашизма блестяще схвачены Брехтом в его пьесе «Карьера Артуро Уи», где молодчики в присутствии судей ослепляют свидетельствующего против них человека и тут же вопят о том, что судьи беспристрастны и подчиняются только закону; на глазах у толпы убивают гражданина, протестующего против их произвола, и тут же требуют от этой же толпы «свободы волеизъявления». Нравственный садизм. Да, он был в стиле фашистов.
Можно бы вспомнить еще и печально знаменитую надпись на воротах Бухенвальда: «Каждому — свое» и многочасовые «покаянные» исповеди заключенных концлагерей, которых фашисты принуждали громко кричать о себе разные пакости. И еще многое. На всем, решительно на всем лежала печать какого-то болезненного изуверства, психической патологии, хотя, когда фашисты рвались к власти, они кричали о «необходимости оздоровить нацию».
Ким, судя по его докладным, отлично это понимал, потому так тонко разгадывал все их замыслы, вплоть до, казалось бы, самых нелогичных, противоестественных.
В службе безопасности, этих центральных звеньях гитлеровской машины, сидели асы. И если в украинский период своей деятельности Ким ускользнул от них, то это не за счет их неумения, а потому что как разведчик и командир он оказался сильнее их. Ким победил, а неуловимый Жорж Дудкин, герой киевского подполья, отнюдь не дилетант, а человек профессионально подготовленный, организатор и боевик, погиб в застенках гестапо. Дело Жоржа было проведено службой безопасности так чисто, а концы спрятаны так глубоко, что даже теперь, имея в руках архивные данные, историограф Жоржа А. Коган не смог установить не то что день, но даже месяц, в каком исчез Жорж. (А. Коган предполагает, что Дудкин погиб между июнем и августом 1943 года.) Не из этого можно сделать лишь один вывод: СД удалось выследить и одновременно арестовать весь круг людей, с которыми в данный период общался Жорж. В любом другом случае сведения о его аресте просочились бы и мы имели хотя бы дату его ареста. Что ж, надо признать, что это был квалифицированный удар, обескровивший киевское подполье. Война велась не на жизнь — на смерть.
Как ни странно, но, по свидетельству многих подпольщиков, при допросах партизан больше всего старания проявляли не немцы, а те немногие русские, то человеческое отребье, которое, связав свою жизнь и судьбу с оккупантами, служило им уже не за страх, а за совесть. Всякое проявление силы человеческого духа, мужества, благородства по понятным причинам вызывало у этих людей патологическую ненависть. Известно, что среди полицаев и старост, даже следователей были и такие, кто принимал на себя эти должности с доброй целью, по сговору с односельчанами или даже по прямому приказу партизан. Но уж если попадал идейный враг, то это был выродок, зверь.
Конечно, и в гестапо подбирались люди с известными наклонностями к садизму, и там профессионализм в истязаниях патриотов достигал той страшной квалификации, которая до сих пор заставляет содрогаться. Но отношения мучителя и жертвы здесь были прямее. Фашист не нуждался в каком-либо самооправдании. Он действовал по приказу и уничтожал по приказу. Но русскому в этой роли приходилось оправдываться перед самим собой. И то сомнение, которое, несмотря на все, жило в нем, пароксизмы парализованной совести — что он, русский, мучает своих, русских, идет против своей Родины — выливались иногда в такое изощренное зверство, которое удивляло даже гестаповцев.
К такому следователю из русских, по фамилии Пропышев, и попала на допрос Надя. Это был еще молодой человек ординарной наружности, даже несколько благообразный. И лишь странные плоские щеки, совсем белые, как бы подпиравшие маленькие глазки, придавали его лицу неприятное, а при более пристальном взгляде страшное выражение. Рассказывают, что многие киевляне знали его в лицо и шарахались, завидя его на улице. Гестапо передало ему задержанную с поличным радистку для первого, так сказать, чернового, допроса, приказав, однако, ни в каком случае «не выводить субъекта из рабочего состояния», — это означало, что допрашиваемая должна быть возвращена в гестапо без перелома костей, в сознании и при памяти.
Провокатор (а уже почти нет сомнения, что незваный гость Нади и Кости был предатель, ибо ему позволили бежать при аресте Нади, хотя задержать его не представляло никакого труда) сработал четко, стало быть, все улики были налицо: задержана с рацией при попытке перехода на другую квартиру, и Пропышеву оставалось лишь выяснить имя, кем послана и, самое главное, шифры и код.
В здании полиции имелась специальная камера для допросов, находящаяся в подвальном помещении, без окон, с привинченными к полу столом, стулом и скамьями. Туда и была доставлена Надя. У Пропышева существовал свой «пассивный» метод допроса, при котором истязания начинались прежде, чем допрашиваемый получал какую-либо возможность говорить (опять садизм чисто фашистский: вот мы тебя сперва побьем, помучаем просто так, а там видно будет). Свой допрос Пропышев начал с утра, ибо метод предполагал известную длительность времени.
— Посадите арестованную, — приказал следователь двум полицаям, когда те ввели Надю в камеру. И полицаи посадили ее на стул, на самый краешек. Они уже знали «пассивный» метод.
Затем он перестал обращать на нее внимание и углубился в бумаги. Перед ним лежала пухлая папка, которая должна была убедить арестованную, что полиция обладает множеством материалов. Прошло минут двадцать. Следователь взглянул на допрашиваемую. Надя сидела неподвижно, опустив глаза.
— Схитрила девочка. Ну-ка, поправьте, — приказал он полицаям.
…Через минуту Надя вновь была посажена на стул, опять на самый кончик. Она всхлипывала от испуга и неожиданности. В разведшколе ее учили, как вести себя на допросах. И внутренне она готовила себя к мучениям — каленому железу, иголкам под ногти, даже с некоторым вызовом собиралась бросить слова обвинения. Отказываться от очевидной улики — рации — было бессмысленно, поэтому она заготовила фразу: «Да, я разведчица, и больше вы от меня ничего не узнаете, хоть убейте». Но никто ее не убивал и даже никто ни о чем не спрашивал. Сидеть на самом кончике стула было мучительно. И всякая попытка чуть сдвинуться вызывала новые побои. Так прошло часа два без всяких вопросов со стороны следователя. На третьем часу сидения Надя упала со стула, но вновь была усажена. Спину, шею, весь позвоночник ломило, и нравственная опора: «Ничего не скажу, хоть убейте» — постепенно теряла смысл. От нее никто ничего не требовал.
Около часа дня в камеру заглянул гестаповец и перекинулся со следователем несколькими фразами.
— Героиней хочет стать девочка, мученицей, — как-то даже с состраданием сказал Пропышев, прямо глядя на Надю. Он знал, что такое иезуитское утверждение его должно вызвать у жертвы обратную реакцию, хотя бы потому, что оно принадлежит ее мучителю.
— Что ж, сделаем из тебя героиню, сделаем. А? Ведь хочешь, а? Хочет, девочка, хочет, милая, — с тем же патологическим сочувствием продолжал Пропышев, все так же внимательно глядя на Надю.
Затем, быстро обернувшись к полицаям, сказал тем же тоном:
— Ну, постегайте девочку, постегайте… Ничего не поделаешь — раз хочет.
— Можете убить меня… Я все равно!.. — вскричала Надя в то время, как полицаи привязывали ее к скамье.
— Вот и хорошо, молодец, девочка…
Пропышев подошел к лежащей Наде, быстро нащупал на шее ее болевую точку и резко надавил большим пальцем. Надя закричала.
— Ну вот видишь, как хорошо, реакция здоровая, нормальная… — Он засмеялся. И этот смех, это ироническое сочувствие действовали сильнее, чем угрозы и крики. Пороли со знанием дела, чтоб не засечь до смерти и в то же время причинить сильную боль. Гестаповец молча наблюдал за экзекуцией. Уже на пятой минуте у Нади вырвалось: «Что вам от меня нужно, сволочи?!» Пропышев переглянулся с гестаповцем, как бы говоря: вот видите, я был прав.
— Ничего нам от тебя не нужно, девочка Молодчина, геройски ведешь себя… Стегайте, стегайте!.. Постойте! Переверните-ка ее теперь на спину, животиком вверх… Здесь кожа более чувствительна. Ну, девочка, уж придется потерпеть…
…В седьмом часу вечера Надю на носилках повезли в гестапо. С ней поехал Пропышев с ее первыми показаниями. Там допрос был продолжен.
…Когда я слушал рассказы о зверствах фашистов, садисте Пропышеве и мужественном поведении Нади на первой стадии допроса — мне представилась именно такая картина. Да, Надя выдала немцам код, и это едва не имело трагические последствия. Но у меня недостает смелости назвать ее предательницей, хотя бы за те мучения, которые ей пришлось пережить. Дальнейшая судьба ее неизвестна. По другим известиям, она была замучена до смерти тем же Пропышевым после того, как рассказала все, что знала.
«ОДНОГО ВЗЯЛ, ДРУГОГО ОТДАЛ…»
Получив инструкции, документы и немного продуктов, связная Кима Маша Хомяк отправилась в Сумскую область. У нее было два адреса в Прилуках. Она должна была отыскать нужных людей, сообщить, кем к ним прислана, и договориться о паролях. Для Маши это было дело привычное: она исходила все Междуречье. Но у нее было еще одно поручение — зайти к родителям Кима, в деревню Салогубовку. Это уже личная просьба Кима. И Маша была счастлива, что может оказать ему хоть какую-нибудь услугу за все то хорошее, что он сделал для нее. Среди партизан были разные люди: смелые, вспыльчивые, дерзкие, тихие… И был Ким, простой и в то же время необыкновенный. Она ходила к нему в землянку, когда он отсутствовал: убирала ее. В жизни его, казалось, не было ничего героического. К нему являлись связные, командиры отрядов. Потом он шел в землянку Тиссовского и там иногда просиживал до глубокой ночи. Иногда исчезал на несколько дней. Словом, работал как все. И в то же время Маша знала, что он застрелил важного эсэсовца на Крещатике, организовал взрыв Дарницкого моста. Маша думала, что судьба свела ее с человеком, равным самому Котовскому или Чапаеву — это были герои ее пионерского детства.
До встречи с Кимом она жила тусклой жизнью под гнетом оккупантов, без надежды на какой-то просвет. Ее прежняя, довоенная жизнь, со школой, друзьями, песнями, рухнула в тот день, когда по родному селу, грохоча, промчались немецкие мотоциклисты. А затем жителей согнали на сход, и развалившийся в мотоколяске с пулеметом немец объявил через переводчика, что вводится «новый порядок». Вслед за этим фашисты пошли по избам, отбирая муку, сало, кур. Немцы трубили о победах, о взятии Москвы, Ленинграда. И Маше казалось, что все кончилось. Но появился Ким и сказал: «Будь с нами. Мы берем тебя под защиту до прихода войск Красной Армии». Если такой человек, как Ким, доверял ей, стало быть, она что-то еще значила в жизни. И она поклялась себе быть верной ему до конца. Он знал это.
На четвертые сутки к вечеру Маша вошла в Салогубовку. Она заучила на память схему, набросанную ей Кимом. Все было в точности так. Посреди села на пригорке стояла белая церковь, довольно богатая для небольшого села. Несколько десятков украинских хат были разбросаны на большом пространстве, далеко друг от друга. От церкви Маша повернула направо и пошла улицей, вдоль которой стояли голые березы. И колодец почти посреди улицы, с длинным журавлем, тоже стоял на месте. Кое-где чернели трубы сгоревших домов, но тот дом — низенький, с соломенной крышей и с прилегающим к нему садиком — уцелел.
На пути Маше попались двое немецких солдат. Значит, здесь они квартируют, решила Маша.
Уже темнело, когда она постучала в дверь. И настороженный женский голос спросил:
— Кто тут?
— Тетя Ганна здесь живет? — спросила Мария.
— Здесь… Кто ее кличет? — послышался женский голос.
— Знакомая из Прилук…
Шаги удалились. Верно, пошли звать хозяйку. Если в доме окажется посторонний, была придумана такая версия: она, Мария, — знакомая родственников, живущих в Прилуках, и они дали ей адрес, где можно переночевать. Сама она идет в Сумы.
Вновь послышались шаги, уже медленные, тяжелые. И низкий женский голос спросил:
— Кто там?
— Тетя Ганна?
— Я…
— Из Прилук я, тетя Ганна, Василисы Петровны знакомая… Адрес мне она дала ваш, приютите на ночь?..
Дверь отворилась. На пороге стояла высокая пожилая женщина. Она оглядела гостью долгим немигающим взглядом, в котором Маша тотчас узнала его взгляд. И она вдруг разволновалась, потерялась и сбивчиво стала что-то лепетать про Василису, выкладывая все, что ей рассказал Ким.
— Пройдите, — медленно проговорила хозяйка, слегка наклонив голову. И он так наклонял голову, когда впервые видел нового человека.
— Спасибо, тетя Ганна… Я переночую и утречком соберусь дальше…
Мать Кима ввела гостью в просторную горницу, освещенную керосиновой лампой. И здесь все было, как он описал. В углу под полотенцем темнела икона с киотом, перед ней тлела лампада. Справа против входа стояла большая белая русская печь. Широкий стол у окна, ходики, высокий, до потолка старый буфет. Окна были плотно затемнены черной материей.
Кроме хозяйки в комнате находилась молодая женщина, наверное сестра Кима, с тем же, как бы немигающим, долгим взглядом. «Верно, у них у всех в роду такие глаза», — решила Маша.
— А вы у старосты были, отметились? — спросила сестра.
— Не успела… Думала дотемна вас найти… Нужно? Я схожу…
— Обойдется, — сказала мать и жестом пригласила гостью садиться. Она двигалась медленно, поставила на стол кринку молока. Достала хлеб своего печения — темный, цвета дуранды — и сказала:
— С дороги — молочка… Кушайте.
Маша, несмотря на свою внешнюю простоватость, отлично по-житейски соображала, могла мгновенно уловить обстановку. Сейчас интуиция подсказала ей, что в доме кроме общего бедствия, принесенного на нашу землю фашистами, есть своя семейная беда. Это замечалось по молчаливым лицам обитателей дома, по какой-то отрешенности на лице хозяйки, пустоте, царившей в избе, даже тлевшей в углу лампаде. «Покойник… — мелькнуло у нее в голове, — хозяина нет…» И Маша содрогнулась, подумав, какую печальную весть принесет она Киму. Но все-таки она решила убедиться в своей догадке. И, выдержав паузу, голосом, готовым принять печальную весть, спросила:
— А хозяина-то нет, Саввы Иосифовича?..
— Ушел хозяин. Нету нашего батьки… Сороковой дён пошел…
Величественная серьезность вдруг спала с лица матери, нижняя челюсть жалостливо, по-старушечьи отвисла, задвигалась, плечи ссутулились, мелко задрожали, и, опустив голову на лежащие на столе руки, она негромко, беззащитно заплакала. У молодой тоже исказилось лицо, щеки надвинулись на сузившиеся глаза. Она подсела к матери и, обняв ее рукой, заговорила:
— Не надо, мамо, не убивайте себя… Что делать…
Восприимчивая душой к чужим несчастьям и радостям, Маша вдруг тоже заразилась горем этих людей, и к горлу ее подкатил комок.
— Бедные вы мои… — захлопотала она, засуетилась, зачерпнула ковшик воды в ведре и подала его матери.
Та взяла ковш, приподняла голову и отпила.
— Обрадую я вас, с вестью я доброй, — зашептала Маша, оглядываясь на дверь, словно кто-то мог слышать их разговор. — От Кузьмы Саввича вашего… Жив-здоров… Поклон посылает, — и она всхлипнула от умиления и радости за них.
Мать вскрикнула, как от боли, и подняла голову:
— Кузя мой… Где он, скажи?.. Что с ним? Раненый… а? Девушка, милая!.. — Она замерла в ожидании.
— Здоровый! Посылочку посылает. Велел только вам открыться, тетечка Ганна, да ведь она, — Маша кинула взгляд на сестру, — не чужая?.. По лицу вижу…
— Сестра я его родная… Где брат, скажите?
— В партизанах… В лесу живет, отсюдова двести верст с лишком.
Лицо матери прояснилось не вдруг. Страх, радость, опасение, надежда в какое-то мгновение сменили друг друга. Она замерла, как бы сосредоточась на одной мысли, затем внятно проговорила:
— Есть бог на небе!.. Одного взял, другого отдал… Спасибо тебе, боже!..
Она опустилась на колени перед иконой и с минуту стояла так, опустив голову. Перекрестилась, тяжело встала… Подойдя к Маше, обняла ее и заплакала уже по-другому.
— А Прошка-то, подлец, что врал… Кузьма, мол, ваш в немецкой армии служит. Сам, говорит, видел его в Киеве, в офицерах ходит, бесстыжие глаза его…
— Мамо, все он выдумал… Надо же ему оправдать себя, что сам немцам служит, — сказала сестра.
— Что вы?! Что вы?! В партизанах он… — Маша замахала руками, понимая, что разъяснять ничего нельзя. — Он у нас самый главный… Все его любят… Сам генерал к нему прилетал из Москвы.
Маша торопливо достала из своей сумки сверток и подала матери.
— Здесь продукты, посылочка, сало… Муки кулек и рубашка его, крестиками вышитая… Писать он не мог… Нельзя. Говорит, передай маме, она знает эту рубашку.
Они втроем сидели за столом. Мать прижимала к лицу рубашку сына, которую Маша не раз тайком брала из его землянки и стирала в лесном ручье.
Под окнами совсем близко слышалась немецкая речь, пьяные выкрики. Но сидящие в комнате будто не слышали того. Маша рассказывала о Киме и немножко придумывала, утешая себя тем, что настоящей правды она не может открыть. Но мать, мудрая женщина, и не доискивалась до нее. Она узнала главное — что сын ее жив, и теперь слушала сбивчивый рассказ девушки, какой он герой, сколько немцев побил, сколько паровозов пустил под откос. И Маша здесь, в этой комнате, в разговоре с этими двумя женщинами, уже ставшими близкими ей, казалось, совсем забыла, что завтра ей предстоит снова идти через немецкие заставы, искать явочные адреса, подвергая себя смертельной опасности.
СТРАННЫЙ КАРАТЕЛЬ
Тиссовский был идеальным помощником Кима не только потому, что отлично знал европейские языки, конспиративное дело и отличался необыкновенной выдержкой и четкостью в работе, но еще и потому, что никогда не соперничал с командиром, не ревновал к его славе, а всегда точно исполнял его волю. Будучи старше и как подпольщик значительно опытней своего командира, он воспринимал как должное, что идеи подает этот невысокий, крепко сложенный человек, который зовется Кимом. Недостаток опыта разведывательной работы восполнялся у Кима его исключительной интуицией. Как будто знал наперед, как поведут себя люди в тех или иных условиях.
Вначале Тиссовский удивлялся прозрениям командира, но затем понял, что дело было совсем не в каких-то там прозрениях: просто Ким лучше знал свой народ, его психологию. Умом, логикой этого не постигнешь. Позднее Тиссовский убедился, что и психологию врага Ким тоже достаточно хорошо изучил.
Вот и теперь Тиссовский стоял перед Кимом, держа в руках шифрованное сообщение от Фени Кисель, работавшей в гестапо уборщицей.
— Товарищ командир, одно маленькое ваше признание, — сказал он, хитро подмигнув.
— Какое? — спросил Ким.
— Меня вы тоже чуть-чуть контролируете?
Ким рассмеялся.
— С чего вы взяли, Иван Бертольдович?
— Вы уже имели раньше меня сообщение от нашей Фенечки?
— Ничего я не имел. В ваши дела я не вмешиваюсь без вашего ведома. А какое пришло известие?
— Гестапо собирается устранить «героя», — ответил Тиссовский.
— Вы хотите сказать, карателя?
— Ну да! О котором я вам докладывал. Вы предвосхитили их замысел. Но есть небольшое расхождение: они собираются обставить дело так, чтобы свалить все на партизан.
— Что ж, замысел будет иметь логический конец, — заметил Ким. — От «подвигов» рыцаря украинских степей до похорон «национального героя». Увидите, они еще фильм снимут и повезут показывать фюреру. Больше-то ему уже нечем утешаться.
— Но герой служит им. Какая логика бить своих?
— Логика такая: бей своих, чтобы чужие боялись. Господин Шикльгрубер, труды которого мы с вами изучали перед отъездом сюда, не раз доказывал это на практике. И не без успеха. Вспомните хотя бы Рэма с его штурмовиками…
…А в это время тот, чья участь решалась, Юрий Павлов, командир отдельного карательного батальона, искал выход из тупика, куда он сам себя и завел. Он попал в плен в самом начале войны. Немцы сразу предложили ему сотрудничать с ними — Павлов неплохо владел немецким языком. Он с негодованием отказался Но обер-лейтенант, вместо того чтобы тут же пристрелить его, усмехнулся: «Дурак, сгниешь в лагере».
Павлов был заключен в лагерь для военнопленных. Время от времени туда приезжали вербовщики. Павлов отвергал все предложения, пока ему не пришла в голову, казалось бы, простая мысль: взять из рук немцев оружие, чтобы затем обернуть его против них. За эту идею цеплялись многие пленные, но мало кому удавалось довести свой замысел до конца. Поставленные в тяжелые условия братоубийственной войны на оккупированной немцами территории, где малейшее неподчинение приказу фашистов грозило смертью, они, выжидая подходящего момента для осуществления своего замысла, естественным ходом событий вставали на путь преступления, измены Родине. И, понимая, что прощения уже не заслужить, становились отменными карателями.
Павлов согласился командовать батальоном военнопленных казаков с единственной целью — привести его на сторону партизан. По крайней мере этим он себя утешал, избавившись от кошмара лагерной жизни. Но время шло, а исполнение замысла отодвигалось все дальше и дальше. Для немцев он лишь подходящая фигура, с русской фамилией и военной биографией, но ему не верили и окружили шпионами. Ни о какой связи с партизанами не могло быть и речи. Фашисты требовали от него карательных акций, чтобы начисто отрезать путь к отступлению.
Павлов как бы ходил на острие ножа. Он намечал жертву из числа старост и полицаев, особенно рьяно служивших немцам, шумно «разоблачал» их, уличая в несуществующих связях с партизанами, и вешал. Никто не догадывался о подлинных мотивах его поступков, в том числе и гестапо. Справедливо или несправедливо казнит каратель — в эти тонкости немцы не вдавались. Их тревожили диверсии, усилившаяся партизанская война. От Павлова ожидали активных действий. «Русские против русских» — вот что нужно было им.
В начале апреля Павлов совершил рейд по Междуречью, довольно искусно ведя свою тактику «на острие ножа». Он продолжал искать связи с партизанами, но безрезультатно. Идти же в партизанский край — Выдринские болота — без предварительной договоренности с партизанами было опасно. Поэтому он расквартировал свой батальон в селе Новая Гута и, выигрывая время, запросил у немцев еще две роты автоматчиков, как объяснил — для сплошного прочесывания лесов. Но в гестапо участь Павлова была уже решена. Среди полицаев был найден человек, который по приказу фашистов должен был застрелить командира батальона карателей. Затем предполагалась акция чисто политического характера — шумные похороны героя, павшего от рук партизанских бандитов. Из предусмотрительности немцы двинули один свой полк к Новой Гуте на тот случай, если среди казаков начнутся волнения.
Узнав о переброске полка, Павлов заметался. О подлинных планах немцев он не знал, но понимал, что присоединение его казаков к фашистской боевой части отрежет ему все пути. Он уже готов был бросить батальон и ночью в одиночку на коне ускакать к партизанам. Однако что-то сдерживало, он боялся, что партизаны не простят ему службы у немцев.
Павлов провел тяжелую ночь, пил самогон и так и не пришел ни к какому решению, Заснул он лишь под утро, и вскоре был разбужен.
— Немцы пришли… Требуют вас, — известил адъютант.
Павлов похолодел. Он понял, что все его замыслы рухнули и ему остается одно — застрелиться.
Он выслал адъютанта, проверил оружие, однако вложил пистолет обратно в кобуру. Его трясло: «Уж гибнуть, так с музыкой, — решил он про себя. — Положу одного-двух, а там…»
Он бросился к двери, все еще не имея отчетливого плана. Дверь распахнулась. Навстречу ему с поднятой рукой вошел штандартенфюрер СС и еще двое. Павлов дернулся рукой к кобуре, но с похмелья реакция его явно запоздала. Его схватили. Завернули руки назад.
— Так-то вы служите фюреру! — издевательски-укоризненно произнес эсэсовец.
Павлов молчал. Он понял, что игра кончена.
— Господин Павлов, вы уже, кажется, путаете ваших немецких друзей с партизанами, — так же издевательски-вежливо продолжал фашист. — Впрочем, после случая в Черном бору это неудивительно. За что вы повесили местного старосту?
В Павлове вновь проснулся инстинкт самосохранения.
— За связь с партизанами, — поспешно ответил он.
— Логично, если учесть, что он был нашим осведомителем.
Павлов притворился, что не понял иронии.
— Я об этом не знал… Мне донесли… Бывает так: и нашим, и вашим…
Немцы переглянулись.
— Вы убедились в этом на собственном опыте?
— Господа, честное слово…
— Оставьте! Какая у вас может быть честь? Однажды вы продали свою Родину и перешли к нам. Теперь вы предаете великую Германию. Не слишком ли?..
Павлов сник. Иллюзии рассеялись. Все его компромиссы с совестью оказались бессмысленными. Даже немцы называют его предателем. Что ж, заслужил. Но теперь конец. Неуравновешенный, легко возбудимый, он сразу переходил из одной крайности в другую. В нем пробудились гнев и обида. Собрав всю свою волю, он четко проговорил:
— Я никогда не был предателем Родины, господа оккупанты! Да, я унизился до того, что надел ваш мундир. Но я неповинен в крови своих соотечественников. Повешенный мною староста был действительно вашим шпионом, и я это знал. Стреляйте!
Штандартенфюрер как-то странно взглянул на Павлова, тот даже немного подался назад. Он знал, как эти умеют бить. Профессионально…
— Вы заслуживаете того, чтобы вам подольше морочили голову… Но времени нет, немцы в двух часах от Новой Гуты. О ваших метаниях знаем… Потому и пришли. Что вы собираетесь делать, бывший капитан Павлов? — строго произнес штандартенфюрер на чистейшем русском языке.
— Кто вы? — бледнея, спросил комбат.
— Партизаны. Давно бы пора понять.
Павлов дернулся. По щеке поползла слеза. Взгляд его, жалкий, молящий и в то же время полный какой-то бешеной радости, звал к сочувствию.
— Ну, свои, свои, партизаны, — повторил Ким. — Цыган, отпусти его…
Павлов распрямил плечи, все еще не полностью осознав, что же произошло.
— Как думаете действовать дальше? — спросил Ким.
— Не знаю… Я в тупике. Я искал вас, долго искал…
— Плохо искали… Настроение своих казаков знаете?
Ким протянул Павлову оружие. Робко, еще не веря, что это не ловушка, комбат взял пистолет.
— Большинство последует за мной, я отвечаю, — поспешно ответил он. — Я бы увел их раньше, но куда? Без договоренности — это до первого выстрела…
— Так. Мы приехали к вам втроем. Но наше соединение находится здесь, вне пределов видимости. До прихода немцев осталось очень немного времени.
— Разрешите, я сейчас соберу митинг?.. — Павлов встал.
В нем вдруг пробудилась энергия. Он готов был выйти к своим людям и произнести речь, готов был на отчаянно смелый поступок.
— Нет, митинг — уже поздно, — отвечал Ким. — Постройте, батальон. Но прежде быстро — список явных предателей! Их надо устранить до боя, то есть немедленно… Много их?
Разговор этот происходил в штабной избе. Павлов схватил список личного состава батальона и стал просматривать. Двух человек он назвал тотчас же — это были шпионы гестапо, он их встречал там не раз. Всего набралось с десяток казаков, запятнавших себя карательной службой, грабивших население.
— Остальные пойдут за вами? — спросил Ким.
— Уведу или погибну!
— Эмоции — потом. Думайте. Взвешивайте. Ваша гибель лишь на руку немцам.
— Пойдут! Да ведь как же, такие моменты были!.. Чуть ли не до откровенности доходило… Я упустил. Пусть меня судят!
— Время, время, Павлов! Об этом потом, — перебил его Ким. — Объявляйте боевую тревогу, стройте батальон. Но с расчетом поняли?
— Разрешите мне держать речь перед ними?
— Да. Потом дадите слово мне.
— Как вас рекомендовать?
— Как представителя командования партизан… И еще, на крайний случай рядом с вами будет находиться стрелок. Если кто-то решит стрелять в вас, он упредит. Ясно?
Павлов накинул шинель и выбежал на улицу.
Через пятнадцать минут поднятый по тревоге казачий батальон был построен на площади. Рассвет уже наступил. В сизой утренней дымке вырисовывались крыши домов. На коне появился комбат. Он приподнялся на стременах, громко, но как-то надрывно прокричал:
— Казаки! Сейчас, в эту минуту, решается наша с вами судьба… Мы окружены партизанами. Вот их представители… Не смотрите на их мундиры — это свои, русские… Русские, как и мы! Хватит служить немцам! Кровью своей мы смоем позорное имя — карателей. Лично я для себя решил…
Он сорвал с шинели погоны.
Ким и Тиссовский стояли от него шагах в двадцати, у штабной избы. Они видели первую реакцию казаков на горячую или, скорее, нервозную речь их комбата. Безмолвие, настороженность. Ким тотчас уловил психологический просчет оратора, который, несмотря на свою страстность, не смог пробудить в людях тех чувств, к которым пытался взывать. Чувства эти были затаены, а Павлов взял слишком круто, надрывисто. К тому же люди спросонья плохо поняли его. Они уловили и сразу усвоили лишь одну его фразу: «Мы окружены…» А два эти слова содержали в себе громадную разрушительную силу, они вмиг разъединяли людей и порой превращали боевую единицу в неорганизованную, мятущуюся массу. Ряды начали расстраиваться, раздались выкрики… Ким понял: еще минута, и командир полностью потеряет управление своим батальоном. Он быстро вышел вперед и, подняв руку, крикнул:
— Слушать меня!..
Шум смолк, взоры обратились к нему.
— Товарищи казаки! — сказал он твердо. — Вы не торопитесь, сперва выслушайте, потом решайте. Мы действительно представители командования партизан, но к вам пришли не с угрозой. Партизанское соединение подошло к селу с юга, путь на север остается открытым… Представляется возможность выбора. Не хотите — неволить не будем, идите к своим хозяевам, ответ перед Родиной будете держать после нашей победы над гитлеровской Германией. Думайте! Думайте, как жить, за что воевать!.. А там как хотите…
Ким замолчал. По существу, он сказал то же, что и Павлов, но сделал другой акцент: в речи его не было истерии. Ким говорил громко, но совершенно спокойно. Он даже не уговаривал, а просто предоставлял людям возможность выбора. Не партизаны были заинтересованы в переходе батальона на советскую сторону, а сами казаки. Именно таков был смысл его выступления. И вот после паузы последовал вопрос из рядов:
— Оружие оставите нам?
— Оставим. И часть сохраним как она есть, но уже отдельной вы не будете, вольетесь в нашу бригаду…
Снова зашумели, но уже не так возбужденно. Слышался говор, доносились отдельные реплики. В глазах людей сквозили и надежда, и неуверенность, и тревога. А правда ли это, а что потом будет?
«Перелом есть, только бы немцы не появились раньше времени», — мелькнуло в мозгу у Кима, и он спокойно продолжал:
— Еще скажу: думать вы, конечно, думайте, но времени не так много. Уйдем — и тогда возврата вам не будет.
Гул пошел по рядам. Уйдем — вот тебе, пожалуйста! Не неволят. Чувствуют силу… Значит, обмана нет. Вот она, возможность, о которой мечтал чуть ли не каждый. А не хочешь — не надо… Лихо! Значит, опять служить немцам… А тут дорога на Родину… Вот она перед ними. И эти трое — свои, русские, хоть и в немецких мундирах пришли.
Уж кто-кто, а эти люди, прошедшие плен, унижения, немецкую муштровку, понимали, какой отвагой должен обладать человек, решившийся выйти перед строем шестисот вооруженных карателей, каждый из которых мог безнаказанно пустить в него пулю.
— Еще вопрос можно? — раздалось из рядов.
— Можно, — кивнул Ким.
— Интересуемся: когда на Украину придет Красная Армия, примут нас в нее или как?
Но прежде чем Ким успел ответить, из тех же рядов прогремел бас:
— А ты сперва повоюй за нее, за Украину.
И по рядам опять прошло одобрительное гудение: правильно, чего спрашивать? Сперва повоюй, докажи, кто ты есть…
Ким повернулся к Павлову и тихо сказал ему:
— Бери командование…
Но Павлов и сам почувствовал настроение людей.
— Я вижу, надумали! — крикнул он. — А тогда, — комбат выхватил шашку, — по коням!
Ким подозвал Цыгана, охранявшего Павлова, и сказал ему:
— Быстро до Науменко!.. Скажи, чтоб наши входили в село.
НАКАНУНЕ «БАГРАТИОНА»
В сентябре 1943 года советские войска вступили в Междуречье, а шестого ноября был освобожден Киев. Разведчикам предоставили короткий отдых. Они проводили его в Клинцах.
Кима засадили писать отчет о работе, проделанной в тылу врага. Ему дали комнату, ординарца, машинистку и сказали:
— Пишите все.
— Да ведь я обо всем докладывал, — отвечал он.
— То были оперативные данные, а теперь вы постарайтесь раскрыть психологию врага. Свои наблюдения, мысли о фашистах и их системе.
И он все дни проводил в отведенном ему домике.
Седьмое, восьмое ноября 1943 года… Толпы на улицах Киева, флаги на руинах Крещатика. Разве можно все это забыть? В первый же день Ким попытался найти след Нади. В подвалах здания гестапо были обнаружены трупы замученных. Нади Ким не нашел. Он приказал опросить людей, живущих по соседству с конспиративной квартирой, — не просочился ли к ним какой-то слух. Или есть случайные свидетели. В доме напротив нашли старушку, которая видела, как примерно в середине апреля, в полдень, из подъезда вышла девушка и с ней высокий рыжий парень с чемоданом. «К ним подбежали какие-то люди, стали стрелять. Я спряталась и боялась к окну подойти…» — сказала старушка. Больше ничего не удалось узнать.
Вскоре после отдыха Кима вызвали в штаб. Там ему объявили, что его группа в том же составе передается в распоряжение командующего Белорусским фронтом генерала Рокоссовского. Белорусская операция 1944 года была уже запланирована Генеральным штабом, и для более детальной разработки ее командующему фронтом требовались подробные разведывательные данные о расположении войск и о численности противника. Особенно на подступах к Минску. Среди указаний Гнедашу был такой пункт:
«С подходом частей РККА к району действия группы — отходить все дальше в тыл противника. Ось отхода — Пинск — Кобрин — Брест, где продолжать выполнять задания».
Как и в первый раз, заброска группы в тыл предполагалась на самолете. Но после десятидневного ожидания летной погоды решили отказаться от этого варианта. Тогда на наиболее спокойном участке фронта, по приказу командующего, противник был отвлечен атаками с флангов, а группа Кима проскользнула в образовавшуюся брешь. Перед Кимом стояла цель — увести свой маленький отряд в глубь территории, занятой неприятелем, на 250—300 километров, обосноваться где-то в районе Барановичей и оттуда уже протянуть нити в Пинск, Лунинец, Слоним, Кобрин, Брест, Белосток, Минск, Варшаву. Когда выяснилось, что отряд пешком пойдет через фронт, генерал Белов высказал пожелание, чтобы разведчики уже по пути к Барановичам начали передавать в штаб сведения о передвижении немецких частей. Поэтому Ким выбрал такой маршрут, чтобы идти лесными полосами вдоль шоссейных дорог, где, конечно, это возможно. В Белоруссии лесов предостаточно, поэтому-то и партизанское движение там развилось быстрей и успешней, чем в степных полосах.
И вот его первая радиограмма, переданная в штаб.
«Белову. Обстановка ясна. Сегодня в ночь на девятнадцатое ухожу. Результаты сообщу завтра в час тридцать. Новый. Смирная».
…И пошел отряд на запад. Шли ночью, днем отдыхали, высылая к шоссе дозорных. По шоссе к фронту, на восток, двигались боеспособные немецкие части. А с фронта на запад тоже двигались части — побитые танки, эшелоны с ранеными, тягачи тащили развороченные машины, орудия… Проносились легковые со штабистами, генералами, штурмбангруппен- и прочими фюрерами. Состояние фашистской армии было уже не то, что год назад: на фронт гнали мужчин за сорок пять и выше, инвалидные команды и совсем мальчишек. Дорога представлялась как бы трубкой между двумя сообщающимися сосудами, в одном из которых была пробита брешь, и уровень в обоих сосудах понижался одновременно.
Клара выходила в эфир три раза в сутки, работала она совсем недалеко от шоссе. Это были все те же коротенькие сообщения о численности прошедших танков, бронетранспортеров, орудий.
«…В селе Савичи размещен штаб 4-й танковой дивизии. Со слов захваченного пленного в дивизии всего 100 исправных танков. Склад горючего находится на станции Клинск».
«…22.12.43. Мост через реку Птичь восстановлен. Прошло 27 «тигров». Село Петряково используется как формировочный пункт прифронтовой полосы».
«…23.12.43. Железнодорожная магистраль Старушково — Бобруйск не работает. Полотно снято… Магистраль Пинск — Калиновичи пропускает ежедневно на восток пять эшелонов. Горючее. Боеприпасы. Живая сила. На запад до семи эшелонов: раненые, битая техника, разное барахло».
«28.12.43. Лунинец. Постоянный гарнизон до 5 тысяч человек. Расположены склады боеприпасов, горючего. Зенитная оборона 120 орудий».
«29.12.43. Гарнизон Пинска 30 тысяч. В основном немцы. Расквартированы в центральной части города. На улице Латинской расположен штаб».
Иногда по три, по четыре радиограммы в день.
Едва темнело, разведчики трогались в путь мимо сожженных деревень, мимо торчащих виселиц, мимо огромных кладбищ, мимо всего того, что оставила за собой фашистская армия в кровавом пути на восток.
В канун Нового года Гнедаш сообщает Белову: «Достиг цели».
«…12.1.44. Белову. Севернее Пинска пяти километрах фольварк Добрая Воля находится немецкий аэродром. Временное скопление до 80 транспортных самолетов. В окружных селах размещено два батальона аэродромного обслуживания и охраны…»
Очевидно, очень скоро он и здесь нашел помощников среди местного населения:
«22.1.44. Белову. Создана группа. Командир Миша. Радист Марат. Отправил в район Вышкув с задачей освещать переброску войск по железной дороге, насаждать агентуру в Вышкуве, в Варшаве. С сего дня прошу посылать родителям Марата ежемесячное денежное пособие в размере положенного радисту группы. Адрес родителей Марата: Московская область, Раменский район, поселок Ильинское. К. Маркса, 13, Есакову Якову Егоровичу. Новый».
Своей резиденцией Ким избрал Хоростув. Здесь он оставил Клару, а сам, взяв двух помощников, двинулся дальше. Встречи. Пароли. Явки. Все это уже было знакомо. Вскоре Ким сообщает, что стратегическим пунктом скопления и переформирования войск противника является Брест. В следующей радиограмме он уточняет — сколько дивизий, какое вооружение. В третьей — количество вагонов и состав грузов на восток и обратно на запад.
За первый месяц работы центр девяносто раз выходил в эфир. В деле я видел пометки, сделанные, вероятно, Беловым:
«Центр Нового работает весьма интенсивно. Как правило, сведения очень ценные».
Об оперативности работы Гнедаша можно судить по датам. 21 января штаб по радио запрашивает его о наличии соединений. Уже на другой день к вечеру Новый передает точные данные: количество аэродромов — столько-то, самолетов — столько-то и каких, как охраняются и т. п.
Из Бреста Гнедаш сообщил:
«Завербован польский помещик, имеющий связи в Варшаве, Бресте, Белостоке. Принят в немецких кругах, одновременно имеет связи с подпольной антифашистской организацией в Варшаве».
В ответ последовало задание:
«Используйте завербованного по линии контрразведки. По непроверенным данным, созданы две разведывательные спецгруппы. Возьмите под наблюдение».
Эта радиограмма положила начало поединку Кима с немецкой военной разведкой, с абвером. К сожалению, об этой операции почти ничего не известно.
Но что же все-таки дошло до нас?
Ким доносит о поведении помещика: жуир, имеющий деньги, националист, примыкающий к Армии Крайовой.
Белов отвечает:
«Продолжайте следить, опасайтесь провокаций».
Судя по тому, что Кима видели в одном из кафе Бреста в обществе пожилого, щегольски одетого человека, Ким пошел на прямые контакты со своим помещиком. В таких случаях ему всегда очень помогало личное обаяние. Но главное, конечно, — он умел подчинять людей своей воле так, что собеседники об этом даже не догадывались.
— Почему-то всем нам хотелось слушаться Кима, — заметил один из его соратников.
Все это происходило весной сорок четвертого. Близкий разгром Германии вряд ли вызывал сомнения у кого-либо. Дельцы, спекулянты, нувориши, уголовники — плесень всех наций, люди, поживившиеся при «новом порядке», были озабочены тем, как выгодней и надежней разместить свои капиталы. Эти «земные мысли» тревожили даже высшее офицерство «третьего рейха». Скорее всего и Ким разыгрывал роль одного из таких дельцов.
В записке его, составленной в Клинцах, есть такие строчки:
«…Попадая во враждебную среду, разведчик обязан уметь приспособиться к ней. Но это совсем не значит, что он должен ежеминутно на людях проявлять верноподданнические чувства строю, против которого работает. Это может вызвать подозрение. Психологически безопасней слегка пожурить тех же немцев в присутствии официальных лиц. Разумеется, тут нельзя перебрать. И ни в коем случае не затрагивать персону фюрера. Просто нужно вести себя независимо, смело. Как если бы тебе нечего было опасаться. В Междуречье нами был завербован староста, умный дед. С ним мы имели постоянную связь, он укрывал в своей хате наших людей. Этот староста крыл немцев в присутствии коменданта. Тот только смеялся: мол, русский — открытая душа. Когда я работал под легендой вербовщика рабочей силы в Германии, я тоже старался вести себя смелей, порой даже бравировал».
В Белоруссии Ким, очевидно, с успехом пользовался этим методом обратной реакции. Скорей всего тем он и пленил помещика, а затем — фигуру более нужную, контрразведчика майора Тойбеля. Все это лишь догадки, однако достоверно известно, что познакомиться с Тойбелем Киму помог именно помещик.
Один из белорусских партизан вспоминает, что видел Кима в модной тогда, богатой одежде. Но он не помнит даты. Считает, что это относится к февралю — марту сорок четвертого. Как раз в это время Ким работал с помещиком и Тойбелем. И спустя три недели после получения задания выследить действия абвера в Москву направляется такое донесение:
«Ваши данные подтвердились. Созданы две боевые единицы. «Вега» — командует лейтенант Ронин, занимается переброской в нашу страну небольших групп шпионов под видом партизан. Люди Ронина прошли школу разведки. И «Арбертруно» — командует обер-лейтенант Вальтер. Эта группа занимается контрразведкой в прифронтовой полосе с задачей выслеживания наших разведчиков. Координирует действия своих групп майор Тойбель. Веду наблюдение. Новый».
А потом Белов получил вторую радиограмму.
«Вальтер с отрядом направлен на правый берег реки Припять. Людей Ронина ждите течение суток самолетом. Координаты X-1201, Y-84342. Новый».
Эти две радиограммы — все, что осталось от борьбы Кима с абвером. Как удалось Киму провести это сложнейшее дело, сказать трудно. Ким, Тиссовский и Клара унесли тайну в могилу.
Но все-таки есть одна нить: однажды, вернувшись из Бреста и свою резиденцию. Ким, как рассказывают партизаны, просил найти среди местных жителей финансового работника, знакомого с международными валютными операциями. Такой человек был будто бы найден, хотя имени его установить не удалось. Вероятнее всего Киму нужна была консультация по поводу порядка перевода капиталов в швейцарский банк, именно этим были озабочены гитлеровцы накануне своего разгрома. И Тойбель опасался искать советчиков среди собственного окружения: система взаимной слежки действовала в гитлеровской армии по-прежнему безотказно. Но провести мягкий зондаж в шутливой беседе с новым русским знакомым, который, очевидно, тем же озабочен, — на это Тойбель вполне мог пойти. Там, где взаимный финансовый интерес, тайн уже не существует.
Конечно, это только предположение. Дальнейшие действия Кима проступают уже более отчетливо. Он возвращается к своей будничной работе — сбору разведданных.
В отделе, курирующем группу Кима, видимо, сменился шеф. Новый начальник предостерегает:
«Прибегайте к диверсиям только для получения разведданных».
Ким молчит. Этому правилу он строго следовал еще в Междуречье.
Очевидно, новый шеф совсем мало знает Кима как разведчика и дает ему еще один совет: «Вооружайтесь за счет противника». На сей раз Ким ответил тактично, но не без скрытого сарказма:
«18.3.44. Белову. Спецэшелон взорван не ради диверсии, а ради языка. Захватили двух. Вооружаться за счет противника — спасибо, что подсказали. Стараемся. От вас мы получили сорок автоматов, а вооружено автоматами у нас до восьмидесяти человек. Новый, Смирная».
И почти сразу вслед за тем:
«Белову. Немцы производят крупные окопные работы в районе Барановичей, по реке Любанька и в самом городе. Подробности системы сообщу по завершении ее. Новый, Смирная».
Гибель «Веги» и «Арбертруно», подозрительно точная бомбардировка важных объектов нашей авиацией и другие акции насторожили фашистов. Они чувствовали, что кто-то очень четко и оперативно работает против них совсем рядом. Запеленговать радиостанцию разведчиков мешали довольно большие расстояния, в пределах которых действовала группа. Радиостанция все время меняла адрес, часы передач, но работала методично.
По-видимому, к концу мая немцы все-таки нащупали примерный район действий основного звена группы Кима. Туда, к Слониму, была направлена дивизия карателей. Они блокировали дороги, ставили засады, прочесывали леса. 25 мая Клара Давидюк передала:
«Для подготовки площадки к приему самолета Новый выделил группу партизан во главе с Тиссовским. Группа вышла в указанный район и в ночь на 23 мая наскочила на немецкую засаду. Пришлось принять бой. В перестрелке убиты два партизана, остальные прорвались. Отойдя с поля боя, наши обнаружили, что нет Тиссовского. Предприняли розыски, думали, что он просто отбился. Но не было времени задерживаться: немцы шли по пятам, форсировали реку и остановились около деревни Лида. Провели дневку. Тиссовский не появлялся, группа радировала Новому о том, что держали бой, что Тиссовский пропал без вести. Вскоре получили радиограмму от Нового. Обстановку он уже знал и сообщил: «Вы ошиблись, на поле боя осталось не два, а три наших товарища. На месте не был, окружено». Но если он говорит три — значит, точно три, а третий — Тиссовский. Вот все, что могу сказать о его гибели».
А спустя четверть века участник этого боя, оставшийся в живых, сделает следующее добавление в своем письме ко мне:
«Уважаемый т. Гусев! Прочел вашу повесть «За три часа до рассвета». Повесть меня очень и очень взволновала. Я вновь вспомнил Белоруссию, Пинские болота, облавы, словом, жизнь партизанскую. Описанные события имеют некоторое отношение и ко мне. Я был членом группы «подполковника Нового» в качестве радиста, зашифрован кличкой «Марат».
Коротко расскажу свою историю: в тыл врага был сброшен в оперативный центр Григория Линькова 9 ноября 1942 года. Группа работала от Генштаба и дислоцировалась в районе Червонного озера. При посадке я повредил ногу, поэтому работал радистом при штабе оперативного центра. К началу зимы 1944 г. группа Г. Линькова уходила на запад к Бресту, меня, как инвалида, оставили в партизанском соединении Комарова (Полесская область).
Где-то в начале 1944 г. через это соединение проходила группа Нового, по моей просьбе я был зачислен радистом, получил рацию «Север-бис» и работал до соединения с частями нашей Армии. Кроме меня, были еще радисты — Клара и Юрий Уколов.
События тех дней частично уже забыты, но кое-что осталось в памяти. С Новым мы шли из Полесья на запад через Пинские болота по пояс в ледяной воде и к весне пришли в Барановичскую область. Магистраль Брест — Москва переходили северо-восточнее Ивацевичей. Место в районе Слонима, где мы остановились, занимал партизанский отряд Прокопа. Здесь мы приняли груз с Большой земли, а в мае Новый выделил группу Тиссовского для перехода в Белостокскую область. Радистом в той группе был я. С нами шли человек тридцать партизан во главе с Войцеховским. 23 мая мы проходили ночью особо опасный участок, полоса между двух рек — Зельвянка, а вторую не помню. Вел нас проводник. Этот участок был усеян гарнизонами и засадами. За короткую летнюю ночь надо было пройти 15—18 км. До второй речки оставалось совсем немного, мы сели, осторожно покурили, встали, прошли метров сто, взвилась ракета, и началась стрельба. Бой длился несколько минут, а когда все собрались, то Тиссовского с нами уже не было. Вместо него группу возглавил Николай Майдан; с ним мы шли по Белостокской области и соединились с Армией в болотах под крепостью Осовец.
После ухода от Нового связь я держал с Кларой, но потом вдруг связь оборвалась, и уже от Белова из штаба фронта мы узнали печальную весть о гибели Нового и Клары. Позже, после выхода к своим, в Бресте на отдыхе, мы узнали подробности этой трагедии. Вот все, что я знаю о гибели Тиссовского.
Уважаемый Борис Гусев! Люди, о которых вы писали, достойны, чтобы о них вспомнить.
С сердечным приветом
Петр Есаков».(Это тот самый Есаков, родителям которого Ким просил высылать в Подмосковье ежемесячное денежное пособие.)
Иван Бертольдович Франкль погиб, так и не зная, что за день до этого Указом Президиума Верховного Совета СССР он получил советское гражданство и награжден орденом Отечественной войны.
В деле подшито письмо жены Франкля командиру части. Оно датируется 3 мая.
«Уважаемый товарищ Смирнов!
Получила Ваше письмо и перевод на 600 рублей. Сердечно благодарю Вас за внимание.
Я пока нахожусь в городе Прилуки. Местожительство у меня не постоянное, поэтому прошу писать до востребования. Убедительно прошу Вас, сообщите мне, что известно о судьбе Ивана Б. Очень волнуюсь. Долго, долго не получаю от него писем. А сколько я ему их послала! Видимо, он их не получил. Приезжал один военный и рассказывал, что муж мой дважды представлен к правительственной награде. Я горжусь боевыми подвигами моего мужа в борьбе с фашистами. Пишите, мне достаточно двух слов: жив-здоров.
Мария Тиссовская».В начале июня Гнедаш вместе с небольшой группой разведчиков и рацией попадает в кольцо. Но группа очень подвижна, знает местность. И ведет ее боевой офицер. Нащупав слабое место противника, капитан направляет сюда свой отряд. 12 июня он докладывает:
«Из кольца окружения группу вывел. Нахожусь в пятнадцати километрах севернее Слонима. При прорыве тяжело ранен Кедр. Чувствует себя очень плохо. Требуется хирургическое вмешательство. Меня ранило в ногу. Перебита кость. Чувствую себя хорошо. Но передвигаться не могу. Ввиду ранения меня и Кедра группа лишилась возможности маневрировать, что грозят в скором времени вторичным окружением. Бросить меня и Кедра одних, а группе идти в другой район ни Смирная, ни другие не соглашаются. В настоящее время имеется возможность принять самолет У-2 с посадкой. Убедительно прошу эвакуировать Кедра. Обстановка с каждым днем осложняется.
Новый».Белов обеспокоен. Он дает радиомолнию:
«Высылаю самолет, район приземления — площадка тринадцать. Четыре костра двадцать на двадцать. Подтвердите прием».
Но события развертываются еще стремительнее. Площадка тринадцать уже отрезана, к ней разведчики не могут пройти. Группа делает попытку пробиться, но в ней двое раненых. Маневрировать трудно. Приходится отходить в лес. Гнедаш предупреждает, чтобы Белов задержал самолет. В это же время к Белову поступают тревожные сигналы с другой радиостанции Гнедаша:
«Новый окружен. Уйти некуда. Спасение жизни Нового и группы зависит от вас».
Между Москвой и Гнедашем происходит такой радиодиалог:
Б е л о в. Срочно сообщите возможное место посадки.
Г н е д а ш. Продвигаемся к северу квадрат семь.
Б е л о в. Высылаю помощь площадку семь. Позывные прежние. Немедленно подтвердите прием.
Г н е д а ш. Снова отрезаны. Принять самолет возможности нет.
Б е л о в. Молнируйте сигнал и любое место приема самолета.
Г н е д а ш. Место приема — 15 км западнее деревни Полонка. Сигналы — четыре костра квадратом. Прошу самолет сегодня, шестнадцатого. Новый.
В тот же день Клара уже от себя посылает еще одну радиограмму Белову:
«Находимся тяжелой блокаде. Нового и Кедра несем на руках. Выхода из блокады нет. Спасение жизни Нового зависит от вас. Смирная».
Снова молния от Гнедаша:
«Самолет без подтверждения не отправляйте».
Это значит: и последняя площадка западнее деревни Полонка отрезана.
Группу преследуют по пятам, и все-таки она не перестает передавать разведывательные данные. Последние данные переданы 18 июня 1944 года.
В течение шести дней небольшой отряд из семи человек несет раненого капитана на руках, уходя от преследователей. Но на этот раз служба СД, стремясь отыграться за все провалы, держит разведчиков мертвой хваткой. Круг замыкается.
ПОСЛЕДНИЙ СОН
И вот рассвет наступил. Это было заметно по бледным точкам, появившимся наверху. Точки становились все ярче и светлей, как звезды на темнеющем небосклоне, — то утренний свет пробивался сквозь груду ветвей, которыми маскировали землянку.
Клара уснула. Совсем близко он слышал ее легкое, ровное дыхание. Пусть хоть немного отдохнет перед тем страшным напряжением воли и сил, которое им предстоит пережить в ближайший час… Благополучный исход сомнителен. За эти два года Ким изучил немцев. Раз уж они окружили лес, прошерстят его методично и добросовестно. К тому же у них пеленгаторы, возможно, засекли рацию в этом квадрате и, конечно, будут ее искать. Центр Кима принес им достаточно бед. Такой удар, как гибель «Веги» и «Арбертруно», перенести нелегко.
Ким отчетливо представлял себе, как неистовствовал майор Тойбель, узнав о провале своих отрядов. С него, наверное, сорвали погоны, кресты. Попадись Ким ему в руки, он бы натешился, прежде чем прикончить. Впрочем, до этого ли сейчас Тойбелю, да и всей фашистской армии? Наши подходят к старой границе. Через неделю, максимум две Слоним будет освобожден.
И снова взвешиваются все «за» и «против». Как бы втайне от себя он допускает мысль, что каратели охотятся не за ним, а прочесывают леса перед отступлением, чтобы не получить удара с тыла. Если так, то спасение возможно. Ребята, конечно, постаралась хорошо замаскировать землянку. Наверное, волнуются сейчас… Лучше не думать об этом.
Самое тяжелое — это вынужденное бездействие. До сих пор он всегда, или почти всегда, незримо направлял ход и развитие событий. А теперь сам подвластен им. Если б только он один! Клара… Об этом он даже страшился думать, страшился представить себе, как зашуршат разбрасываемые штыками ветви. И тогда? Тогда, «согласно программе»…
Их, конечно, попытаются взять живыми. Уж лучше заранее выйти из этой ямы и автоматом, гранатами положить еще десяток фашистов, умереть в открытом бою. Но нельзя. До последней секунды надо надеяться. Надеяться, даже когда услышишь над головой топот сапог и голос: «Петер, осмотри то дерево, там в листьях могут скрываться…» Надеяться, когда сверху посыплется земля… Надеяться, надеяться, надеяться!..
Превозмогая боль, тихонько, чтоб не разбудить Клару, Ким при поднялся на локтях и приник ухом к сырой земле. Проходит минута, другая… Земля молчит. Значит, немцев еще нет, по крайней мере в радиусе семисот метров. Он уже ясно видит лицо Клары. Где она сейчас? Куда увело ее последнее сновидение?
— Ты видела сон? — спрашивает Ким.
— Да какой-то путаный и странный… Который час?
— Уже шесть часов утра.
— Их нет… Может, и не придут?
— Может быть…
— До которого часа мы будем ждать и сидеть здесь?
— Часов до восьми, десяти…
— А потом?
— Размаскируемся. Что же еще?
Конечно!.. Как все просто и хорошо.
— Правда, Ким, так и будет, у меня интуиция, — говорит она, уже проснувшись совсем.
— Интуиция? Отлично… И что же говорит твоя интуиция? — спрашивает он.
— Они пройдут, а мы останемся… Представляешь, как здорово!.. Будем жить в землянке… Смотри, сколько у нас продуктов… Я буду вести хозяйство, ухаживать за тобой…
— Потом что?
— Дождемся наших… И тебя увезут в госпиталь долечиваться. А потом… ты поедешь домой.
Пауза. Наконец он произносит, вздохнув:
— Фантазерка ты… Куда я поеду?
Ему нечего сказать более. Пусть понимает эту фразу как хочется ей. А раненая нога ноет и ноет, очевидно, пошло воспаление. Но время идет, и нужно сделать последние приготовления. Он снова приникает ухом к земле и слушает долго-долго. И наконец улавливает какие-то звуки, как бы колебания от топота ног. Через минуту он уже отчетливо различает шаги… Идут не строем, задерживаются у подозрительных мест… Это понятно… Он откидывается назад и спокойно произносит:
— По-моему, они идут…
— Слышно? — притаившись, спрашивает она.
— Да… На всякий случай надо готовиться.
— К бою?
— Да… Скорей всего так.
— На каком расстоянии они?
— Думаю, метров семьсот-восемьсот. Минут десять осталось.
Клара быстро встает, что-то ищет на земле, осторожно, медленно. Вот она нащупала то, что искала, — гранаты. Ким достает револьвер из кобуры, кладет рядом.
— Клара.
— Молчи… Я все понимаю. Так случилось, и все. Если мы останемся живы, все будет по-прежнему. Пожалуйста, не думай обо мне.
«Что она говорит… Зачем? Разве в этом дело?» — думает он.
«О чем же сейчас нужно еще говорить? Ведь это главное сейчас, пока мы живые… Мы все сделали, что могли, правда ведь? Мы исполнили свой долг…»
— Клара, я очень люблю тебя…
— Я знаю… Я сяду рядом, будем молчать. — Она понижает голос до шепота.
Короткая автоматная очередь разрезала утреннюю тишину леса. За ней вторая, третья…
— В кого они? — спросила Клара.
— Да ни в кого!.. Палят по макушкам деревьев на всякий случай. Нервы… Они тоже из-за каждого куста смерти ждут…
И вдруг где-то совсем близко слышится легкое быстрое постукивание и затем громкий сердитый лай. Овчарки, немецкие овчарки!.. Вот кого припасли каратели, чтоб действовать наверняка. Теперь уже нет шансов на спасение…
Ким говорит:
— Клара, пожалуйста, сядь к рации… Помнишь, я говорил об одной фразе, которую надо передать в штаб? Сейчас, пожалуй, самое время… Стучи: «Согласно программе…»
Часть III. ГЛАЗАМИ ПОТОМКОВ
ПЕРВЫЕ ВЕСТИ
…В той тихой комнате со стеллажами, где хранятся личные дела советских разведчиков, погибших в Великую Отечественную войну, я провел несколько дней. Передо мной лежал толстый том, страниц двести, — в нем было сосредоточено все, что касалось Кузьмы Гнедаша и его центра. Главным образом это были радиограммы его и Клары, сотни радиограмм… И ответные радиограммы Москвы — центру. Еще был список членов группы, и против каждой фамилии стоял псевдоним, которым этот разведчик был зашифрован. Автобиографии. Анкеты. Пожалуй, и все…
Как сложилась дальнейшая судьба тех, кто остался жив? Где они — об этом не было никаких сведений. К личному делу в самом конце его были подшиты два письма. Первое — запрос в Генеральный штаб. Вот его текст:
«Дорогие товарищи! Мы, жители Слонимского района Барановичской области, помним о героях, погибших в наших местах в Отечественную войну. Нас очень волнует участь двух павших товарищей: подполковника Шевченко и его связной Клары Давидюк. Нам известно лишь то, что они погибли 19 июня 1944 года во время карательной экспедиции. Их окружила целая дивизия фашистов. Не желая сдаваться, они взорвались на собственных гранатах в землянке, после того как были обнаружены. Когда каратели ушли, на это место пришли партизаны. Они похоронили товарищей Шевченко и Давидюк в одной могиле. Но ходят слухи, что это не настоящие их имена. Мы просим, пришлите, пожалуйста, фактические данные о них. Наверное, теперь можно уже. И мы выполним долг и, как можем, увековечим память о них. С коммунистическим приветом — секретарь Слонимского РК КПБ Попова, г. Слоним».
Второе — копия ответа, посланного секретарю райкома.
«Уважаемая товарищ Попова! Мы очень тронуты Вашей просьбой. Вы правы, теперь уже все можно сообщить Вам. Тот, у кого были документы на имя подполковника Шевченко, на самом деле — Герой Советского Союза майор Гнедаш, Кузьма Саввич. А девушку, старшего сержанта, так и звали — Давидюк Клара Трофимовна. Это ее настоящая фамилия.
Майор Гнедаш был командиром отряда разведчиков. Его заслуги перед Родиной велики. В его наградном листе сказано, что благодаря своевременному вскрытию оборонительных сооружений и систем обороны противника товарищ Гнедаш К. С. обеспечил быстрое форсирование Десны и Днепра наступающими частями Красной Армии, а также во многом облегчил проведение Белорусской операции. Клара Давидюк была радисткой подпольного центра.
От лица службы и боевых друзей, лично знавших Кузьму Саввича и Клару, я приношу Вам свою большую благодарность за Вашу заботу о погребении тел и увековечении памяти погибших товарищей. Вечная память погибшим за великое дело Ленина!
Полковник Романовский».И все. После окончания войны дело легло в архив и пролежало там четверть века. В эту тихую комнату Архивного управления меня командировала редакция газеты «Известия». Откровенно сказать, вначале я не хотел браться за это задание. Сколько уже написано о разведчиках! Еще один детектив?.. Поехал ради интереса: посмотреть, как э т о там, в святая святых, — Архиве.
Передо мной положили три дела крупнейших разведчиков времен Отечественной войны. Всё в одном экземпляре и всё от руки… Да еще с условными сокращениями. И тогда я стал смотреть эти дела не с начала, а с конца. И когда прочел последние радиограммы Смирной из лесов Слонима, то понял, какое из дел следует мне взять для изучения. Гнедаш и Клара. Их судьба приковала мое внимание. И я написал документальную повесть по одним документам. Газета напечатала и поместила две фотографии, хранящиеся в деле, — Кима и Клары.
В редакцию пошли письма. Авторы их восхищались мужеством погибших героев, просили рассказать о них более подробно. И вот среди других откликов я прочел такое письмо:
«Товарищ Гусев!
Пишет вам Уколов Георгий Иванович. В «Известиях» я прочел вашу статью «За три часа до рассвета», и на меня нахлынули воспоминания всего пережитого, прошлого. Вы упоминаете человека по имени «Левый». Такая кличка была у меня. Я молчал об этом четверть века, но раз в газете написано — видно, могу открыться.
Дело в том, что на протяжении девяти месяцев на Украине, а затем четырех месяцев в Белоруссии я в качестве радиста центра, руководимого Гнедашем, находился непосредственно с ним рядом. Только за три недели до трагической гибели Кима (так мы звали его) я был послан им на задание в другой район. Затем меня направили в Польшу, и связь моя с Кимом прервалась. Лишь в 1947 г., возвращаясь из Германии, я заехал в Киев и узнал подробности гибели Кима и Клары.
В настоящее время служу в кадрах Советской Армии, Я тоже мог бы кое-что рассказать о Киме».
Следовал адрес… Уколов Георгий Иванович… Да, это имя стояло пятым в списке № 1 членов центра. Против его фамилии действительно значилась кличка «Левый». Под этим именем он и действовал в тылу и подписал, наверное, с полсотни радиограмм в штаб. Кто еще мог знать об этом? Очевидно, ошибки нет, это он.
А несколькими днями раньше меня вызвала междугородная. Звонила Москва. Женский голос переспросил мою фамилию, имя, отчество… Потом:
— Здравствуйте… С вами говорит Давидюк…
— Клара?!
— Я мать ее. Меня зовут Екатерина Уваровна. Кларочка моя погибла в сорок четвертом….
— Да, да, я знаю. Но я подумал: а вдруг?
— Это я тоже так думала и ждала много лет, хотя была уверена в ее гибели… Но… разные бывают случаи в жизни… и Трофим Степанович, отец Клары, тоже надеялся…
— Он жив?
— Он умер в 1960 году.
Пауза. Потом:
— Осенью 1942 года Кларочка сообщила, что отправляется на задание. Куда, надолго ли — ничего не сказала. И все… Больше я ее не видела… Мне бы очень хотелось встретиться с вами.
Екатерина Уваровна замолчала.
— В Москве живет человек, который был вместе с Кларой в тылу врага, — сказал я.
— Он жив?! Как мне его увидеть?
— Думаю, что он охотно придет к вам, — ответил я.
В письме Уколова был указан его телефон. Я созвонился с ним, мы договорились встретиться на Суворовском бульваре и побывать на Ново-Басманной у Екатерины Уваровны. В личном деле майора Гнедаша имелись фотографии всех членов центра, руководителей группы, радистов, в том числе и Уколова. Но Уколову тогда было всего 18 лет, он был ровесник Клары. Очевидно, он сильно изменялся, и мне трудно будет его узнать, тем более по фотографии.
И вот я в назначенном месте. Ярко светило солнце. Мимо двигался поток людей. Я волновался, думал, что сейчас должен появиться человек из легенды, который был там, с Кларой, с Гнедашем… В конце концов, один он мог судить, верно ли я описал то, о чем говорили сводки радиограмм. Ведь он живой свидетель, пока единственный… Я вглядывался в каждого проходившего военного, За четверть века люди меняются, особенно внешне.
— Здравствуйте! — вдруг раздался голос позади меня. Я обернулся. Передо мной стоял высокий мужчина в гражданском, на вид лет пятидесяти.
— Георгий Иванович?
— Я…
Помолчали. В первую минуту я даже не знал, о чем мне спросить его. Когда я читал дело Гнедаша, у меня возникла масса вопросов. Но это там, в той тихой комнате. А сейчас мне казалось не очень уместным расспрашивать о подробностях.
— А я читаю газету, вижу: «Левый», Ким, Междуречье, Думаю, как далеко это все… Впрочем, там есть небольшие неточности.
— Какие?
— Так вдруг и не скажешь. Вас допустили к личному делу Кима?
— Да…
— Так я и думал. Иначе — откуда?..
Мы сидели на скамейке. Настроение моего собеседника постепенно менялось. Он как бы уходил в даль прошлых лет. И становился печальнее, задумчивее, видно было, что он взволнован.
— Вы работали с Гнедашем полтора года. Какой он был человек?
— Разведчик, — ответил Уколов.
— Я понимаю, как много вы вкладываете в это слово, но все же?
— Ну, если сказать — большой человек, будет в самый раз. Заботился о нас всех, берег.
— Смелый?
Пауза.
— Смелый, — вздохнув, повторил он, вспоминая, очевидно, совсем другое. — Да, конечно. Смелый, самоотверженный… Что еще? Но, понимаете, все эти качества в нем были спаяны. Он и говорить умел на народе, зажигал. Иной раз слушаешь, уж знаешь, к чему ведет, — все равно интересно. Он брал цель… Крупно. И привлекал помощников. Курков знал подрывное дело. Ким его использовал по этой части. Тиссовского — как конспиратора. Все у него было продумано и рассчитано. А партизаны? Там тоже командиры были задиристые… Вы же учтите, мы работали на территории, занятой немцами. В армии просто: действуй по уставу, и все. А там какой устав? Это же надо было суметь подчинить себе столько людей…
— Сумел?
— А как бы вы думали!.. Он и фашистов сумел вынудить действовать так, как было нужно ему… Возьмите Дарницкий мост!
— Да, знаю…
— Киму достаточно было поговорить с человеком полчаса — и он уже ясен ему. Ведь никто из привлеченных им людей не продал нас.
— А Надя? — спросил я. Это был один из нераспутанных концов.
— Кто предал? Она? Ее предали. В подполье пробрался гестаповский провокатор. Он и выдал ее. И не только ее. Вы слышали, как это было? К ней на конспиративную квартиру пришел человек и сказал, что здесь далее находиться опасно, и увел ее. А она не должна была идти с ним.
— Ну, а если б человек этот оказался не провокатором? Ведь за квартирой действительно могла быть установлена слежка. Так, в сущности, и было.
Мой собеседник категорически замотал головой.
— Нет, нет! У нее была точная инструкция Кима — не покидать квартиры. Значит, у него имелся какой-то вариант. Теперь возьмите: если б тот человек был не провокатор, он должен был бы действовать через Буялова, который охранял Надю. Так? Но нет. Обошел. Уже одно это должно было навести ее на подозрение. Что я хочу подчеркнуть: вот это отступление от инструкции и повлекло трагические последствия.
— Допустим. Но все равно конец один: ведь гестаповцы, которые поджидали Надю на улице, с таким же успехом могли подняться к ней на квартиру и взять ее там вместе с рацией.
Уколов вновь энергично запротестовал.
— Так нельзя рассуждать! «Могли»… Это догадки. Ведь не поднялись же, а ждали внизу.
— Потому что хотели сохранить квартиру как приманку.
— Что они хотели — этого мы не можем знать. Но я совершенно точно убежден, что Ким предусмотрел всякие варианты. Поэтому и дал ей инструкцию: сиди. Придет гестапо, а ты сиди спокойно. Рация в тайнике, документы у нее были в полном порядке. Формально не за что зацепиться.
— Но они знали, что это конспиративная квартира, — возразил я.
— А разве там такая вывеска на двери висела? Обычная квартира. Придраться не к чему.
— Вы меня удивляете, неужели немцы так строго придерживались буквы закона?
— Какие законы?! Царил фашистский террор, произвол. Именно поэтому одинаково легко было и замести невинного, и отпустить «виновного».
— Позвольте, но, значит, среди гестаповцев и полицаев был кто-то, кто был заинтересован в спасении Нади?
— К тому и веду! — вскричал Уколов.
— Так почему же на улице он не помог?
— Не мог. В этом все дело. Возник инцидент. Перестрелка. Уже все пути были отрезаны. Учтите, Буялов, желая выручить Надю, первым открыл огонь. Но в тех условиях у него другого выхода, собственно, не было. Или нужно было на ходу охватить обстановку, перестроиться.
— Значит, он был не в курсе дела? — спросил я.
— Но, видите, это старая истина: одно нарушение инструкции влечет за собой другое. Надя поддалась на провокацию, вышла на улицу, покинула квартиру, да еще с рацией в чемодане, чего категорически делать не следовало. В крайнем случае она должна была дождаться Буялова и посоветоваться с ним. Но Буялов ничего не знал. Представьте, он где-то был, возвращается, подходит к квартире и видит, как Надю уводят. Ему бы побольше выдержки, выждать, проследить, но он тоже, наверно, растерялся. Он имел приказ охранять радистку, и он попытался выполнить его, но погиб в перестрелке.
— Значит, как я понял из вашею рассказа, в киевском гестапо работал ваш человек?
— О Фене вы знаете. А был еще и шофер, Андерс, немец. Сочувствовал нам…
Некоторое время мы шли молча. Потом я спросил у моего собеседника, хорошо ли он помнит Клару.
— Да. Ее нельзя забыть, — ответил Уколов.
— Судя по фотографии, она была красивой.
— Да, она была красивой… — Он помолчал, а потом продолжал: — Стройна, обаятельна. А глаза?! Только вот что… Заведусь я сейчас — и ничего не смогу рассказать ее матери. Это ж юность моя…
Остаток пути мы проделали молча.
ЕКАТЕРИНА УВАРОВНА
Наконец мы подошли к старому трехэтажному дому № 12. Здесь Клара провела детство. Как все вдруг живо встало перед моими глазами! Этот крестообразный старый московский двор, затертый между другими дворами, был как бы и моим двором. А сейчас он уже прибежище новых мальчишеских поколений. Мы повернули направо, нашли нужное нам парадное.
Я нажал кнопку звонка. Послышались шаги. Дверь отворилась. На пороге стояла женщина лет шестидесяти, а может быть, и старше, в черном шелковом платье. Голова вся седая. Лицо сосредоточенно и печально.
— Мы к Екатерине Уваровне Давидюк.
— Это я. Прошу пройти.
Вошли в просторную переднюю. Сколько раз я мысленно представлял себе эту переднюю и даже зеркало, стоявшее в ней. Справа из окна падал свет…
Тишина. Вслед за Екатериной Уваровной мы пошли по длинному, темному коридору. И вот комната с высоким потолком, старинная обстановка скромной семьи тридцатых годов.
Первое, что бросилось мне в глаза, — большой портрет Клары, написанный маслом. Он висел на стене в рамке, а под ним на ленте был прикреплен орден Отечественной войны I степени.
— Вот здесь и выросла Клара, — сказала Екатерина Уваровна.
Она пригласила нас сесть, села сама, и, кажется, ничто, кроме легкого дрожания рук, не выдавало ее волнения.
— Майор Уколов, — представился мой спутник. И низко поклонился матери.
— Так вы служили с Кларой? — спросила Екатерина Уваровна, пригласив нас садиться. — И давно вы здесь живете, в Москве?
— В Москве я с шестьдесят третьего года. Так что вот, считайте, почти шесть лет, — отвечал Уколов.
— Шесть лет? Что ж не зашли?
— Не знаю. Хотел, да как-то не решался.
— Адреса не знали?
— Адрес… Дело не в этом. Вас растревожить боялся.
Между тем Екатерина Уваровна достала коробку с фотографиями, письмами Клары. Вот она совсем девочка, гуляет с папой и мамой… Вот она со сверстниками играет во дворе. Еще фотографии. Ей уже пятнадцать. Взгляд уже не детский. Будто она что-то увидела в этом мире. Что? Ровесника, с которым пошли на каток? Или она прочла книгу, открывшую ей что то новое? Умное лицо. Большой лоб. Большие глаза, чуть по-монгольски раскосые, тонкий изящный подбородок — черты лица красивые, необычные. Вот фотографии перед самой войной: Кларе уже шестнадцать, она получила паспорт. И последняя — в солдатской пилотке…
— Больше военных снимков у меня нет, — сказала мать. — Вот разве только это? Прислали из Слонимского музея. Но это не Клара…
— Это Клара… — сказал майор Уколов. — И, пожалуй, здесь она больше всего на себя похожа…
— Она совсем взрослая здесь.
— Да. Совсем взрослая. И Микки-Маусом мы прозвали ее в самом начале, когда она была совсем девочкой.
— Микки-Маусом, как это?
— Микки-Маус — маленькая мышка. Она такая шустрая была, всюду хотела успеть за нами. Стрелять — первой, на дерево лезть — она первой, ну всюду…
— Да, да, она и в детстве такой была — и на забор, и на дерево, от мальчишек не отставала, — заговорила мать, — ну, что же еще?.. Расскажите, пожалуйста!.. Я же о последних годах ее жизни ничего не знаю.
— Когда вы ее видели в последний раз? — спросил майор.
— Последний… Да вот тот раз — осенью 1942 года. Вдруг вечером поздно — звонок. Я открыла — смотрю, моя Кларочка в солдатской форме, она же в июне еще ушла добровольцем в армию. Писала, что находится не в Москве. Я никак не ожидала ее… Я кинулась к ней, расспрашиваю, где она, что… Молчит. «Мама, я здорова, мне весело, все хорошо».
…А потом Екатерина Уваровна стала перебирать пожелтевшие письма.
— Вот сорок второй год… Это еще она училась на курсах… Ну, вначале о нас расспрашивает, о папе, обо мне. А вот о своей жизни:
«Живем мы очень хорошо, дружно. Много учимся, а погода стоит хорошая. Нас кормят, поят, одевают, правда, мешковато, но мы сами пригоняем, ушиваем. Как хорошо, мамочка, что ты научила меня шить…»
Мать остановилась. Мы молчали. Екатерина Уваровна продолжала читать:
«Здесь я многому научилась, чего не знала раньше. Мы с Надей ходим в отличницах…»
Надя — это ее подруга?
— Вместе учились… погибла, — отвечал майор.
«Наша группа считается первой в части… Если будут спрашивать, на кого учусь, отвечай — на радистку. Больше ничего говорить не стоит… Обо мне не беспокойтесь. Я посмотрела, как живут гражданские девчата (магазины, карточки, иногда кино, театр, учиться толком не учатся), и я очень довольна, что пошла в армию, и сейчас ни за что не променяла бы нашу жизнь на гражданскую. Наша жизнь в тысячу раз интереснее, разнообразнее, только одно тревожит — что доставляю тревогу вам. Мамочка, если ты будешь расстраиваться и папа будет расстраиваться, то вы постареете. Ведь мне хорошо! Вы думайте о собственном здоровье. Для меня не будет ничего тяжелее известия о том, что вы себя плохо чувствуете».
…Глядя, как мать медленно складывает письма, как внешне спокойно развертывает следующее, я понял, от кого Кларе передались воля, сдержанность.
Екатерина Уваровна вышла приготовить чай.
— Может, перевести разговор на другое… чтоб она не читала письма, — предложил я.
— Не надо. Ей это нужно… Ей нужно пережить снова все, — твердо сказал Уколов. Пожалуй, он был прав.
Екатерина Уваровна вернулась и вновь обратилась к письмам.
— Вот письмо от 20 августа 1943 года.
— Это уже мы полгода в тылу врага были, под Киевом. Значит, с самолетом переслано, — заметил майор.
— Об этом здесь не сказано…
— Понятно.
Мать читала отрывки из писем. Я переписал их от строчки до строчки. Вот последние письма Клары, присланные уже из вражеского тыла через разведчиков.
«20 августа 1943 г.
Добрый день, мои родные!!!
Если бы вы знали, сколько радости доставили мне ваши письма. Сейчас есть возможность передать вам записочку. Живу я очень хорошо, все у меня есть и в достатке, работа тоже двигается неплохо, так что остается только одного желать — скорее бы наши докончили немцев, у нас теперь все разговоры начинаются так: «Вот кончится война…»
Родные, очень вас прошу, напишите подробнее, что делается в Москве, что там нового, какие книги, картины, пьесы. Песни пусть Нельца спишет, я ей буду очень благодарна за это.
Письма приготовьте, мое, возможно, вам передадут. Ваши же могут только через руки попасть ко мне, так что, если кто-нибудь за ними придет, вы передайте и ничего не спрашивайте.
Я здесь также не одна живу. Тут у меня и матери, и отцы, и братья, сестры и даже кумовья есть. Во как! Насчет замужества можете быть спокойны — не думаю еще. Ведь как-никак я должна была бы еще получить на это согласие своих многочисленных «родичей». Ну, вот, в общем, и все.
Ваша Кларка.Привет от моей «матери». Обязательно наказывала передать и от ее дочки».
«10 сентября 1943 г.
Мамочка, я жива, здорова. Живу хорошо. Все, что тебя и папу интересует, можете узнать у человека, с которым я передаю эту записку. Если можно, пусть он остановится у вас на несколько дней. Приехать сама не могу. Пишите по адресу: Полевая почта 71650 «Ч», мне. Нельце и Томке скажите, чтоб написали тоже. Крепко-крепко целую всех вас.
С приветом, Клара».«15 октября 1943 г.
Дорогая мамочка!
Опять наши товарищи будут в Москве, с ними я и передам все письма. Вчера получила письмо от Зои, за которое очень благодарна ей. Мамочка, почему до сих пор от вас нет ничего? Как папа? Где он? Как все наши? Ну, что о себе я могу написать? Пока одно лишь скажу — живу замечательно, часто вспоминаю, жду письма.
Мамочка, очень прошу извинить меня за надоедливость, что я посылаю к вам совершенно незнакомых людей и прошу приютить их на несколько дней. Во-первых, это необходимо, а во-вторых, только они могут кое-что сообщить вам о моей жизни. Женщину, которая передаст тебе эту писульку, зовут Любовь Степановна. Она моя очень хорошая знакомая, и я тебя очень буду просить помочь ей, пока она устроится. Помощь эта состоит в том, чтобы дать возможность прожить у нас несколько дней. Ну вот и все. Привет от нашего командира и поцелуй от меня. Пишите. Еще раз крепко-крепко всех целую. Привет соседям.
Ваша Клара».«7 ноября 1943 г.
Добрый день, родные мои!
С праздником вас! Как-то вы его проводите? Вот уже скоро месяц будет, как я послала вам весточку о себе с одним из моих знакомых, но от вас ни слуху ни духу. Я очень часто смотрю на ваши фото, их уже знают все мои друзья. Своей фотокарточки я не могу прислать, так как здесь негде фотографироваться. Да я какая была, такая и осталась, только трошки выросла. Во всяком случае, если увидите — узнаете. Живу я очень хорошо… Товарищи у меня замечательные. Они мне здесь как братья родные… Одно только очень хотелось узнать: как-то вам живется? Ведь скоро полтора года, как я не видела тебя с папой. Он по-прежнему такой же худой? Интересно, как живут мои подруги. Нельца, наверное, в институте? А Рэма?
Пусть хотя бы пару словечек черкнут. Эх, и поговорить же охота с ними!
Нинуська, должно, большая уже — завивку сделала, с хлопцами в кино ходит. Пусть напишет, какие новые картины вышли и слова новых хороших песен, а то я совсем от жизни отстала, словно в лесу глухом живу…»
А ведь она и в самом деле в глухом лесу была. И ни слова намека…
«…Жизнь у нас хоть и замечательная, да только некогда в кино сходить. В свободное время развлекаемся рассказами, настольными играми, книгами. Вот и сейчас командир спит, один из друзей орешки грызет, а другой, лежа на диване, заливается над Сервантесом («Дон Кихот»), я же письмо взялась сочинять. Есть много кое-чего порассказать интересного, да в письме не опишешь. Расскажу, когда встретимся! Пишите о своей жизни побольше. Ну, на этом кончаю свое «послание» превеликое. Крепко-крепко целую и жду ответа. Всем знакомым и родным пребольшущий привет. До свидания.
Клара.Пишите по адресу: Полевая почта 71650 «Ф».
И последнее письмо. Хотя Клара погибла полгода спустя после него, но больше от нее писем не приходило.
«26 декабря 1943 г.
Добрый день, моя милая, родная мамуська!
Если бы ты только знала, до чего же я обрадовалась, получив твое письмо. Самое главное то, что оно было большое, и я его сразу же раза три прочла не отрываясь, а потом только дала прочесть друзьям и командиру. У нас привыкли делиться получаемыми письмами. Сейчас, пока что, есть возможность переслать письмо, хотя приехать не удастся, наверное, еще долго. Мамочка, дорогая моя, я тебя только очень прошу — не волнуйся, если не будет долго писем. Уж кто-то, а я-то жива всегда буду!..»
Эти слова ее оказались пророческими (но не в том смысле). Она обрела бессмертие.
«Сегодня видела вернувшегося к нам Кузнецова. Передал записку от вас. Он, видимо, основательно напугал вас, порассказав о том, где мы находимся и что делаем. Я, между прочим, очень жалела, что так подробно рассказал. Незачем. Ведь на самом деле это совсем не так страшно, как кажется по рассказам. И ничего в этом особенно геройского нет. Каждый может. Так что, мамочка, еще раз прошу вас, не волнуйтесь и не изводите себя понапрасну — я останусь жива, встречу победу. Живу я по-прежнему, очень хорошо, в полном достатке. Только волнует — ты там, наверное, босая ходишь. Знаешь, мамусенька, не жалей ты моих вещей, распоряжайся как знаешь. Туфли або продай, або променяй на больший номер. Наживу еще барахла-то! Чего его жалеть? Ну вот, кажется, и все. Командир передает вам спасибо за привет и просит принять от него привет. Это действительно очень хороший человек.
Ну всего самого доброго вам. Привет всем родным и знакомым. Мамочка, где сейчас Федюшка и Седовы? Крепко-крепко целую вас с папой. Пишите почаще и не отчаивайтесь, если от меня долго не будет писем. Просто работа не позволит. Посылаю вам денег 1500 р. Попробуйте достать себе что-либо подходящее из обуви на зиму. Еще раз крепко целую.
Клара.P. S. Заранее поздравляем с Новым годом! Привет всем-всем, и извините, пожалуйста, что не успела кое-кому ответить на письма».
Потом мы с Георгием Ивановичем вышли покурить в переднюю. Пустынной казалась эта большая квартира с несколькими передними, переходами, коридорами, где некогда, верно, пряталась и играла Клара. В кухне было три старушки. Одна из них стирала белье в железном корыте.
— Вы помните Клару? — спросил я.
— Как не помнить?.. Сколько вечеров провела она у меня на диване с моей дочкой Рэмой, слушали сказки, — сказала та, что сидела у корыта. — Хорошая была девочка, послушная…
— Все мы ее помним, — сказала другая. — Мы как поселились в этой квартире в двадцатом году, так и живем… Дети наши разъехались, кто на войне погиб… А мы вот состарились.
…И снова воспоминания о Кларе. Какой она была в детстве. Как впервые надела красный галстук. Как готовились к первому комсомольскому собранию. Как в июне 1942 года сказала: «Мама, я иду в армию».
— У меня есть еще несколько писем ее командира.
— Гнедаша? — встрепенулся майор.
— Нет. Смирнова.
— А… Да, был такой, Петр Федорович.
Мы стали читать письма Смирнова. Привожу здесь первое и последнее.
«13 января 1944.
Уважаемая мать боевой и храброй дочери — Клары!
Считаю своей святой обязанностью сообщить вам, уважаемая мать хорошей дочери, о том, что ваша дочь Клара находится на верном героическом пути. Боевая и храбрая девочка, но с особым — упорным характером, в настоящее время выполняет боевое задание командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками. Жива и здорова, чувствует себя прекрасно. Ее краткие сообщения получаем ежедневно. Она пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Пишите ей, можно посылочку. И по мере моих возможностей я постараюсь переслать их Кларе.
Прошу не беспокоиться, она находится вместе с моими доверенными товарищами. И я не сомневаюсь в том, что она будет получать вторую правительственную награду.
С приветом П. Смирнов».Получила, но уже посмертно.
И последнее письмо его уже после гибели Клары.
«Уважаемый Трофим Степанович и Екатерина Уваровна!
Пишу о дочери вашей, о дочери моей Родины, о храбром воине нашей Красной Армии, герое Отечественной войны, павшей в борьбе за нашу любимую Родину…
19 июня 1944 года в районе Слоним, с группой товарищей и друзей по оружию, в неравном бою смертью храбрых погибла она.
Вечная память вашей любимой дочери. Вместе с вами разделяю ваши страдания и вместе с вами остаюсь с ясным сознанием того, что Кларочка, воспитанная вами в духе любви к Родине, честно исполнила свой долг.
За боевые отличия в боях с немецкими захватчиками Кларочка дважды награждена правительственными наградами, орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Будьте мужественны.
С глубочайшим уважением П. Ф. Смирнов».— Ведь мы ничего не знали, — рассказывает Екатерина Уваровна. — Писем от нее нет, да ведь они и приходили-то не так часто. И она предупреждала: нет писем — не беспокойтесь… Извещение о смерти Клары мы получили шестого ноября сорок четвертого, то есть спустя пять месяцев после ее гибели. Извещение взяли соседи, скрыли от нас, не знали, как сообщить нам… Потом сказали отцу…
19 ноября было воскресенье. В этот день муж получил письмо от Смирнова. Ну, и из него мы все узнали… Тут и соседи отдали мужу повестку… Я-то не знала, мне опять ничего не говорили. Вижу, муж очень подавлен чем-то… Я стала спрашивать, что случилось? Он молчит… И я все поняла…
Как только освободили город Слоним, муж поехал туда. Он должен был опознать ее, нашу Клару. И узнал ее — по щербинке на зубе… Приехал седой…
СВЯЗНЫЕ КИМА
В Киев я прилетел в солнечный полдень. По дороге с аэродрома к городу я, впервые приехавший в столицу Украины, был поражен открывшимся видом на Киево-Печерскую лавру. Золотые купола ее как бы плыли над Киевом. А город надвигался, вставал на крутых склонах Днепра. Тепло. В лицо бьет южный июньский ветер. Вот и Крещатик.
Расположенный на высоких холмах, Киев как бы покачивался, переливался и с каждой улицы, с каждого поворота открывал приезжему новую свою грань. Еще четверть века назад, когда по Крещатику прогуливался Кузьма Гнедаш, кругом были руины…
Остановившись в гостинице, я отправился на поиски авторов письма в редакцию, под которым стояли две подписи — Виктор Алексеев и Алексей Булавин и приписка:
«Нам выпала тяжелая судьба пережить своего командира и отдать последнюю почесть у могилы Кима и Клары».
Оба они значились в списке членов центра Нового. Алексеев шел под кличкой «Знаток», Булавин — «Мордвин». И опять, кроме них, никто этого знать не мог.
Я поехал к Алексееву. Дверь отворила еще молодая женщина и, узнав, в чем дело, сказала:
— Как же!.. Мы вместе писали то письмо, и Леня Булавин был… Муж не спал целую ночь. Ходил. Курил… То ж у него вся жизнь!.. Молодость… Похудел даже за эти дни.
— Его нет дома?..
— На работе… Он на заводе «Медаппаратура» работает… Часов в шесть будет.
— Он… кто? В том смысле, очень ли он занят?..
— Рабочий он. Токарь. У станка…
И вот тихая немощеная улочка. Маленький заводик с тонкой трубой. Проходная. Опять задача — как я узна́ю Алексеева. И вот выходит невысокий худой мужчина. Без шапки. Руки засунуты в карманы плаща. И человек этот идет прямо ко мне. Он. «Знаток».
— Вы освободились уже?
— Отпустили. Потом отработаю.
Виктор Владимирович Алексеев был как-то озадачен, потом предложил:
— Может, позовем и Булавина?.. Чтоб уж вместе, а?
— Конечно. Спешить нам некуда… Четверть века прошло, час-другой роли не играет.
«Знаток» был рядом, и беспокойство мое улеглось.
— Как сказать?.. Иной раз и час роль играет бо́льшую, чем четверть века, — отвечал Алексеев. — Те документы, что описаны в вашей статье, — подлинные?
— Да.
— И эта радиограмма: «Оставить меня и Кедра одних, а самим идти на прорыв ни Смирная, ни другие не соглашаются»? — прочел он на память.
— И эта. Еще была одна, о том, что принятое им, Гнедашем, решение — единственный выход.
Алексеев вздохнул облегченно:
— Да, человек был… Словно знал, что через двадцать пять лет всплывет это дело. Из могилы об нас позаботился…
— Виктор Владимирович, вас никто и не думает упрекать.
— А сам себя?
Мы отправились на рынок, где работал Булавин — «Мордвин». Спутник мой тревожился, найдем ли мы на месте Булавина. Он все повторял: «Только б застать, а то уйдет на базу — пиши пропало». Булавина мы нашли в «катакомбах», под рынком, он стоял у амбарных весов. И как будто ждал нас… Оба они, и Булавин, и Алексеев, как бы отрешились от всего преходящего. Юность. Война. Гнедаш. Вот что волновало сейчас их, словно не было этих двадцати пяти лет.
…Мы сидим на окраине Киева в квартире Алексеева. На столе лежат ордена, медали. «Когда смотришь на них, как-то лучше вспоминаешь», — почему-то виновато говорит хозяин. Рассказывал Алексеев, а Булавин больше молчал, лишь изредка поправляя рассказчика. И тот всякий раз соглашался с товарищем.
— Так вы были его соратниками? — спросил я. Пауза.
— Мы были мальчишками, — отвечал Алексеев, думая о чем-то своем. — Да… Мы в киевском подполье связными были. Все слышим: «Ким… Ким… Ким прислал. Ким поручил…» Мы сперва сомневались — человек это или, может, комитет какой. Потом все же прослышали — человек. Вроде высшая власть — от Москвы. От него мы получали листовки, взрывчатку, а ему передавали сведения о наличии немецких войск в Киеве. Каждый день посыльный к нему ходил. Связных, которые приходили от Киева, мы спрашивали, какой он — старый, молодой, ну, чином интересовались — полковник или, может, генерал, где помещается. Пожимают плечами. «Да сами вы видели Кима?» — «Не знаем».
— Кто постарше был нас — знали, — сказал Булавин.
— Знали, — согласился рассказчик. — Но и мы скоро узнали, кто такой Ким.
— Мы получили от Кима же план взрыва моста.
— Это он через Сенкевича действовал, что в магистрате служил, — вставил Булавин.
— А адрес Сенкевича есть? — спросил я.
— На том свете. Помер он. Одним словом, немцы согнали население ремонтировать мост, — продолжал Алексеев. — И мы туда затесались. Ким прислал взрывчатки два ящика. Мы в карманах проносили пакеты с толом. Недели, наверное, две таскали… Взрыв назначили на двадцать первое апреля сорок третьего года, в полдень. Как раз в это время должен был пройти эшелон. Но в тот день, как я узнал потом, диспетчер, наша разведчица, сообщила, что эшелона не будет, и потому взрыв перенесли на двадцать второе. Часов в одиннадцать двадцать второго прибыли эсэсовцы и стали осматривать мост. Мы думали: все! Однако они поговорили о чем-то по-немецки, гакнули свое «хайль», сели в лимузин и отбыли. Мы смеемся: «Вот фашистское дурачье, «похайлькали», а главного не заметили…»
Алексеев остановился и взглянул на своего друга. Тот улыбнулся и покачал головой.
— Он вас сейчас будет уверять, что это был Ким, — сказал Булавин, обращаясь ко мне.
— Не, Леня, я этого не утверждаю. Врать не буду. Я от того эсэсовского офицера был шагах в полсотни.
— Побольше. Нас же всех прогнали, — уточнил Булавин.
— Может, и побольше. Спорить не хочу. Но кто был поближе, говорили, что приезжал Ким.
«Говорили!» Факт появления на мосту Кима опять ускользал от меня. Я вновь оставался с легендой.
— В общем, так: он был это или не он, а ровно в полдень взлетел мост вместе с эшелоном.
ПО МЕЖДУРЕЧЬЮ
В первые же дни в Киеве я попытался найти сведения о Наде, но тщетно: нигде, ни в каких документах она не значилась. Булавин и Алексеев тоже ничего не знали о ее судьбе. Сколько людей пропало без вести в застенках гестапо! Фашисты умели заметать следы.
Те, кто мог прояснить судьбу Нади или по крайней мере дать наиболее близкую к истине версию, — Ким, Тиссовский, Немчинов, Буялов — погибли. Но я продолжал надеяться, что набреду на какой-то след. Впереди было много встреч.
Я вспомнил, что в середине июня в Киеве должна быть мать Клары. Нашел номер телефона, который она дала мне еще в Москве, и позвонил по нему. Оказалось, что Екатерина Уваровна уже второй день здесь и ждет моего звонка. Долго я рассказывал ей о киевских встречах и впечатлениях. Затем сообщил, что теперь предполагаю ехать в Остер, к Марии Хомяк, а там видно будет.
— Когда едете? — спросила она.
— Завтра или послезавтра… Хотите, поедем вместе? — предложил я. — Булавин и Алексеев берут отпуск и едут.
— Мне бы очень хотелось. Боюсь вот, как бы не быть вам обузой.
— Почему обузой? Место в машине есть… Дорога туда, как мне говорили, отличная.
Мы договорились утром еще созвониться, я повесил трубку и стал приводить в порядок свои записи. Многое все еще продолжало оставаться неясным. Чем кончилась история с парашютисткой Беклемешевой, неожиданно появившейся в центре Кима? Судя по обмену радиограммами между Беловым и Кимом, она оказалась не той, за которую себя выдавала. Затем Павлов. У меня имелась версия его гибели, и в общем-то она звучала правдоподобно: перейдя со своим батальоном на нашу сторону, Павлов бесстрашно сражался. Но занесся, совершил очередную дерзкую выходку, что всегда ему было свойственно, не подчинился командующему и был расстрелян. На фронте и в тылу действовали законы военного времени. Но все-таки мне хотелось подробней узнать об этом.
…И вот уже блестит Днепр, а над ним километровым стальным кружевом нависли фермы Дарницкого моста. Теперь ужа Булавин снова начинает рассказывать, как все это было. «Волга», вырвавшись на простор, стремительно набирает километры, Постепенно в машине воцарилось молчание. Каждый размышлял о своем. И наконец, после двухчасовой езды, надпись у дороги: «г. Остер». Небольшой это городок, огибаемый речкой Остер. Здесь же была конспиративная квартира верной связной Кима Марии Хомяк.
— Да вон она идет, — сказал Алексеев. Шагах в ста я увидел женщину… Она шла из магазина с покупками.
— Сюда! Сюда! — закричали мои спутники, размахивая руками.
Женщина ускорила шаг. Высокого роста.. Широкоплечая и румяная. И вот уже она улыбается, бежит, обнимает Алексеева и, смеясь и плача, повторяет:
— Цыган, Цыган!..
— Не цыган, а цы́ган… Что, изменился?
— Что же ты хочешь? Годы… Ох ты, Цыган!..
— Знаток! Или забыла?
— Ну, мы тебя Цыганом звали… Лохматый всегда ходил.
— А я? — с шутливой обидой кричит Булавин.
— Мордвин! Вот его так и кликали… Бессовестные!.. Ух вы, бессовестные, забыли, никогда не заедете… Екатерина Уваровна, а вы?..
— Вот, Машенька, снова приехала…
«Они знакомы; значит, мать бывала уже в этих местах», — подумал я.
Мария протягивает мне руку. Знакомимся… Мне интересно, как восприняла Мария мой очерк о Киме, помещенный в газете. Я спрашиваю об этом.
— Читала, как же… Можно и так, — говорит она. — Хорошо, что вспомнили… Сколько лет прошло — и ни слова о нем… Разве то справедливо? Сам Ковпак приезжал к нему за советом… И Ким ездил к ему… А как наши войска пришли в Междуречье — он уже в стороне оказался.
— Что поделаешь, такова участь разведчика — всегда оставаться в тени…
— Кому — тень, кому — место под солнцем… Памятник ему надо ставить[1].
А прохожие останавливаются и с любопытством смотрят на нашу шумную группу. Появляется заведующий местным краеведческим музеем. Он хочет, чтоб мы прежде всего посетили музей. Я же обдумываю план своих действий… Наконец мы разделяемся. Основная группа идет в музей…
Мария встречала нас на крыльце. Мы вошли в просторную кухню. Здесь все пылало — хозяйка готовилась к приему своих товарищей по оружию. Она пригласила меня в комнату. Никелированные дуги кровати, стол, швейная машинка, накрытая крупным белым кружевом. В центре между двумя окнами большой портрет Кима в рамке под стеклом. Такой фотографии я не видел еще… Здесь он был совсем не резидент, а веселый, обаятельный парень, открытый и добродушный. Словно сбросил маску непроницаемости.
— Кому он так улыбается? — спросил я.
— Людям, — отвечала Мария.
— А Клару вы хорошо помните?
— Как же!.. Барышня была… Москвичка. Интеллигентная, ученая… Все около рации своей. Как Ким уйдет в Киев или в Чернигов в черном своем мундире с крестами — ходит молчаливая, волнуется, видно… Завидит меня: «Машенька, Ким не вернулся еще? У меня много радиограмм накопилось».
Собачка, встретившая нас во дворе, прошла в кухню и теперь преданно и просительно смотрела на хозяйку. Мария дала ей кусок колбасы, приласкала.
— Вот тоже у Кима такась собачка была, Маяк звали… Все хотел ее в Ромны к своим отправить… Но так и не вышло у него… А эта приблудная… Вижу, похожа на ту. И оставила…
— А что же стало с той собачонкой?
— В деревне оставил. Никак ему было с ней.
— Павлова вы знали?
— Конечно, знала… Ким же его привел вместе с казаками… После он митинг устраивал, речь говорил… Казаки клятву давали… такое тут пошло ликование. Многие мужики плакали… Да… Один вышел и сказать ничего не может… Стоит, вздрагивает… Потом все же сказал: «Кровью, говорит, своей смоем позорное пятно — службу у Гитлера», — и сошел.
— А сам Павлов?
— И он с ними. Он же остался их командиром… Лихой был… Вылазки делал, нападения на штабы ихние. Все на коне, с шашкой.
— За что же его расстреляли?
Пауза. Она молча долго смотрит на меня.
Справка
Выдана настоящая Хомяк Марии Тимофеевне в том, что она действительно работала в оперативной группе Кима с 2 января 1943 года по сентябрь 1943 года. Все задания командования Красной Армии выполняла честно и в срок.
За хорошее выполнение заданий командования фронта в тылу противника представлена к правительственной награде — ордену Красной Звезды.
Начальник оперативной группы — Гнедаш.И печать.
БОЙЦЫ ВСПОМИНАЛИ…
За столом собралось довольно много народу, пришли еще кое-кто из местных. Беседа за столом вначале была сдержанной, велась короткими репликами. Но постепенно вино делало свое дело. Речи становились оживленней, запальчивей. Воспоминания пробудили чувства самые разные: и горечь утрат, и радость от сознания свершенного, и стремление хотя бы сейчас, спустя четверть века, вынести свой суд, и, наконец, сомнения.
— …Пытался! Только Ким был умней его. Он ушел к Збанацкому… А вскоре того отозвали.
— Отозвали или сам улетел — это еще неизвестно.
— Чего бы он сам улетел перед приходом наших?
— Разные могли быть причины.
— Я только одно знаю: когда наши пришли к Десне — кто их встречал? А, скажи? Ким, Збанацкий, Мольченко, братья Науменко… То-то и оно. А где Таращук был? В Москве уже.
— Ну, правильно…
— Строкач ему так и сказал: «Вы знаете, Таращук, почему вам не дали Звезду: фактически вы уже не командовали соединением». Я же говорю — Ким! Ким и сместил его, но не хотел обострения и держал дипломатию — мол, отозвали, и все. Он же был уполномоченный Генерального штаба.
— Кто это знал?
— Мы знали, Ставка знала… А как Ким погиб в Белоруссии, нашлись, кто решил чужими руками жар загрести… Кто знал о Киме? Мы, и все. А о ком в газетах после войны писали? А ты говоришь!.. Ну… Братья, за Кима! Вечная ему память… Нет, все же нам повезло, командиры у нас были добрые. За некоторым исключением, як говорят…
— А все же Юрий Павлов зазря пострадал.
— Не «зазря» — за характер свой своенравный. Храбрец был, ничего тут не скажешь, а дисциплины не знал…
— Вот и зачесть бы ему: за храбрость, положим, орден он заслужил. За нарушение дисциплины — наказание. Вполне бы уравновесилось.
— Хе!.. А де те весы?
Мария следила за разгоравшейся полемикой и, решив что пришел момент немного унять страсти, сказала:
— Ладно, хватит споров!.. Лучше про Клару скажите… Екатерина Уваровна, ваше здоровье!..
— Спасибо, — отвечала Екатерина Уваровна, чуть пригубив рюмку. — Я все хотела спросить об одном… Лет пять назад заезжал кто-либо из вас ко мне в Москву, на Ново-Басманную?
Воцарилась пауза. Сидящие за столом переглянулись.
— Может, ты, Леня?
— Нет…
— А как фамилия того?
— В том-то и дело, что он не сказал фамилии. Меня не было, я уезжала в Ленинград к родственникам, — отвечала Екатерина Уваровна.
— Кто ж то мог быть?
— И главное, ничего не оставил.
Все молчали. Наступила напряженная тишина. Екатерина Уваровна продолжала:
— «Да кто вы?» — спросила соседка. — «Я служил с ее дочерью Кларой». Та видит такое дело — провела, открыла комнату: «Смотрите», — говорит. Долго, наверно, с час, сидел он.
— А ваша соседка обрисовала его наружность?
— Говорит, невысокого роста… На вид моложавый..
— Соседке-то сколько лет? Я к тому — кого она моложавым считает? — спросил Алексеев.
— Старая… Ровесница мне.
— А… а… Кто ж бы то был?
— Интересно, странно, — послышались реплики.
— А про то, что тихий, скромный, — не говорила она? — спросила Мария Хомяк.
— Рассказывала: сидел, молчал, лицо руками закрыл.
— Тогда я знаю кто… Но мне нужно проверить, — сказала Мария.
— Сколько же времени тебе потребуется для проверки — месяц, год? — усмехнулся Знаток — Алексеев.
Мария взглянула на часы.
— Сейчас десять вечера… До полуночи я скажу… Не смейся, я таким делом шутить не стану.
…Я решил, что сейчас подходящий момент, и, обратившись и Марии, спросил, не вспомнила ли она, как было с Павловым.
— Что рассказывать? Сказ — он короткий. Мы в казарме сидели, Кима не было, ушел куда-то. А Юрий Павлов здесь был. Про что уж говорили, не помню. И тут приходит старшина комендантского взвода с автоматом. Старшина подходит к Павлову и говорит: «Командир приказал немедля вам в штаб явиться». А Павлов — мужик с норовом: «Ладно, скажи, приду». «Приказано доставить». «Доставить? Меня?!» — Павлов встал во весь свой рост, руку к автомату протянул — он на стене висел. Старшина раз — и прошил его… Но он еще стоял… Потом начал валиться. Я к нему кинулась — мертв. Шесть пуль всадил… А после уже нам приказ зачитали…
— Но приказ исходил от Таращука? — спросил я.
— От него, Таращука, командовал он, правда, недолго, может, месяц. Заместителем был Темнюк… Ну, этого мы совсем мало знали. Да… Надо было Киму командующим быть. Ему предлагали… Отказался. Збанацкий и Науменко колебались… — и двинули Таращука. Бывает…
Чтобы уж прояснить вопрос с Павловым, я ненадолго прерву последовательность повествования и скажу еще об одной встрече, которая произошла позже в Киеве. Бывшего комиссара отряда имени Щорса, Владимира Федоровича Мольченко, я застал перед самым его отъездом на дачу. Грузовик уже ждал, однако, узнав, по какому я делу, он тотчас отложил все дела.
— Может быть, в другой раз? — спросил я.
— Нет, нет!.. Это важно, когда еще вы застанете меня? Итак, вас интересует конкретный вопрос: Павлов, взаимоотношения Кима и Таращука… Что ж я могу сказать? Павлов был смелый командир, волевой… А погиб глупо. Но с точки зрения формальной в этом трудно кого-либо обвинить. Трагедия обстоятельств. Война. Факт неподчинения все-таки был. Потянулся к автомату… А Таращук вспыльчив, своенравен. Вот, собственно, и все о Павлове. Конечно, жаль… И формулировка «расстрелян за саботаж» — очень обидная. Но, повторяю… — он развел руками, пожал плечами, как бы не находя точных слов.
— Ким и Таращук не были друзьями?
— До какого-то периода взаимоотношения у них были нормальными. Потом создалось такое положение. Командующим числился Таращук, а для командиров отрядов по-прежнему высшей властью был Ким. Он пользовался безграничным авторитетом среди нас всех. Понятно! Он же способствовал объединению партизанских сил. Ему бы и взять в свои руки командование. Но он отклонил это. И все. Если б Таращук сумел пошире взглянуть на вещи! Не хватило на это мудрости, такта. Таращук стремился подчинить себе все и в том числе, насколько я понимаю, и центр Кима. Но Ким подчинялся непосредственно разведывательному отделу в Москве. Возникли трения… К тому же слава и популярность Кима в Междуречье не давали покоя командующему. И однажды был случай. Таращук послал команду доставить Кима к нему в штаб. Это все на моих глазах… И тогда Збанацкий принял решение увести Кима дня на два, пока минует острый момент. Пришедшим людям из комендантского взвода было объявлено, что Кима нет. Они удалились. А вскоре Таращука отозвали… Потом, когда наши войска заняли Междуречье, он вновь вдруг явился… Но уже не был командующим.
— Писем Кима у вас нет? — спросил я.
— Нет. Смирнова Ивана Константиновича — это есть…
— Может, Петра Федоровича?
— Одно и то же! Он был и Петр Федорович, и Иван Константинович, а вернее, ни тот и ни другой. Ну, это тот генерал, который приезжал инспектировать центр.
— Генерал?
— Назовем его генералом. Степан Ефимович любил субординацию. Словом, мы говорим об одном и том же лице, которого условно звали Смирнов. Он не отозвался на ваш очерк?
— Нет.
— Возможно, погиб или умер уже. Ему тогда под пятьдесят было… Прочитайте его письмо, это я уже получил после гибели Кима.
Он дал мне несколько листков пожелтевшей бумаги, исписанных уже знакомым мне малоразборчивым почерком. В них воспоминания о былых сражениях. Имена товарищей по оружию. И вот:
«…Но на фоне этой прекрасной борьбы, дорогой мой, очень мелкими выглядят те, которые из кожи вон лезут, стараясь показать историю с выгодной для них стороны… Будущему этих людей не завидую. Можно ли спокойно мириться с теми, кто искажает историю, написанную кровью лучших сыновей и дочерей Родины? Пройдет время, и кто-нибудь напишет историю героических дел Кима и создаст честный и светлый образ великого сына нашей Родины Кузьмы Гнедаша…»
— Это уже после смерти Кима, — повторил Мольченко.
СРАВНЕНИЯ, СОПОСТАВЛЕНИЯ…
Наутро мы раздобыли грузовик с цепями на задней паре колес и двинулись через Выдринские болота к берегам Киевского моря. Несмотря на трудную дорогу, Екатерина Уваровна тоже решила поехать с нами: ей очень хотелось повидать Степана Ефимовича и услышать от него хоть несколько слов о Кларе. Она села рядом с шофером. Булавин, Алексеев, Валюшкевич, Мария Хомяк и я забрались в кузов грузовика. На полпути Валюшкевич внезапно постучал по кабине шофера. Машина остановилась. Мы вышли из нее.
Возвышаясь над всеми остальными деревьями, перед нами стоял старый дуб. Густая зеленая крона его захватывала огромное пространство. Дубу этому, как гласила надпись, было много столетий. Кое-где уже чернели сухие сучья. Крупноребристая твердая кора была словно отполирована прикосновением тысяч и тысяч рук. Странно: весь лес вдоль шоссе был вырублен немцами, а старый дуб уцелел.
Во время своей поездки я часто мысленно возвращался в ту тихую комнату со стеллажами, где я провел несколько дней, изучая архивные документы. Но в них был лишь результат. Каким образом он достигался, каких усилий стоила эта работа? На эти вопросы документы не давали ответа.
Напечатанный в газете очерк всколыхнул память людей, началась как бы цепная реакция. Каждый новый встреченный мной соратник Кима давал мне в руки новые адреса, новые нити. Мария Хомяк дала мне черниговский адрес своей сестры Шуры. Шура со своим мужем Павлом Тимофеевичем Тимошенко тоже почти весь оккупационный период провели в центре Кима. Павел Тимофеевич был одно время секретарем партийной организации центра. При нем в партию приняли Дужего, Куркова и Клару. Самого Тимошенко я, к сожалению, в Чернигове не застал. Он в это время находился в Крыму на лечении. Но жена его, Шура, теперь уже Александра Тимофеевна, была дома (Тимошенко занимают небольшую квартиру в центре Чернигова). Она любезно предоставила мне отчеты мужа черниговскому обкому партии и другие сохранившиеся у нее документы. Таким образом, отсутствие самого Павла Тимофеевича хоть частично было восполнено. И вот я читаю протоколы партийных собраний двадцатисемилетней давности. Но странно, в них Гнедаш фигурирует под своим собственным именем. Карандашные записи почти стерлись, и я с трудом разбираю текст.
«…1. Слушали тов. Гнедаша о выборах первого секретаря партийной организации.
Постановили: секретарем партийной организации избрать Тимошенко Павла Тимофеевича, заместителем Шаворского Дмитрия Павловича.
2. Слушали: заявление кандидата в члены ВКП(б) тов. Дужего Павла Игнатьевича о переводе его в действительные члены ВКП(б).
Постановили: принять Дужего П. И. в действительные члены ВКП(б).
3. Слушали: заявление радистки члена комсомола Давидюк Клары Трофимовны о приеме ее кандидатом в члены ВКП(б).
Постановили: принять Давидюк К. Т. кандидатом в члены ВКП(б).
Председатель К. Гнедаш».Протоколы очень коротки, но, судя по датам, собрания проводились каждый месяц.
Каким образом Павел Тимошенко оказался в центре Кима? В начале войны, незадолго до прихода немцев, Остерский райком партии утвердил его руководителем Сорокошичской подпольной организации. Предполагалось, что нашествие фашистов продлится очень недолго — месяц, другой, за этот период остерские коммунисты развернут в подполье широкую политико-воспитательную работу среди населения и подготовят вооруженное восстание в тылу. Но все оказалось сложней, трагичней: оккупация затянулась на два с лишним года, а подпольная пропагандистская работа с первых же дней была почти полностью парализована фашистским террором. Нашелся предатель — некий Гробовский, бывший учитель, хорошо знавший местный партийный и советский актив. Он предложил оккупантам свои услуги — те назначили его председателем управы. При всем том Гробовский вел двойную игру: выдавал фашистским властям патриотов и в то же время пытался облегчить в заключении их участь; призывал население к спокойствию, а втихомолку, в кругу собутыльников, ругал немцев и проповедовал анархические идеи. В результате такой «игры» более тысячи остерских коммунистов были расстреляны немцами, а вскоре вздернут на виселице и сам Гробовский.
Павел Тимошенко довольно быстро оценил сложившуюся ситуацию. Радиостанции у него не было, вести борьбу силами двух-трех оставшихся людей он считал бессмысленным и ушел в леса. Однако связи со своим селом не терял. О группе десантников, появившихся в этих местах, он узнал в июне сорок второго года, когда полицаями был убит Кочубей. А вскоре пришла новая весть: перед селом, где был убит неизвестный десантник, неизвестными же людьми, видимо его товарищами, повешен начальник полицейского стана Микита.
И Тимошенко стал искать этих неизвестных. Жена его говорит, что примерно с месяц они бродили по Остерскому и Коцюбинскому районам. Были следы группы, взрывы на двух смолоскипидарных заводах, производство на которых оккупанты пытались наладить, подорванные развороченные пути. В июле сорок второго они все же встретили Кима и остались в его отряде.
Уже в те времена само имя Кима в партизанском краю было окружено ореолом таинственности и всевозможных легенд, чему, кстати сказать, в немалой степени способствовала фашистская пропаганда, печатавшая в своих газетах объявления о наградах за поимку Кима и всячески расписывавшая его «зверства и грабежи». Никто этому, конечно, не верил. Но имя Кима вскоре прогремело по всей Украине.
Когда Степан Ефимович рассказывал мне об инспектировании Кимом полицейских участков, я, честно говоря, не принял этой истории всерьез. Но вот в отчете Тимошенко, утвержденном обкомом партии, я прочел такие строчки:
«Под руководством Гнедаша К. С. с участием партизанского отряда им. Щорса были разбиты полицейские участки в селах Остерского района: Сорокошичи, Выползов, Моровск, Озерная, Булахов, Евменки, Старая Гута…»
Совпадали даже названия сел, которые упоминал Науменко. Хорошая память у старика…
В этом же отчете я нашел и другие любопытные сведения. В личном деле Кима имелись главным образом радиограммы его и Клары о численности и вооружении немецких войск. Тимошенко очень мало знал об этой стороне деятельности центра и в своем отчете упоминает лишь, что
«Гнедаш установил разведывательные посты на железнодорожных узлах и станциях Киев, Чернигов, Нежин, Бахмач, Конотоп, Прилуки и др., которые доносили ему о наличии вражеских войск в городах и передвижениях железнодорожных составов».
Зато Тимошенко очень подробно описывает акты диверсий. Кстати, рассказанный Науменко эпизод о захвате Кимом легковой машины с тремя эсэсовскими офицерами — это тоже факт. При офицерах оказались важные секретные документы, позволившие раскрыть планы фашистского командования. Здесь же описание партизанских налетов на немецкие гарнизоны в Броварском и Коцюбинском районах.
Легенда о том, как Ким застрелил немецкого генерала в центре Киева, тоже имела вполне реальную основу, но в отчете есть уточнение: убит был не генерал, а полковник, «в своем штабном кабинете, сейф вскрыт, а документы похищены».
За этой-то фразой и кроется похищение (или съемка) карты со схемой обороны немцев на Днепре (Днепровский вал) — дело совершенно уникальное, грандиозное, хотя, как мне кажется, простое по своему замыслу. Почти за два года поисков мне так и не удалось установить точной картины этого подвига. Об истории с картой тоже ходят легенды, причем самые различные. Есть вариант с «мерседесом». Что якобы в генеральском «мерседесе» под охраной броневика должны была перевозить портативный сейф с секретными документами. Машина стояла у здания штаба киевской группы войск. Несгораемый ящик уже поместили в нее. Ждали, когда спустится генерал. И генерал спустился, сел в машину, но не один — вместе с Кимом. Дальше — обычный детектив.
По другой версии, Ким просто вошел в кабинет к генералу, когда тот открывал сейф, чтоб спрятать карту. Однако в сейф был спрятан сам генерал, вернее, труп его. Эффектно, но не очень убедительно. Оставшиеся в живых соратники Кима знают лишь о самом факте похищения карты. Не более. Никаких документальных подтверждений, кроме косвенной ссылки в записке Тимошенко, тоже нет.
А какие, собственно, могут быть подтверждения? Известно, что карта эта (или снимок ее) в единственном экземпляре была доставлена из Междуречья самолетом нашему командованию. И, конечно, там нет описания, каким образом Ким заполучил карту. Однако в его наградном листе совершенно ясно сказано, что
«Гнедаш К. С., раскрыв систему обороны немцев, способствовал быстрейшему форсированию Днепра наступающими частями Красной Армии».
Именно за это он получил первый орден Красного Знамени.
Попробуем представить себе, как могло быть организовано похищение карты, опираясь хотя бы на те немногие факты, детали, которые известны нам. В своем отчете Ким сожалеет, что за недостатком времени
«мы не имели возможности хорошо проработать вражескую среду, вжиться в нее… Поэтому порой приходилось прибегать к авантюрам».
Далее он рассуждает о характере авантюр, и проскальзывает такая мысль, что чем авантюра наглей — тем, мол, большая гарантия в ее удачном исходе. Что ж, психологически очень точно. И вот практическое развитие этой мысли:
«Выдавать себя просто за штабного немецкого офицера — весьма рискованно, — пишет Ким. — Контроль и проверка документов, установление личности у них неплохо поставлены (на офицерских документах ставят шифры и часто меняют их). По совету Тиссовского я стал работать под легендой сотрудника службы СС, приехавшего из Берлина с заданием контролировать в фронтовых штабах порядок хранения совершенно секретной документации. В этом случае я уже меньше рисковал вызвать подозрения по простой причине: офицеры рейха, ведающие хранением документации, были озабочены в основном тем, чтобы я не обнаружил каких-либо нарушений правил. За это у них строго наказывают. Обычно после «ревизии» мне предлагали в виде сувениров — подарки. Лишь бы ревизор поскорей убрался».
Рассказа о карте нет. Да это и понятно. Кима просили описать психологию врага, а о том, что совершил наш разведчик, предполагалось, что уже известно тому, кому следует знать. Чего же еще?
…Продолжим версию. Оперативное управление штаба группы войск киевского плацдарма помещалось в Киеве в здании бывшего военного училища, которое кончал Гнедаш. Он знал каждый закоулок этого здания — и это было очень кстати для безопасности. В этом-то здании, как я полагаю, и появился ревизор из Берлина, прошел в секретную часть и стал ее инспектировать. Почему же, однако, визит Кима не завершился, как обычно, бутылкой «мартеля» и вручением ревизору «русского сувенира»? Очевидно, знакомясь с документами, Ким натолкнулся на карту. Понял ее значение и стал перед дилеммой — как быть. Память у него, как рассказывают, была отличная — он брал текст с первого чтения. Но в данном случае Ким из-за исключительной важности документа решил, видимо, не полагаться на одну память. А рядом сидел свидетель — начальник секретной части, присутствующий при ревизии. Его и пришлось убрать, Вряд ли Ким при этом воспользовался огнестрельным оружием — в соседних помещениях было полно людей. Скорее всего — нож. Но это опять уже наши предположения. Вернемся же к отчету секретаря партийной организации Тимошенко.
…А вот и первое упоминание Тимошенко о Кларе:
«В марте 1943 года в группу Гнедаша на парашютах с великой земли были выброшены три радиста, среди которых была восемнадцатилетняя москвичка Давидюк Клара Трофимовна. С первых же дней приземления Кларе приходилось выходить с радиостанцией на очень ответственные и опасные для жизни задания, которые она выполняла точно, с достоинством члена комсомола».
О взрыве Дарницкого моста сказано очень коротко. Но сообщается любопытная деталь: после взрыва… «немецкое командование усилило террор над своими офицерами и солдатами, отвечающими за охрану моста в Киеве». В отчете есть и описание майского окружения в сорок третьем году. Оказывается, после восемнадцатисуточной блокады немцы сочли группу Кима уничтоженной, сняли кольцо и даже сообщили об этом по радио и в газетах.
…Потом к Александре Тимофеевне пришел какой-то знакомый и, не желая мешать, скромно присел в стороне. И все время молчал, пока хозяйка вдруг не обратилась к нему со словами:
«Александр Дмитриевич, да ведь ты это можешь рассказать лучше меня. Ты же работал от Кима в Чернигове». И затем мне:
— Это товарищ Михайленко, может быть, слышали…
Мы познакомились. Михайленко сказал:
— Я только что от пионеров… Так что, все сначала?
— Что делал центр — об этом я уже много слышал, а вот как все это делалось… Здесь пробелы, — отвечал я.
Он задумался и после некоторой паузы начал рассказ.
— Что ж… так и делалось. Я жил в Чернигове, ходил по городу, запоминал то, что видел, расположение войск, виды оружия… А каждую неделю ко мне являлись связные от Кима. Чаще всего Любовь Степановна Валюшкевич, работавшая до войны учительницей. Но кроме меня в Чернигове были еще его люди. Любовь Степановна обходила всех нас и возвращалась в центр. Так что информация была всесторонней. Однако в начале сорок третьего года Ким вызвал меня к себе и сказал, что хождение отнимает очень много времени, а ему нужно все быстро, то есть не ему, а… словом, понятно кому. Я пожал плечами, а что можно сделать? Но у него уже был свой план.
«Квартира конспиративная есть на примете?» — спросил он.
«Есть, и даже не одна», — говорю.
«Тогда я вам даю радиста, рацию ставьте — и напрямую. А копии — мне».
В тот же день мне сделали документ, что я староста… Да. А радист Панфилов получил удостоверение полицая. Подводу дали, погрузили мы рацию, сели, поехали.
— Так прямо, открыто? — спросил я.
— Прикрыли брезентом на случай дождя… Расчет был на психологию. Если, скажем, сеном закрыть или еще чем, это скорее наводит на подозрение. И мы открыто… Едет телега, какой-то ящик везет — подходи, смотри… Конечно, риск был, никто не отрицает. И к нам подошел полицай у самого Чернигова… Мы ему документы, а он даже не посмотрел. Попросил закурить, мы ему дали, конечно… И так, без особых происшествий, добрались до места. Рацию оставили прямо в сарае, там была яма. Слегка сеном прикрыли. А двор к яру выходил — в случае чего можно бежать. В тот же день мы сообщили Киму, что все в порядке. А на другой день вышли напрямую с Москвой. Там уже знали, Ким предупредил их. Только перед самым приходом Красной Армии происшествие вышло, дня за три примерно. Во двор забежал полицай, потом мы интересовались — зачем? Так просто, девчонку искал знакомую… А видит — сарай открыт, он туда. Панфилов в яме сидел как раз у рации, я рядом. Полицай и говорит, так добродушно, видно, ничего не подозревал: «Что вы тут делаете?» Я сперва растерялся даже — молчу. Он стоит. Потом я и говорю: «А вот взгляни сам». Он вошел в сарай и — к яме. Ну, здесь я его и стукнул… Не сильно, чтоб оглушить. Свалился. Мы вдвоем с Панфиловым связали его, в рот тряпку сунули, чтоб не кричал… Так он, связанный, и пролежал у нас в сарае до самого прихода наших войск.
— Но полицая могли искать? — спросил я.
— Могли… Да уж им было не до того. Бомбежки, обстрелы… Фронт приближался… Кому он, полицай, нужен?
— Куда же его потом дели?
— Сдали куда следует… Уж не знаю, что с ним стало потом. Вот так, забежал на свидание — попал к нам.
Михайленко засмеялся.
ПОСЛЕДНИЙ ВЗРЫВ
Из Киева в Слоним я ехал один. Мои спутники остались в Киеве. Валюшкевич вернулся к своим пчелам; Алексеев — к амбарным весам. Мария Хомяк, Михайленко, братья Науменко — все вернулись к своим делам. А мой путь лежал дальше, к той далекой землянке в Бронском лесу, где Ким и Клара провели три часа до рассвета и встретили смерть. И вот уже я мчусь по шоссе Минск — Барановичи. Много изъездил я в жизни своей дорог. Дороги-то разные. Ландшафты разные. И люди отличаются друг от друга — по оттенкам произношения, по цвету лица, одежде, характерам. Но нигде, ни в ком не встречал я равнодушия к великому прошлому — Отечественной войне.
Для человека старше сорока лет война — веха в жизни, как бы пароль к его сердцу. Кого бы ни встретил — заговори с ним о прошедшей войне. И ты заметишь, как меняется взгляд человека, как становится суровей. Как тотчас разговор о повседневных делах и заботах сменится думами о непреходящем. В каждом сердце тлеют искры. Героизм павших зажигает сердца живых.
…А вдоль шоссе мелькают белорусские деревеньки, городки небольшие — Шемыслино, Подтай, Фанистоль. Дзержинск, Столбцы, Негорелое… Вдоль этого вот шоссе, по территории, занятой гитлеровцами, двигался отряд Гнедаша. Шла Клара со своей рацией. О чем она думала? О чем говорили они на привалах? Или просто смотрели завороженно на костер… А в эфир летели радиограммы; «Танков… Орудий… Автомашин…» И командующий, приняв от штабного лейтенанта бумагу с грифом «по данным разведки», взвешивал расстановку сил. Так это было? Наверное, так…
Развилка. Барановичи остаются левее. Мы поворачиваем на Слоним. И пошла Слонимщина, с ее холмами, нагорьями, быстрыми реками, глухими лесами. Сюда Ким пришел из Пинских болот. Отсюда он уходил в Брест, Варшаву. Здесь его ранило. Здесь они с Кларой нашли место последнего успокоения.
Слоним — тихий зеленый городок среди лесов Западной Белоруссии. Он стоит в ложбине, где сливаются реки Исса и Шара, узкие, быстрые. Подъезжаешь к Слониму и верст за пять, наверное, видишь с пригорка два пикообразных шпиля католического костела и телемачту. На окраине стоят деревянные домики. Ближе к центру появляются каменные дома современной постройки в три-четыре этажа. В Слонимском райкоме я рассказал о цели своего приезда. Райкомовцы отнеслись к моим поискам очень сочувственно. Но оказалось, что в самом Слониме нет ни одного человека, который был лично знаком с Гнедашем, хотя фамилия эта и здесь окружена всевозможными легендами. Вскоре после освобождения Западной Белоруссии от немецких захватчиков в Слоним на центральную площадь были перенесены и захоронены тела Кузьмы Гнедаша и Клары Давидюк. Сейчас там воздвигнут мраморный обелиск. Горит вечный огонь. Но я искал живых свидетелей…
Наконец кто-то вспомнил, что километрах в тридцати от городка живет человек, который провел с Гнедашем последние месяцы. Человека этого звали Прокоп Герасимчик. В войну он командовал партизанским отрядом, действовавшим на Слонимщине.
— Сейчас он на пенсии? — спросил я.
— Зачем? Работает… Вот уж восьмой год председательствует в Павловском сельсовете.
…Еще час езды. Асфальтовая лента шоссе становится все уже. И вот почти у самой дороги возникает холм из земли, пирамидальной формы, высотой метров десять. К нему ведет дорожка, вокруг небольшой сквер. И я вижу человека низкого роста, коренастого и чрезвычайно широкоплечего. Человек этот размахивает короткими руками, видно, что-то объясняет столпившейся вокруг него детворе.
— Он, Прокоп! — сказал мой проводник. — Я так и знал… Едешь, и каждый раз обязательно он у холма…
— Это какой-то памятник?
— Да… Сами сельчане насыпали… и назвали Курганом партизанской славы. И вот Прокоп почти всегда здесь… Один или с ребятами. Ходит… Рассказывает… А то с лопатой придет или с метлой, дорожки расчищает… Штат-то у него невелик. Он — председатель, ну секретарь, еще два-три работника… И все…
— Ну все, ребятки, в другой раз доскажу, по домам… — сказал Прокоп, завидев нас. Он оказался очень энергичным и деятельным. Тотчас все понял, зажегся и, слегка хромая, зашагал вперед, дав нам знак следовать за ним. Пройдя с полкилометра вдоль шоссе, он остановился, огляделся, потом пошел назад. Наконец притопнул ногой и сказал:
— Здесь!.. Здесь его и ранило в ногу… Мы переходили через дорогу, а он, немец, ее простреливал. Паренек с ним был. Кедр звали… того убило… Правда, он еще жил несколько дней.
Герасимчик недолго постоял на этом месте и решительно зашагал к своему мотоциклу, бросив нам: «Заскочу в сельсовет… Отдам печать Нюрке, и поедем к Сидорику…»
— Кто этот Сидорик?
— Владимир Степанович-то? Пенсионер… Ему уж восьмой десяток… Живет в деревне Азарычи. Он и носил Гнедашу молоко, хлеб, мясо соленое…
В сельсовете Герасимчик оставил свой мотоцикл, а сам пересел к нам в машину. И мы снова двинулись дальше, в леса. Асфальт кончился, пошел булыжник, затем укатанный грунт.
— Он к нам из Пинска пришел… Встретились мы с ним в деревне Скрунде. С ним эта девушка была, Клара… Я смекнул: люди-то не простые. Говорю: «Давай в отряд ко мне». А он: «Нет, дорогой товарищ Прокоп, это у меня кличка была, ты делай свое дело, а у меня задача другая». Что за задача — он того не сказал. Документы, верно, — показывал… Честь по чести — подполковник Шевченко. Про себя лично я не скажу, не видел и врать не буду, но наши видели его в Барановичах в этой… черной форме… могильные кресты.
— В форме СС? — спросил я.
— Вот-вот… Ходил. Сказывают, и в Брест ездил.
— А Клару хорошо помните?
— Как же… Он, как уходил, ее у нас оставлял, при отряде, Попросил ей землянку отдельную отвести: потому у нее рация. Я все исполнил. А как немец стал сеть делать, мы их и спрятали у Сидорика. Но он уже раненый был… Да…
— Когда это было?
— В лето сорок четвертого года. В самом начале… Июнь. А те чувствуют: скоро турнут их — ну и пустили карателей… Всю Слонимщину заполонили. Деревни жгут, леса прочесывают, людей стреляют… А у Сидорика в лесу захоронка была — для сына готовил, да тому и попользоваться не пришлось — убили. Ну он и спрятал туда Клару и Гнедаша… А тут его эти ребята пришли… Цыган, еще кто-то… Трое или четверо. Пытались выйти из кольца… Да где там, с раненым?.. Маневренности уже нет. Самолет они ждали — не прилетел… Да… И снова, значит, вернулись. Захоронили… Припрятали… Но… Кому какая судьба.
— А где находился в это время ваш отряд? — спросил я.
— Вы сюда ехали, видели Слонимщину? Швейцарией зовут…. Ищи, лови… И он бы с отрядом своим ушел вполне спокойненько. Так он же сводки давал! Беспрерывно. А немцы засекали… Он сам их на себя манил… У немца тоже разведка была — дай боже: лазутчики, пеленгаторы и свои христопродавцы… Когда б он, Ким, молчал — его б в жисть не накрыли…
…Я вспомнил: действительно, Ким и Клара ежедневно по два-три раза выходили в эфир. Это было в начале июня. И далее когда ждали самолет — они сообщали о движении немецких частей.
— …Тут уж, брат, никого нельзя винить. Да вот и Азарычи… Поворачивай направо, седьмая изба.
Сидорика дома мы не застали. Он был в лесу, заготовлял дрова. Герасимчик подробно расспросил домашних, где, в какие места ушел хозяин, и мы уже пешком отправились в лес на розыски.
— …Смотри, восьмой десяток, а трудится… Крепкая порода, — вздохнул Герасимчик и, приложив руки ко рту рупором, стал кричать: — Сидо-о-о-рик! Си-до-о-рик!
Мы присоединились к нему, и лес огласился нашими голосами. Погода стояла тихая, ясная. Я пьянел от лесного воздуха. Устал я от напряженных бесед, от того, что приходилось удерживать в памяти все детали, искать подход к моим собеседникам: все это давалось не просто. И сейчас я уже ни о чем конкретном не думал. Наконец среди деревьев показался старик с топором. Загорелое лицо его было усталым. Он шел, слегка сгорбившись.
— Вот он сам… Степаныч! Здравствуй… Рубишь дровишки-то, — заговорил Герасимчик, подходя к старику.
— Да ведь я по разрешению…
— Знаю, знаю, сам подписывал… Помнишь, Степаныч, у нас с тобой разговор был о Гнедаше?
— Ну, был… В моей захоронке и жил…
— Ну, вспомнил, слава богу! Сейчас есть, Степаныч, полная возможность прославиться. — Прокоп хитро подмигнул мне.
— А куда мне она, слава, председатель, я уж в могиле одной ногой, — усмехнулся Сидорик.
— Потом, потом умирать будешь, Степаныч. Сейчас дело важное… веди нас к землянке той… Далеко она?
— Недалече, с версту будет.
Мы идем в самые заросли. И на склоне лесного холма я вижу поросшую травой небольшую яму или даже, точней, углубление… Еще лет десять, и все сровняется. Так, значит, здесь… Среди этих высоких мачтовых сосен. И вновь они — Ким и Клара — встают предо мной.
«…Ким, они идут, они уже близко…».
«Что делать? Ребята не виноваты… От овчарок не скроешься. Стучи: «Согласно программе… Выходим».
…Они отбрасывают ветви, которыми укрыта землянка. И вот уже глаза им слепит утро восходящего дня. Рассвет наступил. Войска Рокоссовского всего в каких-нибудь пятидесяти километрах. А совсем рядом, в полусотне шагов, трещат сучья и слышится чужая, немецкая речь. И время от времени крик: «Русс, здавайсь!».
«Это они не нам… Нас они не видят еще. Просто от страху», — шепотом говорит Ким и вскидывает автомат. У Клары в руках гранаты… Вдруг шорох и яростный лай: из кустов, оскалив пасть, выглядывает морда овчарки. Шерсть вздыблена. Нашла…
Это надвигается, это идет все ближе и ближе. Короткая автоматная перестрелка, разрывы гранат. И сотня карателей окружает Кима и Клару. Но их уже нет. Нет!
1969—1983 гг.
ПОДВИГ РАЗВЕДЧИЦЫ
1. В ЛОВУШКЕ…
Лунная ночь с девятнадцатого на двадцатое августа сорок второго года. Лесистая местность в полутораста километрах от Ленинграда. На небольшой поляне — неподвижные фигуры вооруженных людей, одетых в гражданское. Судя по облику — партизаны; темнеют кучи хвороста — их пять, — разложены конвертом. Тут же канистра с горючим, рация. Над ней склонился радист. Подходит старший.
— Ну что, молчат? — спрашивает он.
— Пока молчат. Стоит запросить, не вышел ли их самолет?
— Не следует. Они не меньше нашего беспокоятся. Незачем подгонять, — говорит старший.
— Но здесь полчаса лету…
— И что же? Они сами должны радировать тотчас после вылета.
Проходит еще несколько минут в напряженном ожидании. Радист делает знак рукой. Идут сигналы морзянки, он записывает. Затем, расшифровав, докладывает старшему:
— Группа готова к вылету. Просят подтвердить прием.
— Передайте — ждем. Сигналы — как условились. И заканчивайте. Мы должны помнить о пеленгаторах.
Проходит некоторое время. Возникает отдаленный гул самолета. Старший делает знак рукой. Один из людей бросается к канистре с керосином. Но, прислушавшись, старший останавливает:
— Отставить! Звук не тот. Это дальний бомбардировщик.
И снова молчание. Потом вновь возникает гул самолета. Старший говорит:
— Вот это похоже. Быстро — костры!
Через минуту все пять костров вспыхивают.
Гул приближается. И вот уже над головой.
— Внимание! Следите за небом… Один отделился… Второй… Третий… Отличная видимость! Четвертый, — считает старший. — Трое быстро к оврагу! Действовать четко! — командует он.
И тотчас на поляне начинается движение — быстро, бесшумно люди расходятся небольшими группами выполнять распоряжение. И все затихает. Через несколько минут в лесу слышится шорох веток, шаги, на освещенной луной поляне появляется человек, нагруженный со всех сторон: вещмешок, рация, еще что-то, а в руке — пистолет. Увидев стоящих на поляне у костров людей, человек негромко вскрикивает:
— Я Гриценко!
Голос — девичий.
— Я Сергей Иванович, — отзывается старший.
— Все! Как быстро я нашла вас! Я больше всего боялась этого — не найти костров, — возбужденно говорит девушка, подходя к кострам. Она улыбается, однако смотрит исподлобья.
— И как же зовут товарища Гриценко? — с мужской снисходительностью спрашивает старший.
— Валя.
— Прекрасно. Поздравляем! Вы — первая. Как в Ленинграде?
Девушка прячет оружие и отвечает:
— В Ленинграде? Что сказать?.. Я ведь там была всего несколько дней. Тяжело… Но, говорят, если с весной сравнить, полегче стало. Ходят трамваи… В филармонии был концерт!
— А на улицах трупы валяются, — слышится реплика.
Девушка исподлобья оглядывает стоящих вокруг. Во взгляде ее удивление, настороженность…
— Помогите же фрейлейн снять с себя вещи, — как-то странно усмехаясь, командует старший.
Двое подходят к парашютистке справа и слева, берут под руки.
Внезапно она вырывается, делает стремительный скачок в сторону и выхватывает револьвер. Но это предусмотрено. Сзади, из кустов, на нее бросаются двое. Схватили, зажали рот, повалили.
— Кто ожидал от фрейлейн такой прыти? А молодчина! Увести! Возьмите двоих из опергруппы и конвоируйте в Лампово, — тихо говорит старший.
Еще несколько минут в ожидании. Снова слышны шаги, шум раздвигаемых веток. На поляне появляется фигура, столь же нагруженная. Останавливается и робко оглядывается. Потом делает несколько шагов назад и очень тихо произносит:
— Я Гриценко… Голос тоже девичий.
— Я Сергей Иванович, — отвечает старший.
— Здравствуйте! Я одна? Где же остальные?
— Видимо, на подходе. Ну, рассказывайте… Оружие теперь можно спрятать.
— Спасибо. С удовольствием… Меня зовут Лена.
— Елена Прекрасная, — улыбается старший. — Но разрешите помочь вам освободиться от груза.
Снова двое подходят к девушке, помогают стащить вещмешок, мгновенно обезоруживают ее, кляп в рот — и волокут в сторону. В этот момент слышится крик: «Ребята! Полундра! Предатели!..».
Выстрел — и крик смолкает. Из кустов трое вытаскивают еще одного парашютиста.
— Чья работа?! — строго говорит старший.
— Сам. Успел застрелиться…
Старший подходит, осматривает труп.
— Это, видно, командир группы. И возрастом постарше. Где остальные?
— Еще один взят живым. И фрейлейн в овраге… Ее парашют зацепился за ветки сосны.
— Выстрела не слышала?
— Там, в овраге, ничего не слыхать. Надо лезть на дерево, освобождать парашют…
— Действуйте! Покойник пока всего один… И одна неудавшаяся попытка. Не так плохо! Тушите костры — и в Лампово. Майор ждет.
…По лесной тропе, освещаемой лучами фонариков, двигалось шествие: три девушки и один парень. Руки их были скручены. Пленных конвоировал небольшой отряд. Шедшая впереди обернулась и низким голосом спросила, куда их ведут.
— Кому вы везли энергопитание? Партизанам? Туда и ведем, — ответил старший.
2. МАТЕРИНСКОЕ ГОРЕ
Был сухой осенний день сорок пятого года. На низкой платформе маленькой станции Алейская, затерявшейся в равнинной части Алтайского края, стояла толпа женщин, одетых с бедной нарядностью, — мелькали выцветшие ситцевые косынки и платки с редкой вязью, тщательно выглаженные простенькие платья; туфли старые, довоенные… Отдельным кружком, дымя самосадом, стояли старики в старомодных пиджаках, два-три инвалида на костылях, в кителях с медалями, с неотпоротыми петлями для погон на плечах, бегали ребятишки с флажками. На ветру полоскалось полотнище: «Горячий привет алейским фронтовикам!». Было много цветов.
В стороне одиноко стояла женщина в черном платье. Она выделялась своей крупной, высокой фигурой. На вид ей было около пятидесяти. Ее бледное круглое лицо как бы застыло в ожидании. Даже когда по толпе пронеслось: «Открыли… Уже время!», и она вслед за всеми взглянула на семафор, и тут лицо ее не оживилось — будто она здесь оказалась случайно. Женщину знали. Почти каждый, проходя мимо, здоровался с ней. Сдержанно, неохотно отвечала она на вопросы.
— Галина Семеновна, миленькая, а вы?
— Да просто так жду… Что ж одной дома?
— О Валечке так ничего и нет?
— Нет.
— Ну да, может, отыщется — только недавно война кончилась.
…Вдали показался дымок паровоза. Оживление, беготня, дежурный с флажками… И вот уже грохот состава и дым заполнили станцию. Заскрипели, залязгали буфера.
Толпа на мгновение застыла, потом метнулась к вагонам; из опущенных окон уже тянулись руки… И первый захлебнувшийся женский крик: «Алеша!», и охнувшая в ответ толпа. Заиграл оркестр. Женщина в черном, отделившись от всех, медленно шла по перрону к выходу все с тем же неподвижным выражением лица. Она шла на станцию почти без надежды, но все-таки в глубине души что-то теплилось.
А вдруг из вагона выскочит повзрослевшая Валюшка? И разом все объяснится: и трехлетнее молчание, и официальное извещение — и она услышит: «Мамочка! Ну, ты понимаешь, я не могла…». А затем Валя сбивчиво начнет рассказывать о том, что произошло с ней. И, не досказав, убежит искать друзей, подруг. И жизнь, тлеющая слабой надеждой, вдруг озарится счастливыми хлопотами и заботами.
— Тетя Галя?! — раздался крик.
Обернулась, вгляделась. К ней бежала девушка в гимнастерке.
Кто же это?..
— Тетя Галя! Это я. Шура Сакманова… Узнаете? Мы с Валей вместе учились.
Девушка уже обнимала женщину в черном. Стареющее лицо женщины расплылось, щеки мелко дрожали…
— Шурочка… Боже мой! Ты?!
— А я смотрю, ищу маму или кого из наших — никого.. И вижу, вы идете!
— Шурочка, а мама твоя прошлый эшелон алейских встречала. Дома сейчас, верно… Да как же это, а? Вот радость… Как выросла, изменилась!
— Тетя Галя, четыре года!.. А Валя?
— Третий год нет вестей… — обреченно ответила мать.
Шура как-то странно кивнула головой, будто это было уже известно ей, и опустила глаза. Это не ускользнуло от внимания Галины Семеновны.
— Что-нибудь слышала, а, Шурочка?
— Моя мама писала, что вы получили извещение…
— Получила. Но…
Внезапно какой-то шум позади и рыдающий крик: «Где?.. Шура? Шурочка!..». На стареньком автобусе приехала мать Шуры. Опоздала. И уже кто-то передал ей, что дочь ее видели с Галиной Семеновной. Натыкаясь на людей, металась она по платформе. Увидела. Закричала. И вот они обнялись — мать и дочь, зарыдали. И кругом тоже плакали. А женщина в черном платье двинулась дальше одна, медленной походкой, слегка наклонив седеющую голову. Обернулась, крикнула: «Шурочка! Заходи потом… Завтра…».
Она шла по улицам алтайского городка, мимо низких, по-сибирски широких домов. Молодая тополиная роща стояла еще не тронутая желтизной.
За рощей она свернула в проулок. У казенного здания с вывеской остановилась и пристально оглядела дом — то был районный комиссариат. Отсюда Валюша ушла сперва на курсы, потом на фронт. Постояв с минуту, Галина Семеновна двинулась к своему дому, без ключа открыла замок на входной двери и скрылась в доме…
— Мама, я похожа на мадонну?
— Кто тебе сказал?
— Алик из нашего класса.
…Вечером на лужайке перед домом собралась молодежь — старшеклассники. Валентина, конечно, в центре, что-то рассказывает, машет руками, над кем-то шутит. Нет, декламирует?.. Актриса! Бежит к дому…
— Мамочка, можно, я возьму гитару?
— Куда? На улицу? Не позволяю…
…Вечерний чай. Все дома. Отец надевает очки.
— Валя! Ну-ка дневник на стол…
В руке его отточенный карандаш. Вот он заметил словечко «пос.». Покачал головой: что это?
— Папа, это же по логарифмам! А ты не заметил вон этого «отл.» — по истории?
— Не хватало, чтобы ты еще по истории получала посредственные оценки! Стыдись! А почему по литературе «хор.»?
— Потому что Мария Фадеевна придирается ко мне… Я все ей ответила, но мне не нравится Анна Каренина.
— То есть как «не нравится»? Это еще что?
— А что ж, все герои должны нравиться? Мария Фадеевна говорит: «Каренину задушил самодержавный строй». Смешно! Сама влюбилась в графа Вронского, небось не в графа не влюбилась! Вот если б она полюбила крестьянина — и под поезд, тогда я согласна. А то «строй задушил». Обычный треугольник!
— Что еще за треугольник?
— Он — она — он.
…Родительское собрание. Классная воспитательница говорит: «Начнем с трудных учеников…». Папы и мамы затихают в тревоге. Галина Семеновна со страхом ждет: а вдруг сейчас учительница упомянет и Валюшу… Нет, слава богу, пронесло… Но и среди хороших почему-то не называют. Мать снова в волнении. После собрания подходит к Марии Фадеевне. Та уже все поняла, кивает: «Галина Семеновна, пусть вас не удивляет… Я нарочно хотела, чтоб вы подошли ко мне… Ну, что я должна сказать? Безусловно, способная… Но, понимаете, в ней есть дух противоречия. Да, да! Все по-своему, и вокруг нее в основном мальчики…» — «Мария Фадеевна, она совсем ребенок еще!» — «К счастью, да…».
— …Валя!
— Да, мамочка…
— Ты что читаешь? Нет, покажи, покажи… Так я и знала!..
— Мама, это классика!
— Я знаю, что классика, Мопассан — это классика… Но тебе надо читать другую классику — ту, что проходят в школе. Тургенев, Гончаров.
— Мария Фадеевна говорит, что нельзя ограничиваться школьной программой.
— Правильно, но прежде все-таки… Валя! Куда ты?
— Мама, я иду на танцы.
Далекие тревоги, далекие разговоры…
Июль сорок первого года.
…Валя входит непривычно смущенная, тихая, что-то вертит в руках.
— Мама… Вот мне пришло…
— Что такое? Покажи… Повестка из военкомата?! Недоразумение, не может быть, твой год еще не берут…
— Мамочка… Подожди! Ты успокойся. Не недоразумение. Я сама записалась. Просто на курсы.
— Что?! Отец, останови ее!
К вечеру отец все разведал, успокаивал мать: девушек посылают на курсы в Среднюю Азию — еще более глубокий тыл. Там они пробудут месяца два, а к тому времени война, наверное, кончится.
Затем поспешные ночные сборы — и слезы, наставления впопыхах… Ранним утром все идут в военкомат, оттуда строем на станцию. И странная тишина в домике, как будто из него вынули душу…
Недели через две — письмо и Валечкина фотография. Там снималась. И форма уже военная… Все!
«На память папочке и мамочке от Вали. Помните меня. 25.VIII.1941 года. Во время службы в РККА».
Часов в семь вечера скрипнула калитка, и по утоптанной тропинке кто-то прошел. Хозяйка насторожилась. Но под окном раздался знакомый голос:
— Тетя Галя, вы дома? Это Шура Сакманова.
— Шурочка… — засуетилась хозяйка, прибавляя свету в керосиновой лампе.
— Тетечка Галя, я на секунду. Идемте к нам… Наши собрались… Я за вами побежала. А у вас… — Шура оглядела слабо освещенные стены комнаты с фотографиями, книжную полку до потолка, — а у вас все как раньше… До войны…
— Разве что вещи! — мертво сказала мать.
— Да, конечно… Извините… — Шура опустила глаза. Но во всем ее облике, несмотря на сочувственное выражение лица, ощущалась едва сдерживаемая радость. Война кончилась — она снова дома.
— Хотите, я помогу вам собраться?
Галина Семеновна медленно покачала головой.
— Да посиди минутку хоть… Ну! Два слова. Ведь вместе с ней уходили…
Шура покорно присела, вздохнула, готовясь к тяжелому для нее разговору.
— …Не знаю я ничего, честное слово, тетечка Галя! На курсах вместе учились. Но ведь после этого вы видели Валю.
— Вот только видела… — вздохнула мать. — Прибежала, запыхалась, в одной гимнастерке, а уж октябрь был: «Мамочка, прощай!» — поцеловала — и обратно, на станцию.
— Помню! Это когда нас провозили мимо Алейска из Средней Азии в Барнаул. После курсов, осенью сорок первого. Мы же давали домой телеграммы, чтоб встретили! Но я знаю: ни вы, ни моя мама не получили их.
— Получили. Через неделю.
— Вот! Эшелон остановился — никого нет. Валька и меня подбивала: «Бежим, успеем!» Но ваш дом ближе к станции, чем наш.
Мать задумалась и, покачав головой, сказала:
— Верно, предчувствие было, что уже не увидит больше родного дома.
— Что вы?! Что вы, тетя Галя! Еще и вернется… И… и на свадьбе ее погуляем.
Конец этой фразы прозвучал неуверенно. Фальшиво. И Шура, почувствовав это, смутилась.
Мать смиренно кивала склоненной головой. Она все понимала — и эгоизм счастливой Шуры, желавшей, чтоб все радовались и всем было хорошо.
— Ну, дальше-то? — попросила мать.
— Вот и поехали. Сперва в Барнаул, оттуда в Москву. Недели две ехали… Долго! Стояли на станциях… А в Москве в театре были, на опере «Пиковая дама». Валюше очень понравилось. Она все напевала один мотив… или арию?
— Старой графини? — грустно улыбнулась мать.
— Точно! Как вы угадали?
— Ступай, Шурочка.
— Я, честное слово, ничего не знаю… Из Москвы нас направили на Волховский фронт. А там — разбросали. Кого в дивизии, кто при штабе остался, кого в десантные…
— Про нее-то что слышала?
Шура замолчала, сосредоточенно что-то вспоминая.
— Ой, сколько слухов было… Я не про нее, а вообще… Я так думаю — может, в плен попала? Но, честное слово, я…
Уловив растерянность во взгляде Шуры, мать задумалась: к чему эти ее нервозные, бесконечно повторяемые заверения, что ничего не знает? Она уже хотела было взять Шуру за руку, посадить рядом, твердо сказать: «Ну-ка, поговори со мной. Ты ведь вернулась, а она — нет», но вспомнила о Шуриной матери — ее-то и пожалела.
Шура ушла. Галина Семеновна надела очки, достала из комода пачку писем: развязала ее, села к самой лампе. Здесь были письма покойного мужа с фронта и безвестно пропавшей дочери, перечитывать эти письма было и грустное, и любимое занятие. И не так часто позволяла она себе это.
Галина Семеновна много лет работала в городской книжной лавке. Она любила вести беседы с алейскими любителями книг всех возрастов и особенно с ребятней, которая вечно здесь околачивалась, рассматривая выставленные книги с картинками. Шуру она помнила еще девочкой и, казалось, с ней-то уж могла поговорить обо всем откровенно. Но первая же встреча на вокзале, и Шурино смущение, и ее недомолвки привели лишь к тяжелым раздумьям. Она нарочно не пошла к Шуре на другой день — ждала, пока та сама явится.
И когда Шура в воскресенье пришла к ней, мать твердо решила выпытать у нее все до конца.
— Скажи, Шурочка, когда ты видела Валю в последний раз? — спросила она.
— В конце ноября сорок первого года, — тотчас ответила Шура, очевидно готовая к этому вопросу.
— Где?
— Там, на Волховском фронте. — Тут она запнулась, но затем, прямо глядя в лицо Галине Семеновне, прибавила: — Но она уже была не в армии.
— Как это?
— Точно не знаю, тетя Галя. Она была не в военной форме, а в этой, в ремесленной… Черная шинелька, ушанка со значком. Я удивилась и спросила ее: «Валька, тебя что — демобилизовали?» Она засмеялась: «Мобилизовали».
— Засмеялась? А как? Она, бывало, и с обиды смеялась, чтоб не заплакать, не заметила? — спросила мать.
— Нет, тетя Галя, обиды не заметила — смеялась весело, заливчато.
— Ну-ну, дальше-то?
— Разбежались… Я спешила, и она тоже. Поговорить не удалось. А после я узнала, что некоторых наших девчат передали в НКВД… Тут уж я начала соображать: на радистов всюду был голод. Возможно, и ее… Больше я Валю не видела.
Мать медленно кивала, потом вдруг твердо взглянула Шуре в глаза, не давая ей уклониться от прямого ответа:
— И это все, что ты знаешь?
— Тетя Галя, клянусь! Больше я ее не видала.
— Кто другой видел? Где?
И Шура, с оговорками и заверениями, что все это, может, и выдумка, рассказала, что один солдат из их части попал в плен, но вскоре бежал, вернулся к своим. Он-то и рассказал, что будто бы около деревни Лампово видел Валю. У Лампово их партия делала привал. Строгости особой не было, место открытое, не убежишь… Позволили подойти к речке, помыться. И будто бы там у берега этот солдат заметил Валю, которую знал по прошлой совместной службе.
— Она с другой группой пленных была? — спросила мать.
— Нет. Она отдельно… Сидела на корточках, мыла лицо. Заметил, что лицо ее было в ссадинах…
— У нее особая охрана была?
— Никого не было. Одна. И она будто узнала его… Кивнула и пошла.
— А немцы, охранники, они что?
— Я же говорю, не было у нее охраны. Как вольная…
— Но ты говоришь — лицо в ссадинах?
— Опять же слухи!.. А может, тот человек обознался…
— Да кто тот человек-то, знаешь его? Жив? Где сейчас?
— Про него ничего не знаю. Но думаю, он не ошибся. Видел… Так там, тетя Галечка, по-разному было — кому как везло…
— Что-то не пойму тебя, Шура! «Везло»! Если плен — так какое везение?
— У них разные лагеря были… Самый лютый — Освенцим…
— Выбор они делали или как?
— И выбор. Под Демьянском лагерь был на болоте под открытым небом, зимой… Говорят, тысячи умирали, а в Лампово, может, оно по-другому.
Вдруг Галина Семеновна приметила в Шуриных глазах настороженность. И она перестала допытываться.
Долгие холодные зимние вечера. Редкие беседы с зашедшей соседкой о житье-бытье, воспоминания довоенных счастливых лет. Связка писем…
«Здравствуйте, дорогие мама и папа!
Простите, что я долго не писала. В Москве мы пробыли три дня. Ну, мама, набегалась же я по Москве! Всюду была. В Большом театре слушала «Пиковую даму». Замечательно! А в старую графиню я просто влюбилась. Я буду актрисой оперы.
Теперь все курсы позади. Мама, ты, пожалуйста, не беспокойся обо мне, здесь совсем тихо».
Десятки раз она перечитывала строчки последнего письма Вали:
«…Не сердись, но теперь я буду тебе писать совсем редко, может, вовсе не буду. Полгода не жди писем — нас переводят на другой участок. Но ты не тревожься…»
Было же что-то! Не зря так писала…
А вот письмо мужа. (Вскоре после отъезда Вали он попросил направить его в действующую армию, на фронт.)
«Добрый день, дорогая Галина Семеновна! Сообщаю, что жив и здоров. Первого августа получил от тебя письмо, посланное тобой 13 июля 1943 года, за которое благодарю. Но из него вижу, что ты сильно болеешь сердцем и душой о нашей Вале. Понимаю все: ты — мать. Но я отец — и болею сердцем за нашу Валю не меньше, а плакать не могу, нет слез. Никаких о ней вестей нет, а виновата война. Она поглотила миллионы людей и еще поглотит. Лишь конец войны скажет, кто жив, а кто нет. Может, отыщется наша Валя. Если, не дай бог, с Валей несчастье, нет ее в живых, будем горевать вместе. Я очень жалею тебя, хотя уже стар, чтоб объясняться в любви. Побереги себя ради Вали и немного ради меня. Поверь, скоро придет победа…
Живу хорошо. Только не хватает бумаги и карандашей. Если в Алейске есть они, пришли бандеролью, как поправишься. Привет всем родным и знакомым. Крепко целую. Желаю здоровья.
Иосиф Олешко.6 августа 1943 года».
Следующим известием о капитане Олешко была похоронная… А спустя несколько месяцев Галину Семеновну вновь пригласили в Алейский райвоенкомат. Выразив ей глубокое сочувствие, вручили извещение, что дочь ее пропала без вести.
Наступил какой-то провал… Спасала работа. Вечерами приходил кто-то из знакомых, пытался отвлечь ее; около нее дежурили соседки, знакомые, очевидно опасаясь, чтоб Галина Семеновна не совершила какой-либо необдуманный шаг. Она поняла это и однажды твердо заметила: «Не бойтесь… Руки на себя не наложу… Каждый должен нести то, что ему назначено…»
Но этим ее испытания не кончились. Вдруг мать снова приглашают в район. И начинается какой-то странный разговор, мол, не получала ли она каких-либо вестей от дочери…
— Так, значит, возможно, она жива?! — вскрикнула мать.
— Возможно, возможно… Если получите письмо от нее или если так услышите что… Сообщите нам, — отвечал собеседник; лицо его было значительно.
Новый круг сомнений, догадок… Попала в плен? Из газет Галина Семеновна знала, как фашисты обращаются с пленными… Но о каком письме в таком случае может идти речь? «Если т а к что услышите…» — это-то как понимать?
Сердце матери вновь затеплилось тревожной надеждой.
Стук. Незнакомый. Накинув платок, мать выходит в ледяные сени, отворяет дверь. Высокий военный в офицерской шинели, без погон.
— Галина Семеновна, не узнаете?
Мать долго всматривается в его лицо.
— Алик, ты? Вернулся!..
— Я… Галина Семеновна… Тетя Галя…
Попросил довоенную фотографию Вали. «Мне только переснять. Я верну вам…» И верно, принес через несколько дней.
…Едва стаяло, мать пошла на городское кладбище, присмотрела место у высокого тополя. Давно уже собиралась. Там установила надгробную плиту — в память погибшего мужа (истинного места его захоронения она не знала). В могильной оградке было еще место — его она оставила для себя, полагая, что не так уж долго осталось ей ходить по земле.
Теперь мать уже не ходила на станцию встречать эшелоны. И никто не ходил. Раз в сутки здесь на минуту останавливался скорый поезд и один местный.
В летние месяцы по воскресеньям она обычно отправлялась на кладбище и часами просиживала у мраморной плиты, под которой никто не лежал.
Текли годы. Судьба уготовила ей долгую жизнь. Уже маленький городок разросся, встали новые каменные дома, молодая тополиная роща в центре превратилась в тенистый парк; уже сын Алика заходил в книжную лавку спрашивать о новинках — юноша-десятиклассник, а мать по-прежнему надеялась и писала запросы. Ждала по радио передач «Вас разыскивают…». Но голос диктора называл другие имена. В середине шестидесятых годов она решила было установить на кладбище такую же плиту, как мужу, — в память Вали. Но потом раздумала: надежда еще теплилась. «Никто не забыт, и ничто не забыто», — вещало радио.
3. ПЕШКОМ ЧЕРЕЗ ФРОНТ
Около полуночи в моей квартире раздались частые звонки междугородной станции. Я снял трубку и вскоре услышал знакомый голос Сергея Васильевича Крестова — моего старинного друга, жившего в небольшом провинциальном городке на северо-западе, где я довольно часто бывал. Справившись о здоровье, о делах, он поинтересовался, собираюсь ли я нынче приехать к ним на открытие охоты?
— А что, уже открывают?
— Должны двенадцатого августа, как обычно…
— Наверное, приеду.
— Ну и отлично! Тогда у меня к вам будет просьба: впрочем, возможно, и вы заинтересуетесь… Мы сейчас ведем один поиск, а в Москве живет человек, который может кое-что прояснить. Адрес его есть, я написал ему, но он что-то не отвечает… Либо не хочет, либо… Вот хотелось бы выяснить…
— Ну подождите, я возьму ручку и блокнот… Так, записываю адрес… Теперь скажите, это срочно?
— История давняя, тянется тридцать лет, так что неделя-другая не имеет значения.
В нескольких фразах, сжато Крестов пояснил, что именно интересует его. «А дальше по вашему усмотрению действуйте», — сказал он.
Повесив трубку, я решил, что завтра же съезжу по адресу. Но, как всегда бывает в суете столичной жизни, назавтра нашлись неотложные дела, и прошла целая неделя, прежде чем мне удалось урвать время и выполнить поручение друга. Я скоро нашел нужный адрес на старом Арбате. Позвонил. Дверь отворила пожилая женщина. Я спросил, могу ли я видеть Семена Терентьевича Голубейского.
— Он болен, — последовал удрученный ответ.
Я выразил сочувствие и, извинившись, попросил разрешения зайти в другой раз.
— Не знаю, будет ли улучшение… А вы по какому делу? — участливо спросила она, успокоившись.
Я принялся объяснять. Женщина сказала, что они получили письмо от Крестова.
— Да вы пройдите, — вдруг предложила она. — Писать он не может, а что помнит — скажет. Нынче как раз вспоминал.
…В небольшой, опрятно убранной комнате на тахте лежал человек с отрешенным выражением лица. Мне тотчас бросилось в глаза углубление на лбу у виска со сходившимися шрамами — очевидно, след тяжелого ранения.
— Сеня, это к тебе по делу Олешко, — сказала жена.
Больной встрепенулся, тусклый взгляд его зажегся мыслью, он приподнялся и показал мне рукой на кресло.
— Вы спрашивайте, он все понимает… Только погромче… — предупредила она.
— Семен Терентьевич, в войну, в начале сорок второго года, под вашим началом служила девушка — Валя Олешко. Вы помните ее? — спросил я и тут лишь заметил, что кожа на ране пульсирует.
Больной приподнялся на локте, заговорил:
— Валя Олешко… Как же! Готовил сам. Я и приметил, рекомендовал… Не отрекаюсь… И «Смерш» ее проверял.
— Сеня, ты, не спеши, ты по порядку вспомни, — мягко попросила жена.
Но на это больной был уже не способен. Он замолчал, как бы потеряв нить мыслей.
— Помнишь, ты мне сам рассказывал о ней?..
Взгляд больного стал напряженным, пульсация усилилась — очевидно, в мозгу его шла работа памяти. Потом он как-то тревожно взглянул на жену.
— Да ты не тревожься, и письмо было со штампом, официальное… Майор Крестов подписал…
— Она с Алтая, — сказал Голубейский. — Она эту… полосу знала… Объекты… Ходила по тылам ихним, — продолжал Голубейский.
— Н-ну, вот!.. — обрадовалась жена.
— Майор Крестов просил вас охарактеризовать эту девушку, — сказал я, — по деловым и моральным качествам… Способна ли на подвиг или неустойчива… Все, что помните о ней…
— Ты помнишь ее маршрут? — спросила жена.
— Как же… Вишера, а после через фронт. Пешком… Чудово, Тосно… И в Нарву ходила… там явка была.
— Какая явка?
— Эта… резидент наш и радистка.
— Семен Терентьевич! Есть данные, что она попала в плен и перешла на службу к фашистам… Это лишь предположение, но… Как вы думаете, могло так случиться?
— Никогда. Голову положу…
Больной отвернулся к стене и затих. Женщина сделала знак, и мы вышли в переднюю.
— Больше его не стоит тревожить, все одно ничего не добьешься! — вздохнула она. — Знаете, что я вам посоветую: коли вы уж заинтересовались судьбой Олешко, встретьтесь с подполковником Пищиковым, в Валдае живет. Он-то здоровый… нестреляный, теперь уже тоже на пенсии… Семен был лейтенант, руководил группой, а тот — начальник отдела. Должен помнить… А моего-то уж извините… Совсем сдал — видно, не жилец уже…
«Валдай — это по дороге к Крестову, непременно заеду», — решил я.
По зимней дороге шла девушка в поношенной черной шинели, которую носили ремесленники. Голова ее была закутана в старый шерстяной платок, на ногах — не по погоде короткие ботики из прорезиненной материи с застежками. Девушка шла, наклонив голову, пряча лицо от морозного ветра. Она миновала Спасскую Полисть, Трегубово и уже подходила к городу Чудово.
Мимо по шоссе Новгород — Чудово сновали машины: грузовые — с солдатами, легковые — с адъютантами и штабными офицерами, походные кухни, бронетранспортеры, сантранспорт; район был фронтовой — передовая линия на этом участке проходила немного восточнее, по Волхову.
Был январь сорок второго года. А девушка эта — ее звали Валя — впервые шла по тылам врага.
В Чудово Валя должна была кроме обычной разведки выполнить и еще одно — «особое», как выразился начальник, капитан Пищиков, — задание: встретиться с одним человеком. До линии фронта капитан сам провожал ее. Он вел «виллис» и по дороге продолжал давать всевозможные советы, инструкции.
— Все запомнила? — спросил он наконец.
— Запомнила…
— Ну и ладно. Только вот… Ты эдак исподлобья-то не смотри на собеседника: мина не та! Заподозрят. Открыто смотри!
— Я открыто…
— Голову не нагибай… Нет отработочки…
От этой детской привычки смотреть исподлобья мама так и не смогла отучить Валю, хотя постоянно делала ей замечания. И армия за полгода тоже не смогла отучить. На переднем крае капитан передал Валю дивизионным разведчикам, и ее аккуратно переправили на ту сторону. Идти было страшно. И страшен был первый увиденный близко фашист. Ей казалось, что он все про нее знает. Сейчас: «Хальт!» — и в гестапо.
…Валя была единственная дочь. Любимица. Красавица, окруженная всеобщим вниманием — в школе, дома, где бы она ни была… Она привыкла к этому и знаки внимания принимала как нечто само собою разумеющееся. И очень рассердилась на свою тетку, сестру отца, когда та, придя к ним и увидев племянницу в очередном новом крепдешиновом платье, сказала брату: «Избалуешь ты ее, Иосиф».
Сверкнув исподлобья глазами, Валя выпалила:
— Вам-то какое дело?
— Валентина, так не говорят со старшими! — строго сказал отец.
Вмешалась мать, заступилась за дочь… Как все это далеко-далеко!.. Валя огляделась: кругом заснеженные поля, справа вдали лес. Незнакомая местность, кругом — фашисты. «А вдруг это сон? — подумала она. — Вот проснусь утром — и я дома».
Ей дали адрес конспиративной квартиры, где была рация и откуда она должна была передать в Малую Вишеру наиболее срочные и важные сообщения. А подход сложный, конспирация… Время от времени она повторяла уже затверженные ею фразы пароля и отзыва. «Хозяин, дай-те по-пить… Хозя-ин, — тихонько напевала она на мотив полюбившейся ей мелодии и сама же себе отвечала: — Кончилась вода-а-а-а. На-ка ведро, сходи, если хочешь». — «Я пришла не по своей во-о-оле, но мне велено исполнить твою про-о-сьбу. Тройка. Семерка. Туз…»
Это уже было из другой оперы, единственной, которую ей удалось послушать.
…Справа от шоссе лежал небольшой городок. Всюду виднелись следы пожаров. У развилки стоял указатель, на котором на русском и немецком языках было написано «Чудово». Городок растянулся километра на три. К центру с шоссе вела единственная улица. Валя беспрепятственно дошла по ней до шлагбаума. Здесь вдруг до нее донеслось: «Ахтунг!» И, обернувшись, она увидела немца с автоматом.
— Мне только к тете пройти, я тут два дома не дошла… Она у станции живет, — быстро затараторила Валя, продвигаясь вперед.
— Хальт! — сердито крикнул фашист и погрозил пальцем.
Тут только Валя заметила, что шлагбаум закрыт, а справа тендером вперед движется паровоз. Ах, это значит — он заботился, чтоб она не попала под поезд, любезно! Шел товарный состав. Он двигался медленно по новгородской ветке. На платформах, покрытые брезентом, стояли танки, по одному на каждой. Пропустив поезд, Валя продолжала свой путь. Она свернула направо, к станции. Все было, как ей рассказывали: слева — водокачка, справа — депо. Открылся целый квартал сожженных домов. Валя спросила встречную старушку, где находится городская управа.
— Так и иди, прямо. Не дойдя до вокзала, повернешь направо — третий, кажись, дом от угла.
Отыскав нужный дом, она взошла на крыльцо. В приемной сидела одна лишь старушка, дожидаясь своей очереди. Секретарша что-то отстукивала на «ундервуде». Валя справилась, у себя ли господин Зверев и сможет ли принять ее по личному делу.
— Ну попробуйте, сегодня у господина городского головы прием, — ответила секретарша, внимательно оглядывая вошедшую.
Валя присела, осмотрелась. Затем вынула зеркальце, как бы прихорашиваясь. Это тоже была предусмотренная деталь — мол, просительница хочет понравиться городскому голове.
Из-за двери голоса не были слышны. Наконец дверь отворилась, и из кабинета вынырнул мужчина с портфелем — очень похож на Бывалова из «Волги-Волги». Ему вслед неслось: «Чтоб подводы были! Где хочешь достань…» Но особого оживления не было заметно. Войдя в кабинет, Валя увидела мужчину лет сорока за столом со стареньким телефоном «эриксон». Над столом висел портрет Гитлера.
— Господин Зверев? — угодливо спросила Валя.
— Ну, я…
— Вам привет от Николая Мартыновича.
— От кого? — переспросил хозяин кабинета, оглядываясь и вставая.
— Я же русским языком говорю: от Николая Мар-ты-но-вича. Повторить?
Он молчал и внимательно разглядывал странную девушку — видно, не знал, что сказать. Наконец криво усмехнулся:
— Насчет дров, что ли?
— Вам привет от Николая Мартыновича. И поручение от него, — зло повторила Валя.
— Я не знаю никакого Николая Мартыновича.
Но она по испуганно-напряженному выражению лица догадалась, что городской голова все понял.
— Значит, вы в Малой Вишере не работали? — Валя встала.
— Сядь, подожди! — нервно сказал городской голова, тоже встал и вышел в приемную.
В первое мгновение Валя подумала, что он сейчас позовет охрану. Она почувствовала страшную сухость во рту, но он быстро вернулся один — вероятно, выяснив, кто есть в приемной.
— Ну! И чего же нужно от меня Шишкову?
«Сам пошел в открытую. Тем лучше!»
— Николай Мартынович одобряет ваше согласие работать городским головой, — покровительственным тоном сказала Валя.
— Гм…
О Звереве Вале было известно, что он обещал помогать нашим. Следовало проверить, можно ли его привлечь к активной борьбе.
— …И уверен, что вы будете работать в контакте с ним, — быстро сказала она, глядя на собеседника исподлобья.
Вообще-то в данной ситуации она сказала бы по-другому. Но, следуя инструкции, Валя повторила слова шефа.
— Все правильно! — вдруг как бы воспрянув, поспешно ответил городской голова. — Вам нужен ночлег? Организуем!
«Ох спешит, спешит».
— Ночлег не нужен. Николая Мартыновича интересует, есть ли у вас связь с лагерем военнопленных?
— Никакой. Абсолютно непричастен…
Он сказал это с эдаким выражением, что, мол, вот как ловко он выкрутился — непричастен, и баста. Вале это не понравилось: играет в простачка. И она сухо, коротко изложила инструкции Пищикова, как установить связь с лагерем военнопленных.
Зверев застучал пальцами по столу, вздыхая и качая кудрявой головой:
— Шутник он, Пищиков… Он что думает — это так просто, раз-два?.. Это ж режим! Фашизм, так сказать… Мне в лагерь и доступа нет… Они думают — городской голова! Формальность одна. Призрак… У меня и власти-то никакой нет! На банкетах шнапс пить да речи читать приветственные… На днях тут что было! Звонки из комендатуры… «Принять по первому классу! Инспектор из Берлина! Свежей рыбы!» Где я ее возьму? В прорубь полезу? — как бы все более возмущаясь, говорил Зверев. Но в этом его возмущении проскальзывали и нотки обыкновенного хвастовства значительностью той роли, которую ему, дескать, невольно приходилось играть.
«Ох, хвастун! И чем хвастает!»
— Что поделаешь, надо… — сказала она.
— Верно, что надо, — начал было он, но, заметив оттенок юмора в ее тоне, нахмурился и сказал раздраженно: — Что зубы-то скалишь? Хорошо! Я б отказался, поставили б продажную сволочь… Лучше б было? А? То-то… Пусть бы Пищиков сел на мое место — посмотрел бы я, как бы он повел себя. Он там, понимаешь, сидит в своем отделе с охраной, а мы тут…
Городской голова завертелся на стуле. И Вале стало даже жалко его. Но капитан сказал ей: «Будь с ним покруче: увертливый. Жми на одно. Он в сторону, а ты в лоб: да или нет?»
— Да или нет?
— А тогда я вообще… Плюну, брошу все, уйду куда глаза глядят. Как хотите, честное слово, я так не могу. Режим! Оккупация! Жандармерия под боком.
— Уходите…
— Что? Куда? — воскликнул он полушепотом.
— С этой должности. Здесь нужен свой человек.
— Я — не свой?! Да если б я, понимаешь, не свой был… Так ты б, милая, уже в гестапо была в аккурат доставлена. Тут их система железно срабатывает. Был человек — нет человека. Это запросто делается… Беру трубку — и все. — Усмехаясь, он потянулся к трубке.
Валя невольно дернулась, но сдержала себя и, все так же глядя исподлобья, низким голосом сказала:
— Звони! Но если меня здесь схватят, ночью к тебе домой придет Сивачев.
Он побледнел, глаза сузились — от злобы или от страха. Он, конечно, знал про партизанский отряд Сивачева, карающий предателей.
— Ты что за горло-то берешь, а? Хочешь на моей шкуре медаль заработать? Эх, люди!.. Каждый об себе думает, только об себе. Я, понимаешь, стараюсь тут, сочувствую, жизнью, можно сказать, рискую.
— И когда реквизируете теплые вещи у населения — тоже рискуете? — Она вновь перешла на «вы».
— Должность велит! Дура!
— Если вы будете делать лишь то, что велит должность, значит, вы их пособник. Это вы, надеюсь, понимаете?
Он покорно склонил голову, вздохнул, как бы говоря: «Как хотите. Вот я такой… И уйдите от меня все и не трогайте меня. И не могу, и не хочу, и боюсь… Довольствуйтесь малым, а будете давить — пожалуй, решусь на крайность. Своя шкура дороже!»
«От этого пользы не будет. Не предатель и не помощник», — решила она. Так впоследствии она и доложила своему начальнику. Звереву, уходя, сказала: «Поступайте как знаете. Но если вам дадут знак уйти из города — уходите, не цепляйтесь за должность!»
— Ты, девка, дуй отсюда немедля же, а то еще, не ровен час, схватят тебя, а я отвечай! — крикнул он ей вслед.
…Выйдя на улицу, Валя затянула потуже платок и пошла к станции. Здесь был железнодорожный узел. Начинало темнеть. В ста двадцати километрах отсюда ленинградцы леденели от стужи, гибли от голода: бомбы и снаряды настигали их у ворот домов. На станции Чудово восемнадцатилетняя девушка, пристально, исподлобья глядя на двигающийся состав, беззвучно шевелила губами — считала вагоны. Ее колотила дрожь. Из здания вокзала вышли двое солдат с коричневыми повязками на рукавах и направились в ее сторону. Она мгновенно оценила обстановку. «Бежать? Нет, хуже, привлечешь внимание… Лучше стоять с безразличным видом», — решила она. Солдаты приблизились, остановились… «Ведь это фашисты, настоящие!.. Какой ужас…» — мелькнуло в мозгу.
— Зер гут медхен, — сказал один из них, почти вплотную приблизив свое лицо к ней. Валя почувствовала запах спиртного. Это вселило в нее некоторую уверенность: от пьяных легче отделаться.
— Шёин медхен, — засмеялся другой. Он достал из кармана плоскую бутылку, очевидно, с коньяком или вином; из другого кармана пластмассовый стаканчик.
— Битте, битте… — предложил, наливая вино в стакан.
— О, нет! Найн!.. Здесь мой папа… Фатер, фатер!.. — Валя испуганно замахала руками.
В это время из вокзала вышел немецкий офицер, и солдат как ветром сдуло. Офицер прошелся по перрону, оглядел Валю, но, очевидно, она не вызвала у него никаких подозрений: даже документов не спросил. Теперь долго оставаться здесь нельзя. Ее видели уже трое. А что, если те два солдата вернутся, увидят, что она одна и никакого «фатера» нет, и снова начнут приставать?
В пятом часу Зверев вышел из управы и направился к дому — на ту сторону железной дороги. Идти напрямую через многочисленные пути, стрелки, подлезать под вагоны он не хотел, а переход был за станцией. Заметив на перроне женскую фигуру в платке и черной шинели, он, еще не разглядев лица девушки, догадался, что это его нынешняя гостья. «Дуреха, стерва, на самом видном месте… Схватят — ведь выдаст, что днем была у меня в управе!.. А не донес. И все. За шкирятник», — со злобой подумал он. Что же теперь? Он свернул направо, в обход. Потом остановился, вытащил сигареты. Чиркая на ветру зажигалкой, он проклинал все на свете: войну, эту наглую, настырную девку, немцев и самого себя. Кабы знать, чья одолеет!.. И определился бы окончательно, А то оно хуже всего — на двух стульях. Либо те кончат, либо эти. Но сейчас его ненависть сосредоточилась на этой посыльной. Самой на себя наплевать — думает, и другим… Все правильно, обещал… Да разве знал, что все так обернется? Он думал, что немцы будут заискивать перед ним: все же как-никак представитель местного населения! Кой черт — «представитель»!.. Любой обер на тебя рявкнет. Жизнь проклятая, ну нет никакого покоя… Хоть в петлю лезь!..
Тяжело вздохнув, Зверев двинулся дальше. Сейчас он мечтал об одном — добраться до дома, хватить стакан самогона, закусить кочанной, борщом и завалиться спать. И ну их всех!..
Проходя через пути мимо шлагбаума, Зверев вновь покосился на перрон, который теперь был слева от него, я заметил там лишь двух бабок. Той девки не было. «Неужели взяли?» — леденея, подумал Зверев.
Но Валя была уже на выходе из города. На этот раз пронесло.
4. АБВЕР ДЕЙСТВУЕТ
— Теперь это читайте, — сказал Крестов.
Я взял пожелтевшую бумагу, прочел:
«Олешко, Валентина, уроженка Алтайского края. Бывшая советская разведчица. Была заброшена в ближний тыл противника на территорию фашистской армии в августе 1942 года. На связь с центром выйти не смогла. Добровольно сдалась в плен. По непроверенным данным, состоит агентом фашистской контрразведки».
— Когда составляли справку?
— В начале сорок третьего…
— А есть данные, что она жива?
— Нет данных, что она мертва.
— Наверно, о сотнях тысяч погибших нет таких данных.
— Да, но учтите — ею занимался абвер. Это была серьезная организация.
— Тогда еще вопрос: что значит непроверенные данные?
— Это много что может значить. Самое реальное — был сигнал кого-либо из наших зафронтовых разведчиков, или партизан, или, наконец, от нашего человека в их же среде. Возможно, немца. Но источник, очевидно, один — мог ошибиться. Поэтому вставлена оговорка. Был бы второй подтверждающий сигнал — тогда все.
— Ясно. А откуда известно, что она добровольно сдалась?
— Думаю, доказательство от противного. Разведчик не должен сдаваться в плен, но этот выход у него есть всегда, или почти всегда, — уточнил Крестов. — Читайте следующий документ. Вы, кажется, владеете немецким?
Запинаясь, я прочел текст:
— «Благодаря оперативно принятым мерам отдел 1-С армии выловил… нет, точнее — «перехватил советских шпионов…». Вот как!..
— Все правильно. А вы хотите, чтобы они называли наших — отважными советскими разведчиками?! Дальше читайте.
— «…шпионов во главе с лейтенантом Олешко».
— Кстати, она была лишь сержантом… Но это рапорт командованию. Видно, решили прихвастнуть, — рассмеялся Крестов.
— Так, — продолжал я. — «В результате…» гм… «системы мероприятий воспитательного характера… пленные…» О, здесь они уже не шпионы… «пленные пожелали… перейти на службу фюреру». Все. Стало быть, это уже второй источник.
— Да, но фактов нет, одно утверждение. Вообще-то их источники, как правило, верны, если это не специально сфабрикованная и подброшенная фальшивка с целью компрометации, — добавил Крестов.
— И это все? — спросил я.
— Вот еще копия извещения, посланного матери, здесь стандарт: «…Сообщаем, что ваша дочь, находясь на фронте, пропала без вести. Вручено 13 декабря 1943 года».
— То есть почти спустя полтора года после пленения, — заметил я.
— Ну, видимо, ждали, надеялись…
— Мать жива?
— Жива. Вот ее запросы во все инстанции… Более полусотни. В среднем по два в год. Все надеется.
— На что? В любом случае, по-моему, в живых ее нет, — сказал я.
— Это надо доказать. И раз навсегда положить конец этой затянувшейся истории. Строим легенды. Вариант номер один. Эта особа после отступления немцев осталась на освобожденной территории, смешалась с нашими войсками, наконец, вышла замуж, сменила фамилию — словом, скрылась и живет себе где-нибудь.
— Неужели она за все годы не дала бы о себе знать домой?
— Это как раз могло быть, — сказал Крестов. — Если она действительно была их агентом, то рано или поздно это бы вскрылось… Зачем ей возвращаться домой?
— Сергей Васильевич, но — тридцать лет! Было столько амнистий! — заметил я.
— Да, но есть род преступлений, которых ни одна из амнистий не коснулась. У кого руки в крови… Заинтересованные лица об этом знают. Есть и такие: поставили крест на своем прошлом. Это хорошо. Но знать нужно — какое это прошлое, связи и прочее… Или другой случай: ушла вместе с гитлеровцами… и осталась на Западе.
— Но в этом случае она могла бы сообщить матери?
— И это не обязательно. Даже скорей всего — нет. Зачем ей компрометировать родных?
В этот момент дверь приотворилась и в кабинет заглянул старик, держа в руке какую-то бумажку — очевидно, повестку.
— Товарищ Ефремов? Григорий Иванович? — окликнул его Крестов.
— Я…
— Сюда, сюда заходите!
Старик неторопливо вошел, поздоровался, снял кепку и уселся в предложенное ему кресло. Крестов принялся ему разъяснять, зачем его пригласили: следственные органы в настоящее время выясняют личность некой гражданки Олешко (она же Михеева), взятой в плен в районе деревни Лампово и, по некоторым данным, сотрудничавшей с оккупантами. А поскольку он, Григорий Иванович, партизанил в этих местах, то… и т. д. и т. п. Все это старик выслушал, кивая головой в знак согласия. Потом начал свой рассказ издалека — с момента организации отряда, который впоследствии был окружен карателями и на две трети уничтожен. Спаслась лишь небольшая часть, в том числе и он. При этом старик явно намекнул, что здесь не обошлось без предательства.
— Почему вы думаете, что было предательство? — спросил Крестов.
— Обложили с трех сторон. С четвертой — болото. Не иначе кто-то навел. Оно так и есть… — убежденно ответил старик.
— Каратели могли прочесывать лес профилактически. И наткнулись на ваш отряд. Вполне возможно. Вы лично видели этих девушек? Говорили с ними?
— Было свиданьице.
— Вот-вот! Об этом подробнее…
…Сентябрьский день сорок второго года. В лесу повстречались девушка с корзиной и парень с винтовкой за плечами.
— Здорово, грибница!
— Здорово, охотничек.
— Из Лампово?
— Оттуда.
— А как там фрицы — здорово прижимают вас, девок?
— А тебе завидно?
— Эх вы, дешевки! Верно про ламповских говорят: продались… Тут кровь люди проливают, а вы… Хорошо платят?
— Тебе не по карману.
— А может, у меня мешок золота…
— Советский банк прихватил?
— Ах ты, фашистская сука! Хошь — прибью?
— Дурак, чего пристал?
Наступает на нее.
— Я те покажу — дурак! — Бьет ее по лицу.
— Трусы! Вам бы только с девками воевать!
Она поворачивается и уходит.
Парень вскидывает винтовку:
— Стой, стой! Стреляю!
— Но все же не застрелил? — спросил я.
— Пожалел… Молод был, глуп. Доложил командиру, он меня пустил матерком. Это своя, говорит. А уж после, как отряд наш побили, думаю: надо было мне ее кончить!
— А если б грех на душу взял?
— И взял бы… Лампово — самое гнездо ихнее было. Гляди: дома там ни одного не сожгли. И вешать не вешали. С чего? Каменку — ту всю выжгли дотла… И народ в расход пустили. В Железной Горке по избам ходили, хватали… Насильничали, а после — в ров.
— Вернемся к той особе. Вы бы узнали девушек, что к вам ходили?
— Ну где же?! Тридцать лет прошло… Как узнаешь?
— А вы выкиньте эти тридцать лет. Ту бы узнали, которую тогда в лесу видели?
— А! Ту бы узнал, как сейчас помню. Исподлобья глядела.
Крестов положил на стол перед свидетелем несколько фотографий и спросил, нет ли среди них той девушки.
Старик почти без колебаний указал на одну из фотографий.
— Точно она? — спросил Крестов.
— Как не точно? На всю жизнь запомнилась. Я уже и патрон в патронник загнал… Сжалковал…
— Да! Если они действительно предали или участвовали в карательных акциях — это другое дело. Всякое могло случиться.
Крестов поблагодарил старика, и тот ушел, бросив мне на прощание: «Нашли кого жалеть — фашистских б… Вы настоящих героев ищите…»
— Да. Это Валя Олешко, — сказал Крестов, разглядывая фотографию, на которую показал старик.
— Вам точно это известно? — спросил я.
Крестов подал мне листок с машинописным текстом. Я прочел:
«Приметы Валентины Олешко. Рост средний, сложена отлично, пропорционально, что тотчас бросается в глаза. Черты лица правильные, нос прямой. Зубы красивые, чистые, глаза голубые, волосы пышные. Привычки: часто смотрит исподлобья, иногда прикусывает нижнюю губу».
Взглянул на фотографию: все как будто сходится.
— Старик тоже насчет взгляда исподлобья вспомнил, — сказал Крестов.
— Кто это писал?
— Кто-то из офицеров нашей разведки.
— Но чем объяснить ее вызывающее поведение при разговоре с партизаном? Если она агентка, то, скорее, наоборот, должна… — начал я.
— Все было сложнее… — перебил Крестов. — И каратели под партизан одевались, и власовцы. Кроме того, она могла опасаться, что за ней следят.
— А если следили, отчего упустили этого партизана? — спросил я.
— Зачем? Они накинули петлю на весь отряд. Что им один этот парень?.. А за отряд уже и крест, и отпуск на две недели.
Мы сделали перерыв на обед. Возвращаясь, еще в коридоре мы заметили старушку — она, щурясь, рассматривала номера на дверях кабинетов, идя от одного к другому.
— Мамаша, не в сто первый? — мимоходом спросил Крестов.
Старушка закивала. Ей было лет семьдесят. Вновь повторилась та же история. Крестов подробно объяснил, зачем ее пригласили и чем она может помочь. Память у нее была ясная. Зрительно старуха помнила все и сообщила нам интересные детали. Сама завела речь о пятерых девушках — не местных, ламповских, пришлых. Жили они в соседней избе, отведенной им старостой. Осень и зиму всю. Хорошие то были девушки или плохие, мы не стали расспрашивать. Об агентурной работе тоже не задавали вопросов — этого старуха знать не могла. Но как проводили свободное время (что тоже было важно) — тут Крестову кое-что удалось вытянуть.
Летний вечер. Окна избы открыты. На крыльце сидят две девушки. В комнате кто-то заводит патефон, слышится мелодия модного довоенного танго «Утомленное солнце». Одна из девушек сердито кричит:
— Жень! Я эту пластинку кокну, честное слово! К черту!.. Надоело, и душу дерет.
Музыка смолкает.
К крыльцу подходит парень. Здоровается с девушками.
— Валь, а Валь, спела б чего-нибудь… — просит он.
— Тебе? Ни в жизнь. Уйдешь — спою.
— Ну, Валь!.. Я ж вчера пьяный был, трепался…
— А ты не треплись. Чего тебе надо? Иди! И сейчас несет как из бочки…
— Семен, верно, если еще раз заявишься к нам пьяный, я скажу Миллеру, — говорит другая девушка.
Вскоре появляется зондерфюрер Миллер. Он внимательно слушает. Потом говорит:
— Валя, вы талант певчий. Буду ходатайствовать, чтоб вас направили в Берлинскую консерваторию.
— А я хочу в Миланскую.
— Шутите, фрейлейн, я добрый начальник. Со мной все можно доверительно. Спойте еще!
— Больше нельзя, горло болит. Ноги промочила, по болотам шатавшись.
— Странно! Там, где вы делали прогулку, болот нет… Где же это вы были? — наивно удивился Миллер.
«Все знает… Болот там и верно нет. Следят!.. Нужно быть очень осторожной. На такой мелочи можно легко попасться», — подумала Валя.
— Болотный край ходить опасно, там партизанский бандит, — все так же невинно улыбаясь, продолжал Миллер, и Валя почувствовала, что краснеет, как школьница, уличенная во лжи.
Та же деревня. Весенний мартовский день. Вечереет. К избе, где живут девушки, подъезжает автобус. Из него выходит Миллер. Стучит, зовет девушек:
— Добрый вечер, фрейлейн. Я за вами.
Он называет по именам, и девушки выстраиваются.
— Фрейлейн Валя!
— Фрейлейн Елена!
— Фрейлейн Антонина!
— Фрейлейн Авдотья! Прошу, автобус ждет. Вас ожидают прогулка и новый фильм. Это награда, которую вы заслужили справедливо.
— Возьмите и меня, — просит пятая девушка. — Я тоже хочу в кино.
— Фрейлейн Мария, вы не заслужили.
Девушки садятся в автобус, и он отъезжает.
— Не помните, вещи они не брали с собой?
— Не было…
— И больше вы их не видели?
— Уехала я! Нас, с десяток баб, староста на работы услал верст за сорок. За коровами ходить, доить. Скотина-то наша, а считалась как ихняя. Вернулась в Лампово, а в той избе другие уже. Менялись…
Крестов предъявил свидетельнице фотографию мужчины — ту же, что показывал партизану. Вглядевшись, старушка удовлетворенно кивнула:
— Как же его… Ох!.. Клыков Толька! Он! На свадьбе, сынок, гуляла его. Про жену всякое болтали… Да ведь про баб оно всегда — было, не было — скажут…
— В немецкой форме Клыков ходил?
— Не видала, сынок… Бороду растил, это помню…
— Вот с этого Клыкова все и началось, — объяснил Крестов после ухода Прасковьи Никитичны. — На эту Олешко были запросы и раньше, но не было зацепки. Никаких документов, кроме непроверенных данных. Но недавно поступило заявление от некой гражданки с просьбой пересмотреть дело ее брата Анатолия Клыкова на предмет реабилитации.
— Он жив, сидит?
— Расстрелян в сорок четвертом году по приговору военного трибунала. Речь идет о посмертной реабилитации. Родные сомневаются, справедливо ли. Просят учесть давность, условия военного времени… Это желание понятно… Мы подняли уголовное дело Клыкова. Я начал листать и вдруг наткнулся на Валю Олешко. Пока лишь одно упоминание… Дело многотомное, месяц читать…
На следующий день утром, войдя в кабинет Крестова, я заметил, что количество папок и бумаг на столе увеличилось. Спросил, приглашен ли кто-либо на сегодня. Но оказалось, что в городе свидетелей больше нет. Есть в селах, в других городах. Люди все пожилые, тревожить их неловко — к ним надо ехать самим. Мы решили в ближайшие дни съездить в Лампово. Затем я взял одну из папок. То было уголовное дело Клыкова, Анатолия Евграфовича, 1921 года рождения, из крестьян, ранее не судимого, беспартийного, бывшего сержанта Красной Армии, попавшего в плен в мае 1942 года. Обвинялся в измене Родине и шпионаже в пользу фашистской Германии. Дело велось в 1943—1944 годах.
В подшитом к делу конверте я нашел отпечатки пальцев и фотографии обвиняемого — профиль, анфас, как обычно снимают преступников. Лицо заурядное. Там же лежала записка — порыжелый листок в клетку, из школьной тетради. Карандаш, но почерк четкий, иначе бы не прочесть. Буквы еще видны.
«Анатолий!
Вас удивит мое письмо. Но разговор с Вами произвел на меня сильное впечатление. Вы мне показались человеком необычным… И мыслите не так, как многие, к сожалению… Я поняла и то, о чем Вы не решились сказать малознакомой женщине. Но я знаю, чувствую, что вы думаете об окружающем то же, что и я. Но Вы смелей. Это отрадно. Отрадно знать, что еще остались честные, независимые люди со своим мнением. Если наше знакомство оборвется этой запиской, я все равно буду помнить о Вас.
Н.»— Странное письмо, почти признание, — сказал я.
— Но к делу оно приобщено как улика, — заметил Крестов.
— В каком смысле?
— Понятия не имею. Надо работать. Судя по стилю записки, автор — интеллигентная молодая женщина… Врач или учительница.
Значительную часть тома занимали показания Клыкова о расположении немецких частей в районе Лампово, имена офицеров, их характеристики; следователя, ведущего допрос, интересовали, казалось бы, незначительные детали — например, цвет шинели майора фон Барда, марка автомашины, на которой ездил, и прочее.
— А этот фон Бард… он кто был?
— Начальник армейского отделения абвера. Известная фигура в этих местах в войну. Но там есть закладка — на странице сто двадцать первой, взгляните. Это касается интересующей нас особы.
Читаю:
«С л е д о в а т е л ь. Что вам известно о заданиях, которые выполняли агенты фашистской контрразведки Олешко-Михеева, Мегрова, Чернова и другие?
К л ы к о в. Примерно в конце сентября 1942 года Мегрова и Олешко-Михеева были посланы на торфопредприятие. Там возникла забастовка рабочих. Помощник фон Барда Миллер дал им задание выявить зачинщиков забастовки.
С л е д о в а т е л ь. Каковы были результаты их поездки?
К л ы к о в. Мне известно, что по возвращении они представили рапорт на имя майора фон Барда. Содержания рапорта я не знаю, мне не показывали. Но Миллер при мне похвалил их.
С л е д о в а т е л ь. Какие они еще выполняли задания?
К л ы к о в. Ходили в лес искать партизан. Брали с собой грибные корзины… Одевались как местные.
С л е д о в а т е л ь. Можете назвать конкретные факты встреч? С кем, когда? Результаты?
К л ы к о в. Этого не знаю».
— Показаниям можно верить? — спросил я.
— Там, где он говорит о себе, трудно сказать… В отношении других, видимо, можно.
Мной овладела безысходность. В глубине души я все-таки надеялся: а вдруг что-то откроется интересное, важное — и все дело повернется самым неожиданным образом. Так бывало… Но здесь шансов все меньше и меньше. Помощник начальника абверкоманды благодарит бывших советских разведчиц за выполнение задания по розыску зачинщиков забастовки! Это уже предательство, преступление. Какие «герои?» Какие «подвиги»? Перевербовка. Все!
— Послушайте минутку! — сказал Крестов, держа перед собой открытое дело. — Одна небольшая выдержка: «Примерно в августе, точно числа не помню, под вечер у них началась беготня. Майор фон Бард поднялся на чердак, где находилась радиостанция. Миллер тоже пошел туда. Сколько они там находились — не знаю, я пошел спать…» Ну, тут следователь уточняет время, я опускаю его вопросы, читаю дальше, — сказал Крестов и продолжал: — «В 5 часов 30 минут утра я пошел в коровник. Слышу какой-то шум, голоса со стороны леса. Гляжу в щель между бревен — пакля трухлявая повыветрилась, щель с палец… Ведут четверых: три девушки и один парень. Руки назад завязаны. Лица побиты, в ссадинах. У первой под глазом синяк. Конвоировали их немцы в штатском. Вопрос следователя: «Почему уверены, что немцы?» Ответ: «Я Миллера узнал. Он тоже в штатском был. Провели мимо куда-то в село». — Крестов отложил дело.
— Чьи показания? — спросил я.
— Это запись со слов некоего Трофимова Александра Тимофеевича. В его избе квартировал майор фон Бард. Показания эти свидетель давал вскоре после освобождения Погостья, в начале сорок четвертого года.
— Среди этих четверых была Валя Олешко?
— Да, потому что есть еще аналогичные показания, и даты сходятся…
— Значит, их били…
— Трудно сказать. Ссадины и синяки они могли получить при приземлении на парашюте. Спускались на деревья… Ночью.
— А тот свидетель жив?
— Жив.
Мы выехали из города в семь утра. Крестов сам вел машину. Дорога шла полями. Потом стали встречаться рощи, овраги; трижды пересекала дорогу узенькая быстрая Полисть. Потом по обе стороны шоссе пошли чистые редкие сосны.
— Странно, что они не вырубили лес у дороги… — заметил я.
— Да, у моста удобное место для нападения. Но в районе штаба части стояли густо.
Километров через пять показалась новая деревня с богатыми избами, скорее похожими на дачи. Это и было Лампово. Мы поставили «газик» во дворе сельсовета.
Мне хотелось побывать у Трофимова, где квартировал немецкий майор. У спутника моего был свой план, и мы решили не связывать друг друга. Расспросив, как найти дом Трофимова, я отправился пешком по длинной тенистой улице. На отшибе, за деревенским кладбищем, стояли три избы. Я постучал в высокую глухую калитку крайней из них. И тотчас раздался бешеный лай собаки. Никто не выходил. Я нажал на калитку, и она отворилась. Овчарка заходилась в лае, но была на цепи. Двери высокого амбарного сарая, соединившегося с избой, отворились. Вышел старик с окладистой бородой и махнул мне рукой. Косясь на бесившуюся собаку, я подошел к нему, поздоровался. Хозяин прикрикнул на пса, и он завилял хвостом.
— Пройдемте в избу, там удобнее… — предложил хозяин. — Старухи моей нет, в магазин пошла.
Комнаты дома были просторные, обстановка — обычная для теперешней деревни: телевизор, сервант, коврик на стене. Я заметил старую фотографию солдата с георгиевским крестом.
— Это вы? — спросил.
— Был когда-то… А в эту, последнюю, мой год не брали уже. Я с тысяча восемьсот девяностого года… К нам быстро немец пришел. Почти три года стояли.
— Александр Тимофеевич, в вашем доме тоже стояли?
— Жил постоялец… — отвечал он.
— Вы знали, кто этот постоялец?
— Поначалу — нет. Старался быть подальше. Они себя связистами рекомендовали. На чердаке аппараты стояли, связь… И знаки носили.
Октябрь сорок второго…
Хозяин с женой Варварой сидят на кухне.
— Варя, иди послушай… У этой-то, Верки, громкий голос, — говорит Трофимов жене.
Та подходит к дверям, ведущим в комнаты.
— Тихо, — шепотом отвечает она.
— Девки, девки! Давеча все на часы глядел. Ждал…
— О чем ты горюешь?! Да пусть они хоть все тут… Ты думай, как Петю вызволить. Я нынче сама объявление ихнего коменданта читала… Приказ — с шестнадцати лет. А ему? Это тебе Прохор мстит, глаза б ему выдрала…
— Своя власть. Что хотят, то и делают… Ты — как они войдут — сразу. При ней… При ней-то он мягче.
— Глаза у нее недобрые… Видать, стерва…
В избу входит зондерфюрер Миллер. Он приветливо кланяется:
— Гутен абенд, хозяева. Господин майор у себя?
— У себя. Фрейлейн его обучает… Второй час.
— Я поняль. Господин майор хочет иметь чисто московское произношение. Позже явлюсь.
И вскоре из комнаты выходят майор фон Бард и Вера, видная девушка с надменным лицом. Варвара нерешительно подходит к ним.
— Господин майор! Заступитесь… Староста приказал Петю нашего на работы услать. Пусть бы у нас в селе, а то куда-то в Эстонию, — просит она.
— Фрау Трофимов, — говорит майор, но Вера резко перебивает его:
— Ва, ва, господин майор! Женский род. Трофимова!
— Я не могу вмешиваться в администрацию. Пишите заявление обер-коменданту. Он может отменить распоряжение старосты…
Восьмидесятилетний старик сидит, понуря голову.
— И вы написали заявление? — спрашиваю я.
— Подали… Да что толку!
В этот момент отворились двери и вошла хозяйка. Она казалась моложе моего собеседника. Муж принялся разъяснять, зачем я пришел, чем интересуюсь. Хозяйка села к столу, подперев голову рукой, задумалась. Ни удивления, ни настороженности я не заметил и в выражении ее лица — скорей отрешенность и скорбь.
— Ничего худого про него не скажу, — наконец проговорила она, глядя в одну точку.
Старик как-то странно заулыбался, пожимая плечами.
— Майор помог вам освободить сына от повинности? — спросил я.
— Поздно… Освободился сам, — вздохнула хозяйка.
Она вдруг поднялась, вышла в соседнюю комнату, закрыла за собой дверь. Старик вполголоса досказал конец этой печальной истории. Заявление они с женой написали, приложили копию метрики, и все это пошло по инстанциям военной администрации. Но пока заявление рассматривалось, пришло сообщение, что сын Трофимовых покончил с собой. Он повесился ночью на конюшне — там, где вместе с ровесниками отбывал трудовую повинность. Узнав об этом, майор фон Бард выразил сочувствие матери. И тотчас распорядился перевезти труп из-под Нарвы в Лампово. Фашисты объяснили самоубийство пятнадцатилетнего юноши по-своему — «жертва партизанского террора». Но матери все это было уже безразлично, она помнила одно — что фон Бард дал машину и она смогла проститься с сыном и схоронить его по-христиански.
Потом я заговорил о пленных девушках — спросил, не помнит ли он Валю Михееву, или Олешко. Старик с сомнением покачал головой:
— Если только хозяйка моя знала… Я одну Верку помню. Погодите, если не спешно… Перегорит у нее, выйдет.
Вскоре появилась хозяйка, молча прошла в кухню и стала греметь кастрюлями. Старик подмигнул и тоже туда направился — и через некоторое время вернулся уже с супругой.
Подумав, хозяйка вспомнила Валю Олешко, как я описал ее. Она раза два или три была в этом доме. Но в отсутствие фон Барда. Последний раз Валя заходила в конце января сорок третьего года.
Она вошла, поздоровалась с хозяйкой и спросила, дома ли майор.
«Ну, чего спрашиваешь? Не видела?.. Только отъехал со своими мотоциклистами… Слышь, трещат… Покатил в Новоселки», — с явным неудовольствием отвечала хозяйка. «А когда его можно застать одного? — спросила Валя. — Мне поговорить нужно с ним по очень серьезному делу». «Серьезное дело!..» Гляди, как бы Верка тебе глаза не выцарапала…» — презрительно усмехнулась хозяйка. «Я по другому делу…» — вспыхнула девушка. «В ваши дела не встреваю. С кем, кто… Глаза б не смотрели!» «Варвара Ивановна, вы в бога верите?» — спросила вдруг девушка. «С чего это ты?.. Отстань! Не мотай душу!.. И без того тошно… Вон бог — вот порог. Ступай!» — «Так нам и надо. Да! Сами себе горло перегрызть готовы…» — «Сдурела ты?! Тихо. Услышат ведь… Миллер здесь…»
Послышался скрип лестницы. Валя бросилась к двери и столкнулась с входящим Миллером.
«Фрейлейн Валя? Вы здесь?» — удивленно спросил он. «Я к Варваре Ивановне зашла», — ответила Валя и выбежала вон..
В мозгу бьется один вопрос, и, дождавшись паузы, я спрашиваю:
— Варвара Ивановна… Вы точно помните, что Валя пришла к вам тотчас после отъезда майора?
— Ну, только отъехал!.. Не могла не видеть его… Вижу — юлит, хочет подластиться, потому и осерчала.
— Да, странно… Ну, а зачем, по-вашему, она приходила?
— Кто ее знает! По правде сказать, и желания не было за ихними б… следить, извините за выражение.
Итак, Валя побывала в резиденции шефа абвера в его отсутствие. Видно, она хотела что-то выспросить у хозяйки, но контакта не получилось.
Снова в кабинете Крестова.
Кабинет небольшой, окна зарешечены. Я примостился у круглого столика, где графин с водой. Крестов — за своим письменным столом. В углу массивный сейф. Когда мы уходим обедать, Сергей Васильевич запирает его со звоном и ставит печать на фанерку с мастикой. Порядок… Обычно мы часа два работаем, затем устраиваем пятиминутный перерыв. Потом снова за документы… К вечеру начинают болеть глаза. У следователя военных времен был скверный почерк — он совершенно не заботился о том, что потомкам придется изучать все это… А бумага паршивая, чернила выцвели… Казалось, все в наших руках: дела, документы, архивы — а поди извлеки суть. Многие факты нуждались в перепроверке…
Работать с Крестовым приятно, он, несомненно, прекрасно знает дело и человек кристальной честности. Но отнюдь не напоминает своих кинопрототипов, этаких следователей-добрячков, которые верят всем, в том числе преступникам. Нет… Однажды он пригласил меня на воскресный обед. Был какой-то праздник. Пришел и его старинный приятель, чуть подвыпивши. Крестов так жестко взглянул на беднягу, что тот помрачнел и молчал весь вечер.
«Г. майору фон Барду
Донесение
По вашему заданию побывали на торфопредприятии «Назия» для выяснения, почему возникла забастовка. Причины выяснены. Главной из них является введение телесных наказаний. За октябрь месяц были подвергнуты физическому избиению и унижению рабочие Саркисов И. В., Саложенков Е. Я., Кузнецов П. Я. (67 лет), Щекин И. Н. …Кузнецов несколько дней не мог встать с постели. Кроме того, рабочих периодически бил по лицу фельдфебель Адольф Крашке. Питание некачественное, мясные продукты отсутствуют. Сахар выделяют 50 гр в неделю. В результате возникло стихийное недовольство. Зачинщиков не было, т. к. при этих условиях забастовка была неизбежной.
В. Олешко, Е. Микерова».На донесении неясным почерком была наложена резолюция на немецком языке и четко выведена подпись: «Майор фон Бард». Я попытался разобрать его почерк.
— Не трудитесь! Есть перевод. Резолюция такова: «Факты возмутительные. Предлагаю сменить охрану». Что скажете?
— Смелые девки, написали правду.
— Кстати, от любого агентурного донесения всегда требуют правды. Оно же секретное, — сказал Крестов.
— Фашистам нужна была правда?
— Ведомству Геббельса она была не нужна, а Канарису, которому подчинялся фон Бард, пожалуй, нужна. Только я сомневаюсь, что в этом донесении — правда.
— Почему?
— В любой забастовке всегда есть зачинщики. Хотя бы один — он может выдвинуться стихийно, но он есть. И фон Бард не мог не знать этого.
— Что же означает его гуманная резолюция?
— Постой-ка… Где-то я видел еще один документ за его подписью. А вот… Но нет точного перевода.
Это был машинописный текст на хорошей бумаге с грифом абверкоманды. Смысл, который мне удалось уловить, был таков: фон Бард предлагал наложить взыскание на какого-то обер-лейтенанта за то, что тот, командуя расстрелом пятнадцати русских, допустил отступление от инструкции. Нарушение инструкции, по мнению фон Барда, выражалось в том, что (следовали пункты):
A. Расстрел производился в непосредственной близости от населенного пункта.
B. Глубина ямы не соответствовала стандарту (менее 3 м), в результате чего наутро могилу нашли разрытой и двое — видимо, раненые — не без помощи местного населения исчезли.
C. Сама процедура казни была растянута и не обеспечила «точного и оперативного выполнения задачи».
Далее майор подчеркивал, что в районе Лампова недопустимо использовать «псковский опыт», и требовал неукоснительного соблюдения инструкций.
— А здесь уже видно лицо фашиста, — сказал я, прочитав текст.
— Этот документ более гуманен, чем та резолюция. Чего требует шеф абвера? Уничтожить без лишних мучений, не закапывать в могилу живых. Альтернативы нет, расстрел предписан свыше. Это фон Бард принимает как должное. И разъясняет: стреляйте, но цирк — это уже лишнее, вредит делу.
Майор был политик, в отличие от садистов из полевой жандармерии, он рассуждал как специалист. Его резолюция на донесении тоже логична с его позиции: охрана, допустившая забастовку, должна быть сменена. «Занимаетесь глупостями, поркой, а надо стрелять», — логика оккупанта.
— Хорошо, ну а гестапо?
— Там были палачи… Суть системы. А то — военная разведка, специалисты на службе у фашизма. Это несколько иное… Они и не ладили между собой, абвер и гестапо. Этот майор был крепкий орешек, недаром за ним гонялась наша разведка. Но взять не смогли. Район штаба армии… Охрана, каратели. Местных партизан они быстро уничтожили, а те, кто остался, ушли в более глухие места, на Псковщину. Ну что, будем дальше копать?
Мы решили, что Крестов продолжит изучение архивных документов, а я тем временем съезжу в соседний город. У нас имелось два адреса. Меня это устраивало — я предпочитал иметь дело с живыми свидетелями.
На следующее утро я отправился в милицию г. Гатчина, чтоб уточнить адрес. Взглянув на мое удостоверение, девушка-сержант сказала:
— Я буду искать, а вы пока зайдите к нашему начальнику.
Он просил.
Пожилой подполковник долго рассматривал мои документы, затем вернул их с улыбкой, добавив, что все в порядке.
— Вы теперь намерены идти к Разутову?
— Да…
— Ну, будем знать… А лучше бы пойти с участковым уполномоченным — все спокойнее.
— А что вам известно о Разутове?
— Это бывший уголовник… После войны сидел. При аресте оказал сопротивление. Почти нигде не бывает. Сидит дома…
— Попробую все же один…
— Ну, как знаете… Выйдет скандал — пеняйте на себя.
К Разутову я поехал под вечер, чтобы уже наверняка застать дома. Нашел корпус, подъезд. Позвонил. Дверь открыл высокий мужчина лет пятидесяти, в гимнастерке, без ремня.
— Мне нужно видеть Разутова Семена Кондратьевича…
— Он самый.
Дверь в кухню открыта. Я вижу на столе две дымящиеся тарелки с супом, две, рюмки, бутылку водки. Пятница…
— У меня к вам будет вопрос.
Никакой реакции, кроме нетерпения и желания отделаться поскорей.
— Что за вопрос?
— Семен Кондратьевич, помогите, если можете, прояснить одно дело. Война. Плен. Тысяча девятьсот сорок второй год. Деревня Лампово. Помните?
Насторожился. Замер. И после долгой паузы сказал:
— Все помню. Так что же? Я свое отсидел. Десять лет. День в день — нам амнистии не было. Или что, решили все заново поднимать?
— В отношении вас — нет. Я пришел к вам лишь как к свидетелю тех событий…
— Так. Прошу в комнату.
И здесь был тот же сервант.
— Если не хотите, то о себе можете совсем не рассказывать. Но если вы знали Валю Михееву или Олешко — это одно и то же, расскажите о ней все, что помните…
На мгновение лицо его просветлело… Он закрыл его руками, опустил голову и сидел так с минуту. Заглянула жена. Видно, ее встревожила его поза.
— Сеня! — громко позвала она.
— Подожди там!.. Дверь затвори!.. — закричал он и замахал рукой.
Потом, немного придя в себя, сказал:
— Как на духу!.. Перед ней моей вины нет. Не я предал!
— Ее расстреляли? — поспешно спросил я.
Длинная пауза, недоумение во взгляде.
— По-моему, да…
— Когда?
— По-моему, весной сорок третьего года…
— А за что?
— В точности не знаю… Наверное, брякнула что-нибудь… Это она могла. На язык острая… Много-то и не надо было. Вражеская пропаганда! И — в расход. Я ее последний раз видел… да, в начале марта. Как раз они в автобус садились, сказали — на экскурсию. Я шел к ней, а автобус уже отъехал. Потом нас угнали до середины апреля. Я вернулся, их уже не было. Спрашивал — никто ничего не знает… Вначале думал, послали куда-либо.
— А до марта вы часто встречались с ней?
Он внимательно взглянул на меня, как бы испытывая, что известно и что неизвестно мне. Потом вдруг, видимо решившись, заговорил:
— Часто ли? Валя Олешко! Это лучшее, что было в моей жизни. Я… — Он опять замялся. — Да что уж теперь, жизнь прожита. Худо прожита, а винить некого — все сам… Покарали за дело. Слаб оказался… Жить захотел. Служил в охране. В карательных акциях не участвовал. Проверяли. Да вы ведь, верно, все знаете, раз пришли…
— Да. Повторяю, о себе можете не рассказывать.
— О ней?.. Вы извините… Я сейчас.
Он вышел из комнаты и быстро вернулся. По возбуждению и блеску глаз я понял, зачем он выходил.
— Такой разговор пошел… Любил я ее, потому и горит душа. Разворошили вы память воспоминаниями. Сорок второй, сорок третий — самая черная полоса в моей жизни. А что с Валей связано — все чисто. И сама она… Что ж, ей восемнадцать было ли… Красивая и с насмешкой… По-честному скажу, меня она не очень жаловала. И воспитания другого была. Я глядел на нее и забывал все — войну, оккупацию. Как сейчас слышу ее голос: «Что же это мы? Надо что-то делать… Они, гады, нарочно нас не расстреливают, чтобы сделать из нас предателей». Она мне верила. Им, девчатам, отвели избу. Вот они и жили там. Лена — это черненькая, высокая. Самая близкая подруга Вали. Валя с ней очень дружила. Потом Тоня, такая простая девчушка. Откровенная. Потом еще Дуся была. Вот я к ним заходил, бывало, вечером. Правда, она часто гоняла меня. Пил я… Душа требовала… Все же я в охране служил! Как же так, русский человек — и заодно с ними… Бывало, приду к девчатам под газом. Куражусь… Говорю: «Завтра подкараулю того майора — и положу». А Валя: «Никого ты не положишь, хотя б не трепался».
— Но мысли такие у вас все же были?
— Мысли всякие были… Только врать не стану — и не пытался…
— Как вы узнали, что Валя расстреляна? — спросил я.
— Так ведь… — Он вздохнул и покачал головой, как будто это все им было думано и передумано. — Был там, в Лампово, Клыков, пленный… Тоже сперва в лагерь попал, как и я… Завербовали… Этот Клыков мне сперва приглянулся… Что он делал, чем занимался, я не знал. Часто выезжал из Лампово. В мае сорок третьего как-то собрались, выпили. И Клыков был… Я и спросил его про Валю — мол, где девчонки. Он: «Кто-то стуканул на них… Я думал, ты знаешь». Вроде намекает, не я ли… Я схватил его за ворот: повтори, говорю. Вышла драка. Я посильнее был, он свалился, я его и ногами… В тот же вечер меня забрали в жандармерию. Я думал, расстреляют… Нет. Расценили как хулиганство — и в лагерь, под Таллин. Там у них уголовные лес заготовляли. И жизнь моя дурная. И к немцам не пристал, и к своим не пришел… Обидно стало! А за жизнь все же цеплялся! Зачем?
Он сидит опустив глаза. Вспоминает.
5. ТЕНЬ ПРЕДАТЕЛЯ
«Мария Константиновна Шутова. 1922 года рождения. Бывшая разведчица. Была заброшена вместе с группой на территорию противника. По непроверенным данным, добровольно сдалась в плен. Приняла участие в антифашистском заговоре. Расстреляна вместе с остальными, имена которых не установлены».
Этот документ Крестов зачитывает пожилой женщине. Она выглядит старше своих лет, выражение лица спокойное, усталое.
— Теперь вы знаете, как «добровольно» мы сдались в плен, — горько усмехнувшись, роняет она.
— Справка датирована сорок третьим годом, и, заметьте, есть оговорка: по непроверенным данным.
— Это я понимаю, но почему меня сочли расстрелянной, а Валю и Лену — нет? Случилось наоборот… Запутать, скомпрометировать мертвых? — спросила собеседница.
— Что ж, это тоже политика. С ее помощью иногда выводят из строя живых.
— Естественно, вас интересует, почему меня пощадили — я отделалась лишь ссылкой в концлагерь… Это может показаться странным и подозрительным.
— А как вы сами это объясняете? — спросил Крестов.
Женщина вздохнула, задумалась.
— Я сейчас вспоминаю допрос у Миллера. Он сказал: «Ты маленькая роль имела, мы знаем». А затем перечислил имена главных участников.
— Кого он назвал первым? — спросил я.
— Валю Олешко, — пожав плечами, отвечала женщина: это как не подлежало сомнению.
— А дальше?
— Лену Микерову, Тоню Петрову, Мишу Лебедева, Колю Букина, Дуню Фадееву и Валю Гусакову.
— О Лебедеве и Букине вы можете сказать что-нибудь подробнее? — попросил Крестов.
— Миша и Коля дружили. По-моему, студенты. Миша знал немецкий язык. Где-то в феврале, наверное, сорок третьего он встретил меня на улице и шепнул: «В Германии объявлен день траура. Фельдмаршалу Паулюсу каюк… Наши их взяли в клещи под Сталинградом». Лебедев был открытый парень, Коля все больше молчал.
— Скажите, а что все-таки вам было известно о группе сопротивления и какова была ваша роль?
Женщина задумалась — и отблески воспоминаний, как взгляд в себя, в свою душу, и горечь, и жалкая улыбка, как вздох, как слеза; и уверенность, удовлетворение, что хоть теперь, спустя столько лет, люди решили серьезно разобраться во всей этой истории, — все это вдруг отразилось на лице ее.
— С чего началось? Трудно даже сказать. Помню, Миллер нас собрал и стал укорять, что мы неактивно работаем, нет результатов. Валя встала и сказала: «Дайте нам рацию». «Зачем?» — спросил он. «А мы, как встретим партизан, сразу вам радируем», — ответила она. Миллер рассмеялся и сказал, что подумает. «Дело не в рации, главное — старание…» — добавил он. И потом она про рацию не раз говорила. А среди нас, четырех, — открыто; «Девчата, нам бы только рацию раздобыть, я знаю ключ».
— Но сам момент, когда вы согласились — ну, пусть формально — выполнять их задания… Как это было? — спросил я.
— Не было такого момента… Ну… Нет, сейчас это уже трудно понять. Ни подписок, ни клятв от нас не требовали. Выдали аусвайсы… Показали приказ по армии… по нашей армии, где нас объявляли предателями.
— Такого приказа нет и не было. Обманули вас, — заметил Крестов.
— Товарищи, поймите, ведь нам было по восемнадцать лет!.. И не у кого было спросить, что же делать. Веру назначили старшей. Лену Микерову — ее заместителем. Все ждали чего-то, какого-то избавления, но откуда, когда оно придет, не знали. Однажды Лена сказала мне, что готовится побег. Больше ничего не сказала. Но спросила, согласна ли я. Я ответила: да. Тогда она сказала: «Молчи и жди сигнала. Тебе скажут, когда и что нужно делать». И я ждала.
— Разговор с Микеровой у вас произошел когда?
— В середине января сорок третьего года. А третьего марта меня арестовали.
— Вспомните подробнее, какие события произошли между вашим первым разговором с Леной и арестом, — попросил Крестов.
— Мне запомнился лыжный поход в воскресенье… Где-то в двадцатых числах февраля, За день Лена предупредила меня: «Пойдешь с нами». Я спросила, что взять с собой. «Ничего. Рассчитывай день пробыть на морозе. Оденься соответственно». Из Лампова мы вышли часов в девять утра. С нами были все свободные от работы — Миша, Олег, Коля и девушки: Валя, Лена, Дуся и Тоня.
— Как вы вышли из деревни?
— Прямо через КП. Там дежурил Семен Разутов. Мы двинулись в сторону леса. Шли километров семь… Вела Валентина. Вышли к поляне. Здесь устроили привал… Валя сказала: «Ну что, поработаем?» И мы стали расчищать поляну от снега.
— Вы не спросили, зачем это нужно?
— Никто не спрашивал, и я молчала. Лопаты были уже там, на месте, — видно, кто-то заранее принес. Я подумала, что, может, немцы приказали… Вообще спрашивать было не принято. И работали часа четыре… Уже под конец я догадалась, что мы готовим взлетную полосу… Снег не сгребали в кучи, а разбрасывали.
— Откуда мог прийти самолет? Как и кто должен был вызвать его? — спросил я.
— Этого я не знаю… И сейчас не представляю себе.
— По дороге никаких разговоров не было? — спросил я.
— Ничего. Я про себя решила: кому надо — знают. Я буду беспрекословно слушать Лену — ведь она меня вовлекла. Но уже во время лыжного похода заметила, что все слушают Валю, подчиняются ей. Прошло еще несколько дней. В субботу, в конце февраля в общежитии, то есть в избе, где жили все мы, девушки, кроме Веры Андреевой, была устроена вечеринка. Собрались все наши, двенадцать человек… Опять никаких разговоров не было. Но знаете, по настроению чувствовалось…
— На вечеринке Семен Разутов был? — спросил я.
— Нет, его не было. Хотя он частенько у нас болтался… не без интереса… Все за Валей пытался ухаживать. Но, по-моему, безуспешно. На вечере Лена считалась за хозяйку… Кто-то, кажется Лебедев, притащил четверть самогона. Но часов до восьми никто не садился за стол. Ждали Валю, ее-то и не было вот! Именно ее ждали! Она пришла красная с мороза, запыхавшаяся, поправила занавески, подозвала Мишу, с ним перекинулась двумя-тремя фразами. Я только видела, как она вот этак ладонью перед лицом его помахала и сказала: «Нет, нет, Мишенька… И Коле скажи». Кивнула Лене и вместе с ней вышла в кухню. За ними и Миша… Но тут уж мы патефон завели… Вечеринка как вечеринка. Я еще подумала: а чего они делают там, на кухне, — все уже на столе… По тогдашним-то временам стол был богатый: винегрет, квашеная капуста… картошка вареная.
Вернулись они. Валя весело оглядела нас: «Ну что, проголодались? Давайте за стол…» Подошла, взяла сама бутыль с самогоном и поставила на окно: «Ничего, мальчики, обойдетесь, сегодня вредно». Никто ни слова не возразил. И все стали рассаживаться… В это время раздался стук. Валя насторожилась, что-то шепнула Лене и пошла отворять. «Мальчики, разливайте!» — быстро приказала Лена. Миша взял с окна бутыль и стал наливать в кружки, стаканы.
Вернулась Валя, и с ней вошел Клыков. Наши ребята молчат. Он, наверное, почувствовал неловкость… Говорит, зашел на огонек. А Лена ему: «Мы женатиков не приглашали… Гляди, Верка явится». «Не явится», — говорит. И как-то странно, напряженно улыбнулся.
Клыков жил отдельно со своей женой Верой Андреевой в избе у хозяйки. Я сейчас не вспомню ее фамилию — женщина лет сорока.
— Чихачева Клавдия Ильинична? — спросил Крестов. Как видно, день в Лампово прошел для него не зря.
— По-моему, да… Ее Ильиничной звали. Потом она куда-то исчезла — говорили, уехала, но слухи ходили разные. И про Верку говорили, что она ее выжила из ее же дома. Словом, этот первый момент неприятный прошел. Мы потеснились, и Клыков сел за стол. Я не знала, входит ли он в группу, собирается ли бежать с нами… Ко мне подсела Валя. Смеется, на Мишу показывает… Я не пойму, чего она смеется. Потом тихо шепнула: «Молчи!» — и отошла. Взяла гитару, запела…
Вдруг Клыков встал, попросил всех налить — мол, тост скажет. Все замолкли. И он стал говорить… Помню первую фразу: «Граждане! Русские люди… В честь чего тост наш? Мы где, в России или в Неметчине?» Все мы замерли… Он говорил не очень грамотно, но страстно, искренне… Странной по тем временам была его речь… Впрямую против немцев не говорил, но… за русскую землю, за русский народ. Про сожженные города… Помню, у меня даже слезы выступили… А Михаил Лебедев вскочил и говорит: «Предлагаю выпить стоя». Все разом поднялись, оживились… Потянулись с кружками к Клыкову. Миша напротив сидел. «Толя, ты — человек», — сказал он Клыкову. Скажу вам, что речь Клыкова на всех произвела впечатление… Разбередила души. Да! Он еще и про павших братьев сказал… Я от него никогда не слышала ничего подобного… Вообще-то он держался в стороне, нейтрально… Андреева, его жена, — в ней какая-то озлобленность была, может, оттого Клыкову и сочувствовали… И уйти от нее не мог — связан. И роль дурацкая — подставной муж любовницы майора фон Барда. Говорили, что майор очень заботился о своей репутации.
— Перед кем? — спросил я.
Женщина взглянула на меня с сомнением и, видно решившись, сказала:
— Там, знаете, среди штабных офицеров порядки строгие были. Я лично никого из них не видела пьяным… Внешне вежливы, даже корректны. Но сама атмосфера… Это трудно передать… Я все время ощущала на себе чей-то взгляд. Случалось, в Лампово пригоняли небольшие партии пленных… Их сортировали — Миллер, а иногда сам фон Бард… Четко, быстро, без проволочек… Отбирали двоих-троих, остальных увозили в черном фургоне… Но главное, что мы боялись друг друга… Выскочит слово неосторожное, ходишь и думаешь: сейчас возьмут. Несколько дней в Лампово пробыл один паренек… Не помню уже имя… Тоже пленный… Чего-то он пошутил насчет их приветствия «хайль!». Ходил и выбрасывал руку — дурачился или, может, думал: формально не придраться. Гитлера славит. Не больше трех дней был — исчез. Кто-то видел, как его, избитого, бросали в кузов… Увезли. И вот — речь Клыкова. Видно, у него наболело. Мы все так и поняли его тост. Ну, случилось, попали в плен, но ведь русские же! И воспитывались в наше время.
— Давай, Толя, выпьем с тобой вдвоем за дружбу, — Михаил обнял Клыкова.
— За дружбу — давай, — отвечал тот.
Стол отодвинули. Завели патефон, начались танцы. Впрочем, танцевали всего две пары, остальные как-то рассеялись по углам, слышался смех, кто-то затянул было «За землю, за волю…», но песня сразу оборвалась. Бутыль с самогоном куда-то исчезла — оставалось лишь то, что было недопито в стаканах. Очевидно, кто-то незримо направлял компанию. Все удерживалось как бы на грани дозволенного, и, если б в руках фон Барда оказалась пленка с записью этой вечеринки, он бы вряд ли смог к чему-либо придраться. И выпито было не так много.
Валя Олешко переходила от одних к другим. Нетерпение, лихорадочность владели ею. Появление Толи Клыкова нарушило ее планы: сегодня было назначено общее совещание участников созданной ею группы сопротивления, до сих пор вербовка в группу велась поодиночке, с соблюдением всех правил конспирации. Ставилась лишь одна задача: побег. Теперь же, когда до выполнения задуманного оставались считанные дни, она и Лена предполагали раскрыть весь план операции: нападение на резиденцию фон Барда, где хранились списки его агентуры, перехват самого майора у моста, когда он поедет на доклад к командующему, доставка его к вызванному на заранее подготовленную площадку самолету; те участники, которых не сможет взять самолет, попытаются пробиться в партизанский край, к Дедовичам. Детали плана нужно было обсудить сообща, скоординировать действия вооруженных групп и так далее.
— Меня тревожит неожиданный приход Клыкова, — озабоченно проговорила Валя.
— Это объяснимо. Верка пошла к фон Барду, он — к нам, — отвечала Лена.
Валя молчала, что-то взвешивая.
— Вообще-то он хороший парень, мы его из-за жены не допускали… А может, стоит? — спросила Лена.
— Теперь уже поздно. Сегодня нельзя, выпили. Это не разговор, я и Семена не посвятила… А послезавтра ты должна ехать к радистке. Дальше тянуть нельзя. Иди и разведи Мишку с Анатолием…. Но — дипломатично. Спора не допускай, а то Мишка от большого ума станет доказывать, что Клыков свой в доску. Ступай… Я за тобой, — распорядилась Валя.
…В то время как Лена появилась в комнате, Клыков и Лебедев вели такой разговор.
— Толя, мы с тобой выпили за дружбу, за нашу землю. Позволь мне задать тебе один вопрос, — говорил Михаил.
— Спрашивай.
— Толя, ты способен предать товарищей?
Клыков как-то странно вывернул шею, пододвинулся к собеседнику. Горько усмехнувшись, сказал:
— Я уже предал их, Михаил, как и ты. И мы все. Что же, нет? Кто мы такие, а? Нет, ты сам мне ответь!
А что Михаил мог ответить? В какой-то степени ответ Клыкова соответствовал его душевному состоянию, его сомнениям. Но он, Михаил, нашел выход. Может, он обязан подсказать этот же выход Клыкову? Надо же во что-то верить…
— Я не знаю, как тебя брали в плен. Меня так с воздуха, тепленьким, — сказал Лебедев.
— Ну, а меня взяли раненым, — вздохнул Клыков.
Михаил, подумав, сказал:
— Все мы здесь не по своей воле… я не про то говорю… Сейчас ты способен предать товарищей? — Лебедев особо подчеркнул слово «сейчас».
В этот момент к ним подсела Лена, ближайшая сподвижница Вали.
Лена Микерова выросла в московской интеллигентной семье, с первого же курса МВТУ имени Баумана добровольно ушла в армию. Потом другие курсы, заброска в тыл — тут их судьбы оказались схожими. Забрасывали их вместе, и перехват парашютистов фон Бардом явился тяжелым моральным ударом, особенно для Вали, с ее эмоциональностью и взрывным, кипучим характером. По дороге в Лампово Валю избили за выкрики, хотя было указание не применять жестоких приемов. Впрочем, то был удар для всех, как бы моральный крах, тем более болезненный, что сразу же была исключена сама возможность сопротивления. Валя и Лена готовились к пыткам и смерти. Но у майора фон Барда были иные, отличные от гестапо методы — он уже убедился в стойкости этого поколения, наблюдая, как мальчишки, девчонки восемнадцати-девятнадцати лет, с отрубленными пальцами и перебитыми позвоночниками, с кровавой пеной у рта, хрипели: «Да здравствует…»
…Лена вмешалась в разговор Клыкова с Лебедевым. Но приостановить разговор было нельзя. Собеседники отчасти уже связали себя взаимной откровенностью.
— Вот за жизнь говорим, — вздохнул Лебедев.
— Какая там жизнь, — горько усмехнулся Клыков. — Прислужники мы их режиму. Что ж тут темнить!..
— Мальчики, я вас прошу — без политики. Мы отдыхаем. С этим условием Миллер разрешил нам собраться, — сказала Лена.
— К черту Миллера, надоело все! — воскликнул Клыков.
— Дамское танго! — громко объявила Валя.
Лена встала, протянула Клыкову руку: «Анатолий!.. Приглашаю». Он обнял ее, и они вошли в круг танцующих.
— Лена… Если б я предложил вам бежать со мной… Вы бы… что сделали?
— Пошла бы к Миллеру… — улыбнулась она.
— Я серьезно.
— Толя, вы же умный парень… О чем вы говорите? Лампово окружено двойным кольцом… И вообще что за разговор?
— Тогда я один… Решусь или повешусь.
После танго Лена подошла к Вале и рассказала о предложении Клыкова. И от себя добавила, что, видимо, ему можно верить.
— В группе перехвата у нас явно не хватает парней… — сказала она.
— Уж тогда я предпочла бы Семена. Он хоть и пьяница, но предан нам, мы его уже проверяли. Нет, лучше ничего не будем менять. И скажи ребятам, что пора расходиться, — сказала Валя.
— Но было уже поздно: Миша Лебедев уже сообщил Клыкову, что существует подпольная группа сопротивления, и предложил ему вступить в нее. Клыков тотчас же дал согласие.
Валя, узнав об этом, сказала Лене:
— Ладно. Обратно не воротишь. Но надо подстраховаться. Ты поедешь на связь не второго, а первого марта и бери с собой Клыкова.
— Вот! Это кое-что проясняет, а? — Я подал Крестову найденный среди захваченных документов листок машинописного текста — это была копия письма фон Барда начальникам абверкоманды, отделениям гестапо, коменданту города Нарвы. Майор сообщал, что, по данным, в этом городе действует резидент советской разведки, имеющий рацию.
— Слушайте: «Мною раскрыта попытка установления связи русских военнопленных с указанной резидентурой. К сожалению, резидент не вышел на связника…»
— Дата? — спросил Крестов.
— Третьего марта сорок третьего…
— А, черт, все кружится вокруг этих чисел! Да, это уже кое-что… А то я, признаться, думал, что группа существовала лишь в воображении ее участников, — ответил Крестов.
— А взлетная полоса?
— Тоже воображение… Может, они каток там собирались устроить…
— Сергей Васильевич! Теперь надо искать нарвского резидента… И жив ли еще он!.. Это еще полгода.
— Ну нет, — решительно ответил Крестов, — здесь был порядок. Теперь слушайте вы… Это признание самого Клыкова: «Михаил Лебедев на вечеринке коротко рассказал мне о заговоре с целью выкрасть фон Барда и вывезти его через фронт на самолете. Я дал согласие вступить в организацию». Так что все сходится с показаниями вчерашней свидетельницы.
— А дальше? — спросил я.
— Надо искать… — вздохнул Крестов, — следователя главным образом интересовала не эта группа — о ней он побочно спрашивал. Ведь допрос велся в конце сорок третьего — война была в самом разгаре, до того ли. Отсюда масса неясностей.
— Но вы полагаете, что Клыков был искренен в своих показаниях?
— Думаю, что да… Но это еще ничего не значит: наутро он мог взвесить все на трезвую голову и забежать с доносом. Возможно, так и было.
К вечеру мы, вконец обалдевшие от чтения архивных дел, по крупицам собрали все то, что касалось группы сопротивления. Выстроилась примерно такая картина.
Утром 28 февраля Анатолий Клыков отправился к Миллеру и попросил у него увольнительную на трое суток. О заговоре он ничего не сказал. Это видно из всех его дальнейших действий.
— Цель поездки? — спросил Клыкова зондерфюрер.
— Мне надо купить очки.
— Проветритесь, — не глядя на собеседника, ответил Миллер и заполнил соответствующую графу. — Маршрут?
— В Нарву…
Миллер подписал удостоверение и отдал его Клыкову.
— И еще одна просьба, господин зондерфюрер. Отпустите со мной Лену Микерову, — потупясь, сказал Клыков.
— О, тайный роман! — улыбнулся Миллер.
— Господин зондерфюрер… Мне очень необходимо. Может, по возвращении я вам все объясню.
— Мне ничего не объясняй, я все понимай, — рассмеялся Миллер.
Миллеру, как и другим офицерам армейской контрразведки, не нравилось все возрастающее влияние фрау Веры на фон Барда. Возможно, Миллер ждал подходящего момента, чтобы проинформировать обо всем этом начальника штаба армии. Очевидно, поэтому он так легко выписал отпускное удостоверение Лене Микеровой.
Но теперь, когда все решилось, Клыковым овладели сомнения. Как-то все подозрительно просто и легко идет. Вступил в группу — пожалуйста, отпуск… А вдруг немцам что-либо уже известно об этой группе и за участниками установлена слежка? Что будет, если их возьмут в Нарве? Это уже конец. Правда, в беседе с Миллером Клыков вскользь бросил фразу: «По возвращении я вам все объясню». Миллер — профессионал и, конечно, отметил ее. В крайнем случае можно сослаться на ту фразу. Все равно спросят, почему сразу не сказал… От Миллера Клыков пошел на свою квартиру и там неожиданно застал жену — Веру Андрееву.
«Андреева В. Б., переводчица, бывшая студентка четвертого курса института иностранных языков, 1920 года рождения. Призвана в армию в августе 1941 года. Захвачена в плен в мае 1942 года. Дала согласие работать переводчицей, позже возглавляла женскую группу. Данные нуждаются в уточнении».
— Тебе привет от Миллера — был у него, брал увольнительную, — сообщил Клыков жене.
— Вон как?.. Куда же? — спросила Вера.
— Еду… За очками. Мои разбились.
— Прекрасно можешь обойтись без очков. Надолго?
— Дня на два… Еще не знаю, где их найду. Говорят, в Нарве есть оптика…
— А у меня для тебя новость — поедешь в Берлин… Возможно, на той неделе.
— Зачем?
— На курсы. Руководство отметило твои способности.
— Ну да!..
— Не скромничай. Язык подвешен, — холодно усмехнулась Вера.
— Ты поедешь тоже?
— Есть инструкция — направлять мужчин.
— Жаль… Вдвоем веселей бы…
— Ничего, перебьешься… Безмужних немок там сейчас хватает…
— Ну, уж так сразу и…
Анатолий боялся своей жены. Они поженились скоропалительно в конце июля, вскоре после того как оба попали в Лампово. Немцы превратили их свадьбу в пропагандистское мероприятие. Кинооператор снял момент, когда Миллер подносит подарки новобрачным. После плена и ужасов лагерной жизни — с похлебкой, поверками, номером на спине — такая перемена! И староста с хлебом-солью, и добродушные лица вчерашних врагов, и самогон — все это сильно подействовало на Клыкова. Он понимал, что за это надо платить, иначе снова окажешься за колючей проволокой.
— А надолго меня пошлют в Берлин? — спросил Анатолий.
— Курсы трехнедельные, дорога, так что практически — месяц.
Вера села к зеркалу. В шесть часов она должна была идти на урок к майору. Теперь уже Анатолий не испытывал ревности, и если бы не страх, то давно бы оставил жену. Он не любил ее. Но в то же время понимал, что благодаря ей он на особом положении. Однажды они втроем — Вера, фон Бард и Клыков — ездили в Таллин на машине. Это была приятная прогулка, с остановками в пути, коньяком и осмотром достопримечательностей; майор был любезен с Клыковым, а по отношению к Вере рыцарски вежлив. В Таллине они пошли в ресторан, там к ним присоединились два офицера — знакомые фон Барда. Один в черном мундире СС. Клыков выпил лишнее, и Вера во время танца велела ему уйти в свой номер: «Ты позоришь меня перед культурными людьми. Извинись и скажи, что тебе нездоровится». Были и еще увеселительные поездки, но непосредственный начальник Клыкова — Миллер относился к нему с иронией и, случалось, накануне очередной поездки посылал в наряд. Тем более странной кажется его сегодняшняя любезность — все понял, оформил, пожелал удачи… «Неужто знает?» — мучился Клыков.
…Затворив за Верой дверь, он сел к окну и задумался. Им вдруг овладели мрачные предчувствия. Из головы не выходил Миллер с его улыбкой и шуточками.
Даже о номере гостиницы позаботился. «Понятно, тоже люди, — размышлял Клыков, — он и сам бы не прочь». Анатолий метался… Им то вдруг овладевала уверенность, то приходил страх.
Он думал о поездке в Берлин, которая сулила всякие удовольствия. На курсы, он знал, посылают лучших агентов… И прием будет по первому классу. Баварское пиво, шнапс… Однако теперь, в связи с его участием в группе, все летит кувырком. «Хорошо бы как-то притормозить, смотаться в Берлин, а потом уже… Еще и лучше. Скажу, в их логове побывал, навру чего-нибудь».
…По улице прошел комендантский патруль, полицай вытянулся, отдал честь. Куда они? Или просто обход делают?..
Проехал майорский «мерседес». Пустой… За ним прошел грузовик, «черный фургон». Кого повезли? А почему сегодня против их дома полицай стоит? Вчера вроде не было.
Потом он принялся считать участников вечеринки, вспоминал имена… Много… Слишком большой круг. Неужели никто не стукнет? Хотя у них уже не первое собрание — значит, народ проверенный… А эта Валька… Кто ж мог подумать? С виду дурашливая девка, а она вон как взяла. Диктатор! Знала бы Верка, что творится в ее группе…
Эта мысль доставила Клыкову удовольствие.
Стемнело. Он по-прежнему сидел у окна, не зажигая света, так что ему было видно, что происходит на улице. И вдруг он заметил двух девушек из вчерашней компании. Одну из них он знал, ее звали Дарья. Клыков стал следить за ними… Девушки прошли мимо общежития и свернули к кладбищу. В панике он накинул полушубок, выбежал из избы и последовал за ними, надвинув шапку поглубже, чтоб не быть узнанным. Но девушки, очевидно заметили его и свернули в узкий проулок между дворами. Этот прием был известен ему. Клыков поднял воротник полушубка и как ни в чем не бывало проследовал мимо. И тоже вскоре свернул, спрятавшись за какой-то сарай, стал наблюдать, как те себя поведут. Минут через пять мимо него прошли те же двое, решив, видно, что отделались от хвоста. Выждав немного, Клыков вышел из-за сарая и глянул на дорогу. Две фигурки уже миновали последний на улице дом. Дальше было кладбище, а за ним три избы, где жили фон Бард, Миллер а другие офицеры из абверкоманды, Теперь сомнений быть не могло: раз они шли туда скрытно — значит, с доносом, Иначе — зачем? Он остановился. Била дрожь. Бежать и опередить их? Нет, уж все… Опоздал! Надо так, будто он ничего не знает, сам решил…
Неподалеку за околицей, был контрольный пункт с полевым телефоном. Туда и побежал Клыков. Он показал дежурному ефрейтору аусвайс и несколько раз повторил: «Миллер, Миллер», указывая на аппарат. Ефрейтор покрутил ручкой и попросил соединить с домом Миллера, доложил зондерфюреру о просьбе Клыкова. Затем передал ему трубку.
— Господин Миллер, это я, Клыков, — с возможным спокойствием начал Анатолий, — до отъезда мне крайне важно сообщить вам одно обстоятельство… Только вот открылось, буквально сейчас…
— Морген, морген, — весело сказал Миллер.
И Клыкову послышался женский голос. «Все, уже там, донесли», — решил он.
— Господин зондерфюрер! Дело срочное — заговор! — в отчаянии крикнул он в трубку.
— Приходить сюда, — помедлив, ответил Миллер.
Никаких девушек у Миллера не было. Зондерфюрер и гауптман Диц мирно ужинали На столе стояли консервы, стаканы, бутылка шнапса. Офицеры были явно недовольны вторжением Клыкова, нарушившим их беседу.
— Русский паника… Я даль такой отпуск с красивой фрейлейн, а все беспокоит, — встретил Клыкова Миллер.
И Анатолий понял, что промахнулся, но теперь уже отступать было нельзя. Слово «заговор» он произнес. Миллер ждал, не предлагая вошедшему сесть. И Клыков сжато изложил все то, что было ему известно о группе сопротивления. И с удовлетворением отметил, как вытянулись лица офицеров. Миллер взял трубку полевого аппарата, покрутил ручку и сказал лишь одно слово — «эрсте». И с полминуты ждал. Наконец «эрсте» ответил, и Миллер сказал насколько слов по-немецки. И положил трубку.
— Седайсь. Битте. Фюнфцен… Пятнадцать минутэн идем господин майор.
Зондерфюрер и гауптман переглянулись. И значение их улыбок, одинаково презрительных по отношению к слабости шефа в к глупейшему положению супруга, вынужденного ждать по известным причинам, было понятно Клыкову.
И здесь, сидя с офицерами, Клыков вновь испытал горечь разочарования. Миллер и Диц продолжали беседу, вовсе не обращая на него внимания. Хоть бы для вежливости шнапсу предложили. Ведь он им такое сообщил — кресты получат. Возмущение переполняло его: я же вам служу, сволочи, хоть бы «данке» сказали…
Миллер взглянул на часы, встал. И они пошли в соседний дом к майору. В комнате Анатолий ощутил знакомый ему запах французских духов. Клыков вновь повторил фон Барду то, что уже рассказал Миллеру.
— Кто руководит? — спросил майор.
— В точности не знаю… Но по всему — Валя Михеева-Олешко.
Затем ему дали лист бумаги, и он переписал всех участников вчерашней вечеринки.
— Что же они предполагали сделать со мной? — переспросил майор.
— Вывезти… при сопротивлении убить.
— Вы поступили правильно. Мы были уверены в вас, — четко и холодно произнес Бард.
— Что мне делать? — спросил Клыков.
— Вы предполагали совершить приятное путешествие с фрейлейн в Нарва. Поезжайте. По возвращении доложите. Идите. Вы сделали свой долг.
Клыков пошел домой, Свою жену он застал в тревоге и сборах.
— Ты куда? — спросил он.
— Не знаю. Прислали мотоциклиста и велели срочно с вещами явиться.
Андрееву майор встретил словами:
— Фрау Вера! Немедленно уезжайт командировку куда-нибудь, хотя Таллин три — пять дней. Мой шофер доставит вас к станции. В вашей группе — заговор. Если вы здесь, я обязан арестовать за недосмотр. Орднунг! Порядок!
Утром первого марта Клыков и Лена на попутной машине добрались до станции. До поезда оставался час. Лена была весела, шутила и нравилась ему все сильнее. Время от времени Клыков приглядывался к людям на станции, гадая, есть ли за ними слежка. Но никакого хвоста, видимо, не было. Подошел поезд. Они сели в полупустой вагон. В тамбуре курили двое немецких солдат — явно не агенты. В вагоне сидели две старушки, мужик мешочник, еще какая-то бедно одетая публика.
— Не ищи, никого нет, — шепнула Лева.
— Да, я тоже так думаю, — хмуро ответил Клыков, — но не исключено, что Миллер сообщил в Нарву о нашем приезде.
— Но ты же сам говоришь, что он с явным сочувствием отнесся к нашему путешествию, — улыбнулась Льна.
— Да, верно, Верку он ненавидит.
— А ты? — с улыбкой спросила она.
Клыков вздохнул.
— Не хочу думать о ней…
— А если ситуации сложится так, что нам придется ее устранить?
Вопрос был сложный — именно как вопрос, требующий ответа. Ибо, столкнись он с такой ситуацией в жизни, он без колебаний пристрелил бы собственную супругу, Не из ревности, а потому, что мешала… Но он понимал, что такой ответ произведет неблагоприятное впечатление на его спутницу. Для нее он был жертвой, стало быть, и дальше надо играть эту роль.
— В тупике я… Скорей сам себе пущу пулю в лоб… — ответил он после паузы.
— И сейчас в тупике?
— Сейчас? Сейчас я с тобой. С вами.
— Ну все, больше ни слова о делах. И место неподходящее. Расскажи о себе, Толя.
Поезд шел медленно. Анатолий умел рассказывать о себе. Лена внимательно его слушала. Особенно теплым сочувствием загорелись ее глаза, когда он заговорил о своей жизни в лагере… Здесь уж он был искренен до конца.
— Так, Леночка… Все у меня в жизни наперекосяк… — вздохнул Анатолий.
— Теперь у всех все так… Война, — сказала Лева.
— Война-то война, но в сам немало натворил дуростей, — отвечал Анатолий и вспомнил о своей вчерашней, последней. «Поторопился… Можно было бы и после поездки. А может, у них что и вышло бы… Тогда и прощение, и ордена», — подумал он. Теперь уже он и сам был не рад, что вызвал сочувствие девушки, которая ему нравилась. И он испытал вдруг забытое давно чувство — укоры совести. До сих пор, выполняя задания Миллера, Клыков тешил себя тем, что иного пути к спасению нет. Вначале задания были простые — прочесывали леса вместе с немцами, ходили в наряд на дежурство. Здесь ничего не требовалось, кроме пассивного выполнения приказа. Но в октябре Клыкова послали в единственную работавшую в округе школу с заданием прощупать настроения учителей. Его снабдили документами студента-практиканта. Он пробыл в школе недели две, тайно вел записи разговоров. Там он сблизился с молодой учительницей Натальей Сергеевной. Романтическая девушка приняла «независимые» высказывания Клыкова всерьез, а его самого — за советского разведчика. И даже написала ему восторженную записку.
В своем донесении Клыков вначале было пытался отделаться общими фразами о «патриотических настроениях». Но Миллер вернул ему бумагу и потребовал конкретных фактов — что именно говорила Наталья Сергеевна, когда, где. И агенту пришлось переписать свое донесение. А затем выступить в роли свидетеля. Вот где жуть-то была!..
…Ее ввели в подвал. Она взглянула в его сторону, узнала, и густые темные брови ее вскинулись вверх. Потом на лице застыла презрительная усмешка. Переводчик зачитал обвинение. Там были такие строчки:
«В разговоре с коллегами преподаватель литературы Воронцова Наталья Сергеевна высказала сомнения в победе германской армии. Она заявила, что русский народ изгонит захватчиков. Кроме того, Воронцова неодобрительно отозвалась о персоне фюрера».
— Вы признаете? — спросил переводчик.
— О Гитлере я ничего не говорила, — угрюмо отвечала учительница.
Это было правдой. Довесок с фюрером был на совести Клыкова. Но его же принудили!..
Офицер обернулся к стоящему в стороне Клыкову и жестом приказал сесть против обвиняемой. Он повиновался. Воронцова взглянула на него долгим, немигающим взглядом. И отвернулась.
— Отвечайте! — крикнул ей переводчик.
— Как всякий… гражданин, человек, любящий свою Родину, я не могла и не могу желать вашей победы… И сказала об этом…
Клыков облегченно вздохнул: сама призналась. Офицер улыбнулся и что-то сказал.
— Любить родину — это вовсе не преступление, мы, национал-социалисты, тоже любим свою родину и воюем за ее идеалы. Но мы не потерпим клеветы на германскую нацию и ее фюрера.
— Я повторяю, что ничего не говорила о Гитлере.
— Господин свидетель! — приказал переводчик.
Клыков покраснел, глаза его сузились.
— Да чего там!.. Говорила и про фюрера… Прикажете повторить? Но она нехорошее говорила… Я не осмелюсь… — сердито, с фальшивым пафосом воскликнул Клыков. Он боролся за себя.
— Холуй и доносчик, — тихо, но внятно произнесла Воронцова.
«Ну, и все! И к черту! Что я, виноват, что жизнь проклятая?..
Почему я должен быть битым? Ну, сволочь, ну, предатель, а вы хотите, чтоб мне ломали ребра?!» — думал теперь Клыков.
— Забудь обо всем, — мягко сказала Лена. Она по-своему объясняла перепады в настроении спутника.
Мы с Крестовым ждали приезда еще одной свидетельницы — некой Пахотиной В. Б., ей была послана повестка в далекий сибирский город. Два тома уголовного дела Клыкова были уже изучены, мы трудились над третьим.
«С л е д о в а т е л ь. Когда вы были посланы в Берлин?
К л ы к о в. В середине марта 1943 года, шестнадцатого или семнадцатого.
С л е д о в а т е л ь. Чем вы занимались в Берлине?
К л ы к о в. Слушали лекции об экономике советского строя и по географии… Где что расположено — заводы, промышленность…
С л е д о в а т е л ь. Еще какие лекции?
К л ы к о в. По железнодорожному транспорту. Знакомили со схемой дорог, узловыми станциями…
С л е д о в а т е л ь. Где вы жили?
К л ы к о в. Мы жили под Берлином. В самом Берлине были всего раз.
С л е д о в а т е л ь. У кого именно были?
К л ы к о в. Нам дали талоны в пивший бар… Всего по кружке и выпили. Потом началась тревога, и нам велели спуститься в бомбоубежище. Весь вечер там просидели.
С л е д о в а т е л ь. Вернемся к вашему побегу к партизанам. Почему вы предприняли его именно в сентябре сорок третьего?
К л ы к о в. Я давно собирался и ждал лишь подходящего случая. В сентябре меня послали проверить лесника, связан ли он с партизанами. Я решил, что это подходящий случай.
С л е д о в а т е л ь. Почему вы избрали отряд Калицкого?
К л ы к о в. Слава шла о нем, немцы его боялись.
С л е д о в а т е л ь. Расскажите подробнее о побеге — как вы готовились к нему, как удалось миновать посты, что видели по пути?»
Рассказ Клыкова о побеге занимает десятки страниц. Он называет села, мимо которых они шли, людей, которых встречали. И опять я не вдруг понял, зачем с такой дотошностью следователь расспрашивает обо всех этих деталях. Очевидно, и сам обвиняемый не догадывается о причине.
«Командиру партизанского отряда т. Калицкому
Комиссару отряда т. Седунину
Заявление
Прошу направить меня на самое опасное задание, чтоб я мог кровью смыть позорное пятно пребывания в плену.
А. Клыков».Но просьба эта, однако, не была удовлетворена: вскоре Клыкова и его супругу направляют на самолете через фронт на Большую землю. По приземлении они были арестованы. Кто-то предупредил партизан, но не Валя — она уже не могла это сделать Возможно, то был гость старика Трофимова, посещавший резиденцию фон Барда в его отсутствие. Так или иначе, но действия, точнее говоря, последствия действий неизвестного разведчика видны отчетливо. Почитаем продолжение допроса Клыкова. Следователя заинтересовала поездка обвиняемого в Нарву с Микеровой.
«С л е д о в а т е л ь. Куда вы направились, выйдя из гостиницы?
К л ы к о в. В оптическую мастерскую, там я приобрел очки.
С л е д о в а т е л ь. Потом?
К л ы к о в. Потом Лена повела меня на окраину — она сказала, что ей нужно встретиться с одним человеком. Мы подошли к дому у речки. Лена велела мне обождать и дальше пошла одна. Я ждал, наверное, с полчаса. Вернулась Лена в сообщила, что не застала нужного человека в придется прийти еще раз.
С л е д о в а т е л ь. Куда вы пошли затем?
К л ы к о в. Вернулись в гостиницу и зашли в ресторан пообедать.
С л е д о в а т е л ь. Лена вам сказала, что это за человек и зачем ей нужно с ним видеться?
К л ы к о в. Нет. Этого она мне не говорила.
С л е д о в а т е л ь. В ресторане вы сидели за столиком одни?
К л ы к о в. Вначале одни. Потом к нам подсел немецкий офицер.
С л е д о в а т е л ь. У вас был с ним какой-либо разговор?
К л ы к о в. Он плохо говорил по-русски. Он спросил, кто мы и откуда. Как было условлено, Лена ответила, что мы муж и жена. Он выпил за наше здоровье и вскоре ушел.
С л е д о в а т е л ь. Вы еще раз ходили к дому у речки?
К л ы к о в. Обязательно. Мы там были три раза. Последний раз Лена вернулась и сказала, что никак не может застать нужного человека. И мы остались на третьи сутки.
С л е д о в а т е л ь. Микерова так и не сказала вам, кого и зачем она ищет?
К л ы к о в. Нет.
С л е д о в а т е л ь. Вы знали, что ожидает вашу спутницу по возвращении в Лампово?
К л ы к о в. Откуда я мог знать?
С л е д о в а т е л ь. Вы категорически утверждаете, что ничего не знали о готовящейся подпольной группе участи?
К л ы к о в. Ничего я не знал.
С л е д о в а т е л ь. Хорошо. Вам сейчас будет устроена очная ставка.
Далее допрос ведется в присутствии гражданки Андреевой.
С л е д о в а т е л ь. Гражданка Андреева, вам известно, кто предал подпольную группу сопротивления?
А н д р е е в а. Известно. Предал Клыков.
С л е д о в а т е л ь. Клыков Анатолий Евграфович ваш муж?
А н д р е е в а. Мы с ним ее регистрировались.
С л е д о в а т е л ь. Как вам стало известно о том, что именно Клыков предал группу?
А н д р е е в а. Мне сказал об этом фон Бард.
К л ы к о в. Врешь! Ты лучше расскажи, как по вечерам к нему ходила «давать уроки».
С л е д о в а т е л ь. Вам будет предоставлена возможность высказаться. Продолжайте, Андреева.
А н д р е е в а. Немцам все было известно. Поэтому, когда Клыков и Микерова вернулись в Лампово, Микерову сразу арестовали, а ты, Клыков, пришел домой и напился Надеюсь, этого ты не будешь отрицать?
К л ы к о в. Ну-ну! Это она из ревности, гражданин следователь…
А н д р е е в а. Дурак…
С л е д о в а т е л ь. Попрошу ближе к делу. Расскажите о вашем совместном побеге к партизанам.
А н д р е е в а. Побега как такового не было. Фон Бард и Миллер знали, что мы «бежим». Клыков, я тебе напомню один факт: когда мы ушли из Лампово и остановились в деревне Сяглицы…
К л ы к о в. Ну…
А н д р е е в а. Ты говорил с унтер офицером в сказал ему, чтоб они не действовали в этом районе, так как у тебя задание связаться с партизанами. И он ответил: «Гут, гут. Их вайс». Он был уже предупрежден Миллером.
К л ы к о в. Наивной девочкой теперь прикидываешься. Сама же…
С л е д о в а т е л ь. Клыков, вы потом скажете.
К л ы к о в. А мне все равно. Это я там боялся смерти, а здесь не боюсь.
С л е д о в а т е л ь. Тем лучше. Андреева, продолжайте!..»
…В тот день я немного запоздал в пришел к Крестову, когда он уже беседовал с новой свидетельницей. Издали она показалась мне совсем молодой женщиной, и, лишь познакомившись с ней, вглядевшись в ее лицо с морщинками у глаз, я понял, что она могла быть участницей войны.
— Галина Дмитриевна Кудинова, — представилась она. — Да… Поздно, поздно заинтересовались, вот бы год назад… Еще был жив Григорий Лукьянович… Он больше меня знал.
— Так вы всю войну работали в Нарве? — спросил Крестов.
— Нет, сорок второй и сорок третий год. Затем по приказу из центра нашу точку перевели в Таллин. Потом дальше… Мы все время находились впереди наших войск на полтораста — двести километров.
Крестов положил перед Галиной Дмитриевной несколько фотографий. Она кивнула и стала рассматривать их. Затем, указав на фотографию Вали, сказала:
— По-моему, эта девушка бывала у нас… Ее звали Валя, ходила под легендой ремесленницы. Первый раз была в начале сорок второго года… Да… Григорий Лукьянович куда-то вышел. Я осталась одна… Тоже девчонка, неопытная… Хоть он и предупредил, что могут прийти, и пароль был мною затвержен, но когда я открыла, а она мне: «Дяденька…» — я растерялась. Потом сообразила, конечно… Познакомились. Пришел Григорий Лукьянович, и мы зашифровали ее донесение для передачи нашим… Переночевала она у нас… И ушла… И явилась снова в начале сорок третьего…. На ту же квартиру. Я узнала ее… «Галенька, пусти», — говорит. Я впустила, жду условного пароля, а она молчит. Я решила не признаваться.
«Вам какую Галю?» — спрашиваю ее. Она опустилась на скамью, закрыла голову, шепчет: «Делайте, что хотите… Я все нарушила, одно поверьте, — за мной хвоста нет, два часа кружила по улицам». Из комнаты вышел Григорий Лукьянович, он имел легальное положение. Видит, такое дело. «А ну-ка, девка, документы, говорит, а то в полицию отведу. Там тогда навертят хвоста!..» Он решил, что она провоцирует. Такой вариант был предусмотрен инструкцией. «Вот мой документ», — говорит. И показывает аусвайс. Он взял посмотрел «И чего тебе надо?» — спрашивает. Она взглянула исподлобья и вдруг брякнула: «Мне надо связаться с Корзуном…» Это был общий шеф наш. Григорий Лукьянович твердит свое: «Вставай, пошли в полицию, там тебя свяжут с кем надо», — и ее за плечо, А она: «Дяденька, дайте попить…» Это был старый пароль Он повернулся ко мне и говорит: «Дуй в полицию… Я ее попридержу здесь. Шляются всякие!» Это означало, что я должна выйти из дома и произвести осмотр. В случае если обнаружу наблюдение за домом, бежать в полицию. Там был свой человек. Если ничего подозрительного не замечу, вызвать связного подпольщика, поставить его у дома и передать ему гостя, как выйдет. К тому времени Григорий Лукьянович должен будет решить, что делать дальше…
— Ну, например? — спросил я.
Крестов и Галина Дмитриевна переглянулись.
— Действовать по инструкции, — улыбнулась она. — Ну, я вышла на улицу. Дом стоял на окраине, все насквозь видно… Я с полчаса походила, ничего подозрительного не заметила Потом вызвала связника. Возвращаюсь. Вижу, картина другая. Чай пьют… Я даже удивилась — Григорий Лукьянович был очень осторожен. А тут прямое нарушение всех правил конспирации. «Где ж полицай?» — спрашивает он меня. А Валя сидит — и никакого внимания: грызет сухарь и голову опустила.
— Но он поверил ей?
— Да. Пошли на риск, за что получили головомойку… Связника вскоре я отпустила, а Валя осталась у нас и уехала с утренним поездом. А вечером следующего дня Григорий Лукьянович дал мне зашифровать для передачи по рации примерно такой текст… что связник неизвестной подпольной организации в Лампово предлагает план похищения фон Барда. По словам связника, имеется вооруженная группа, двенадцать или пятнадцать человек, не помню точно… дислоцируется по соседству с резиденцией абвера. Группа готова принять самолет на заранее подготовленную площадку в лесу близ Лампова. Были еще какие-то детали плана. Я зашифровала и в очередной сеанс передала в центр. В ответ получили радиограмму: «Запрещаю вступать в переговоры. Опасайтесь провокации». Но в следующем сеансе уже новый текст: «Сообщите соображения о реальности предложенного плана. Фигура крайне заманчивая. Опасайтесь провокации». Очевидно, дошло до начальства. И Григорий Лукьянович послал связника в Лампово. Какова была задача, я не знаю. Не принято было интересоваться тем, что прямо тебя не касается. После возвращения связника я передала сообщение, подтверждающее существование группы, и схему ежедневного маршрута начальника отделения абвера. Знаю, что мы кого-то ждали в Лампово… Но кончилось это едва не трагически… Центр приказал нам немедленно сменить квартиру и перейти на нелегальное положение. Радиосеансы также были прекращены на несколько суток. Помню, Григорий Лукьянович что-то говорил потом, что группа раскрыта и абвер подставил своего связника.
— Но как он об этом узнал? Кто предупредил? — вырвалось у меня.
— Очевидно, был сигнал… Вот я же говорила — вы чуть опоздали, — он, конечно, знал все. Так и не удалось выкрасть господина фон Барда… Впрочем, с ним все-таки покончили…
— Как? Кто?
— Этого не могу сказать, но точно помню, что передавала сообщение о его гибели. Возможно, партизаны…
Когда Галина Дмитриевна ушла, я задумался, сравнивая ее судьбу с Валиной. Ровесницы, обе радистки, пошли на фронт добровольно, обе были в тылу врага, но сколь различны их судьбы!..
— Сергей Васильевич, а что — Кудинова имеет награды, не интересовались? — спросил я.
— Она звание Героя имеет…
— Итак, после войны вы сменили фамилию? — спросил Крестов последнюю из вызванных свидетельниц.
Не вид ей не более сорока. Но по документам она числилась 1920 года рождения Дородная фигура, лицо румяное, полное.
— Я вышла замуж за Пахотина.
— Вы знаете, зачем мы пригласили вас?
— Могу предположить…
— Нас, в частности, интересует Валентина Олешко. Ее судьба. Что бы вы могли рассказать о ней?
— Я уже давала показания в сорок четвертом году… Олешко ничем не выделялась, выполняла задания, как в мы все.
— Какие именно?
— Сейчас уже не вспомню… Там было что-то связано с забастовкой торфяников. Ее посылали выяснять.
— Этот факт нам известен. Еще?
— Ходила в лес искать партизан. Но, как в все мы, старалась избегать встреч. Не стану ее оговаривать… Конкретные факты мне лично неизвестны.
— Но если бы они были, то вы, как старшая в группе, видимо, знали бы об этом?
— Очевидно.
— Кому вы докладывали о работе группы?
— Я понимаю ваш вопрос… Вас интересуют мои отношения с майором фон Бардом… Да, я использовала его симпатию ко мне на благо общего дела. Мое истинное отношение к нему я доказала позднее…
Все это было сказано спокойно, сдержанно, даже с некоторым достоинством.
— Извините, но ваши отношения с фон Бардом нас не интересуют, — сказал Крестов. — Когда вам стало известно о заговоре?
— Я о нем ничего не знала… Вы спросите, почему меня не вовлекли в него? Меня ненавидели, да. И я сознательно старалась вызвать ненависть к себе, чтобы заслужить доверие абвера.
— Повторяю вопрос: когда вам стало известно о заговоре?
— Когда все участники его были уже арестованы. Я ездила в командировку в Таллин.
— До отъезда в Таллин вы ничего не знали о заговоре?
Здесь впервые она заколебалась с ответом. Но решила сказать правду.
— …Я узнала буквально за пять минут до отъезда. Машина ждала меня, так что я все равно не смогла бы никого предупредить.
— От кого вы узнали о заговоре?
— От фон Барда. Он пересказал мне донос Клыкова.
— Как он реагировал?
— Он был встревожен. Сам факт заговора внутри абверкоманды мог сказаться на его карьере. Ведь он ставил организацию русской группы себе в заслугу, подавал рапорты.
— Но все-таки вы, после того как узнали о заговоре в группе, могли как-то подать знак? — спросил я.
— Я же не знала всех участников. То есть я могла лишь предполагать. Я чувствовала настроение Микеровой, Олешко… Но даже если б мне удалось встретить их за эти пять — десять минут, они бы не поверили мне — сочли, что я их провоцирую.
— Вы вернулись из Таллина. Вас повезли в жандармерию. Кто вас повез?
— Майор фон Бард.
…Допрос продолжался. Вначале его вели в камерах-одиночках. Затем всех согнали в полуподвальное помещение, впрочем, довольно просторное, и расставили лицом к стенам. Посредине стоял стол следователя, тут же находилось несколько гестаповцев в черных рубахах без ремней. Время от времени из какого нибудь угла доносился сдавленный крик… От Микеровой добивались ответа, кто ее послал в Нарву; она объясняла свою поездку предложением Клыкова. Тогда ввели его как свидетеля, и он тут же на очной ставке дал показания и даже начал было в чем-то оправдываться, но, заметив, что он сильно пьян, гестаповцы вытолкали его за дверь.
— Ну, полюбуйся на свой фрейлейн! — сказал фон Бард, введя Веру в помещение.
И Вера по очереди обходила всех и спрашивала Лишь одна из девушек расплакалась и сказала, что она ничего не знала толком, была лишь одна болтовня. «Ведь правда ничего серьезного не было — выпили, наговорили глупостей?» — спросила Вера Андреева Валю. Так же, как и фон Бард, Андреева была заинтересована в том, чтобы принизить значение всей этой истории.
— Их били? — спросил Крестов Пахотину.
— При мне уже нет. Олешко решила взять все на себя и призналась в том, что она направила в Нарву Микерову. Но к кому и зачем — говорить отказалась. Я слышала, что она писала майору письмо, где, ссылаясь на параграф из устава: «За действия солдат отвечает их командир», брала всю ответственность на себя. Но письмо это не было предъявлено при допросе.
— Как вел себя фон Бард?
— Он подошел к Вале. Правая рука у нее была перебита, висела плетью. Стояла с трудом, покачиваясь. Майор распорядился, и ей дали чашку кофе. Потом он сказал: «Я считал вас фрейлейн, а вы солдат, командир… Полное раскаяние — жизнь. Согласны?». Она тихо ответила: «Нет!». Затем он сказал ей, но громко, чтоб слышали все: «Вам не удалось и не могло удаваться… Но — попытка! Смысл? Советская разведка давно вас ищет как предателей. Здесь вы пользовались свободой». «Свободой быть вашими холуями, это вы называете свободой», — перебила его Валя. Майор тотчас отошел от нее и, обретясь к следователю, заговорил с ним по-немецки. Смысл был таков, что допрашивать, пытать — бесполезно. Они ничего не знают… и вообще это были лишь одни разговоры. Но для примера следует наказать. Потом он обошел всех и спрашивал каждого: «Раскаиваетесь?». Тех, кто раскаялся, отделили. А семерых — Валю, Лену. Мишу, Колю, Тоню, Дуню и еще кого-то — тут же вывели на берег и расстреляли.
— Откуда вам известно, что расстреляли?
— Мне приказано было присутствовать… при казни…
Я спросил, как вели себя приговоренные.
— Темно было… И в глазах темно. Кончили быстро… Никто не крикнул.
Затем Крестов стал расспрашивать Пахотину об Анатолии Клыкове.
— Чем занимался Клыков после возвращения из Берлина?
— Он был назначен командиром отряда карателей, прочесывали лес…
— Его отряд принимал участие в расстреле у Железной Горки?
— Да.
…Вот он, этот домик — Партизанская, 41… Странный, как бы наполовину обрубленный. На улицу — глухая стена. Я вошел в калитку. Крыльцо, видно, новое, свежевыструганные доски — значит, кто-то заботится. Постучал. Дверь отворила молодая женщина.
— Галину Семеновну можно видеть? — спросил я.
— Хозяйку-то прежнюю? Померла.
— Давно?
— Недавно. Мы полгода, как въехали… Дом-то пустой остался, одна жила… Да вы кто будете, родственник?
— А зайти в дом можно?
— Чего ж нельзя… Заходите! Пожалуйста.
Домик-то небольшой, кухня да комната… Здесь, стало быть, прошло Валино детство, вершились надежды, мечты. «Тройка, семерка, туз…»
— …А хозяйку-то саму схоронили на кладбище, где велела. Рассказывают, все про дочь спрашивала. Дочь-то ее пропала в плену. Сколько лет прошло, а ждала… И померла с ее письмом в руках, — говорит новая хозяйка дома.
…Повидал я кое-кого из Валиных одноклассников. Теперь им под пятьдесят… Многие не вернулись с войны. А после поехал в деревню Плотаву, где жили Валины родственники. Разбросанная по косогору алтайская деревушка утонула в снегах. Стоял декабрь… Надолго же затянулось наше следствие!
Я постучал в избу у околицы. Отворил пожилой высокий мужчина и, узнав о причине приезда, заволновался, пригласил в комнаты. Первое, что мне бросилось в глаза, это грамота в рамке на стене — благодарность Верховного Главнокомандующего. И передо мной, слегка горбясь, стоял старый солдат — тот самый, чья фотография висела под грамотой, только на том молодом веселом лице не было резких морщин и складок… Так ведь тридцать лет, почти треть века минуло!
Он был дома один, жена куда-то ушла по хозяйству.
— Значит, вы ее дядя?
— Родной! Как же! Валька! Эх, Галина не дожила…
Он снова засуетился, стал что-то искать в шкафу и наконец вытащил пачку пожелтевших листков — письма племянницы, которые теперь, после смерти Галины Семеновны, перекочевали к нему.
Он слушал мой рассказ, понурив голову и подперев ее большой тяжелой рукой, не перебивая вопросами и как бы отрешившись от всего преходящего. И крупные слезы текли по лицу старика.
Пришла хозяйка, узнала, с чем я приехал, тоже расплакалась, потом побежала по другим родственникам и знакомым, жившим в этой деревне, с радостной вестью: отыскался след Вали — не продалась девчонка фашистам, не улизнула с ними на Запад, не скрывается под чужой фамилией… Погибла как солдат.
К избе со всех концов деревни спешили люди.
Обратно я возвращался в Барнаул через Алейск. И прошел пешком путь от домика на Партизанской до станции. По этой дороге когда-то бежала девушка в гимнастерке. От станции к дому, чтобы обнять маму в последний раз и крикнуть «прощай»; от дома к станции, чтобы уехать с эшелоном на фронт и уже никогда не вернуться.
Бежит-бежит девушка в гимнастерке, спешит-спешит она на свой эшелон. Успела, вскочила, махнула рукой — прощайте, братья! И эшелон тронулся. Все быстрей ускоряет он ход, все громче стучат на стыках колеса, а из вагонов несется песня: «Вставай, страна огромная!..».
Встала страна. Вот лица ее молодых сыновей, дочерей… Спешите запомнить их… Многих вы уже никогда не увидите, и гибель их падет тяжелым камнем на душу. Стучит сердце. Стучат колеса, уходит вдаль эшелон!..
Бежит-бежит девушка в гимнастерке, спешит-спешит она на свой эшелон, умчавшийся в вечность.
1974—1983 гг.
ЗВЕЗДЫ ДЛЯ МАТЕРЕЙ
Разговоры сорок пятого года:
— Привет! Как? Откуда?
— Откуда все! Из армии… Вот демобилизовался. Теперь на гражданку.
Через пять лет:
— Здорово! Кажется, вместе служили?
— Было такое… Ну, что, как?
— Да так все… Дела житейские, заботы…
— Это точно. Ну, бывай!..
В те годы понятая «участник войны» в современном смысле не существовало — все воевали. Это было обыденно.
А сейчас, тридцать восемь лет спустя? Встретить однополчанина — событие, которого ждешь… Если еще осталось кого ждать.
Пройден круг. Редеют наши ряды. И скромный значок участника Великой Отечественной войны куда как поднялся в значении своем. Его носят, потому что все меньше в меньше тех, кто вправе носить его.
Законом определены льготы ветеранам. И хотя в иной очереди в магазине или парикмахерской непременно найдется зануда, который при виде предъявившего удостоверение инвалида войны проворчит: «Ходют тут…» — поддержки он не найдет. Отношение нового, современного общества (про общество восьмидесятых годов можно сказать, что оно новое по сравнению с обществом сороковых годов) к участникам войны устойчиво, неизменно. И в чувствах, и в тысячах и тысячах обелисков на полях и дорогах страны.
Строг и печален облик Матери-Родины на Пискаревском кладбище в Ленинграде. В тихой скорби простерла она руки над бесконечными гробницами своих сыновей и дочерей…
Трудней всего было им, матерям погибших. И поныне живы матери, которым судьба уготовила тяжкую участь — на десятилетия пережить гибель, быть может, единственного сына или дочери.
В Москве на Ново-Басманной улице живет Екатерина Уваровна Давидюк. Ей под восемьдесят. У нее ясный ум и добрый, отзывчивый характер…
В мартовских номерах «Известий» за 1969 год была опубликована документальная повесть «За три часа до рассвета», написанная по архивным документам и донесениям командира разведцентра в тылу врага, Героя Советского Союза майора Кузьмы Гнедаша. Донесения эти шифровала и передавала оттуда радистка Клара Давидюк, московская комсомолка, ушедшая добровольцем в армию в семнадцать лет. Все годы в тылу врага она была рядом со своим командиром и вместе с ним приняла смерть, чтоб не попасть в плен к фашистам, окружившим их в Западной Белоруссии в 1944 г.
В газетной спешке, увлеченный материалами, открывавшими новую героическую страницу войны, я как-то упустил этот адрес: Ново-Басманная, 12, квартира 5… Но после того, как материал и портреты героев появились в газете, мать Клары, Екатерина Уваровна, сама отыскала меня по телефону.
Мы встретились, она рассказала мне о детстве Клары, и с тех пор я стал бывать на Ново-Басманной. То была большая московская коммунальная квартира, где Екатерина Уваровна вместе с мужем поселилась еще в 1923 году. Здесь и родилась у них дочь Клара И теперь в этой комнате все так, как было при Кларе. Только на стене появился большой ее портрет и под ним на подушечке награда дочери — орден Отечественной войны I степени. А еще она была награждена орденом Красной Звезды. В восемнадцать лет, в то время… Конечно, никакая награда не заменит дочь, но для матери важно, что Родина оценила заслуги Клары, так же, как и то, что смерть дочери была осмысленна…
Здесь же, в этой комнате, в 1960 году скончался Трофим Степанович, отец Клары. В войну его, инженера-путейца, не отпустили на фронт, несмотря на просьбы, — это был крупный специалист, одним из первых в стране получивший звание «Почетный железнодорожник». Перед ноябрьскими праздниками 1944 года на Ново-Басманную пришла «похоронка», а вслед ей большое письмо от командования. В нем выражалась благодарность родителям за то, что они воспитали такую дочь. Указывалось и место гибели Клары…
Тогда же Трофим Степанович и Екатерина Уваровна поехали в Западную Белоруссию, которая была уже освобождена от захватчиков. Могила Клары и Гнедаша находилась в лесу, близ города Слонима. По разрешению городских властей родители произвели перезахоронение тела дочери и того, с кем погибла она. Им предложили и место для захоронения героев — на центральной площади Слонима. Ныне у могилы — Вечный огонь. Каждый год в День Победы Екатерина Уваровна устраивает скромный прием — в память о Кларе. Приходят немногие друзья молодости Екатерины Уваровны, соседи, помнившие Клару еще маленькой девочкой…
В конце шестидесятых — начале семидесятых годов в квартире на Ново-Басманной еще жили люди, знавшие Клару. Они с особым участием относились к ее матери. Но к началу восьмидесятых годов состав жильцов коммунальной квартиры сменился: кто-то умер, кто-то получил отдельное жилье и выехал. Появился народ самый разный, в том числе прописанные по лимиту. Один из жильцов завел у себя в комнате нечто вроде притона. Начались пьянки. В квартире появилась двадцатилетняя гражданка Чудаева, хамившая всем напропалую. Прежняя атмосфера квартиры с добрыми традициями взаимной помощи и уважения рушилась. Из передней неслась брань. «Хоть из комнаты не выходи… — говорила Екатерина Уваровна, — никогда не думала, что доживу до такого…»
Дожила… Однажды я застал ее в слезах: девица очередной раз нахамила Екатерине Уваровне и пригрозила: «Ты меня еще попомнишь!»
Отчего же исполком Бауманского районного Совета народных депутатов г. Москвы, точнее, его управление по учету и распределению жилья так формально заселяет эту квартиру, не думая о матери погибшей героини?
«Никто не забыт, и ничто не забыто» — это ведь не только слова. Но и дела. И участие…
Больше десятка лет прошло после публикации в «Известиях», а Екатерине Уваровне до сих пор идут письма со всей страны, особенно с Украины и Белоруссии. В зимние каникулы и летом к ней приезжают пионеры из Киева и Чернигова, Слонима и Остера, из села Салогубовки Сумской области, где родился Герой Советского Союза К. Гнедаш и где сейчас находятся школа и музей его имени. Екатерине Уваровне не всегда даже ловко принимать гостей в чересчур уж «шумной» квартире.
Могла ли помыслить семнадцатилетняя Клара, надевая военную шинель, что фотография ее в этой самой шинели будет висеть в музеях Чернигова, Остра и Слонима, что именем ее, Клары Давидюк, и ее командира Гнедаша будут названы улицы в этих городах и сотни пионерских дружин в школах страны, что спустя много-много лет в дом, где она жила, придут люди с кинокамерами и будут снимать двор и коридоры ее квартиры только потому, что здесь жила она, Клара, что выйдет документальный фильм о ней и будет написана книга, что комсомольцы Московского комбината имени Щербакова примут решение отработать сверхурочно 10 тысяч часов, чтобы собрать средства на увековечение ее, Клары, памяти.
Не могла она представить себе этого, как наверняка и того, что мама ее будет страдать от обид грубых людей, вопрошая: «За таких ли погибла моя Кларочка?»
Не за таких, это ясно. Меня другое беспокоит. Возьмем тот же благородный порыв комсомольцев Щербаковского комбината. Хорошее задумали дело, отработали сверхурочно, и что же в конце концов вышло? Я, признаться, долгое время думал, что деньги израсходованы на какое-то доброе дело… Но время шло, Екатерина Уваровна молчала. И тогда я решил позвонить в комитет комсомола комбината. Нынешний секретарь Ольга Тарасова ничего о том почине не знает.
— У вас есть желание разобраться? — спрашиваю.
— Я могу узнать у нашей бухгалтерии.
Звоню через несколько дней.
— Я интересовалась. В бухгалтерии ничего не отражено и денег никаких нет.
— Кто до вас был в комитете?
— Королева здесь долго работала… Она сейчас в райкоме.
Звоню в Куйбышевский райком партии, Королевой. Напоминаю о читательской конференции, прошедшей на комбинате в 1971 году, о решении комсомольцев.
— Как же! Я все помню. Что вы?! Мы выполнили свое слово, отработали тогда же на Куйбышевской овощной базе субботники, воскресники… Много работали.
— А что с заработанными вами деньгами?..
— Видите ли, директор овощной базы Воробьев тогда сказал нам: «Дайте номер вашего счета, и я переведу вам столько, сколько нужно». Но тогда у комитета комсомола не было своего счета…
— Что ж, деньги так и остались на базе?
— Наверное… Мы не получали ничего. Это точно.
Грустно все это слышать. Есть ведь дела, которые просто невозможно не доводить до конца.
…Горит свет «в окне на Малой Бронной, в окне на Моховой». И на Ново-Басманной — в одной из комнат пятой квартиры двенадцатого дома. Таких людей, как ее хозяйка, осталось немного. Они, как правило, никого и ничего уже не ждут. Но это наш долг, наша обязанность — окружить их заботой, причем навсегда, а не от случая к случаю. Не только ради них, но и ради того, чтобы принцип «никто не забыт, и ничто не забыто» действительно оставался частью нашего сознания, чтобы новые поколения — соучаствуя — воочию убеждались, что принесенные во имя великого дела жертвы не забываются.
Это касается вообще любого благородного поступка, будь то на ратном поле или в труде. Между тем порой срабатывает принцип некоего «усреднения» в оценке того, что совершают люди: мол, не надо выделяться и выделять — все равны. Не все равны! Точнее, все равны в правах, ко обязанности выполняют по-разному. Вот почему, мне кажется, и те девушки Щербаковского комбината, которые несколько месяцев безвозмездно работали субботы и воскресенья для увековечения памяти Клары, чувствуют себя обманутыми. Но бывает и хуже: на подвиг пытаются бросить тень.
В июле 1941 года ровесница Клары Давидюк Валя Олешко уехала из алтайского города Алейска добровольцем на фронт. В 1943 году ее мать, Галина Семеновна, получила извещение о том, что дочь пропала без вести…
Кончилась война. Оставшиеся в живых фронтовики из Алейска вернулись домой. Валя не вернулась. И вот вскоре о ней пошли странные слухи, будто она перешла на сторону немцев и бежала за границу.
Тридцать с лишним лет терзалась мать, писала запросы в архивы, но ответ был один: пропала без вести. Тем временем в городке муссировалась уже новая версия, будто Валя жива-здорова и где-то скрывается под чужим именем.
Тем временем упорный поиск следов Вали вели чекисты. Они-то и установили: не пропала Валя без вести, не сбежала за границу, а была расстреляна фашистами 5 марта 1943 года под Ленинградом за отчаянно дерзкую попытку захватить в плен начальника армейского отделения абвера (об этом подробно писали «Известия» в августе 1974 года).
Девять лет спустя, 10 мая 1983 года, в газете «Правда» было опубликовано сообщение:
«Международный планетный центр зарегистрировал звезду, названную советскими астрономами именем разведчицы Вали Олешко из алтайского города Алейска».
Галина Семеновна не дожила до этого дня. Жаль. Смотрела б она в ночное небо и знала, что там горит звезда ее дочери.
Звезды для матерей…
Наверное, невозможно именами всех погибших сыновей и дочерей назвать звезды на небе. Но нельзя не воздавать должное их памяти на земле.
Вскоре после статьи «Звезды для матерей» исполком Бауманского районного Совета народных депутатов принял решение: вне очереди предоставить отдельную однокомнатную квартиру Е. У. Давидюк. Бауманский райком ВЛКСМ решил организовать музей Клары Давидюк.
Екатерина Уваровна все беспокоилась, что квартиру ей предоставят где-нибудь на окраине, вдали от Ново-Басманной, на которой прожила шестьдесят лет. Но все вышло как нельзя лучше: ей предоставили отличную однокомнатную квартиру в трехстах шагах от прежнего дома — на Садово-Черногрязской, а распоряжением начальника телефонной сети г. Москвы на квартире был вне очереди установлен телефон по льготным расценкам. Близкие друзья Екатерины Уваровны — Седовы (старший из них, Борис, — ровесник и друг детства Клары) сложились и подарили ей новый кухонный гарнитур. Новоселье прошло весело.
С большого портрета на стене Клара смотрела на нас своими большими, красивыми, слегка печальными глазами.
ФОТОГРАФИИ
Памятник героям повести «Подвиг разведчицы» в Гатчинском районе Ленинградской области.
Герои повести «За три часа до рассвета» Кузьма Гнедаш и Клара Давидюк, погибшие 19 июня 1944 года в Белоруссии.
Могила Клары и Кима (Кузьмы) в Слониме у Вечного огня.
Мемориал на месте приземления группы Гнедаша весной 1942 года в Выдринских болотах.
К матери Клары — Екатерине Уваровне Давидюк — пришли комсомольцы Московского комбината им. Щербакова. Стоит — бывший связной Кима Алексей Булавин (снимок 1972 года).
Отец и мать Клары — Екатерина Уваровна и Трофим Степанович Давидюк у могилы дочери и К. Гнедаша до перезахоронения (снимок 1950 года).
Родители К. Гнедаша — Анна Антоновна и Савва Иосифович.
Соратники Кима. Павел Тимошенко и Мария Хомяк.
Александра Тимошенко и заместитель Кима — Иван Турков (Курков).
К рассказу «Невская крепость». Дом в Ленинграде на Рашетовой улице и двор, где провели детство Толя Курочкин, его друзья — Миша, Ваня, Вова, Тотем, Женя и автор этой книги.
Дом в селе Салогубовка, где родился Кузьма Гнедаш.
Памятник Герою Советского Союза Кузьме Гнедашу в Салогубовке. Воздвигнут в 1975 г.
Читательская конференция в музее (г. Остёр Черниговской области) по книге «За три часа до рассвета». Слева направо: бывшие связные Кима Алексей Булавин, Мария Хомяк, автор книги, Виктор Алексеев, читатели (снимок 1971 года).
Ленинград в январе 1942 года.
Героиня повести «Подвиг разведчицы» Валя Олешко.
Памятник дивизионному комиссару И. В. Зуеву на 105-м километре железной дороги Ленинград — Москва.
Таким был незаметный бугорок у насыпи, когда школьники-следопыты деревни Коломовка Новгородской области (ныне деревня Зуево) обнаружили, что здесь покоится прах комиссара И. В. Зуева. Слева направо: Аня Орлова, Сима Иванова, Сережа Орлов и Наташа Орлова.
Фрагмент картины: Ким и Клара в окружении карателей. Последний бой.
Дивизионный комиссар И. В. Зуев, член Военного совета 2-й ударной Армии.
Дивизионный комиссар И. В. Зуев (справа) и лейтенант Я. С. Бобков (снимок 1941 года).
В Ленинградском партизанском краю. Слева — в профиль командир полка Иван Сергунин. Впоследствии комиссар 5-й бригады, Герой Советского Союза (снимок 1943 года).
Семья Наташи Орловой. Слева направо: Наташа, дочь Оксана и муж Владислав Ластухин. Двадцать лет спустя…
Семья ленинградцев Соколовых. Слева направо: Нина Федоровна, Андрей Михайлович, их дети — Ариан и Наташа — автор блокадного дневника. Снимок 1940 года.
Медсестра Валентина Федоровна Карякина в 1942 году.
Начальник 1-го хирургического отделения военного госпиталя Ленинградского фронта, военврач Аида Петровна Гусева. Снимок 1941 года (См. «Невская крепость»).
Старший советник юстиции Николай Иванович Васильев и Николай Васильевич Мистров (См. очерк «На 105-м километре»).
О ЛЕНИНГРАДЕ И ЛЕНИНГРАДЦАХ
ВЕЩИ — ПОДЛИННЫЕ
Еще на школьной скамье, познав древнюю истину: «Все течет, все изменяется», мы на каждом шагу находим подтверждение ей в бурном движении жизни. Меняемся мы, взрослея. Меняется облик города, облик земли. Меняются наши представления о времени и пространстве.
И все-таки многое остается неизменным, непреходящим для эпохи, для века или для одной человеческой жизни. Что? Золотые паруса кораблика, как бы несущегося по хмурому ленинградскому небу на Адмиралтейской игле. Или Вечный огонь на Пискаревском кладбище, где под тяжелыми гранитными плитами лежат мужчины и женщины, дети, старики — ленинградцы. Их тысячи. Тут уж ничего не изменится. Разве что с течением лет история явит нам новые грани их великого подвига. И в память их встанут новые монументы. Прогремят новые имена, как облетело мир имя восьмилетней блокадницы Тани. Своей тоненькой рукой она записала на листке записной книжки в мае 1942 года:
«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».
И она умерла. И жизнь, и смерть ее принадлежат уже вечности. Листки этой записной книжки лежат под стеклом в блокадном зале Музея истории Ленинграда. Смотришь на эти детские строки, и вместе с болью в душе нарастает протест. Не надо! Нельзя, чтобы дитя страдало! Мысль о том, что беззащитная девочка осталась в пустой квартире наедине с голодной смертью, глубоко волнует, заставляет горестно сжиматься сердце. И такое чувство не оставляет тебя на протяжении всего того времени, пока ты находишься в этом старинном здании — Музее истории Ленинграда.
Несколько небольших залов, посвященных блокаде, не могут, конечно, вместить все памятники тех лет. Но и того, что есть здесь, достаточно, чтобы просто и достоверно представить себе тяжелую жизнь города. Увидишь, например, фотографии первых жертв артобстрела или лежащий под стеклом кусок хлеба — 125 граммов, дневная норма, — и уже к горлу подкатывает комок…
Все здесь, в музее, священно для памяти нашего народа.
Вот панорама Невского. Зима 1941/42 г. Издали будто обычный Невский. Но подойдите ближе. Нет, это другой Невский. Он весь в снегу. Оборваны провода. Застыли троллейбусы и трамваи. На углу Невского и Садовой — колонка. Истощенные люди берут воду. Гостиного двора нет. Вместо него груды камней в черных проемах.
Идешь по коридору и видишь справа панораму небольшой комнаты, совсем не похожую на музейный экспонат. На стене панорамы надпись «Комната ленинградца. Зима 1941/42 г. Вещи подлинные».
Сумеречный свет тускло освещает жилище. Уцелевшие стекла в окнах заклеены бумажными лентами. В центре комнаты — железная печурка, или «буржуйка», как ее назвали еще в 1918 году, с трубой, выведенной в белую кафельную печь, столь типичную для старинных домов города. У «буржуйки» — лучина. Она из красного дерева. Что пошло на дрова? Очевидно, рама какой-то картины… Медный чайник. Тут же сушатся валенки. Стол. На нем кувшин для воды. Коптилка. У стены диван с откидными подушками. Слева — этажерка с гипсовым бюстом Пушкина. У входа висит ватник, еще какая-то одежда. И в этой тихой комнате без хозяина как-то непривычно слышать громкие удары маятника безотказных ходиков.
Все так. Это комната блокадных времен, я узнаю ее.
…Что там за черная тарелка на стене в углу? Репродуктор. Так и называли его — черная тарелка. По радио осуществлялась единственная связь Большой земли с Ленинградом и Ленинграда с ленинградцами. Радио сообщало о последних сводках Совинформбюро. 9 августа 1942 года по радио лились звуки Седьмой симфонии Шостаковича. И слышался голос Ольги Берггольц. И сообщения торгового отдела Ленгорисполкома об очередном отпуске продовольствия: «Выдать в счет норм по продовольственным карточкам детям до 12 лет муки соевой сто граммов».
В такой комнате в доме на Садовой, 56, жила медсестра военного госпиталя Ира Башурова со своей матерью. Ира находилась тогда на казарменном положении. Но иногда ей удавалось навестить мать.
— Летом, подбегая к дому, я всегда прислушивалась — окна были открыты — идут ли ходики? Если я слышала тиканье их, значит, все в порядке: мама жива, — рассказывает Башурова.
В 1944 году Ира Башурова вместе с госпиталем была направлена на Второй Белорусский фронт и закончила войну в Польше. Потом вернулась в Ленинград. Продолжала занятия на восточном факультете университета. Когда для оформления комнаты ленинградца потребовались часы-ходики, она принесла их в музей.
Ирина Карловна с дочерью, мужем и матерью живет по-прежнему в той же комнате на Садовой.
В комнате, похожей на эту, провела войну Августа Михайловна Сараева-Бондарь. Тогда она была школьницей. В памяти ее навечно запечатлелись картины блокады. И ей вместе с художниками поручили создать «комнату ленинградца» в музее.
— Мы стремились воссоздать жилище тех лет таким, каким оно было, — говорит Августа Михайловна. — Вы видите этажерку, на ней — немного книг… Остальные хозяин сжег, чтобы согреться. Но сохранились Ленин, Пушкин… А вон в углу висит противогазная сумка — в ней ложка, котелок. Это не просто комната, это крепость. И вещи в ней — оружие бойцов.
Это очень верно. Боеспособность войск Ленинградского фронта во многом зависела от города, его жителей. В то время как солдаты и матросы сражались за каждую пядь земли на Невском «пятачке», на Пулковских высотах, у Лигова, ленинградцы-горожане тоже обороняли город. Им нужно было выжить, чтобы лечить раненых бойцов, обеспечивать войска боеприпасами, танками. В Ленинграде не было тыла. Город питал фронт, и фронт оборонял город.
О некоторых вещах из «комнаты ленинградца» хочется рассказать особо. За ними — судьбы людей.
В валенках, которые сушатся у «буржуйки», когда-то ходила Нина Шорина. Судя по фотографии, красивая молодая женщина. Она была бойцом 35-го батальона ПВО. Пост ее находился на вышке Исаакиевского собора. В этих валенках Нина отходила две блокадные зимы. 17 марта 1943 года она дежурила. В шесть часов дежурство кончилось. Нина спустилась вниз. И в это время по радио объявили, что начался артиллерийский обстрел района, но она все-таки решила идти домой, чтобы переодеться и сделать прическу. Вечером у нее выступление на концерте в госпитале. У Нины был хороший голос, и она пела в самодеятельном хоре.
Дома ее ждала мать, Мария Ивановна. Нина должна была приехать в семь часов, но не приехала. Не появилась она и в восемь. В половине девятого в квартиру постучали. Вошла девушка в военной форме и с ней дворничиха. Мать по их лицам догадалась, что случилось несчастье.
— Не томите, скажите правду! — вскричала она.
— Не волнуйтесь, Нина ранена, но жива, — нерешительно произнесла девушка.
— Что уж скрывать, лучше сразу сказать, — вздохнула дворничиха. — Вот такое дело, Мария Ивановна, погибла твоя Нина от фашистского снаряда.
Придя в себя, Мария Ивановна поехала в казарму. Там ее встретил врач.
— Мамаша, не плачьте, очень легкая смерть была у нее. Нисколько не мучилась.
— Пустите меня к ней.
— Нельзя. Нет ее! Прямое попадание…
Марии Ивановне принесли вещи, оставшиеся от дочери, — сумочку и валенки. В сумочке оказались лишь документы и несколько трамвайных билетов. Мария Ивановна сохранила валенки.
После войны в их квартире на 14-й линии Васильевского острова поселился Александр Макарович Никитин, партизан. Он интересовался реликвиями блокады. И, узнав о хранящихся у Марии Ивановны валенках, попросил их для музея. В 1946 году Мария Ивановна переехала в Московский район вместе с сыном и его семьей. Там я и разыскал ее.
— Как-то по радио передавали выступление Ниночкиного хора в записи, — сказала Мария Ивановна. — И в нем отчетливо слышен ее голос. Слушала и плакала…
Санки, чайник и «буржуйку» для «комнаты ленинградца» нашел тот же Александр Макарович. Эти вещи принадлежат Татьяне Ивановне Пановой, которая в блокаду жила в старом доме на набережной реки Ждановки. Все жильцы квартиры переселились на кухню, где было теплее. Туда же перешла Татьяна Ивановна и двое ее детей. Она была в то время политорганизатором при домоуправлении.
Александр Макарович рассказывает:
— Я спросил Татьяну Ивановну, всю ли блокаду прожила она в Ленинграде.
— Нет, — отвечала она, — меня вывезли весной сорок второго года. Я уже не могла вставать. Последние числа февраля оказались особенно тяжелыми. Хотя норму хлеба прибавили, но уже было поздно, я не спасла детей, они умерли от дистрофии. Завернула их в одеяло и вот на этих саночках отвезла на Пискаревское кладбище. Меня все мучила мысль: как же это я выжила, а они погибли?
— А эта «буржуйка»?
— Грела нас, пока было чем топить… После войны приходили школьники, искали металлолом. Уже думала отдать, потом пожалела. Но если вам нужно, возьмите, пожалуйста…
В музее мне рассказали, что среди активистов музея есть учительница Ольга Николаевна Богоявленская. Всю блокаду прожила в Ленинграде, потеряла на фронте сына. И лежащее в «комнате ленинградца» на круглом столе письмо — это его последнее письмо матери с фронта.
Ольга Николаевна жила на 5-й линии Васильевского острова в небольшой комнате. Хозяйку я застал за работой. Она разбирала документы времен войны и словно ждала, что кто-то придет и поинтересуется ими.
— Извините за беспорядок, но у меня всегда так, — улыбнулась она, — я все время разбираю документы, письма, перечитываю без конца…
— Вы на пенсии? — спросил я.
— Дорогой мой, уж скоро двадцать лет на пенсии. Ведь мне много лет, скоро девятый десяток пойдет.
— В блокаду вы работали учительницей?
— Нет, мы свою школу эвакуировали. Я имею в виду детишек. Мне тоже предлагали выехать. Но, думаю, живой Ленинград нельзя бросить. Пошла работать в госпиталь. Окончила курсы Российского общества Красного Креста и была вольнонаемной медсестрой всю войну. Вначале, не стану скрывать, боялась бомбежек. Как завоют эти сирены — в бомбоубежище вместе с ранеными. Ну, а потом…
— Привыкли…
— Не то что привыкла, а какое-то спокойствие нашло. Думала: уже если сын погиб, молодой человек, семейный, то что мне, старухе, бояться? Бывало, начнется тревога или артобстрел объявят в районе — иду себе, и ничего. Те, кто в Ленинграде пережил лютый голод, снарядов и бомб уж не боялись. Потом полегче стало. Согрелись. Андреенко нам норму прибавил. Был такой человек — заведующий торговым отделом горисполкома. Объявления о выдаче продуктов за его подписью в «Ленправде» печатали. Его все блокадники помнят… Вот… Выжила. А выжила — надо жить, трудиться по мере сил, быть полезной людям…
Фашистские захватчики, разрушавшие город, не ушли от возмездия.
Двадцать шесть лет минуло с тех пор, как прозвучали первые залпы мощной артиллерийской подготовки и войска Ленинградского фронта начали операцию по полному снятию вражеской блокады. 19 января 1944 года были освобождены Красное Село и Ропша, 24-го — Пушкин и Павловск. Враг бежал, оставляя на поле брани десятки тысяч убитых, технику, снаряжение. 27 января Родина салютовала в честь отважных защитников, отстоявших колыбель Октября от ненавистного врага. Девятьсот дней блокады стали легендой…
Ныне по улицам Ленинграда ходят высокие юноши, красивые девушки. Это уже поколение, которого не коснулись лишения военных лет. Но память о замученных и убитых с суровой беспощадностью ставит перед ними вопрос: за что погибли Савичевы? За что Татьяне Ивановне было дано увидеть голодную смерть детей своих? За что Ольга Николаевна Богоявленская и тысячи матерей обречены на одинокую старость?
За то и погибли, чтобы нынешнее поколение счастливо жило, трудилось и, гуляя по Невскому, любовалось Адмиралтейской иглой. Но нас-то самих, ныне живущих, удовлетворит этот ответ? Едва ли. И в этой неудовлетворенности, в тревожной мысли — достойны ли мы той дорогой цены, какой куплена наша жизнь, — в этом наша сила.
Мы пишем: «Никто не забыт, и ничто не забыто». И на стенах ленинградских домов вновь появляются, теперь уже музейные, надписи: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», и на фоне ее фотографируются экскурсанты.
Сотрудники Музея истории Ленинграда ведут кропотливую работу по сбору памятников тех лет. В музее непрерывно звонят телефоны, поступают заявки на экскурсии с заводов, школ, вузов. Экскурсоводов не хватает не только потому, что много экскурсий. Не может экскурсовод дважды вести группу по теме — блокада, война. Нервы не выдерживают. Люди плачут во время реквиема памяти Савичевых, у «комнаты ленинградца». Это хорошие слезы. Это слезы жизни. Я уверен, что, пройдя по этим залам, всякий человек станет лучше. Те, кто лежит в земле, уже никогда ничего не скажут и не бросят живым упрека, но сами себя вы можете упрекнуть.
Значит, задумайтесь еще раз о жизни, о своей роли в ней.
1968—1983 гг.
ПОТЕРЯННЫЕ КАРТОЧКИ
Ленинградцы — люди пунктуальные и строго соблюдают установленные традиции. Про полуденный выстрел в Петропавловской крепости все знают. И в этот момент в радиусе слышимости (12—15 километров) горожане смотрят на часы; одна из торжественных традиций: ежегодно 27 января — в годовщину полного освобождения города от блокады — по ленинградскому радио раздается стук метронома. Спокойный, медленный, какой звучал из репродукторов осажденного города в часы затишья, когда не было ни обстрелов, ни налетов вражеской авиации. (В тревогу он стучал быстро.) Те, кто не был здесь в блокаду, но слышал этот гулкий мерный стук в прежние годы, понимающе прислушиваются: те, кто приехал в Ленинград совсем недавно, с недоумением переглядываются — им еще незнакома эта традиция.
У тех, кто был здесь в блокаду, стук метронома вызывает ассоциации совершенно определенные. Ведь это было? Было! Прошли десятилетия, а в памяти — заснеженные улицы, вмерзшие в рельсы трамваи, амбразуры в одноэтажных угловых зданиях, трупы на улицах… И ты, зажавший в кулак хлебные карточки…
На дворе сейчас не начало сороковых годов, а конец семидесятых, которые тогда, в блокаду, не грезились нам, казались чем-то несбыточным. В то время об одном лишь была мечта: скорее бы война кончилась. И она кончилась. Прошли годы… Снова было 27-е число, вновь стучал метроном. На станциях Ленинградского метро продавали мимозы, гвоздики и даже нарциссы — столь редкие в январе. У подъездов ресторанов вечером стояли пожилые люди, собравшиеся на традиционную встречу. Очевидно, дожидались соратников. Придет ли запоздавший? А может, 1978-й унес его с собой, и у строгого здания крематория, что за Пискаревским мемориальным кладбищем, появилась еще одна урна? Даже нам, кому было тогда пятнадцать-шестнадцать, теперь за 50. А нашим отцам, матерям, дедам? Время, время…
Настоящего блокадника узнаешь сразу. Если он случайно зашел в гости (не в день рождения и не в праздник), никогда не сядет за стол, прежде чем не убедится, что у хозяев, как говорится, полна чаша. Не забывать о том, чтобы ты не съел последний кусок, — это осталось. В семьях бывших блокадников те же нравы. Уж, кажется, все есть, и обеда хватит на всех, и останется на завтра, и холодильник полон… Нет! Все равно настороженный взгляд: не обделен ли кто-то? Память блокады. Я говорю об этом не с сухостью стороннего наблюдателя — и во мне, наверное, есть эта черта, она стала привычкой. То же я мог бы сказать и о таких скромных, незаметных труженицах, как Нина Ивановна Нарицина, Антонина Степановна Морозова. Они ухаживали за ранеными воинами в госпитале на окраине Выборгской стороны.
А особенно эти черты бывают заметны именно в годовщину снятия блокады. Когда коренные ленинградцы собираются за столом. Тут вы непременно найдете человека, который незаметно подкладывает соседу свой кусок, хотя, повторяю, стол ломится, и услышите возглас: «Нет, нет, мне не надо», — и видите руку, загораживающую свою тарелку (зачем — неизвестно). Хотя потом гость все равно согласится принять кушанье: застолье есть застолье. А все в общем-то понятно. В повседневном суровом блокадном бытии, которое сложилось за 900 дней, просто не принято было питаться за чей-то счет, в ущерб кому-то. Куревом делились, особенно на фронте, передавая из рук в руки. Но и то — на равных.
В годовщину освобождения за праздничным столом вы непременно услышите от блокадников какую-нибудь историю. Иногда вспоминают и жестокие случаи. Как люди теряли продовольственные карточки. Бывало и похуже. Все проявлялось в крайних пределах. Карточки — это была жизнь, потому что никакого источника существования, кроме положенных 125, а рабочим и инженерно-техническим работникам — 250 граммов хлеба в день, не было. За буханку хлеба отдавали золотые часы, кольца — но некому было их отдать. На карточках было написано: «При утере не возобновляется».
Вот случай. Был январь. Тот — 1942-й. Вечерело. Прасковья Тимофеевна отоварила в магазине карточку (свою, рабочую, по детским она выкупила утром) и шла домой по путям. Она жила на Сортировочной улице в районе Лиговки, в железнодорожном поселке. В руках у нее была сумочка, где лежали деньги, паспорт и продовольственные карточки на весь месяц. Шла она медленно, останавливалась, чтобы передохнуть.
Пришла домой. Ее ждали две девочки, дочери 8 и 10 лет. В трехкомнатной квартире каменного дома жили три семьи. Еще одна женщина, тоже с двумя детьми, и две девушки, медсестры. Но в самые холодные и голодные месяцы все жильцы квартиры съехались в одну комнату, где была печь-времянка. Как говорится, на миру и смерть красна. Электричества не было. Комнату тускло озарял свет коптилки. По стенам стояли кровати, в центре печурка, вокруг нее и теплилась жизнь. На столике стояли какие-то баночки, кастрюли пустые и с жидкой баландой. У каждой семьи свое хозяйство. Ведро с водой — водопровод не действовал. Это ведро таскали от водокачки за полкилометра по очереди. Но только для питья. На иные нужды топили снег.
И вот пришла Прасковья Тимофеевна. Первым делом поставила на печурку кипяток. Вернулись соседи. Поговорили, погадали, что объявит Андреенко на следующую декаду — растительное или животное масло. Он был в Ленинграде фигурой весьма известной. За его подписью — начальника отдела торговли исполкома Ленгорсовета — в газетах появлялись сообщения о нормах выдачи на декаду: мяса, сахара… В декаде с открытием ледовой дороги норму прибавили на 25 граммов; значит, к лучшему идем.
Спать легли рано. На кроватях, закутавшись во что было, лежали женщины, дети. Где-то ухнул взрыв, начался обстрел. Черная тарелка репродуктора молчала, вернее, работала, но так тихо, что не слышно. Энергии нет. Осенью, бывало, как начинался обстрел или воздушная тревога, все спускались в бомбоубежище. Теперь уже не ходили: не было сил.
Утром Прасковья Тимофеевна встала первой, чтобы успеть сходить в магазин до работы. И в это время раздался стук.
— Кто там?
— Чеславские здесь живут?
— Здесь.
Она отворила дверь. Вошел мужчина.
— Где тут Чеславские?
— Я, я Чеславская. В чем дело? — испуганно спрашивала Прасковья Тимофеевна.
Вошедший оглядел комнату, освещенную коптилкой, лежащие на кроватях насторожились, высунули головы из-под одеяла.
— У вас, гражданочка, ничего не случилось? — спросил незнакомец.
Теперь свет коптилки слабым отблеском падал на его худое, изможденное, но не старое лицо. На нем был промасленный ватник, ушанка с опущенными ушами. Войдя в комнату, он, однако, снял шапку.
— Да в чем дело? — спросил кто-то.
А он свое: мол, никакой беды не случилось? И вроде улыбается. Тут все закопошились, даже дети. Ждут, что дальше.
— Карточек не теряли? — спросил он уже впрямую.
Прасковья Тимофеевна точно помнила, что уложила карточки в сумочку, еще проверила, но на всякий случай теперь снова кинулась проверять. А сумочки-то и нет. Нет сумки.
— Ваша? — гость вытащил из-за пазухи черную старенькую сумочку и подал ее хозяйке.
Теперь, задним числом, Прасковья Тимофеевна взволновалась, открывала, закрывала сумочку и твердила: «Да где ж это я, да как это я!» Все было на месте: карточки, паспорт и деньги — рублей двести по старым масштабам цен.
— А я сегодня пораньше шел на работу в депо, паровоз готовить. Иду по шпалам через мост, смотрю, лежит что-то, поднял сумочку, открыл, смотрю — хлебные карточки — рабочая и две детских, ну и паспорт, по нему-то я и узнал адрес. Ну, думаю, надо бежать поскорее, а то с ума сойдет. А вы, значит, не хватились?
— Если бы с вечера хватилась, то до утра не дожила, — отвечала Прасковья Тимофеевна. Ноги не держали ее, и она опустилась на стул.
— Ну, значит, и ладно, и порядок, — гость надвинул шапку, — вначале-то я собирался вечером занести, но, думаю, раз двое детишек, надо сейчас. Счастливо вам! — и он повернулся, чтобы уйти.
Теперь снова все всполошились.
— Да как же, товарищ!.. Присели бы хоть, я сейчас кипяток согрею. Вот беда, хлеба-то нет, не выкупила еще. Вы хоть скажите, откуда, кто, — суетилась Прасковья Тимофеевна. Она всхлипывала, бросалась к чайнику, к печке, потом вновь хватала в руки сумочку и повторяла: — Да как же это я!
— Я машинист паровозный. Сейчас в депо работаю. Здесь, у Московского вокзала.
Лишь когда шаги машиниста утихли на лестнице, Прасковья Тимофеевна вспомнила, что даже не успела поблагодарить его как следует. Она расплакалась, ругала себя, что не узнала имени своего спасителя. А он?
Мы тоже не знаем его. Но я живо представляю себе его лицо, улыбку, радость от того, что сделал. Сбросил с плеч хлопотное дело, вернул сумочку, теперь скорей на работу, котел разводить, паровоз ждет…
— Мама и сейчас плачет, когда вспоминает об этом случае, — говорит Валентина Николаевна. Она — одна из дочерей Прасковьи Тимофеевны, которая мельком, в то далекое блокадное утро, видела в дверях своей комнаты машиниста.
— Лицо-то запомнили? — спрашиваю я.
— Смутно… Темно было. Помню только, что волосы назад откинуты…
Где-то теперь тот машинист? Куда он ведет свой паровоз? На какой звезде те мгновения?
1977—1983 гг.
ТУТ НЕ УБАВИТЬ, НЕ ПРИБАВИТЬ…
В самом начале блокады, в августе — сентябре 1941-го, мы, мальчишки, дежурили на крышах наших школ, рыли траншеи, присматривались к прохожим — тем, кто казался нам подозрительным: не диверсант ли? Все это пока походило на игру, хотя уже шли кровавые бои за Пулковские высоты; уже рвались бомбы на улицах, а ребята годом-двумя старше толпились у военкоматов, добиваясь до срока зачисления в армию.
И шли, шли батальоны ополченцев туда, к Пулкову. Там в те дни решалась судьба города.
Улицы становились безлюднее. Весь темп жизни как бы замедлялся. Ходили тихо: берегли силы, чтоб выстоять, дойти до завода пешком (трамваи уже стали, энергии не хватало) и там отстоять у станка 12—14 часов. Детворы поубавилось: кто успел — эвакуировался, кто оказался при деле. Из наших ребячьих душ уходила веселость. Мы жили одним общим настроением со взрослыми — выстоять, выжить. А голод затягивал петлю все туже и туже. Настал декабрь.
Я помню длинные, голодные вечера при коптилке в старом бревенчатом доме на Рашетовой улице, где я жил, — это самая окраина северной части Выборгской стороны, почти у Поклонной горы. Фасадом дом наш выходил на короткую Рашетову, а вход был со стороны Старопарголовского проспекта, что шел от Поклонки до Большой Спасской, в районе Политехнического института, а это километров пять. По левую руку от проспекта темнела Сосновка, довольно глухой парк; по правую стояли такие же, как наш, деревянные домики, но их было немного, потом начинался пустырь; за ним — поля совхоза 1 Мая и уже совсем ближе к Спасской начинались каменные дома. (Теперь бывший Старопарголовский, ныне проспект им. Мориса Тореза, заасфальтирован, застроен высотными кирпичными домами и считается одним из лучших мест города.) По этому заснеженному проспекту я, бывало, ходил пешком из дома в Политехник — там рядом был военный госпиталь, и в этом госпитале начальником первого хирургического отделения была моя мама, военврач 3 ранга Аида Петровна Гусева.
Жутковато было идти по пустынному, в сугробах проспекту, особенно в обстрел; в бомбежку хоть знаешь примерно, где он гудит; в обстрел ничего нельзя знать, куда он шарахнет следующим снарядом. И вот идешь, а впереди поперек протоптанной тропинки что-то чернеет. Уже знаешь что. Подойдешь — покойник. Замерз… Случалось, что я встречал на этой дороге худенькую девочку в платке, закутанную так, что лицо чуть видно. Я знал ее, она училась на два класса младше меня в нашей 118-й школе. В руках у нее — маленький бидончик… Мы кивали друг другу, но почему-то не заговаривали. Может, потому, что у каждого были свои заботы.
И только спустя почти сорок лет инженер одного из НИИ Елена Петровна Батова, прочитав мой очерк о ленинградской блокаде, написала мне письмо. Напомнила наши встречи на пустынном проспекте, рассказала, что ходила три раза в неделю за молоком, которое полагалось младенцам, а у нее была сестричка, родившаяся в августе сорок первого, уже когда шла война. А детская консультация, где давали молоко, была в конце Старопарголовского, точнее — с него надо было свернуть на 2-й Муринский. «Моя мама была очень тонкой души человек. Она спасла нас с сестренкой в блокаду», — писала Елена Петровна.
…Морозный вечер в старом доме на Рашетовой. За окном рано сгущается тьма. С улицы слышится скрип чьих-то шагов по снегу. Мы прислушиваемся. Из всего дома нас осталось четверо, и все теснимся в кухне, которую одну могли лишь протапливать; наша соседка Нина Ивановна, молодая женщина с годовалой дочкой на руках (муж — на фронте), сидит на чуть теплой плите; на исхудалом лице ее покорность судьбе и терпение; потом еще старушка из разбомбленного дома — эта лежит, закутавшись, на старом диване; и я, пятнадцатилетний.
— Кто ж бы то был? — вздыхает Нина Ивановна, не меняя выражения лица. А скрип шагов у дома все продолжается. Наконец осторожный стук в окно и голос; «Есть кто живой?» Входит незнакомец с большим кожаным портфелем. Мужик крепкий с виду, но уже пожилой, с тяжелым взглядом. Мы догадываемся, зачем он пришел, — встретил он Нину Ивановну где-то у магазина, заговорил, сказал, что зайдет…
— На, дывись, — говорит Нина Ивановна и подает ему ручные часы. Он подозрительно осматривает их при свете фонарика.
— Это швейцарские… Фирма «Мозер», знаменитая, — говорю я.
— Вижу, что «Мозер», да старые, механизм сносился, только что тикают.
— Они золотые.
— Само собой… Посмотрим пробу, — гость всматривается и морщится: — Эва! Истерлась вся, пятьдесят шестая… Золото наполовину. Ты вещь давай! Кольцо? Да чтоб девяносто шестой.
— Все… Ничего больше нет.
— Как хотите. За «Мозер» — полбуханки, свои, кровные, вот и талоны вырезаны, — он лезет будто в карман, чтоб показать нам хлебные карточки, но так и не достает их, крякает, вздыхает, мол, сам голодный, да уж ладно: пойду вам навстречу.
— Ты шо, дядько?! Полбуханки за часы золотые! Совесть е у тебе?
— Ты, бабочка, потише!
— Пошел ты! «Свои, кровные»! Ишь морду отъел… Своровал где?..
Мужик зло, но с опаской смотрит на Нину Ивановну, а у той прорывается ненависть к мародеру.
— Шо — нет? Свое отдаешь, шо по карточкам получаешь? Шоб тебе подавиться!
— Но-но, потише…
Но вот конфликт стихает: обе стороны взаимно заинтересованы в обмене. Менщик добавляет еще кусок дуранды и уходит, забрав часы.
Все это было, как сказал А. Твардовский:
Тут не убавить, не прибавить, — Так это было на земле…Но было и другое. Многие блокадные нормы — не хлебные — нравственные — до сих пор служат для меня примером самоотверженности и добра. Вообще что такое добро, я впервые узнал в блокаду. До войны в школе было принято поделиться бутербродом с товарищем, если он забыл свой завтрак дома. В этом не было ничего необычного. Сегодня ты отломишь, а завтра сам попросишь. Подумаешь, важность!
В блокаду все эти представления сдвинулись. Мы поняли, что просить нельзя: все голодные. Допустим, попросишь, тебе дадут, а как отдавать? К самым близким, родным это не относилось, не могло относиться. В ноябре 1941-го я часто, тогда еще на трамвае, ездил обедать к маме в госпиталь. Ей, военному врачу, выдавали талонную книжку, и мы ходили с ней в столовую для военнослужащих и обедали вдвоем на один талон. Ко многим приезжали их дети, родные. Но порцию давали, конечно, одну — тут было строго. Повариха зачерпнет половник, а он как раз порция супа, и разливает на две тарелки. Это разрешалось. А второе — там и делить было нечего. Поэтому мама обычно говорила: «Ты ешь, я уже сыта».
Но когда трамваи остановились и осталась одна дорога — по Старопарголовскому, я уже реже ходил в госпиталь. Однажды пришел, а мамы нет — в санотдел вызвали. Ко мне подходит женщина, которую я едва знал в лицо. Тоже — госпитальная. «Пойдем в столовую», — говорит. Я было пошел за ней, а потом вдруг спохватился: что же я делаю? Когда мы с мамой обедали на ее талон, это ясно: с мамой же! Но женщина — посторонняя, нельзя, чтоб она делилась со мной, размышлял я.
— Я подожду, — сказал я у входа в столовую.
— Пойдем-пойдем, — она увлекла меня за собой.
И я последовал за ней, влекомый голодом и какими-то неясными надеждами. Мы подошли к уже знакомой мне раздаточной. То была обычная раздаточная столовой, где раньше, наверное, обедали студенты Политехнического института. За раздаточным окном, среди плит и огромных кастрюль, двигались непонятные для меня люди. Они распоряжались едой. Они не могли налить больше нормы — норма была закон. Но! Налить гуще или жиже, сделать добавок, учитывая, что суп, в то время как раздатчица несла его от котла к тарелке, чуть расплескался, или не делать это — на то была власть их, этих «всесильных» людей.
Женщина, с которой я пришел, и говорит раздатчице:
— Поделите мою порцию на две тарелки.
Та зачерпнула, как положено, разлила. Мы сели за один из столиков в темном зале. Теперь мне уж и выхода нет. А она: «Ты ешь, ешь… Баланда пустая, а все ж горячая…» Тут я, признаюсь, подумал, что эта женщина, должно быть, хитрая: допустим, я съем полпорции, а она потом скажет маме, мол, я вашего сына покормила и все такое, и стребует с нее талон на баланду. Но делать нечего, теперь уж надо есть. Ругаю себя, но ем. Вышли из столовой, а эта женщина и говорит мне:
— Смотри, матери не говори, что в столовой со мной был!
— Как это? — удивился я, так неожиданно прозвучали эти слова.
— Господи, промолчи, и все! Незачем ей это знать.
И мне стало совестно. Но от мамы я не скрыл этот случай и, чтобы проверить себя, спросил: «Мама, ты как, отдашь ей эти полтарелки?» Да вот, по тем нормам эти чужие полтарелки засели в моем мозгу. Последним куском делились, но взаимно, а так не принято было. Но мама сказала: «Это Анна Ивановна, старшая сестра госпиталя… Конечно, я предложу ей, но она не возьмет. Во-первых, у нее такой же сын, тоже Боря, в эвакуации… Во-вторых… Иные понятия».
И для меня открылась мудрость «иных понятий». Вообще должен сказать, что, исключая ничтожную кучку жулья и мародеров, нормы честности среди блокадников были очень высокие, жесткие. Кроме прямых «твое» и «мое», было нечто высшее, человеческое, чего не могли одолеть ни война, ни блокада.
В самую страшную пору — январь, февраль сорок второго, — когда уж и нормы чуть прибавили, но силы были совсем на исходе, так что уже не обращали внимания на бомбежки, обстрелы, молоденькие врачи хирургического отделения едва держались на ногах. Мамина ученица Маруся Боровикова свалилась от дистрофии. Мама ходила с трудом, а в соседнем отделении доктор Фарфаровская тянула свою старушку мать и тоже ходила опухшая от голода. И в это время — середина февраля — вышел приказ: ввести дополнительный паек для специалистов, его так и называли — «хирургический» паек. Главный хирург Котзаев, Фарфаровская и моя мама получили этот паек.
Признаюсь, что мы, блокадники, к тем, кто работает в пищеблоке, относились с некоторым подозрением: уж они-то сыты. Как же не сыт повар, если он по закону обязан пробовать? Хотя б он даже и честный… А раздатчица? Начпрод? Раз в госпитале не выдали недельную пайку сахара — не раненым, а начсоставу. И начпрод объявил, что случилось несчастье: сахар подмок. И акт показывал. Сахар, и верно, подмокший… Но опять же, сколько подмокло? А сколько — не хватало…
И в то же время. У мамы в отделении был свой пищеблок на двести раненых, и сестра-хозяйка Степанида Александровна подчинялась маме. Но я-то знаю. Я-то видел и испытал. Ни куска не брала она у раненых. И эти глаза я запомнил — большие, черные.
В августе 1942 года я ушел в армию, а наша соседка Нина Ивановна осталась полной хозяйкой в доме. Девочка ее, пережив самые трудные месяцы, умерла в сорок третьем. Уже после войны я запомнил такую сцену: Нина Ивановна стоит с каким-то сиянием на лице и показывает маме небольшое кольцо.
— Боже мой, как ты его сохранила? — спрашивает мама. — Я была в полной уверенности, что вы с Борей еще в первую блокадную зиму обменяли его на хлеб!..
А Нина с украинским акцентом отвечает:
— Сохранила. Я ж грамотна. Прочла, внутри на ободочке написано, шо це от вашей мамы подарок, и пожалела, зашила в тряпочку и носила уместе с карточками…
Это тоже «иные понятия». Кто бы спросил с нее за это кольцо? Какая нравственная сила противостояла тому мародеру с кожаным портфелем! Теперь Нине Ивановне седьмой десяток. Вот уж скоро сорок лет работает она на кафедре физиологии академии лаборантом. Хотела на пенсию выйти — начальство упросило остаться: «Нина Ивановна, кто ж вас заменит?!»
Да, такого человека заменить трудно. Вот судьба, которая прошла перед моими глазами! Год 1937-й — приезжает в Ленинград с намерением устроиться на работу с общежитием. Работники везде требовались, но с общежитием было туговато, надо искать, и Нина, совсем молодая девушка, временно живет у нас, помогая по дому и присматривая за мной, тогда десятилетним мальчишкой, — отец и мать мои много работали.
Год 1939-й. Нина выходит замуж за младшего лейтенанта Нарицина. Я отлично помню его, помню, как он давал мне в руки свой револьвер, предварительно разрядив его; помню, как Нина с мужем вернулись из загса с цветами, взрослые пили шампанское, а вскоре молодожены укатили куда-то далеко, в военную часть. Но Нина продолжает писать нам. В 1941 году сообщает, что у нее родилась дочь. Затем в мае сорок первого присылает еще одно письмо. В нем просит разрешения приехать к нам с девочкой на месяц, потому что ее мужа переводят в другую часть. Как только он устроится на новом месте, получит комнату, она тотчас поедет к нему. В ответ мама посылает телеграмму: «Приезжай с дочкой, ждем», и в конце мая она приезжает с девочкой к нам, на Рашетову улицу.
Мы уже привыкли к ней и были рады ее приезду, но нас немного даже удивляло, отчего она поехала не к своим родным на Украину, а к нам. Муж Нины, лейтенант Нарицин, писал письма, что он устраивается на новом месте и скоро можно будет приехать. Нина стала уже собираться и узнавать про билет. Но наступило черное воскресенье 22 июня, началась война. Конечно, Нина с ребенком уже ехать не могла, тем более что ехать предполагалось в сторону границы. Нина стала получать денежный аттестат как жена командира Красной Армии. Некоторое время от мужа приходили письма, потом пришло извещение — убит.
Год 1943-й, у нее умирает дочь, и Нина Ивановна поступает в госпиталь санитаркой, работает до того момента, пока госпиталь не уходит вместе с Армией на запад.
Год 1944-й, Нина Ивановна поступает на кафедру нормальной физиологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и работает там и поныне; она ухаживает за животными, помогает оперировать их при производстве опытов. От академии она в начале шестидесятых годов получила комнату в районе Шувалова, в новом доме с балконом. У Нины Ивановны часто гостит ее соратница по войне, по блокаде Антонина Степановна Морозова, служившая в том госпитале медсестрой вместе с Ниной Ивановной. У Антонины Степановны есть своя отличная комната на Гражданском проспекте; проработав более тридцати лет медсестрой, она получает хорошую пенсию. К Нине Ивановне же она едет, чтоб не быть одинокой, да и вспомнить есть что. В воскресенье поедут на Шуваловское кладбище: у обеих там родные могилы.
Каждый год Нина Ивановна уезжает в отпуск к родным на Украину, в Мену Черниговской области, там у нее сестра, племянники, родные… Хлопот много, до отдыха ли! Не до отдыха, но все равно каждый год собирается и едет в родные края. А у Антонины Степановны тоже заботы о племянниках — восьмерых детей помогла сестре вырастить.
Каждый год Нина Ивановна повторяет: «Все. Доработаю до Нового года — и выйду на пенсию».
Бывая в Ленинграде, я встречаюсь с Ниной Ивановной. О блокаде вспоминаем редко, разве что в годовщину прорыва — январские дни. Или в праздник Победы. Вспоминаем ушедших, павших в боях за Пулковские высоты, задушенных голодом. Эти воспоминания, как венки на плитах Пискаревского кладбища, не нужны мертвым — им ничего уже не нужно, это нужно живым.
Блокада далеко… И от меня, человека на шестом десятке лет, далек тот блокадный мальчик. Но сердце — там, в блокадном кольце моей юности.
1978—1983 гг.
НЕВСКАЯ КРЕПОСТЬ
Ленинградский декабрь 1983 года принес мороз и метели. По городу пошли снегоочистительные машины. Где-то на далеких окраинах были задержки с трамваями, но, в общем, город продолжал жить своей обычной жизнью. Впрочем, что значит — обычной? Все время что-то происходит, нарастает, меняется. Что касается декабря, например, то он был отмечен частыми встречами ветеранов войны, блокадников.
Грядет сорокалетие со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.
Воспоминания, воспоминания…
В Музее истории Ленинграда, в секторе «Оборона города 1941—1944 гг.», появилась экспозиция «Последний мирный день». Этот день — суббота, 21 июня 1941 года. Я говорил со многими старыми ленинградцами. Почти никто не помнит, что было в тот день. Зато все до мельчайших подробностей помнят следующий день — 22 июня. Началась война. А накануне — что ж? Все занимались своими делами. Фотокорреспонденты «Ленинградской правды» и Фотохроники ТАСС запечатлели для истории обычные картины жизни города.
Первое фото: народное гуляние в ЦПКО имени Кирова, на Кировских островах. Улыбающиеся лица ленинградцев, отличные от нынешних лиц: не хуже, не лучше — другие. А вот платья, костюмы похожи на современные, точнее наоборот: мы взяли моду оттуда… (или это само собой получилось — не важно).
Для многих из тех, довоенных ленинградцев это гуляние было последним, последние веселые, беззаботные часы — на следующий день они уже толпились у военкоматов, ехали на оборонные работы, но, конечно, не могли и представить себе, что им предстоит совершить, сколько вынести, прежде чем одним — дождаться победного фейерверка над Невой, другим — лечь в землю у Пулковских высот или быть свезенными на Пискаревское кладбище.
Второе фото: асфальтирование улицы где-то неподалеку от Исаакиевского собора — видны его колонны. Что ж, улицы асфальтируют и ныне.
Третье фото: испытание нового универсального станка на заводе Свердлова. И сейчас испытываются станки, только сейчас они — иные.
Четвертое фото: отъезд ленинградских детей в пионерские лагеря. Три веселых улыбающихся детских лица. Одно из них показалось мне знакомым. Обернувшись, я спросил у сотрудника музея Юрия Алексеевича Пономарева, известны ли фамилии этих ребят.
— Мы пытались… Но у фотографии нет подписи. Фотокорреспондент не записал фамилий… Очевидно, и надобности не было: просто дети…
Но мне уже не нужна была подпись к фотографии. Вглядевшись пристальнее, я узнал одного мальчишку. Это был Толян, самый младший в нашей ватаге мальчишек на Удельной (это окраина Северной Выборгской стороны Ленинграда).
Тридцатые годы… Играем в футбол. Игрок задел мяч рукой. «Была рука!» — «Не было!» Спорим, наконец зовем худенького Толяна (на самом деле его звали Толик). «Толян, была рука?» — спрашивает самый старший из нас, Егорка, — это он рукой коснулся мяча.
— Была! — отвечает Толян.
— А может, не было? — значительно спрашивает Егор.
— Была, — мужественно отвечает Толян. Ибо знает, что Егор ему этого не простит.
Сейчас при всех он смирится, а после поведет Толяна за сарай и станет ему медленно выкручивать руку, приговаривая: «А помнишь, ты против меня шел?» А Толян будет изгибаться, корчиться от боли и повторять: «Все равно была рука!» Сколько колотушек сыпалось на Толяна!.. Но ничто не могло его сбить. Он всегда стоял за нашу мальчишечью справедливость. В его слабом теле жил сильный дух. И дух побеждал, потому что мы обращались всегда к Толяну, знали, что он не соврет. Он был нашей совестью, хотя мы тогда не сознавали этого. Конечно, бывали и спорные случаи в наших играх, но почти всегда мы знали, кто прав. И когда Егорка или — еще был хулиганистый парень — Кондрат мучили Толяна, мы знали, за что они его мучат, но не всегда могли заступиться: у Егорки были здоровые кулаки, а Кондрат всегда ходил с финкой. У меня до сих пор на левой руке след от нее.
Помню, как за несколько дней до начала войны Толян, счастливый, объявлял всем и каждому, что едет в пионерлагерь, За последний год он как-то сильно пошел в рост. Он поехал в лагерь под Лугу (по пути, как видно, его и щелкнул фотокорреспондент), но очень скоро был возвращен вместе с остальными ребятами: немцы взяли Псков, и под Лугой велись оборонительные работы. Последний раз я видел Толяна в конце ноября 1941 года, в их комнатушке деревянного дома на Ярославском проспекте. Он лежал на кровати, закутавшись в одеяло. Комнату освещал слабый свет коптилки — электричества уже не было, керосина — тоже. Опустив глаза и перебирая одеяло худыми, тонкими пальцами, он говорил:
— Борис, ведь кончится война? Ну, когда-нибудь она кончится… Допустим, через полгода. Пусть!.. Так? И я скоплю сколько-то денег. Пусть не сразу, а через месяц, как мы до войны копили к ноябрьским или к Первому мая… И куплю себе шоколаду. «Золотой якорь», который до войны семь пятьдесят стоил…
Война кончилась, но Толяна не стало. Не дожил до весны. И теперь, глядя на его веселое, счастливое лицо на музейной фотографии, я думаю: «Толян, Толян, вот где ты оказался… Спустя сорок лет! Что ж, ты по праву занял здесь свое место».
От экспозиции «Последний мирный день» сразу входишь в следующий, уже полутемный зал, и тебя встречает песня:
«Вставай, страна огромная!..»Война. Ее полководцы, солдаты, совершавшие подвиги.
Блокада. Ее герои — рабочие у станков, бойцы ПВО. И под стеклом окаменевшая порция хлеба — 125 граммов. Испечен он, как поясняет надпись, из «дефектной ржаной муки, отрубей, целлюлозы и обойной пыли». Затем — всемирно известный дневник Тани Савичевой, самый первый и самый потрясающий. Но это все надо видеть… Хотя все равно, как заметила одна блокадница, чтобы понять, что такое блокада, надо было быть там. И это верно.
…Музей истории Ленинграда, его фонды, запасники расположены в Петропавловской крепости. Эту крепость знает весь мир. Ее основанием начался город, и эта крепость определила в дальнейшем весь архитектурный облик города. И когда на экранах появляется Ленинград — что показывают прежде всего? Силуэт Петропавловки, ее куртины и бастионы. И невозможно, конечно, было найти более подходящее место для музея города, чем это место.
Здесь — тишина. Каждые четверть часа бьют куранты, и многочисленные экскурсанты, задирая головы, рассматривают шпиль пронзительной высоты Петропавловского собора. Но и здесь, в музейной тиши, перед юбилеем наметилось оживление. В основные фонды музея увеличилось поступление документов военных лет. Часто это просто письмо на фронт или с фронта с поблекшим штампиком: «Просмотрено военной цензурой. 1943». Или наградные документы умершего участника обороны. Сотрудники музея производят опись, регистрируют, и документ становится достоянием истории.
Когда-нибудь монах трудолюбивый Найдет мой труд, усердный, безымянный, Засветит он, как я, свою лампаду, И пыль веков от хартий отряхнув, Правдивые сказанья перепишет.Слово «монах» звучит несовременно и уже совсем не ассоциируется с молодыми современными людьми — научными сотрудниками музея, его хранителями. Но сущность-то и смысл работы летописцев не изменились. И здесь, как в древних монастырях, собирают свидетельства, пишут историю.
Совсем недавно в музей поступил еще один документ, еще одно свидетельство очевидцев блокадной зимы 1941/42 года. Когда я пришел в Петропавловскую крепость, документ этот только передавался в фонды. Прежде всего специалисты определили, что документ — подлинный. Это — часть дневника, который вела в блокаду ученица восьмого класса 10-й школы Дзержинского района города Наташа Соколова. Несколько страниц ученической тетради, написанных ясным почерком пятнадцатилетней девочки. На мой взгляд, дневник яркий, в чем читатель сможет убедиться сам.
В таких случаях всегда интересен побудительный момент — отчего этот дневник оказался в музее, спустя сорок лет? Почему его принесли только сейчас? Кто принес? И так далее. К пожелтевшим страницам дневника приложена телеграмма, датированная сорок вторым годом:
«Данилово Ярослав Ленинград Чайковского 38 кв 33 Соколовой Отстал детей Ефимовской нахожусь Данилове Ярослав. Ехать не могу надо срочно разыскать детей».
— Этот дневник и остальные документы принесла нам Валентина Федоровна Карякина, блокадница, доктор наук, награждена орденом Ленина, — пояснила научный сотрудник музея Татьяна Владимировна Володченко.
Она опекает этот документ и, кажется, без большого желания открыла его мне, и то с ведома главного хранителя. Несмотря на этот некоторый ажиотаж вокруг появившихся документов, сама атмосфера в музее была доброжелательной. Научные сотрудники Володченко, Баклан, главный хранитель ревниво сберегают каждый документ для истории. Его изучают, ведут розыск лиц, связанных с ним.
Я побывал у В. Ф. Карякиной. Она живет на Петроградской стороне, на Аптекарском проспекте, в столь характерном для этой старой части города доме без лифта с колодцем-двором. Квартира хорошая, со вкусом обустроенная, без модных ковров и престижных подсвечников. Ничего бросающегося в глаза, режущего. Хозяйка — Валентина Федоровна — несет на лице выражение той значительности, которую накладывает большая, духовно прожитая жизнь. Ей — девятый десяток. Она — геоботаник и степень кандидата имела еще до войны. С началом войны решила, что ее профессия не нужна, и пошла на ускоренные курсы медсестер. А затем — назначение в военный госпиталь, разместившийся на юрфаке университета… Палатная сестра, бомбежки, голод, а рядом — девятилетняя дочь, Лена.
Но Валентина Федоровна оказалась не права: ее профессия блокадному городу потребовалась. Ее отозвали из армии (тогда все решалось быстро) и вернули в Ботанический институт. Огородничество! Рассада овощей — вот что стало одной из самых насущных задач в Ленинграде весной сорок второго (скажем, создание семян свеклы за один год, тогда как обычно на это уходит два года). Следовало разъяснить блокадникам, как использовать в пищу ботву свеклы, моркови… Лениздат выпустил ее брошюру: «Ботва овощных растений». Буквально в течение нескольких недель. Потом Валентина Федоровна занималась созданием маскировочного материала для орудий. Орудия маскировали обычными ветвями деревьев. Но нужно было сделать так, чтоб они не вяли, иначе орудия тотчас демаскировались, и ученые нашли способ… Ветви некоторое время держали в кислородном растворе, потом они не вяли долгое время.
— Валентина Федоровна, как вам вспоминается блокада?
— Что именно? Голод? Это было страшно, тем более со мной была дочь… Но бомбежек мы, блокадники, не боялись. Мы вообще презирали опасность. И еще: мало говорили. Но — атмосфера! Все стремились помочь друг другу. Это была норма. Сейчас это считается подвигом… Так вас заинтересовал дневник моей племянницы Наташи Соколовой?
— Да. Та часть, что в музее, а где остальная?
— Не знаю. Ведь Наташа сравнительно недавно умерла… Тогда и нашли ее дневник. Попробуйте связаться с моей сестрой, матерью Наташи, Ниной Федоровной. Возможно, она что-нибудь прояснит.
…Дневник Наташи открывает еще одну из блокадных судеб.
Дневник Наташи Соколовой, 15 лет
Это начало (то, что найдено) Наташиного дневника. Она описывает свое возвращение в Ленинград из Кингисеппа, где она отдыхала в поселке Беседа у своей тетки.
«Июнь 1941 г. Второй вагон, вошла с передней площадки[2]. Было уже 11 часов, и понятно, холодно, но как только я влезла на площадку, мне стало так жарко, как в печке. Народу было так много, как селедок в бочке. Какой-то пьяный военный все время грозил своим наганом. Тетка, стоящая рядом со мной, держала ящик, крышка у него отлетела, и гвозди царапали всех немилосердно. Мне она разорвала платье…
Стали кричать и ругаться, и тут поднялся такой трамтарарам, что просто ни на что непохожее. А тут еще какая-то гражданка перед дверью потеряла свой кошелек и не давала сходить. Но всему бывает конец. Кончилась и эта пытка. Когда я шла по Чайковской, я встретила Августова и Альку Попова. Они шли, громко хохоча и куря папиросы. Я быстро прошла мимо, и они меня не заметили. Дома обо мне очень беспокоились. У Нади, в доме, в квартире № 18, где живет Тимонькин, поселилась новая девочка — Ляля. Как только мы ее увидели, она сразу не понравилась. На днях мы с ней познакомились. Она оказалась не лучше, чем мы думали, все время поет о глазах, о заходящем море, смеется совершенно без всякого повода. Они помешались, разговаривают много о мальчишках. Пока что она не записалась ни в какую школу. Я хочу, чтобы она записалась в нашу, но Надя против. Ляля же не записалась и не хочет, потому что они собираются эвакуироваться. Ляля сказала Наде, что Юрка завтра уедет в Новосибирск.
28 августа
Сегодня мы погрузили вещи в вагон. С нами едет мама. Правда, только до Ярославля, но все же это очень хорошо. В вагоне нас 29 человек. Ребят 5 человек, я, Ариан, Адя Эмдер, Витя Баллад и Натак. Адя учится в 7-м классе и перешла в 8-й.
22 ноября 1941 г.
Более двух месяцев не бралась я за дневник. За это время произошли большие изменения в моей жизни — жизни Ленинграда, да и всей страны, фашисты бомбят и обстреливают город из дальнобойных орудий. До восьмого сентября Маша и многие другие говорили, что немцы не будут бомбить город. Не знаю почему, но я и сама так думала. С восьмого все пошло совсем иначе. Опишу эту первую бомбардировку.
Мы находились в эшелоне. Эшелон стоял за Международным, на какой-то ветке. В эшелоне мы находились уже с 28 августа. Причем мы объехали все окраины Ленинграда и наконец прикатили к Международному. Там, где стоял эшелон, находилась свалка старых, испорченных машин. Здесь находились самые различные машины (легковые, автобусы, скорая помощь), но все они были кто без ручек, кто без кузова, кто без колес. Метрах в 50 от нас, за грязной речкой, стояли бараки рабочих, а метрах в 20 от последнего вагона стоял сарай. За сараем и за эшелоном лежало небольшое болотце, кусты, а дальше, параллельно нашей ветке, шла основная линия железной дороги, по которой часто проходили пассажирские и товарные поезда. С тех пор, как мы находились в эшелоне, нередко была тревога и, по приказу нач. поезда, все люди должны были отходить от поезда на расстояние 100 м, не дальше. Однажды же, когда мы стояли в Ручьях, тревога не была объявлена, так как это довольно далеко от Ленинграда, километров 10. И вот, без всякой тревоги, из-за туч вынырнул немецкий самолет и сбросил две фугасные бомбы, но они не попали в эшелон, бомбы разорвались метрах в 200 от поезда. Это было наше боевое крещение.
Помню, как мы были тогда перепуганы и как, выбежав из вагонов, бросились в грязную канаву на землю и прижались к земле. Но самолет улетел; 8-го же мы находились под городом, Международный проспект метрах в 500 от нас. И вот мы видим немецкие самолеты. Сразу же загудели сирены и застреляла зенитка. Самолеты летели прямо на нас. Мы побежали к сараю и легли, прижавшись к земле. Зенитки палили вовсю. Я все время боялась, что начнут падать осколки, так как самолеты летели точно над нами. Их было 11. Наконец они пролетели.
Вдруг из-за облаков появились еще самолеты. Кажется, их было около 13. Тут началось что-то невероятное. Я смотрела вверх на самолеты, и вдруг все небо стало черным и вниз полетело множество черных черточек. Не знаю, почему мне пришла в голову такая мысль, но я решила, что это ласточки. Но вот эти черточки выросли и все вокруг нас в ослепительном пламени. Все скрежещет, шипит, громыхает. Зенитки, трассирующие пули, бомбы. Папа бросился тушить ближнюю к нам зажигательную бомбу. Тут бомба упала мне в ноги, я почувствовала, что ногам горячо, и поползла вперед. Вдруг бомба разорвалась у меня под носом и загорелся в нескольких местах сарай. Папа бегом от одной бомбы к другой и забрасывал их землей, которую хватал руками. А мы лежали втроем, прижавшись к земле. Я отползала от бомб, которые разрывались со всех сторон, и мне не было страшно. Я думала, что зажигательные бомбы страшнее.
Когда загорелся с нашей стороны сарай, мы обежали его и легли с другой его стороны, рядом с болотом. Зажигательные бомбы, падая в болото, шипели и разбрасывались, как фейерверк. Когда самолеты пролетели и мы вышли из-за сарая, мы увидели страшную картину. Бараки пылали, как солома, вокруг бараков стоял вой, визг, шум. Во многих местах шипели еще не совсем потушенные бомбы. За речкой красноармейцы рубили уже совсем сгоревший сарайчик. Горели провода. Папа и другие эшелонцы выламывали громадную толстую дверь и внутри сарая (сарай заполнен был ящиками от патронов) тушили попавшую внутрь бомбу. Я стояла рядом, на пепле, оставшемся от потухших зажигательных бомб. Вдруг что-то зашипело. Это снова вспыхнули остатки бомбы. Я отскочила в сторону и стала засыпать бомбу землей, кидая горсточками, так как лопатки не было. Тут подоспел папа, ремесленники и другие с лопатами. Бомбу быстро затушили. В городе горели Бадаевские продовольственные склады. Все небо покрылось белыми клубами дыма. Это было часов в 5. Мы сразу же, после конца тревоги поехали с мамой к тете Шуре. Ариан повез трофейный стабилизатор от бомбы.
С тех пор я не была в эшелоне. Папа же еще некоторое время ходил в эшелоны и узнавал, не уехал ли он куда-нибудь. Эшелон два раза менял места уже после того, как мы выехали окончательно. Перевезли все вещи, как и все остальные. В эшелоне остался всего один велосипед Ариана.
С 10-го сентября или около этого числа снизили норму хлеба. Рабочие стали получать 600 гр., служащие 400 гр., а иждивенцы 200 гр. Потом снизили еще и еще…
12 декабря
Теперь уже рабочие получают 250 гр., а служащие и иждивенцы по 125 гр. Конфет рабочие получают 500 гр., крупы 500 гр., мяса 500 гр. (это в эту декаду, в прошлую крупы и мяса было по 200 и 100 гр.). Служащие и иждивенцы получают крупы 200 гр., мяса 100 гр., конфет 250 гр. В эту декаду еще прибавили. Суп и тот с некоторых пор по карточкам. Вырезают — 23 гр. крупы и 5 гр. масла. Мама с этого месяца получает рабочую карточку, папа, как всегда, служащую. Мы иждивенческую. Но папа сейчас на трудработах, поэтому получает 250 гр. хлеба и мяса и суп в двойном размере, т. е. за 25 гр. крупы и суп и кашу.
Таня Лопырева 7-го улетела на самолете. Счастливая. У папы с эвакуацией дело не продвигается. В городе — голод. Мама рассказывает, что к ним привозят в больницу истощенных, полумертвых от голода детей. На улице теперь не редкость встретить упавшего человека, который не может подняться, или же просто сидящего где-нибудь в снегу и замерзающего. Почти каждый 3-й встречный опух. У нас в школе умер Андрей Иванович — продавец тетрадей, учитель по физкультуре у младших классов. Когда хоронили Андрея Ивановича, мы собрали деньги на венок, но венков нигде не было. Теперь каждый день по нескольку раз видишь, как везут гробы на санях сами же люди, или даже просто тащат на руках гроб. Все гробы без венков. Много гробов из некрашеных досок. В школу в этом месяце я почти не ходила, так как посещаемость очень плохая, приходят 4—5 человек. Последние дни бомбежек и просто тревог не было. С неделю назад был артиллерийский обстрел нашего района. Один снаряд попал в дом № 57, где булочная, другой в дом, окна которого выходят на наш задний двор. На заднем дворе в нашем доме выбиты стекла, а двор был завален осколками кирпича и стекол. Один снаряд попал во двор нашей школы, и у нас в классе выбиты стекла. На Чайковском уже разрушено фугасными бомбами 7 домов и 1 фугасная — не взорвалась (против нашей школы). На Канаевой упало 6 или 7 фугасных бомб. Причем в дом № 11 попали в разное время 3 фугасные. На Чернышевской — 2 фугасные, на Потемкинской — 1. На Петра Лаврова 3 или 4 бомбы — и т. д. и т. д. Наш Дзержинский район сильно пострадал от фашистских бомб, но теперь это так везде. Зажигательные бомбы, кажется, были на всех домах нашей улицы. На наш дом их бросили 4 или 5 раз. Одно время в день бывало по 10 — 12 тревог, причем половина — ночью, С сиренами и отбоями даже были приключения. Однажды, например, вместо тревоги дали отбой. Однажды в середине тревоги опять завыли сирены.
Я пишу, как я провела сегодняшний день. Встали мы в 10 часов, Попили чай с леденцами и 2 кусочками хлеба с маслом. Еще перед этим я пошла и заняла очередь за студнем (теперь карточки прикреплены). Простояла после чая в очереди до 12 часов.
1 февраля
Через 2 дня мой день рождения. А как далеко все, что происходит сейчас у нас, от того, что было в прошлом году в эти же дни. В прошлом году в эти дни я ходила веселая, приглашала подруг на день рождения, ходила в школу. А в этом году я впервые буду справлять день рождения не дома, в больнице, куда я слегла 11 января, а Ариан 8-го. Мама положила нас в больницу, потому что дома совершенно нечего есть. И в Ленинграде ужаснейший голод. На улицах валяются мертвые люди, трупы замерзших. Многие из них без валенок, так как их стаскивают у умерших прохожие. Когда еще были живы кошки — многие ели кошек. Наш умер от болезни и голода несколько дней назад. На улице ужаснейшие морозы. Если на улице падает от голода лошадь и умирает, собирается народ и растаскивает мясо только что подохшей лошади. Уже месяц как папа не ходит на работу, потому что отек и ослаб, как и большинство еще не умерших мужчин. Умирает много людей, причем большинство умирающих — мужчины. Умер физик, отец Меттера, отец Екатерины Сергеевны (старшей сестры), Красилов (инженер) и еще много знакомых и знакомых наших знакомых.
В больнице нет света, воды, а в обыкновенных домах и подавно. У нас дома не работает радио. Не работает также городской телефон и канализация.
3 мая
Папа умер. Мы в Сибири, в далеком селе Асино Новосибирской области. С нами мама. Нашу эвакуацию можно подробно описать только в громадной тетради, но бумаги здесь нет совсем. Придется описать, но подробности потом, когда будет бумага, а сейчас написать вкратце.
Папино учреждение должно было эвакуироваться. Я и Ариан в это время были в больнице. Однажды пришла мама и сказала: «Ленгидэп» на днях уезжает. Папа поедет с вами обязательно, а я поеду, если мне разрешат. Я сразу же решила…»
На этом дневник обрывается. Прокомментировать эти записи я попросил мать Наташи — Нину Федоровну Соколову, заслуженного врача республики, сорок лет проработавшую в больнице имени Раухфуса.
— Сколько этот дневник странствовал, а я даже не знала об этом! Его нашли после смерти Наташи. Горько, очень горько, когда родители переживают своих детей… Наташа была такая чудесная, вокруг нее всегда были люди… У Наташи осталась взрослая дочь и внучек… Да, да, Наташа была уже бабушкой, а я — прабабка… Теперь о дневнике. Она упоминает бомбежку в эшелоне. Это они: Наташа, ее младший брат Ариан и отец их, мой муж, Андрей Михайлович, которого не взяли в армию по зрению, пытались эвакуироваться в августе — сентябре сорок первого… Но немцы уже замкнули кольцо, и их эшелон так и не пробился, он курсировал в районе Международного проспекта… А потом все они вернулись домой на улицу Чайковского.
— Вас с ними не было?
— Нет. Я не могла ехать, я считалась мобилизованной при детской больнице… Но они все-таки эвакуировались в конце феврали сорок второго. Муж был на последней стадии дистрофии… Читали телеграмму? Это от него. Он вышел на станции из поезда за кипятком… Поезд тронулся, а он уже не смог подняться, отстал… И вот по его телеграмме меня отпустили искать детей…
— А муж ваш?
— Он умер… И я нашла госпиталь, где он умер, на станции Ефимовская, а вот могилы не нашла, их всех в братскую хоронили… Долгая это история, но я нашла детей в Сибири. Поехала туда по наитию, потому что эшелон направлялся в Узбекистан, в «Чирчикстрой»… И логично было ехать искать туда… А материнское сердце подсказало… Я выходила на каждой станции, шла в эвакопункт — не было ли детей Соколовых? И вышла в Асино. И на перроне стоит мой сын… Весь вагон плакал… Я: «Где Наташа?!» «Лежит, больна, она здесь…» Вот так. Жизнь прожита тяжелая, но отрадно сознавать, что она была полезна Родине. А Наташа умерла несколько лет назад на моих руках внезапно, как умирают сердечники… Но она узнала счастье, у нее была прекрасная семья… Но — сердце, сердце!
Сердце — это блокада… И сердце осталось там.
…Я стоял у Вечного огня на Пискаревском мемориальном кладбище. Этот мемориал — свидетельство крепости и стойкости ленинградцев, ибо те, кто лежит под каменными плитами, — выстояли, но не сдались.
Струя восходящего из гранита пламени металась на морозном ветру. И это пламя освещало самые отдаленные уголки моей памяти.
Я видел дорогие мне лица ушедших людей, умерших в блокаду или много лет после нее, но испытавших на себе ее жестокие удары; я видел юную маму и совсем молодого уходящего из дома на смерть отца; я видел лица своих однополчан, большинство из которых уже ушло; я видел и ныне живущих близких моему сердцу людей, верность которых испытана десятилетиями жизни.
А пламя металось и металось, и я не мог оторвать глаза от него. И предо мной вновь и вновь вставали картины блокадного прошлого. Вот по бесконечно длинному проходящему в то время по самой окраине города Старопарголовскому проспекту, вжавши голову в воротник старенького пальтишки, идет мальчик. Где-то недалеко бухает взрыв, это он по «Светлане» бьет. Мальчик подходит к огромному черному — все окна затемнены — зданию; это — Политехнический институт; сейчас здесь госпиталь на полторы тысячи коек. Мальчик заходит в подъезд. В вестибюле — часовой.
— Вызовите, пожалуйста, начальника первой хирургии, военврача третьего ранга Гусеву, я к ней… — просит мальчик.
— Нельзя, парень, сейчас нельзя… Воздушная тревога! Не слышал, как гудели сирены? Сейчас они, врачи, раненых в бомбоубежище спускают…
Мальчик кивает в знак согласия, он уже знает этот порядок. Не успел до начала тревоги — все. Значит, надо ждать ее окончания.
А метроном тревожно бьет из черной тарелки репродуктора. Но вот слышится гудение самолета. Гудит с завыванием — не наш самолет. Забили зенитки…
— Подгадал, — говорит часовой, — как раз на ноябрьские…
То была ночь с шестого на седьмое ноября, когда фашисты бомбили госпитали Ленинграда.
— Никогда не знаешь, где твоя смерть, — улыбается пожилой часовой-нестроевик. Строевые-то все — на передовой. Внезапно из коридора отворяется дверь и появляется мама в белом халате и шинели внакидку: «Ты здесь?» (Откуда она могла знать, что сын придет именно в это время, — непонятно!) «Пропустите, это ко мне…» — говорит она часовому, и мальчик устремляется к ней. «Ты пришел, ну, слава богу…»
Мама берет его, как маленького, за руку. Они идут по коридору, где в полутьме тоже лежат раненые; успевают дойти до ординаторской, отворить дверь, как вдруг огромной силы взрыв потрясает здание. Срывая маскировку, летят стекла, рамы. Слышатся крики и стоны… Испещрен осколками фугаски вестибюль, где только что стоял мальчик, убит часовой…
Все это было… И все перед глазами. Как сейчас, слышу голос мамы, отдающей команды: «Внимание! Никакой паники!.. Медсестра Попова! Возьмите из резерва «летучую мышь». Врачи Боровикова, Долохова — к своим палатам! Носилки сюда!.. Носилки… Как можно больше!» (Врачами были студенты пятого курса медвуза Боровикова и Долохова.)
Из палат, где снесены рамы, начинается эвакуация тяжелораненых в бомбоубежище. Девочки-медсестрички таскают носилки, и мы с мамой сносим раненых вниз, в бомбоубежище. И мама все время повторяет: «Только не отходи от меня…» Еще никто ведь не знал, что произошло, а может, через минуту все обвалится.
Не обвалилось. Полутонная фугаска упала в нескольких метрах от вестибюля, и двухметровые стены старого здания выдержали.
…Передо мной вставали и светлые картины: я — в армии. Мне уже шестнадцатый год. На поясе у меня, как у связного, развозящего секретную почту, настоящий «ТТ», я получаю, как все бойцы, уже шестьсот граммов хлеба и — счастлив. И первое выполненное задание, и первая медаль в сорок третьем.
И вот уже сорок лет пролетело. Я взглянул на небо. Оно было по-ленинградски хмурым. Надвигалась метель.
Теперь, когда мне перевалило за пятьдесят, я вспоминаю маму тех лет. К началу войны ей исполнилось всего тридцать четыре года. После окончания медицинского института в 1935 году она не занимала никаких административных постов, работала в Озерковской поликлинике № 29 хирургом. В первый же месяц войны ее мобилизовали и направили в только что организующийся госпиталь № 11—16, занявший опустевшее здание Политехнического института на Выборгской стороне. Мама рассказывала, что, когда она явилась к месту назначения, огромное здание Политехника было пустым. На третьем этаже она нашла начальника госпиталя. Прочитав предписание, он сказал: «Так вы хирург? И даже с шестилетним стажем!.. Вот вы и возглавите первое хирургическое отделение на двести коек… Занимайте весь первый этаж и немедленно развертывайте отделение… Сегодня же ночью начнете принимать раненых. Задача ясна? Исполняйте!»
— Я не знала, с чего начать. Как организовать работу?.. Спустилась вниз на первый этаж. Широкий коридор, студенческие аудитории со столами и учебными досками… В глубине коридора стояла группа девушек, как потом выяснилось, студенток последних курсов мединститута… Я представилась им. «Ой, как хорошо, а то мы стоим и не знаем, что делать… Говорят, сегодня уже поступят раненые…» — И все смотрят на меня, а я сама не знаю, с чего начать. Наконец решила, что прежде всего надо освободить аудитории, организовать операционную, перевязочный пункт… Вдруг ко мне подходит строгая женщина в роговых очках и докладывает: «Военфельдшер Попова прибыла в ваше распоряжение!» — вспоминала мама уже после войны. Иногда в День Победы у нас собирались ее военные друзья. А дальше рассказ обычно продолжала Анна Ивановна Попова:
— Мне было приказано явиться в распоряжение начальника первого хирургического отделения. Пошла искать… Коридоры огромные… Вижу, девушки в военных гимнастерках… Выносят столы, моют окна… Я спрашиваю у одной, где мне найти начальника отделения. Она мне тихонько: «А вон она стоит у окна…» Смотрю и не вижу. Стоят две молоденькие… Я опять: «Ну — где? Которая?» Она: «Вон та, смуглая, красивая… Достает портсигар…» Меня поразили ее молодость и обаяние… Я привыкла видеть на этих постах пожилых солидных людей… К вечеру мы уже приняли партию раненых… Аида Петровна быстро вошла в курс, и ее приказы выполнялись беспрекословно.
Когда я впервые пришел в госпиталь — это было в конце августа сорок первого, — все аудитории главного корпуса, превращенные в палаты, были уже полны раненых. Мама с утра до ночи проводила в операционной. В госпитале развернули полторы тысячи коек, хирургов не хватало. Это и понятно, потому что в Ленинграде были в срочном порядке организованы сотни госпиталей и медсанбатов… И нужно было как можно скорей излечивать тех, кого еще можно было вернуть в строй. В это время шли кровавые бои у Пулковских высот, и защищающие город войска нуждались в постоянном пополнении.
Всего не хватало: людей, боеприпасов, продовольствия. А к зиме стало еще хуже, еще круче… Холод, голод. Не было электричества, паровое отопление не работало — в палатах стояли железные времянки, но и эти времянки, именуемые «буржуйками», надо было где-то доставать. У мамы на отделении политруком была двадцатитрехлетняя Валя Ковалева, огневая девушка, не падавшая духом в самые жуткие дни. Ничего уже не действовало на голодных, лежащих в огромных заиндевевших палатах, при коптилках, с забитыми фанерой окнами раненых бойцов… Бывало, Валя Ковалева возьмет гитару, разогреет руки над времянкой и — в палату. У нее был неплохой голос, и она знала много веселых песен, в том числе одесских… И лица оживлялись.
К маме больные (то есть раненые) относились необычайно трогательно. И уже после войны со многими из них у нее поддерживалась переписка. Был такой Зимичев, которому мама спасла правую руку. Когда Зимичева привезли, то после осмотра главный хирург госпиталя настаивал на немедленной ампутации, но мама отговорила, точнее, уговорила подождать. И — спасли руку.
Очевидно, здесь сыграли роль и семейные традиции. Моя мама вышла из семьи врачей. Отец ее — Петр Александрович Бадмаев еще в прошлом веке стал известен в Петербурге как врач тибетской медицины. Он был первый и едва ли не единственный до революции бурят, силой случайных обстоятельств получивший высшее медицинское образование: он окончил Медико-хирургическую (ныне Военно-медицинскую) академию, а также восточный факультет Петербургского университета и, таким образом, сочетал в себе европейское образование, знание языков и знание тибетской медицины. Он впервые перевел на русский язык известный труд «Жуд-ши» — главное руководство по тибетской медицине. Его жена, Елизавета Федоровна Бадмаева, после его смерти в 1920 году продолжила его дело. Уже в наше, советское время она по предложению Ленгорздравотдела возглавляла Опытный кабинет восточной медицины в Ленинграде — в двадцатые и тридцатые годы.
Естественно, что общая атмосфера, царившая в семье, оказала свое влияние на формирование характера моей матери, в частности на выбор профессии. Она прошла всю войну, занимая командные посты в полевых и эвакогоспиталях Ленинградского фронта, награждена девятью правительственными наградами.
Дружбу со своими соратниками — политруком Валентиной Максимовной Ковалевой, военврачом Марией Александровной Боровиковой, старшей сестрой Анной Ивановной Поповой — мама пронесла через всю жизнь. Ее не стало в 1975 году, на шестьдесят восьмом году жизни. И траурный митинг у могилы на кладбище открыла ее бывшая ученица — депутат Ленсовета М. А. Боровикова, одна из тех девушек-студенток, что встретили ее в сорок первом в здании Политехнического института.
1983 г.
ИМЯ НА КАМНЕ
Вечерний звонок. Незнакомый голос. Называют мою фамилию.
— Да, слушаю, — отвечаю.
— Скажите, это вы писали в «Известиях» о Елене Микеровой?
— Да… А в связи с чем этот вопрос?
— С вами говорят из МВТУ имени Баумана. Видите ли, Микерова училась в нашем училище до войны. С первого курса ушла добровольцем на фронт и пропала без вести. Теперь, к сорокалетию Победы, мы, комсомольская группа «Поиск», ищем след бауманцев, погибших в войну… Все имена погибших будут занесены на мемориальную доску. Но как быть с Микеровой? Она числится «пропавшей без вести»?..
— Она не пропала без вести, — ответил я. — Она попала в плен вместе с группой наших советских разведчиков-парашютистов, заброшенных в Гатчинский район Ленинградской области. Там было… Ну, словом, все было очень сложно, в одной фразе не объяснишь… В конечном счете, Микерову в числе семерых расстреляли весной 1943 года.
— Нам нужен документ, подтверждающий это.
— Обычно фашисты не оставляли документов такого рода, тем более в отношении казненных разведчиков. Наоборот! Они их компрометировали, чтобы и после смерти…
— Как это?
— Для этого есть много способов.
— А известна хотя бы могила, где похоронена Микерова?
— И этого не удалось установить…
— А как найти газету, где печаталось про нее?
— Это другое дело. Здесь мы вам можем помочь.
Разговор этот воскресил в моей памяти события начала семидесятых годов. Я вспомнил свою поездку в Новгород. Там я зашел к знакомому следователю. Поговорили о предстоящей охоте. Потом он положил руку на лежавший перед ним пухлый том и сказал.
— Вот дела! Человека совсем недавно искали… а его, по всем данным, выходит, фашисты расстреляли еще в сорок третьем…
Это меня заинтересовало, и я спросил, кто этот человек. Им оказалась Валентина Иосифовна Олешко, 1924 года рождения, уроженка города Алейска Алтайского края. Биография ее до лета 1942 года проста. Школа. Курсы радистов. Армия. Направили на Волховский фронт, потом в июле 1942 года перебросили в блокированный Ленинград, потом — пленение. А дальнейшее следовало уточнять, доказывать. Это было поздним летом 1973 года, а документальная повесть «Подвиг разведчицы» появилась в «Известиях» ровно через год — в августовских номерах 1974 года. Должен сказать, что в течение этого года я не раз испытывал чувство отчаяния, настолько все было запутано.
Отправной точкой для нас являлось многотомное уголовное дело предателя Родины некоего Клыкова, судимого трибуналом и расстрелянного в 1944 году. Предстояло выяснить, что же натворил этот Клыков, перейдя на сторону немцев? Отсюда и пошло раскручиваться… В числе других преступлений он, оказывается, выдал врагам антифашистскую группу сопротивления Михеевой. Что за группа? Кто такая Михеева? Пошли запросы, розыски… Я работал с опытными следователями В. П. Михеевым и Н. В. Мистровым, но и они порой вставали в тупик. Выяснилось, что Михеева — это псевдоним, а настоящее имя ее Олешко. Я ездил на ее родину в Алейск и там собрал сведения о семье Олешко. Она была уважаема и известна в городе. И никого не осталось. Отец Вали, капитан Олешко, погиб на войне, а мать умерла совсем недавно, за несколько месяцев до моего приезда. О самой же Вале были только хорошие отзывы, но не так много осталось людей, которые помнили ее.
Самым сложным было другое: поведение Вали и ее соратников — Лены Микеровой и других в плену… Здесь было много неясного. Пленных взял абвер, а это была серьезная организация, работали квалифицированно, я бы сказал, «интеллигентно», в отличие от гестапо они не признавали грубой работы с примитивным кнутобойством… Эти ломали не кости, а мировоззрение. Сколько раз я хотел бросить все и махнуть рукой — ничего здесь не докажешь!.. Я нажил себе массу неприятностей на этом деле, о которых сейчас даже не хочется вспомнить. Но меня удерживал сам изначальный факт: девочка, десятиклассница, единственная дочь и, понятно, любимица, сама без спроса мамы и папы добивается, чтоб ее, несмотря на ее непризывной возраст, взяли в армию.
И дальше эта девочка оказывается весьма в сложных обстоятельствах, далеких от ее идеальных представлений о жизни. И все туже, туже… И вот уже она лицом к лицу с опытными офицерами абвера, которые в течение полугода пытались перевербовать ее… Не получилось, уничтожили. И Лену Микерову уничтожили. Она вместе с Валей попала в плен и разделила с ней дерзкий замысел и тяжкую участь. И с ними еще пятеро — Валя Гусакова, Михаил Лебедев, Дуня Фадеева, Николай Букин, Тоня Петрова.
Повесть появилась в газете. И вот почти десять лет спустя — звонок бауманцев… Результатом этого звонка явилась встреча в редакции. Вначале приехал бывший бауманец доцент И. Х. Аганин, который до войны учился с Леной на одном курсе, сам воевал и ему было дорого все, что связано с его молодостью. Потом явились студенты. Им предоставили ксерокопии известинской повести. Затем они пригласили меня в их МВТУ. О Бауманском училище я много слышал, но никогда не был там. Когда шел по двору и по бесконечным коридорам, я видел лица студенток, студентов с той серьезностью, что просто так на улице не встречается. Ну, а потом трехчасовой разговор в клубе и вопросы, вопросы… И там же было решено, что студенческая группа «Поиск» отправится по следам Вали Олешко, Лены Микеровой и тех, кто был с ними. Бауманцы восьмидесятых годов решили идти по следам бауманцев сороковых годов. И отправились. Сформировали два отряда. Всего их было семеро: Игорь Сапрыкин, Ольга Смирнова, Олег Аганин, Валя Егоркина, Игорь и Вера Лаврук и Наташа Кузнецова. Семеро искали семерых.
Было это прошедшей осенью. Отряд Ольги Смирновой пошел на Псковщину в поисках следов группы «Вера», тоже бауманки, о которой писал драматург Игорь Соболев; другой отряд, во главе с Игорем Сапрыкиным, отправился по деревням и поселкам Гатчинского района Ленинградской области в поисках следов Лены Микеровой. Влекомые романтикой и желанием походить на своих далеких ровесников, студенты совершали походы ночью, изматывая себя, делая броски по тридцать километров, в дождь и непогоду… Было испытание сил и выдержки, но их за каждым кустом, конечно, не ожидала смерть, как бауманцев сороковых годов…
Обо всем этом молодые люди рассказали уже позже за круглым столом в конференц-зале «Известий». Как утверждают они, поход им много дал для личных впечатлений. Одно дело — прочесть, другое — услышать от очевидца, что в этой избе допрашивали наших людей, а когда советские войска сняли блокаду и освободили район, то жители обнаружили на стенах пятна крови… Студенты брали от старушек объяснения, записывали показания свидетелей на магнитофон, Игорь Сапрыкин вел дневник.
«…17.09.83. Отправились в Лампово. Встретили ветерана войны. Он не был в селе во время войны, но слышал, что здесь стоял штаб абвера. Было много власовцев и девушек-парашютисток, которых фашисты хотели перевербовать к себе на службу. Были у Прохоровой. Во время войны она была девочкой. В их доме стоял майор фон Бард. Те события она помнит плохо. Знает только, что в деревне были власовцы».
«…19.09.83. Посетили Дружноселье. Беседовали с местными жителями, которые видели комнату в бывшей комендатуре, где содержали пленных. Рассказывают страшное о том, как доставили сюда, в Лампово, девушек. И здесь допрашивали и пытали их. В этот же день встретились с Лидией Бабанцовой и ее матерью, которая помнит хорошо Лену Микерову и считает, что она погибла за Родину. Они узнали по фотографии ее. Мы решили взять справки от людей, с которыми беседовали».
Студенты делились общими впечатлениями.
— Там была какая-то странная обстановка! Нам рассказывали, что вначале было нечто вроде идиллии: фашисты устроили свадьбу нашего пленного сержанта с нашей же русской!.. И хлеб и соль подносили! Это просто не укладывается в мозгу…
— Вас же не удивляет, когда в кино показывают, как наш разведчик пьет с фашистами коньяк?
— А Лена Микерова, как рассказывают, бегала по избам и искала тарелки — их не хватало на свадьбе.
— И одновременно искала связь с нашей разведкой. Что касается свадьбы, то она носила чисто пропагандистский характер. Шла попытка перевербовки. Не получилось.
— Да, но кое-кто подался на их сторону.
— Я не скрывал этого. В конечном счете человек мог выбирать: честь и смерть или предательство… Кстати, такой выбор есть всегда. И в мирное время, но без стрессовых ситуаций, разумеется…
— Я комсорг группы, у меня 23 человека, а вот могу ли я поручиться, что все они поведут себя так же, как наши разведчики в сорок первом? — сказала Ольга Смирнова.
«Полное раскаяние — жизнь… Согласны?» «Нет!» — отвечала Валя Олешко», — вспомнил я сцену допроса.
— Наверное вам, комсоргу, лучше знать, как поведут себя ваши комсомольцы… — отвечал я.
— А мы нашли место захоронения ваших героев, — сказал Игорь Сапрыкин.
Пришла моя очередь удивляться. Между тем он подал мне снимки. На одном из них я прочел:
«Здесь захоронено свыше 4000 советских патриотов, погибших от рук фашистских палачей 1941—1944 гг. В числе захороненных Богданова Е. А., Пантелеев В. Ф., Гармаш И. И., Попов В. Н., Кононенко С. И., Чепраев С. К., Новиков Н. С., Шорников Г. С. и герои документальной повести Б. Гусева «Подвиг разведчицы» Валя Олешко, Лена Микерова, Валя Гусарова, Михаил Лебедев, Дуня Фадеева, Николай Букин, Тоня Петрова».
Итак, студенты обнаружили памятник, поставленный ленинградцами Вале Олешко, Лене Микеровой и их соратникам. Оказывается, уже после того как в «Известиях» была напечатана документальная повесть, кто-то продолжил поиск, нашел место казни не только пленных семерых разведчиков, но и многих сотен замученных людей, Местные власти вошли с ходатайством в область, таким образом встал памятник.
Семеро искали семерых и нашли их.
1983 г.
НА СТО ПЯТОМ КИЛОМЕТРЕ
ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА
Новгород — город с великим прошлым. Кажется, здесь каждый храм, каждый камень напоминает о седой глубине веков, о бурном новгородском вече, о первых шагах России. Новгород, которому минуло одиннадцать веков и идет двенадцатый, по праву считается колыбелью русской государственности, русской культуры.
На протяжении всей истории нашей Родины новгородцы не раз прославляли свой город, свой край подвигами. Так было в битвах со шведами и немецкими псами-рыцарями, изгнанными новгородцами с русской земли. Так было и в Отечественную войну, когда новгородцы и псковичи подняли знамя борьбы в тылу врага.
В Новгороде княжил Александр Невский. Это его слова: «Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, — от меча и погибнет…» Новгородские былины Белинский называл «источником русской народности, откуда вышел весь быт русской жизни».
Древность, старина Новгорода всегда притягивали к себе писателей, поэтов, композиторов. Здесь жил и похоронен выдающийся русский поэт Гавриил Романович Державин. Великий русский композитор Н. А. Римский-Корсаков создал по мотивам новгородских былин оперу «Садко». Здесь творили Н. А. Некрасов и Глеб Успенский. Новгородская земля — родина композитора Рахманинова и известного русского путешественника Миклухо-Маклая. Здесь бывали Радищев и Пушкин, Лермонтов и Рылеев. Известен глубокий интерес этих великих деятелей русской культуры к новгородской истории, к Новгородской вечевой республике, просуществовавшей около трехсот лет.
Но после бурного расцвета новгородского края наступил период его упадка, продолжавшийся вплоть до начала XX века.
Самодержцы России, начиная с Ивана Грозного, намеренно и последовательно превращали «город воли дикой, город буйных сил» в захолустье, в глубокую провинцию, как будто Москва, а затем ставший столицей блистательный Петербург боялись конкурента. Возвеличивая одно, губили другое. Промышленность Новгорода хирела, исчезли ремесла. Померкла и духовная жизнь города. Сосланный в Новгород Герцен имел все основания написать следующие горькие строки:
«Бедный и лишенный всяких удобств Новгород невыносимо скучен. Это большая казарма, набитая солдатами, и маленькая канцелярия, набитая чиновниками».
Таким, верно, и быть бы Новгороду — провинциальным захолустьем с великим историческим именем, если б не пришел семнадцатый год…
С Новгородом я был знаком давно, еще по детским воспоминаниям. Когда-то мы ехали с отцом рыбачить на Ильмень, и я заснул в машине. Проснувшись, взглянул в окно и в сумраке белой ночи увидел очертания новгородского Кремля. И силуэт этот запомнился мне… Спустя много лет, когда я вновь приехал в Новгород, глазам моим открылся все тот же первозданный Кремль.
…Путь из Ленинграда в Москву, если ехать по шоссейной дороге, лежит мимо знакомых нам по классическому «Путешествию» Радищева городов и поселков — Тосно, Любань, Чудово, Спасская Полисть. А по железной дороге вы въезжаете на новгородскую землю на сто пятом километре от Ленинграда. Первая узловая станция уже на новгородской земле — Чудово, районный центр. Этот небольшой промышленный городок, сильно пострадавший в войну, сейчас отстроился. Здесь в свое время побывал Герберт Уэллс, увидавший «Россию во мгле».
В период Великой Отечественной войны Чудовский район стал местом больших сражений. Когда едешь из Ленинграда в Москву по шоссе, вдоль дороги встают монументы: солдат, преклонивший колени, со знаменем в руках; солдат и застывшая в скорбной позе женщина; снова солдат… Особенно много монументов на участке Чудово — Новгород. И имена, имена, имена…
И каждое имя кем-то оплакано — матерью, женой, невестой, отцом.
Остановись же, помолчи, задумайся. Здесь лежат парни, которые еще ничего не успели увидеть; здесь лежат мужчины, оставившие одинокими своих жен; и старики, которым не довелось умереть дома в своей постели. Здесь лежат наши воины.
Остановись и подумай, что было бы, обратись тот кипевший в боях накал, те страсти и силы, отданные сражениям, на дела мирные? Встали бы новые города, и зажглись сотни новых электростанций. И сияли б от счастья тысячи матерей, и любили бы тысячи женщин, и сколько бы новых и верных было бы у нас друзей.
Но им суждено было отдать жизнь, сражаясь за Родину. Не на всех могилах светятся имена и высятся монументы. Сколько еще безвестных могил героев, свершивших великие подвиги! Об этих подвигах ходят по округе легенды. А где-то живет семья героя и ничего не знает о нем, не знает даже, где он похоронен.
Так что ж, неужто и вправду никто никогда… Нет! Сквозь расстояния и время каким-то чудом дойдет до нас, передаваясь из уст в уста, последнее слово солдата, его завет сыновьям, соотечественникам. И чьи-то руки положат цветы на его могилу. И кто-то возьмется искать родных. И скажет: «И я бы хотел быть таким».
Почему так? Потому что мы — люди. Героизм павших зажигает сердца живых.
Прочтите это письмо.
«2 июня 1965 года.
Милая Наташа и все твои товарищи!
Какую большую благодарность я и мои дети выражаем вам за то, что вы нашли могилу нашего дорогого Ивана Васильевича. Сегодня мне прислали в копии твое письмо, посланное на родину моего мужа, Зуева Ивана Васильевича, его сестре Людмиле, в котором сообщаются подробности трагической гибели.
Вот уже двадцать три года прошло с тех пор, как нам сообщили через военкомат, что в боях с немецко-фашистскими захватчиками он пропал без вести. Но как умирал дорогой нам человек, до сих пор было неизвестно. Я все эти двадцать три года время от времени расспрашивала людей, писала в Москву, не знают ли о нем. Но никто сообщить точно не мог. Рассказывали только о тяжелой обстановке, в которой ему пришлось быть. И видно, вам, юным ленинцам, довелось через столько лет узнать страшную правду о его смерти. Он жил и погиб, как настоящий солдат.
Спасибо и еще тысячу раз спасибо, дорогие мои, что вы не забыли о тех, кто, не щадя своей жизни, боролся с проклятым врагом — фашизмом. Мороз по коже проходит и льются слезы, когда читаешь ваше письмо.
Состояние мое неважное. А поэтому приехать сейчас не смогу. А как только мои дети — они у меня уже взрослые, и один стал офицером — возьмут отпуска, мы все вместе приедем на могилу к нашему любимому отцу. Тогда увидимся с вами со всеми и поговорим.
Хочу сообщить тебе, что недавно мне вручили орден Отечественной войны первой степени, которым Иван Васильевич награжден посмертно. Целую крепко, крепко тебя и твоих товарищей.
Екатерина Зуева, Горьковская область, рабочий поселок Ардатов, райком партии. Зуевой Екатерине Ивановне».Копию этого письма мне передал полковник запаса Яков Степанович Бобков.
Вместе с Зуевым они начинали войну. Яков Степанович, тогда еще молоденький лейтенант, служил под началом дивизионного комиссара Ивана Васильевича Зуева. Отличный командир, человек безграничной смелости и железной воли, коммунист Зуев прославился еще в Испании. За участие в боях в составе интернациональной бригады он был награжден орденами Боевого Красного Знамени и Красной Звезды. Перед началом войны Зуев получил еще один орден Красной Звезды и был назначен членом Военного совета армии.
Мужество комиссара Зуева, его организаторский талант особенно проявились в боях с фашистами под Старой Руссой, Сольцами, Шимском. Под Руссой немцам удалось прорвать фронт. Это угрожало окружением частей нашей армии, сражающихся в районе озера Ильмень. Некоторые подразделения стали без команды сниматься с позиций и отходить. Узнав об этом, Зуев крикнул офицеру особых поручений Бобкову:
— Яша! В машину со мной и — туда!..
Они помчались в Старую Руссу. Чудом проскочили через пылавший мост и появились на поле боя. Все вокруг полыхало. Над полем на бреющем шли «мессершмитты». Взрывы бомб, снарядов и мин — все слилось в единый несмолкаемый гром. Зуев и Бобков бросились навстречу отступающим пехотинцам с криком: «Стой! Остановитесь!..» Но остановить отступающих удалось не сразу. Зуев бросился к командиру батареи:
— Куда бежишь? — вскричал он.
— Все бегут, и я бегу… — отвечал растерявшийся командир.
— Стой! Слушай мою команду!.. — воскликнул Зуев, выхватывая пистолет. — Там!.. У Ильменя наши бойцы истекают кровью!.. А вы?!.
Вместе с Бобковым Зуев устремился вперед, увлекая за собой бойцов.
— Лейтенант Бобков! Бери на себя командование батареей и — прямой наводкой по врагу…
Бобков развернул батарею. Артиллеристы открыли огонь. Тем временем Зуев повел солдат в атаку. По рядам наступающих моментально пронесся слух, что впереди атакующих идет член Военного совета.
И все, кто мог держать оружие, подымались и шли за Зуевым. Продвижение противника было приостановлено этой внезапной контратакой, и наши части получили возможность выйти на запасные рубежи.
— Он всегда находился на самых трудных участках, — рассказал мне полковник Бобков. — В первый период войны Зуев проявил незаурядные способности военачальника, комиссара, много раз участвовал в боях с врагом на литовской земле, под Старой Руссой, Сольцами, Дно, увлекая солдат личной храбростью. Весной сорок второго года Зуев был направлен в войска, действовавшие в тылу врага в районе Чудово — Любань. Здесь велись ожесточенные бои с превосходящими силами противника, который рвался к Ленинграду. Наши части оказались в окружении. Снабжение прекратилось, временами они голодали. Иван Васильевич, случалось, не спал по трое суток. Большую часть своего времени он находился в частях, часто бывал в землянках у солдат и поднимал дух воинов. Помню его речь: «За нами стоит Ленинград…».
— Положение складывалось трагически. И тогда Зуев возглавил прорыв сквозь вражеское кольцо. Несколько раньше он послал меня на самолете в штаб фронта с докладом о сложившейся обстановке. Но вернуться назад мне уже не пришлось. Товарищи рассказали, что в районе Мясного бора Зуеву удалось проложить огневой коридор, через который с боями прорывались наши войска.
Те, кто вышел из окружения, сообщали, что Зуев, и раненный, продолжал драться, ходил в штыковые атаки, а когда фашисты перекрыли огневой коридор, комиссар с небольшой группой солдат скрылся в лесу. Дальнейшая его судьба была неизвестна.
И полковник Бобков передал мне второе письмо. Но прежде чем вы прочитаете его, хочется сказать несколько слов.
Обстоятельства трагической смерти комиссара Зуева спустя двадцать лет после окончания войны установили Наташа Орлова, ее сестренка Аня, ее брат — пионер Сережа и их подруга Сима Иванова. Все они школьники деревни Коломовка Чудовского района.
Вместе с полковником Бобковым мы побывали в тех местах. Подлинность сообщенных в письме фактов полностью подтверждается архивными документами, хотя Наташа их и не видела. Все, о чем пишет Наташа, — правда.
Вот ее письмо сестре комиссара.
«Дорогая Людмила Васильевна!
Письмо я ваше получила. Да, разыскать вас было нелегко.
Зимой 1965 года мы услышали от одной старушки, что рядом с железной дорогой находится могила комиссара. И что она заброшена. Только рабочие железной дороги каждый год окапывают ее, чтобы она не заросла травой и не сровнялась с землей. Нас с сестрой Аней это заинтересовало. Мы попросили, чтобы старушка показала нам могилу. Но она сказала, что покажет весной. Зимой туда не пройти.
Вот и весна. Скоро праздник Победы. И мы, то есть моя сестренка Аня, брат Сергей, наша подруга Сима Иванова и я, решили все-таки узнать о комиссаре и разыскать его родных. Мы стали ходить по людям, которые жили в этой местности во время войны, и никто не знал о нем ничего, кроме фамилии. Но вот однажды мы пришли к одной женщине, которая сама видела, как он погиб, как его предали, а потом убили.
Это было так.
В 1942 году летом, примерно в июне, на сто пятом километре, на перегоне между полустанками Бабино — Торфяное работала бригада по ремонту пути. Ремонтников заставляли работать фашисты. Вдруг раздвинулись кусты. Из-за кустов показался человек в военной форме. Он попросил хлеба и спросил, как пройти к нашим и не нарваться на немцев. В это время подошел бригадир Ковригин (зовут его, кажется, Николай). Увидев человека в форме командира Советской Армии, Ковригин спросил, что ему надо, и сказал, что сейчас принесет хлеба, а сам послал своего помощника Ивана Сейца за немцами, которые жили в казармах рядом с железной дорогой. Сейц побежал будто бы за хлебом.
Вскоре появился отряд фашистов, которых командир не ожидал. Их было человек тридцать. Они пытались схватить командира живым. Но не вышло. Тогда фашисты стали обстреливать то место, где находился в кустах наш командир. Но он не хотел попадать немцам в руки ни живым, ни раненым. И когда у него осталась одна пуля, он выстрелил в себя. Гитлеровцы вытащили его за ремень к дороге из кустов и стали проверять. В верхнем кармане они нашли документы, которые были прострелены и в крови. Эти документы они дали прочесть переводчице, нашей русской. От нее-то рабочие и узнали, что фамилия убитого Зуев Иван Васильевич, 1907 года рождения. Партбилет и фотокарточку, на которой была вся семья комиссара, немцы взяли себе. Ручные часы забрал фашистский прихвостень Иван Сейц, а деньги бригадир Ковригин…
Рабочие похоронили убитого. Еще они помнят, что у командира было два ромба в петлицах, по-тогдашнему — дивизионный комиссар. Почему и говорили, что в могиле той комиссар похоронен.
Вот то, что мы о нем знаем. Конечно, все, что мы написали о Зуеве И. В., не могла рассказать одна женщина. Она назвала фамилии тех людей, которые там были, и мы ездили к ним.
Потом мы узнали, что предателя Ковригина судили и он столько-то лет сидел в тюрьме. По этому делу мы ездили в Чудово к особоуполномоченному КГБ Николаю Васильевичу Мистрову. Он, оказывается, этого предателя знает, сам его арестовывал. Тов. Мистров помог нам найти вас. Он посоветовал написать в архив Министерства обороны. Мы так и сделали. Оттуда нам сообщили, что он числится пропавшим без вести. А потом мы уж нашли и вас.
Я комсомолка, закончила семь классов, так же как и моя сестра Аня. Сережа с Ивановой Симой кончили шесть классов, они пионеры. Мы не хотим, чтобы были безвестные могилы, чтобы солдаты, которые воевали за свою Родину, были забыты. А предатели?
Сейчас Ковригин живет на железной дороге. Его покос находится как раз там, где могила Ивана Васильевича.
Этого человека, Ковригина, нельзя понять. Неужели у него душа не болит. Ведь он предал человека своего, советского человека, не дрожат ли у него руки, когда он проходит с косой мимо могилы? А где Иван Сейц, мы не знаем.
На могиле мы посадили сирень, носим цветы каждый вечер. У нас большая семья, девять детей, самой старшей, Нине, — восемнадцать лет, она работает в совхозе дояркой. Младшей — три года. Мы пасем коров и не можем ничего сделать, ходим только вечером в девять часов. Но мы постараемся купить на могилу железный венок, может быть, и оградим. Пусть проходят поезда, и пусть видят пассажиры, что здесь похоронен герой, что он не забыт, этот смелый и бесстрашный человек, который не побоялся застрелить самого себя, не сдаться в плен. Мы гордимся им!
Наталья Орлова, Новгородская область, Чудовский район, почтовое отделение Торфяное, деревня Коломовка».Что можно добавить к этому письму? Все сказано, и, повторяю, все правда. И больше того. Когда зарывали могилу, женщины плакали, а Ковригин, куражась, ходил с лаптем в руке и орал: «Вечная память».
И вот он, еще крепкий шестидесятилетний мужчина, стоит перед нами и, кося глазами, говорит:
— Ну спел «вечную». Так это я от души…
— За фашистами Сейца тоже от души посылали? — спрашивает Аня Орлова.
Предатель морщится. Что бы он сделал с этой девочкой, комсомолкой, окажись она в его власти в те черные дни. Люди рассказывают, что он был очень жесток, избивал рабочих — они не очень, мол, стараются, работая по принуждению. Оба предателя — Ковригин и Сейц — вскоре после окончания войны за свое предательство были осуждены. Но уже в 1955 году оба вернулись в Чудовский район. Ковригин живет на железной дороге, жена его работает обходчиком. А он на ее иждивении. Держит скот, бранится с соседями из-за покоса и требует себе пенсию. Правда, в пенсии ему отказали — не хватает трудового стажа. Не засчитывают время служения фашистам.
— Несправедливость, — вздыхает он.
Впрочем, он не такой уж наивный, этот Ковригин. Он больше притворяется простачком, так же как и Иван Сейц, которого мы обнаружили в десяти километрах от деревни Коломовки в поселке Красный фарфорист. Сейц собрался на рыбную ловлю. Изрядно выпив, он балагурил во дворе с соседями.
Узнав, по какому делу мы приехали, Сейц как-то плаксиво смешался и поспешно отошел в сторону, чтобы, не дай бог, соседи не услышали. Видно, он очень заботился о своей репутации. Живет он в достатке, в хорошей квартире, работает и ждет пенсии.
— Ну как, вспомнили?
— Да что вспоминать? Давно это было… И сам не помню, как изо рта выскочило: «Партизан». Ну немцы и всполошились. Да ведь я уже понес наказание. Наш советский народный суд воздал мне должное. Все по закону.
— Часы-то где?
— А-а? Ах, часы… Какие часы?
— Те, которые вы с убитого сняли?
— А-а, так-так… Пропали, пропали… Они не ходили у меня, быстро сломались… Но я на Советскую власть обиды никакой не имею. Что заслужил — то получил…
Болтает, болтает, а все понимает и держит ухо востро. Как же все объяснить детям, у которых такие факты не укладываются в уме?
Да, закон есть закон. Но сами-то люди… Впрочем, можно ли называть их так? И этот, и тот, с косой на могиле красного комиссара, со сморщенным от вечной лжи лицом. Неужели за все эти годы в их душах ни разу не проснулся червь сомнения? По земле же ходите, а в ней человек лежит, преданный вами за тридцать сребреников. Говорить и смотреть не хочется.
Но переводишь взгляд, и сразу душа теплеет.
Наташа… Тоненькая девочка с букетом полевых цветов, выросших на древней новгородской земле. И братишка ее, и сестра, и подруга Сима. Они родились после того, как отгремела война.
Но они родились в семье солдата. И как вспыхнули радостью их лица, когда полковник Бобков обнял ребят и подарил им на память фотографию дивизионного комиссара. На нас смотрел человек с лицом, похожим на лицо молодого Гайдара. Ему минуло всего тридцать пять.
Мы подходим к могиле комиссара. Место низкое, густые травы вокруг холмика. А вот и кусты, которые когда-то раздвинулись, и оттуда вышел он, усталый от бесконечных боев.
На могиле дощечка с надписью:
«Зуев Иван Васильевич
1907—1942
погиб за Родину»
— Чернилами писали, а дождь и попортил, надо бы тушью, — озабоченно сказала Наташа, становясь на колени и кладя на могилу букет полевых цветов.
Наташа, знай — будет памятник над могилою комиссара. И придут к нему воины, чтобы отдать почести человеку, который жил и умер как герой и настоящий коммунист. Но уже и сейчас есть комиссару великий памятник. Это — ты и миллионы твоих братьев и сестер, в сердцах которых горит негасимый огонь любви к социалистической Отчизне. Ты и твои товарищи сделали все, что могли. Вы открыли героя.
Он не мог знать тебя и твоих товарищей. Но он воевал и отдал жизнь за то, чтобы вы — грядущее поколение — были счастливы.
Мы стоим у могилы комиссара. Тишина кругом такая, что слышно, как травинки шуршат под ветром да гудят провода.
Рядом высится насыпь, слышится мерное постукивание… Да, это рельсы. Вдали показался поезд.
— Сумасшедший идет, — улыбнулась Аня.
— Что, что?
— Это мы так экспресс называем. Он 140 километров в час ходит.
Разбив тишину, налетел поезд. Мелькали вагоны и лица. И, глядя на нас, наверное, некоторые пассажиры подумали: что делают здесь эти люди?
Через полминуты поезд уже скрылся вдали. Только рельсы постукивали да продолжали гудеть провода.
…Рассказ о комиссаре Зуеве был опубликован в газете «Известия» 17 июня 1965 года. Тотчас в газету пошли отклики читателей. Уже 7 августа в заметке «Салют комиссару» газета сообщала:
«Прошло немного времени со дня опубликования очерка, а на могиле героя уже побывали тысячи людей. На могиле поставлен временный обелиск, она вся утопает в цветах… Здесь побывали и сослуживцы дивизионного комиссара, в том числе бывший командующий, где И. В. Зуев был членом Военного совета, генерал-лейтенант Н. К. Клыков. Приезжали сюда и сыновья комиссара Зуева — Юрий и Владимир. Сердечной была их встреча с Наташей Орловой, ее сестрами Аней и Ниной, с братом Сережей и Симой Ивановой — с теми, кто помогал открыть имя героя».
26 августа газета поместила обзор писем-откликов на статью. «Я думаю, что следует чем-то отметить этих ребят, которые спустя 23 года разыскали могилу комиссара Зуева», — писала читательница П. Кадыкова. Как бы в ответ на это предложение газета тут же помещает фотографию Наташи Орловой и ее друзей на фоне Кремлевских стен. ЦК ВЛКСМ и редакция «Известий» пригласили их в Москву. Они были награждены грамотами, подарками.
«Ребята знакомятся с Москвой, — сообщала газета. — Неожиданно оказалось, что 26 августа у Наташи день рождения. Ей минуло 15 лет».
Ранней осенью в Чудово приехала жена комиссара — Екатерина Ивановна Зуева. Ее встречала большая толпа чудовцев. Встреча была торжественно-тихой. Екатерина Ивановна обнимала коломовских школьников. Потом вдова поехала на могилу мужа — это самый северный край района, граничащий с Ленинградской областью. И там уже стояла огромная толпа, со всего района приехали… Теперь проезжавшие поезда невольно замедляли ход перед этим скопищем народа на пустом перегоне, у опушки леса.
Председателю исполкома Чудовского районного Совета народных депутатов Волковой Екатерине Алексеевне поступила бумага — ходатайство сельского схода деревни Коломовка о переименовании деревни в Зуево, в честь погибшего воина. Чудовский исполком поддержал сход. Дело перешло в новгородские областные инстанции…
Затем в «Новгородской правде» было напечатано сообщение о том, что Указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Коломовка Чудовского района Новгородской области переименовывается в деревню Зуево — в память о дивизионном комиссаре Зуеве Иване Васильевиче, погибшем в Великую Отечественную войну 1941—1945 гг.
Через три года на сто пятом километре возник мемориал — памятник комиссару Зуеву. Вот что сообщали «Известия» в номере от 21/X-1968 г. в заметке «Памятник комиссару»:
«ЧУДОВО, Новгородская область, 21 октября. В воскресенье на 105-м километре железной дороги Ленинград — Москва у могилы дивизионного комиссара Ивана Васильевича Зуева остановился специальный поезд. На насыпь вышли сотни пионеров и комсомольцев школ Московской, Ленинградской, Новгородской, Горьковской, Калининской, Вологодской и других областей, прибывшие сюда на открытие памятника-монумента легендарному комиссару. Их встречали представители Ленинградского военного округа, члены семьи Зуева, боевые соратники героя, сотни жителей Чудовского района. Митинг открыл первый секретарь Чудовского райкома партии Р. А. Скворцов. Затем выступили начальник политотдела Новгородского областного военного комиссариата подполковник В. С. Федоров, соратники Зуева полковник запаса Я. С. Бобков, учительница 492-й ленинградской школы Л. И. Нарушевич, сын комиссара майор Ю. И. Зуев, рабочий фабрики «Пролетарское знамя» В. В. Агафонов, школьница из города Ардатова Таня Юзина, комсомолка из Ленинграда Тоня Антошкина.
Памятник создан по инициативе Министерства обороны и Новгородского обкома КПСС группой военных архитекторов совместно с художниками ленинградского завода «Монумент-скульптура». У самого полотна железной дороги, где похоронен комиссар, — надгробие, в которое вмонтирован портрет героя. В нескольких метрах от могилы — пятиметровый монумент. На камне выгравированы слова: «Члену Военного совета 2-й ударной армии дивизионному комиссару Зуеву Ивану Васильевичу, погибшему в боях с немецко-фашистскими захватчиками в июне 1942 года».
Да, здесь все сошлось: и герой, и предатель, и верность жены, и преданность фронтового друга, и доброе сердце девочки, просто так, совсем не думая, что ей за это воздастся, пожалела одинокую могилу, даже не могилу, а холмик, вокруг которого ходили легенды…
Чудовцам тоже стала близка эта история: она как бы внесла новую струю в духовную жизнь районного городка. У меня там появились друзья — упоминавшийся в письме Наташи Н. В. Мистров и прокурор района Н. И. Васильев, помогавшие мне тогда в розыске. Но в конце шестидесятых годов я переехал в Москву, и стал редко бывать в Чудово. С начала семидесятых вовсе там не был. Лишь когда ехал дневным поездом из Москвы в Ленинград, обратно, то между станциями Любанью и Чудовым тревожно всматривался в знакомые очертания леса, полей, ожидая, что вот-вот мелькнет обелиск.
И вот прошло четырнадцать лет. Лето 1979 года. Первая после перерыва весть из Чудова. Литературный клуб чудовского завода «Восстание» — «Чайка» приглашает приехать на читательскую конференцию. В программе — поездка к памятнику комиссару Зуеву членов клуба и школьников подшефной заводу школы.
…Большой автобус подвез нас из Чудова до деревни Зуево. Там в сельской школе, где когда-то училась Наташа Орлова, создан Музей И. В. Зуева. Фотографии молодого Зуева. Зуев в Испании. Член Военного совета вручает бойцам награды… А вот Наташа с коломовскими школьниками у тогда еще безвестного холмика… Полковник Яков Степанович Бобков, выступающий на митинге у могилы своего командира, сыновья Зуева, жена его… Фотографии эти стали музейными реликвиями, легендой стала и сама Наташа Орлова.
— Мы хотели пригласить Наташу Орлову, но не знаем ее адреса. Семья Орловых уже давно не живет в этой местности. Вам неизвестна ее судьба? — спросили меня в школе.
Я ответил, что мне известно, что Наташа окончила Ленинградское фармацевтическое училище и ее направили работать в Таганрог. Оттуда она мне писала однажды, других известий нет.
…Путь наш лежал дальше. Автобус остановился почти на границе Новгородской и Ленинградской областей. Проезжей дороги дальше не было. Нужно было идти вдоль опушки леса к железнодорожному полотну, это, мне помнилось, минут тридцать ходьбы. Небо затянули тучи, начался дождь. Рядом шли учащиеся седьмых — десятых классов. И я подумал, что за эти прошедшие четырнадцать лет выросло уже новое поколение: в модных плащах шли ровесницы той, далекой Наташи…
Свернув на полотно, мы увидели впереди обелиск. Мемориальный комплекс был прибран, в хорошем состоянии — об этом защитились учащиеся зуевской школы. Начался митинг.
Продолжением его было собрание в клубе чудовского завода «Восстание». По приглашению клуба из Новгорода приезжал бывший прокурор района Николай Иванович Васильев, он выступил со своими воспоминаниями. Выступали ветераны Отечественной войны. Затем был концерт заводской художественной самодеятельности, который поразил меня своей яркостью, своеобразием талантов. Должен признаться, что я ехал в Чудово, повинуясь скорее чувству долга, чем стремясь к этой поездке. Всегда бывает ехать грустно туда, где уже не осталось знакомых тебе людей. Но в жизни случается так: чем меньше ты загадываешь, тем больше тебе открывается. Весь тот день — 6 июля 1979 года запомнился мне до мельчайших деталей, и все волновало, вызывало новые впечатления. Кусок самобытной, осмысленной, полной самых чистых надежд и упований молодой жизни мелькнул передо мной, как зарница, и в то же время, как эхо, перекликнулся он с серединой шестидесятых годов. Приехавший из Новгорода Васильев тоже был поражен и минутой молчания на 105-м километре, и всей атмосферой вечера…
— …А вот полковник Бобков, мы тоже искали его, но не знаем, как подступиться. В будущем году мы вновь собираемся провести собрание клуба с выездом в Зуево, — спросили у меня хозяева.
— Тут я вам могу помочь: вот его телефон…
— И что прямо можно так позвонить?
— Прямо можно так позвонить, даже отсюда с завода, у вас же есть связь с Москвой! Ну…
— И он согласится приехать к нам?
— Попробуйте уговорить. По-моему, он однажды приезжал на могилу своего командира.
— Как же это мы не знали…
Меня пленяла такая нетронутая провинциальная наивность. Может быть, иным она покажется смешной, но меня она трогает. Во всяком случае, это лучше, чем то, когда ничему не удивляются и все на свете знают.
Со светлым, хорошим чувством мы с Васильевым покидали Чудово. В Москве меня ждала еще одна неожиданность. Иногда бывают странные совпадения. Даже удивительные. Уже дома разбираю почту и нахожу письмо от некой Н. В. Ластухиной. Начинаю читать… Это от Наташи Орловой! Теперь она — Ластухина, живет в ГДР, где служит ее муж; у нее дочь. Рассказывая о своей жизни, Наташа пишет, что были и тяжелые периоды, но после встречи с ее нынешним мужем она обрела счастье: пишет, что даже не знает, за что ей такое счастье… Скучает по родным местам, но ведь там, за границей, они временно.
С особенной теплотой она вспоминает период жизни в бывшей Коломовке, то пустынное место на 105-м километре, где она с подругой пасла коров и где зародилась мысль — узнать о судьбе того, кто лежит под холмиком у самого полотна.
Как самый дорогой подарок хранит она именные часы, на которых выгравировано: «Наташе Орловой от семьи комиссара Зуева».
Прошло еще несколько лет. В то время я болел. Друзья, занятые своими семейными и служебными делами, редко навещали меня. И, конечно же, каждое письмо меня радовало. К празднику я всегда получал открытки от Наташи Орловой, от новгородцев, из Ленинграда от школьных товарищей. Я производил какие-то переоценки, которые позднее, когда стал выздоравливать, выразил в повести «Открытие».
Да, непреходящими остались школьные связи и то, что явилось в результате моих поисков безвестных героев войны. Меня навещала мать Клары Давидюк — Екатерина Уваровна; шли письма от читателей. Мне повезло, что я попал в руки очень опытному, талантливому врачу — Галине Ивановне Сергеевой, и инсульт стал отступать, так что я вскоре снова смог сесть за письменный стол. Но сперва решил побывать в местах, так дорогих мне, в частности в Ленинграде — городе моего детства и юности; здесь я пережил блокаду, здесь вступил в ряды защитников города… Многое в моей жизни было связано с Ленинградом.
Прежние мои чудовские знакомые — Н. В. Мистров, прокурор района Н. И. Васильев теперь уже работали в Новгороде. Из Новгорода я двинулся дальше, мимо Спасской Полисти, Мясного бора, — там, где под руководством Зуева прорывались из окружения наши войска. Там теперь тоже создан памятный мемориал. Наконец показалось Чудово. Городок разросся, появились многоэтажные дома. Еще несколько километров, и надпись на придорожном столбе — «Зуево». Но семьи Орловых в поселке не оказалось.
Когда я спустя несколько дней вернулся домой, жена сообщила, что только вчера у нас гостила Наташа с детьми — проездом из ГДР — и вечером уехала к родным, у нее были билеты на поезд. Жена рассказала:
— Звонок… Открываю дверь, вижу, стоит молодая красивая женщина, с ней две чудесные девочки… «Не узнаете? Я Наташа Орлова…»
Оказывается, Наташа до сих пор ведет переписку с женой комиссара Зуева. Она много рассказывала о своей матери, родных и близких. Семья-то большая была!
…И на меня нахлынули воспоминания. Я думал о Зуеве, Кларе Давидюк, Гнедаше, Наташе, о том, что прошло уже два десятилетия со времени опубликования в «Известиях» очерка «Смерть комиссара», а письма все идут и идут…
…С сожалением должен сообщить читателю грустную весть: счастье Наташи Ластухиной было недолгим, осенью 1984 года ее муж Владислав Ластухин погиб при исполнении воинского долга.
1965—1984 гг.
СЕРГУНИН И ДРУГИЕ…
Немало на новгородской земле было совершено героических подвигов. Здесь в сорок втором — сорок третьем годах появилась Третья партизанская бригада Александра Германа. Можно писать тома о короткой жизни этого удивительного человека. Разведчик, трибун, стратег партизанской войны — трудно сказать, в чем только не проявился талант тридцатилетнего полковника за год с небольшим его командованием бригадой. Соединение его маневрировало по псковскому и новгородскому краям, захватывая у противника целые районы. Смерть его тоже была героической — он погиб при прорыве вражеского кольца. Он вывел бригаду из окружения и, уходя одним из последних, попал под автоматную очередь. Партизаны вынесли из-под огня тело героя. Он похоронен на Валдае. Там ему воздвигнут памятник, а бригаде было присвоено имя Героя Советского Союза Александра Германа.
Немеркнущие подвиги совершили советские воины в боях под Новгородом. Это Герои Советского Союза Тимур Фрунзе, Муса Джалиль, Алексей Мересьев, снайперы Харченко, Поливанова, Ковшова; прометеи, закрывшие своими телами огневые точки врага: Панкратов, Герасименко, Черемнов, Красиков.
На новгородской земле повторили подвиг капитана Гастелло летчики Косинов и Черных. В Новгороде перед Домом Советов стоит памятник юному партизану Лёне Голикову, прославившемуся своими походами в тыл врага. До войны, как известно, новгородские и псковские земли входили в одну область — Ленинградскую. Отсюда, из блокированного Ленинграда, осуществлялось руководство пятью партизанскими бригадами, действовавшими на территории Новгородского и Псковского районов и объединявшими более 15 тысяч человек. Своими действиями партизаны не раз принимали огонь на себя, вынуждали немецкое командование снимать части, блокировавшие Ленинград, для отражения партизанских набегов.
Партизанские отряды Лучина и Волкова, Грозного и Сураева, Аранжиони и Трусова терроризировали оккупантов. Более ста тысяч немецких солдат и офицеров уложили на древней русской земле партизаны Новгородского и Псковского районов.
Во главе одной из партизанских бригад стояли два очень молодых человека — командир Константин Карицкий и комиссар Иван Сергунин. Оба офицеры, почти ровесники. Карицкий горячий, безудержно смелый. Сергунин, как и полагается комиссару, более сдержанный, Впрочем, это не мешало ему тоже завоевать славу храброго человека, служа еще под началом легендарного Германа. У него он и прошел боевую выучку. Сергунин как бы уравновешивал горячность Карицкого, которая была хороша в бою, в атаке, но в иных условиях могла сыграть роковую роль.
О спущенных под откос эшелонах противника, о дерзких налетах партизан на вражеские гарнизоны и штабы написано немало очерков и рассказов. Десятки таких подвигов числилось и на счету бригады Карицкого и Сергунина. Но кроме боев и походов существовал еще партизанский быт с его заботами о продовольствии и боеприпасах, в бригаде велась повседневная политико-воспитательная работа, на собраниях обсуждали провинившихся, наказывали трусов — и это было, все было. Был свой суд. Своя газета. И Даже свой священник — отец Григорий. Да, нужен был и священник, потому что среди партизан и местного населения встречались верующие.
Антирелигиозная пропаганда в тех условиях была, право же, не главной задачей. Молодой комиссар понимал это и все же сам распорядился добыть отцу Григорию ризу. В бою отец Григорий снимал ризу и брал автомат, а после боя снова надевал ее и молился о ниспослании победы над супостатом и о здравии Верховного Главнокомандующего. В этой же ризе он отправлялся в села, где стояли немцы, и собирал данные о их численности. И когда из штаба фронта пришла директива представить отличившихся партизан к правительственным наградам, Сергунин не забыл службы отца Григория…
Но продолжим рассказ о Сергунине. В пределах партизанской зоны, охватывавшей районы станции Батецкой, Стругокрасненский, Порховский и другие, куда немцы, как правило, и не совались, разве что с артиллерией и танками, командир и комиссар бригады имели, можно сказать, неограниченную власть, то есть ограниченную прежде всего собственной совестью и личной ответственностью перед народом.
Сергунину не было и тридцати. Раз к молодому человеку приходят партизаны и просят разрешения убить предателя, который живет где-то в селе за десятки километров. И, не взяв греха на душу, Сергунин мог бы согласиться с ними или хотя бы сказать: «Смотрите сами», но он всегда требовал веских доказательств преступления, взвешивал обстоятельства и лишь тогда решал, как поступить с обвиняемым.
Как-то в одной из деревень немцы устроили траурный митинг и потребовали, чтобы кто-нибудь из местных русских произнес прочувствованную речь над трупами убитых фашистов. И такой человек нашелся — местный агроном Иван Федорович. Он попросил слова и, обратившись к односельчанам, призвал их сеять как можно больше цветов и украшать ими могилы фашистов. «Все цветы наших садов мы с радостью отдадим нашим освободителям. Сейте больше цветов, соотечественники! Сейте больше цветов!» — с пафосом восклицал оратор.
Немцы были довольны. Речь Ивана Федоровича транслировалась по радио. Партизаны, разумеется, узнали об этом и явились к комиссару за разрешением наказать «фашистского прихвостня». Сергунин, внимательно выслушав их, покачал головой:
— Нет, товарищи, здесь что-то не то… Сеять цветы для могил врагов — это он со смыслом сказал… Немцы этого, к счастью, не поняли.
Сергунин верно сказал. Спустя некоторое время оратор был арестован за подпольную деятельность и замучен в фашистском застенке.
Выдержка, спокойствие, собранность — вот что, пожалуй, более всего присуще Сергунину. Впрочем, ему не чуждо и чувство юмора.
Интересный случай вспомнил бывший комбриг Пятой партизанской бригады, Герой Советского Союза Константин Карицкий, когда мы с ним ездили в Новгород в гости к Сергунину.
— Был момент, когда нашу бригаду окружили крупные мотомеханизированные части карателей. Мы оказались изолированными от других бригад, отсиживались в лесу. Голод… Настроение, сами понимаете, невеселое. Атаки гитлеровцы вели и с земли, и с воздуха, сбросили листовки с предложением сдаться, обещая при этом сохранить жизнь. Помню, я пришел в землянку. Вижу, Сергунин сидит злой, хмурый, а в руках эта листовка.
— Смотри, — говорит, — подлецы, что смеют нам предлагать! Ну, мы им дадим ответ…
Позвал он Мишу Абрамова, хороший был такой парень, журналист, редактор нашей партизанской газеты. Сергунин дал ему прочесть листовку и говорит: «Пиши ответ». Тот написал. Сергунин прочел. «Все так, — говорит, — с точки зрения политики вроде правильно, но написано без учета текущего момента. Надо настроение наших людей поднять…» А Сергунин любил острое словцо, да и сам в карман за словом не лез. Как-то обороняли мы большую деревню. Бежит командир отряда. «Окружили, отрезали!» — кричит. А Сергунин ему спокойно: «Что ж, что окружили, — говорит, — это еще и лучше, теперь, куда ни стреляй, везде во врага попадешь…» Шутка! А такая шутка в тяжелый момент — большая политика. И Сергунин стал редактировать ответ. Часа эдак два сидел. Потом прочел нам, и мы полегли — чисто письмо запорожцев к турецкому султану. Истинно российским языком написано. Называлось так: «Ответ арийским куроцапам и прочей сволочи». Помню, девушка-наборщица застыдилась набирать текст. А Сергунин ей: «Девочка, а ты мимо себя те слова пропускай — они для фашистов». В отрядах, когда обсуждался ответ, два дня гогот стоял. Потом, помнится, этот ответ ходил по всем деревням, говорят, брали за него бутылку самогона. Да, с таким комиссаром я и горя не знал, не ведал.
…Тяжелое было время для новгородского края, для всей нашей Родины. В деревне Мухарево фашисты потребовали от старика крестьянина Ивана Семенова провести карательный отряд на партизанскую базу. Все было почти так же, как три с лишним века назад с другим русским крестьянином — Сусаниным. Посулы и угрозы. И так же, как ляхи когда-то, фашисты пали жертвой своей веры в то, что силой можно заставить русского человека предать свою Родину.
Всю ночь Семенов водил отряд по лесным тропам, по болотам, а наутро каратели обнаружили обман и зверски убили старика.
Чувство патриотизма, чувство любви к своей Родине будет жить вечно в сердцах русских людей и вдохновлять их на великие подвиги самопожертвования.
Девятьсот с лишним дней Иван Сергунин провел в тылу врага. В 1944 году его бригада приняла участие в разгроме немецкой группировки под Ленинградом, а затем первой из партизанских соединений торжественно вошла в город Ленина. И, увидя провалы на улицах и проспектах, дома, изрешеченные осколками снарядов и бомб, горожан, на лицах которых оставила свой след блокада, партизаны поняли, что пережили ленинградцы.
Первые дни прошли в напряженном волнении — неповторимо радостные встречи на Дворцовой площади, в Смольном, на заводах… Вышел Указ о награждении большой группы партизан. А Сергунину, Карицкому и семнадцатилетнему разведчику бригады Мише Соколову было присвоено звание Героя Советского Союза.
И вот, когда все опасности остались позади и могла начаться мирная жизнь, мирная работа, нервы, привыкшие к постоянному напряжению и вдруг лишившиеся его, не выдержали. Сергунин надолго слег.
В начале пятидесятых годов Сергунин окончил Высшую партийную школу в Москве и вернулся в Новгород. С тех пор и живет там. Он один из тех, кто восстанавливал разрушенное хозяйство области.
За время оккупации фашисты полностью разрушили древние русские города — Новгород, Старую Руссу, Холм. В самом Новгороде уцелело лишь 40 домов. Были разрушены уникальные памятники культуры, все здания Кремля. Немцы разобрали памятник «Тысячелетия России», подготовив его для отправки в Германию. Но стремительное наступление советских войск сорвало их гнусный замысел.
В день освобождения Новгорода в нем было немногим более 50 жителей.
Захватчики нанесли огромный ущерб и другим временно оккупированным городам: Чудову, Малой Вишере, Сольцам и семнадцати районам области. Они уничтожили 2227 населенных пунктов, 288 промышленных предприятий, 18 электростанций. Общий ущерб, нанесенный области, по данным Чрезвычайной Государственной Комиссии, исчислялся в 36 миллиардов рублей.
За время оккупации гитлеровцы замучили и казнили 15 403 человека, угнали в неволю 166 167 человек; разрушили 1087 школ, более 900 учреждений культуры, 172 больницы и поликлиники. В лагерях военнопленных, расположенных в области, погибло 186 тысяч солдат и офицеров Советской Армии.
Первое время, возвратясь из лесов, новгородцы жили в землянках. Потом появились временные бараки… Кое-где они сохранились и до сих пор. Все тяготы послевоенных лет пришлось испытать и Сергунину.
Несмотря на военные заслуги и Золотую Звезду, он начал с рядовой партийной работы. Есть люди, которые быстро, даже с некоторым блеском, идут в гору, но Сергунин, видно, не принадлежит к их числу. Имея немалый опыт партийной работы, разбираясь в людях, он тем не менее медленно поднимался по служебной лестнице. Двигаясь так, находил время, чтобы обстоятельно изучать дело, пополнять свои практические знания, что сообщало его суждениям основательность и глубину.
К началу шестидесятых годов первым секретарем Новгородского обкома партии стал Владимир Николаевич Базовский. До этого он занимал различные партийные должности в Ленинграде, где родился и вырос. Но земля новгородская была ему также близка и дорога.
В то время как Сергунин сражался в тылу врага, здесь же, на новгородской земле, в частях регулярной Советской Армии Волховского Фронта воевал солдат Владимир Базовский. Война застала его на пятом курсе института. И вместе со своими сверстниками он в первые же дни войны вступил в народное ополчение, которое затем влилось в состав Четвертой армии.
Базовский прошел дорогой сражений от Тихвина в ноябре сорок первого года до освобождения Новгорода, Чудова, Сальцов, Дна, Порхова, Острова в сорок четвертом году. Так что край этот он исходил вдоль и поперек, да не раз и не два. И это, конечно, сыграло свою роль в том, что после воины он попросил направить его на работу в Новгород.
Ознакомившись с положением дел в области, В. Н. Базовский стал выдвигать на руководящую работу людей, отличившихся в Отечественную войну и пользующихся авторитетом среди населения. Наконец Сергунин был избран заместителем, потом первым заместителем председателя облисполкома, а в шестьдесят пятом году стал вторым секретарем Новгородского обкома партии.
По роду своей теперешней работы Сергунин часто бывает в городах и селах — в тех местах, где прошла его партизанская юность. Как-то в одном из поселков Иван Иванович обсуждал с группой специалистов проект строительства железнодорожной станции. К группе приблизилась пожилая женщина и, прикрыв ладонью глаза от солнца, стала вглядываться в лицо человека с Золотой Звездой и депутатским значком на груди. Потом сказала:
— Ваня?..
Секретарь обкома взглянул на собеседницу:
— Сергунин, Ваня? — повторила она.
— Я…
— Постарел, седой весь. А узнала… Вместе мы воевали…
Как ни напрягал свою память Сергунин, он так и не вспомнил, кто была эта женщина — очевидно, из партизанских связных. Фамилии ее — Корнилова Степанида Ивановна — он тоже не помнил. А женщина от воспоминаний перешла к насущным делам.
— Колонку-то, что до войны здесь была, ты взорвал, — сказала она.
— Я? — удивился Сергунин. — А может, все-таки немцы?
— Ты!.. Я ж ведь помню. Колонкой-то немцы пользовались… Ну ты им и закатил фейерверк на всю округу. А мы до сих пор воду из колодца берем. Пора бы!.. Сколько уж лет прошло…
Тут и там, особенно в отдаленных от центра местах, оставались еще следы войны и пожарищ.
Но в самом Новгороде следов войны уже почти не видно. Старожилы, правда, их осталось немного, говорят, что Новгород стал гораздо красивее, а население его увеличилось до ста тысяч человек.
Ныне Новгород — современный город. Дома здесь в большинстве своем каменные, блочные. Жители гордятся своими новыми «Черемушками» и кинотеатрами, комфортабельными гостиницами и автобусными линиями, быстроходными катерами на подводных крыльях. Гостиницы «Садко», «Волхов» вполне современные.
…Над Новгородом опускается вечер. Центр города заполнен публикой — новгородцами, гостями, туристами. Особенно многолюдно здесь в белые летние ночи. По Волхову бегают катера, на набережных гуляют парочки. Слышится веселый говор, смех.
Зимой и летом в город тянутся тысячи туристов со всех стран и континентов. Их влекут сюда, конечно, всемирно известный Софийский собор, построенный в IX веке, старинный Кремль на высоком берегу Волхова, Юрьев монастырь, церковь Петра и Фрола, наконец, памятник «Тысячелетия России». Такие редчайшие памятники архитектуры увидишь только в Новгороде.
Однако новгородская земля известна не одним древним городом. Суровое озеро Ильмень, Валдайские озера, сказочное Селигер (оно частью примыкает к Новгородской области) — места, где также можно встретить массу туристов.
Но вернемся к героям.
Николай Васильевич Мистров — тот, что помог Наташе Орловой, теперь живет в Новгороде. Однажды я был в гостях у Мистрова вместе с полковником запаса Яковом Степановичем Бобковым — соратником легендарного Зуева. Яков Степанович — душевный человек, хотя и раскрывается не сразу, вернее, не перед всеми. Хозяин объявил, что получил лицензию на отстрел лося, и пригласил нас на охоту.
…День был морозный, но мглистый. Мы выехали в лес километров за пятнадцать. Здесь нас расставили по номерам и начали загон лося. Окружив довольно большую чащу, мы стали сходиться. Лось вышел на прокурора Николая Ивановича Васильева — лучшего стрелка во всем районе. Грянул выстрел. Лось метнулся и ушел из загона. Николай Иванович с недоумением осматривал ружье… Все удивлялись: на таком близком расстоянии — и промах! Только потом, когда его, как говорится, приперли к стенке, он признался, что пожалел красивого лося и взял чуть выше… Он — добрый человек.
Будто и не было кровавой войны и пожарищ. Но память о павших должна жить в сердцах живущих…
И надо отдать справедливость: в Новгороде чтят ветеранов войны, партизан. Ежегодно в городе устраиваются встречи, на берегах Волхова загораются партизанские костры, в школах выстраиваются пионерские линейки… В школу к детям, только что слушавшим рассказ учителя об Александре Невском, приходят тот же Сергунин, Грозный или еще кто-нибудь из знаменитых партизан края. И в живых людях как бы воскресают великие традиции…
1965—1966 гг.
ТРАГЕДИЯ В УРОЧИЩЕ ПАНДРИНО
Несколько лет назад в Новгороде мне рассказали о трагедии, случившейся в Отечественную войну в лесном урочище Пандрино. В том глухом месте скрывались от угона в Германию жители деревушки Доскино Батецкого района Новгородской области — дети, женщины, старики. Около ста человек. Люди привели с собой из деревни скот, какой остался, вырыли землянки и жили, надеясь переждать лихую годину.
26 ноября 1943 года урочище Пандрино окружили каратели «Ягдкоманды-38». Этот отряд славился особой жестокостью. Я читал акт комиссии по расследованию фашистских злодеяний. К акту приложен поименный список замученных. Спасся лишь один раненый мальчик.
А в середине февраля 1976 года в Новгороде состоялся открытый судебный процесс. «Ягдкоманда» состояла из гитлеровцев, но среди них были и трое предателей. Они послушно выполняли кровавые приказы фашистов. Двое были найдены вскоре после войны, осуждены и понесли наказание. Третий — будто сгинул. О нем ничего почти не было известно, лишь имя — Петр. Местным жителям он во время войны то называл себя ленинградцем, то сибиряком, Поэтому установление личности преступника было главной трудностью, с которой столкнулись сотрудники следственных органов. Наконец, нашли данные о перебежчике Тестове Петре, уроженце г. Кирова, 1919 года рождения, по профессии бухгалтер. Стали вести розыск. И в одном из лесных районов Кировской области на станции Пинюг нашли Тестова Петра Алексеевича, но он был 1916 года рождения. И числился инвалидом Отечественной войны.
Чтобы не обидеть невиновного, да еще ветерана войны, сотрудники госбезопасности В. П. Михеев и Н. В. Мистров решили не беспокоить Тестова со станции Пинюг, пока твердо не будут уверены, что это тот самый. Нашли его фотографию…
Мистров и Михеев объездили десятки деревень Новгородской области. В селе Косицкое Мистров нашел старушку Гаврилову. Она опознала карателя по фотографии, подтвердила и имя — Петр, а фамилию знала не точно, то ли Тестов, то ли Пестов. Но показала, что именно он избил ее шомполом… Мистров записал все и уехал, договорившись, что приедет вместе со следователем, чтобы произвести допрос по всей форме. Позднее приехали, а старушка умерла уже. Время, время! Оно унесло свидетелей. В разных городах отыскали людей, живших в войну в Батецком районе и знавших в лицо карателя Петра Тестова. Но для того, чтобы обвинить его в соответствии с законом, требовались свидетели, которые видели, как Тестов лично мучил и убивал людей.
Наконец, потянулись ниточки к затерявшемуся мальчику из урочища Пандрино. Кто-то помнил его имя — Саша, кто-то пускал его ночевать, когда мальчик скитался по деревням Батецкого района. (Его деревню Доскино сожгли дотла.) Кто-то помнил, что после войны осиротевший Саша уехал к дальним родственникам. В поисках его активно помогали жители Батецкого района.
Однажды в управление КГБ по Новгородской области вошел мужчина с дорожным чемоданом. Он поздоровался и положил на стол начальника следственной группы В. П. Михеева свой паспорт, Михеев взглянул на документ и улыбнулся.
— Долго же мы вас искали, Александр Дмитриевич.
Приезжий А. Д. Белов, шахтер из Челябинской области, пожал плечами:
— Если б я знал!
— В своем родном Батецком районе давно были?
— Давно. Тяжело… Как вспомню, то и не сплю несколько дней… Тридцать лет прошло, а как будто вчера.
…В тот день, 26 ноября 1943 года, в четыре часа пополудни Саша выбежал из землянки и вдруг увидел среди сосен фашистские мундиры. Он бросился обратно, крича: «Мама, немцы!» Мать, Мария Григорьевна, прижала его к себе, поцеловала и прошептала: «Саша, беги, родной, может, спасешься, у тебя ноги быстрые». И мальчик, не давая себе отчета ни в чем, побежал от землянки в лес. Раздалась автоматная очередь, он упал, ранило в ногу, но вскоре пришел в себя. На глазах Саши каратели тащили женщин, детей к шалашу, и здесь двое карателей — один высокий, другой пониже ростом — расстреливали людей из автоматов. Вдруг Саша слышит, что каратели говорят между собой по-русски. Тот, кто повыше, сказал: «Петр, я больше не могу». Тот, кого назвали Петром, низкорослый, темноволосый, с торчащими ушами, повернулся — цепкая мальчишеская память запечатлела это лице. Петр выругался и ответил: «Стреляй, паразит, а то и тебя сейчас».
Дальнейшее Саша помнил смутно. К шалашу потащили его мать, жену брата Катю с четырехлетней дочкой. Мальчик рванулся к ним, но фельдфебель схватил его за руку, вывел из круга и сказал на ломаном русском: «Пошоль вон!» И Сашу не тронули. Бежать он не мог и в каком-то оцепенении смотрел на страшную картину.
Белов рассказывал отрывисто, временами умолкал, как бы весь уходя в прошлое.
Желая угодить своим хозяевам, рьяно усердствовал черноволосый Петр в полицейском мундире. Двух сестер Карасевых повесили над шалашом вниз головой, Затем убитых облили керосином и подожгли. Расстреляв всех, каратели набили свои мешки имуществом замученных и уехали, увозя с собой Сашу. Наутро его стали допрашивать, что ему известно про партизан, но мальчик ничего не сказал. Его выгнали. Рана в ногу оказалась легкой, вскоре зажила. Другая рана осталась в сердце на долгие годы.
В деревне Гастухово Саша вновь встретил того низкорослого карателя — Петра. Это было уже позднее, после трагедии в урочище Пандрино. И мальчик спросил у одной из местных жительниц: «Кто этот человек?» Женщина, озираясь, ответила:
— Кто его знает? Слышала, Петром кличут, он у них за атамана. Лютует. От него подальше держись…
Белов кончил рассказ. Перед ним положили пять фотографий. Спросили, нет ли среди них знакомых. Приезжий встал, вгляделся. «Он! Он!..» — Белов показал на фото, лежавшее справа, и тяжело опустился на стул. Следователь предложил ему пойти в гостиницу и отдохнуть. Но Белов настоял на продолжении беседы.
— Где же убийца?! Где?! — повторял он.
— Пока что далеко. Но понимаете, Александр Дмитриевич, одно дело — фотография, другое — живой человек. К тому же этот гражданин, что на фотографии, Петр Алексеевич Тестов, числится инвалидом войны, получает пенсию… Ошибки быть не должно.
— Я твердо уверен!
— Все бывает, — заметил Михеев. — Лучше всего, если бы вы могли поехать вот с товарищем Мистровым туда, где живет Тестов.
На следующий день Александр Дмитриевич Белов и Николай Васильевич Мистров выехали в Кировскую область. Приехали на станцию Пинюг. Подошли к дому Тестова. Постучали. Открыла женщина.
— Петр Алексеевич дома?
— Нету, к рыбакам пошел. Туда, на бережок.
Мистров и Белов направились к рыбакам. Тестов балагурил с приятелями, сидя у сарая.
— Здесь четверо. Вы видели ранее кого-либо из присутствующих? — тихо спросил Мистров своего спутника.
— Видел. Это тот Тестов… Сидит у сарая. Сильно постарел, но он, — прошептал Белов.
— Вглядитесь внимательнее.
— Понимаю. Но, чтобы быть уверенным, я должен еще увидеть его походку. Врезалась…
— Эй, дачники! Вам подлещики не нужны? За полбанки отдадим, — спросил вдруг Тестов подошедших.
— Берем, — последовал ответ.
Получив деньги за рыбу, Тестов тотчас засеменил в магазин. Тут Белов и увидел его походку. И еще раз подтвердил, что это тот самый.
Вернувшись в Новгород, Мистров доложил руководству о результатах поездки. Было установлено, что:
Тестов П. А., уроженец Подосиновского района Кировской области, проживающий ныне в той же области на станции Пинюг, был призван в армию в начале войны, но уже в сентябре 1941 года добровольно сдался в плен под Лугой, точнее, просто перебежал к немцам, изменив Родине:
с 1941 по 1942 год служил в лагере военнопленных полицейским, а с 1942 года в «Ягдкоманде-38», принадлежавшей к СС;
при отступлении оккупантов снял форму с убитого красноармейца, вывихнул руку и попал в госпиталь, заявил, что документы утерял в бою. При выписке получил новые. И был «демобилизован». Руку он действительно вывихнул, упав пьяный с велосипеда, повредил ключицу и добился, что эту травму признали «связанной с пребыванием на фронте». Получил инвалидность третьей группы и пенсию. В собесе он вел себя нагло, стучал кулаком по столу: «За что я кровь проливал?», выбивая всякие льготы. В 1946 году, пьяный, затеял драку в поезде, нанес двум пассажирам удары ножом. Против него возбудили уголовное дело, но позднее прекратили, учитывая его «инвалидность».
Вот что узнали о Тестове со станции Пинюг. Но самое тяжкое обвинение — участие в расстрелах, измену Родине нужно было доказать еще и свидетельскими показаниями.
В следственные органы явился свидетель Чистов. Он служил в той же роте, что и Тестов, и рассказал, что Тестов числился ездовым, но в сентябре 1941 года, когда часть попала в окружение, ночью исчез, хотя имелась полная возможность выйти из окружения, что впоследствии и сделали все остальные бойцы.
Было принято решение возбудить уголовное дело по обвинению Тестова П. А., уроженца Кировской области, в преступлениях, предусмотренных пунктом «а» статьи 64 УК РСФСР. Прокурор утвердил обвинение и санкционировал арест бывшего карателя. Судить его привезли в Новгород. Тестов был очень удивлен и все повторял: «Откудова они узнали? Я же никому ни слова не говорил».
На следствии он прикидывался невменяемым, но трижды проведенная экспертиза доказала его симуляцию.
Старший следователь Алексей Васильевич Кузниченков начал с самого простого: «Где вы были в войну?» «В плену», — последовал ответ. Но материал был собран большой, и вскоре Тестов понял, что о нем все знают. Впрочем, вел себя спокойно, уверенный, что прямых свидетелей его злодеяний нет. И тогда Тестову устроили очную ставку с А. Д. Беловым. Свидетель напомнил обвиняемому, где тот находился во время трагедии в Пандрино, что говорил, в кого стрелял, как снял косынку с убитой девушки. «Ты что, с того света пришел?» — удивился Тестов. Обвиняемого опознали и другие свидетели.
О том, что Тестов служил в «Ягдкоманде-38» и занимался карательной деятельностью, рассказали жители деревень, где дислоцировалась эта команда. Свидетели Савина, Романова, Федорова, Петрова. Они подтвердили, что он носил немецкую форму и выезжал на карательные операции, а Петрова, например, рассказала, как он хвастался, сколько партизан убил в бою под хутором Хлутно. Эти же люди подтвердили участие Тестова в эвакуации жителей из деревень Крючкова, Хрепле, Капустно, а также в сожжении этих деревень. Свидетели показали, что на операцию в Пандрино ездило 35 карателей, в том числе и Тестов. Каратели вернулись из леса на следующий день с рюкзаками, набитыми вещами. Они вели с собой мальчика Сашу. Этот мальчик рассказал, что все жители Пандрино расстреляны. Так были добыты доказательства.
И вот на стол суда легли пять томов обвинительных документов. Перед судом прошли свидетели, очевидцы трагедии. Тестов признался и в измене Родине, и в том, что служил в «Ягдкоманде-38», и в том, что участвовал в расправе с жителями деревни Доскино. Да, собственно, иного выхода у него не было.
— По людям стрелял… И в женщин, и в ребятишек, — понуро сказал Тестов.
— А попадали? — спросил его адвокат, имея в виду внести уточнения в соответствии с законом.
— Не один я стрелял.
Он все еще пытался уйти от ответа. Но все было доказано.
Суд, признав все обвинения справедливыми, посчитал возможным применить не исключительную, но самую суровую меру наказания: 15 лет исправительно-трудовой колонии строгого режима.
Хоть и с запозданием, но наказание неотвратимо пришло.
1977 г.
Примечания
1
В 1975 году на родине героя Гнедашу был установлен памятник.
(обратно)2
Заметьте, Наташа подчеркнула, что вошла с «передней площадки», это уже отступление от мирных довоенных норм. В Ленинграде жестко соблюдалось правило — входить только с задней площадки. И еще: ни слова о войне, но нервная обстановка — чувствуется.
(обратно)


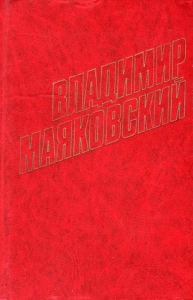



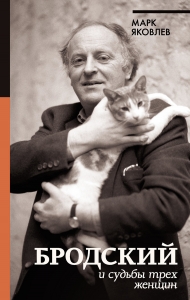


Комментарии к книге «Имя на камне», Борис Сергеевич Гусев
Всего 0 комментариев