Морган Вале в соавторстве с Софи Анри Лишенная детства
От издателя
Текст, который вам предстоит прочесть, — живое, берущее за душу свидетельство, трагический рассказ о драме — изнасиловании маленькой девочки. Насильник был осужден за это преступление. Через десять месяцев после того, как он вышел из тюрьмы, без вести пропала женщина. Позже ее нашли мертвой в лесу Мийи-ла-Форе. Тот самый насильник признался, что убил ее.
Вас ждет рассказ молодой женщины с истерзанной душой и телом, которая не смогла молчать, узнав об этом убийстве. Для издателя представляется важным дать ей возможность высказать свое собственное, пусть и субъективное, мнение.
Однако издатель напоминает, что в силу статьи 6 пункта 2 Европейской конвенции о защите прав человека и статьи 9 пункта 1 Гражданского Кодекса Франции, любой человек, обвиненный в преступлении, считается невиновным, пока его вина не будет установлена судом.
Он напоминает также, что до сегодняшнего дня мсье Мануэль Да Крус не признан виновным в изнасиловании и убийстве Мари-Кристин Одо[1].
1 МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА В ЛЕСУ
Слышите ли вы, как листья шуршат у вас под ногами? Как птицы щебечут и ссорятся в листве? Как дерутся за орех белки? Между Луаре и Эссоном, в том уголке Франции, где я выросла, леса простираются повсюду, прекрасные и умиротворяющие до слез. Влюбленные назначают там друг другу свидания, чтобы украдкой обменяться поцелуем, а неугомонные мальчишки устраивают меж двух дубов «войну пуговиц»[2]. Лес — это фабрика воспоминаний, живущая вдалеке от любопытных и докучливых глаз. Смех и крики с одинаковой легкостью тонут в здешнем густом подлеске. На этих присыпанных трухлявыми листьями тропинках, настоящих дорогах безмолвия, можно радоваться жизни так, что никто в мире об этом не узнает, а можно и умереть точно так же — так, что никто этого не заметит.
Девочка идет между густо растущими деревьями, сквозь кроны которых едва пробивается свет, за ней следует мужчина. Он кажется столь же огромным, сколь она — маленькой и хрупкой. Она идет босиком, с оголенными ногами, спотыкаясь о камешки. Она испугана. Из одежды на ней только куртка от спортивного костюма кричащей расцветки и повязанный вокруг талии кусок грязного брезента. Стоит хрустнуть ветке или раздаться неясному шороху — что, если там, вдалеке, прохожий или охотник? — она замирает в надежде, а он — с беспокойством прислушивается и замедляет шаг, чтобы не вызвать подозрений. Но никто не спешит спасти ребенка и остановить насильника.
— Остановимся здесь, — говорит ей мужчина, указывая на укромное место, поросшее травой. — Снимай курточку!
И он расстегивает пуговицы на ширинке.
Она догадывается о том, что случится в следующую минуту, — маленькая темноволосая девочка с глазами, полными слез, знает, что, если не подчинится, этот лес станет для нее кладбищем. Ей предстоит на много часов стать живой куклой, которую будут бить, душить и снова возвращать к жизни, чтобы получить от надругательства еще большее удовольствие.
Эта истерзанная девочка — я. Мне тринадцать, и мое детство навсегда похоронено там, под елями. Это было в октябре 2000 года, и моим насильником оказался наш сосед.
Слышите ли сухой шорох листьев, рассыпающихся у вас под ногами? Чувствуете сладковатый запах деревьев? Этот звук и этот запах много лет вызывал у меня тошноту и головокружение. Много лет прошло, прежде чем мне удалось прогнать из своих кошмаров узкие тропинки, безлюдные поляны, ватную тишину леса. Годы прошли, прежде чем мне удалось наконец по-настоящему выйти из этого леса. И одной секунды хватило, чтобы оказаться там снова. Это случилось 28 сентября прошлого года.
День выдался насыщенным, ближе к полудню я заскочила к себе перекусить. Учиться на фармацевтическом факультете нелегко, поэтому во время большой перемены я стараюсь дать моим нейронам полнейший отдых. НагИ[3] на экране телевизора, тальятелле al dente[4]; все идет хорошо, пока телефонный звонок не отрывает меня от моего «телеобеда». На определителе — номер родителей. Странно… У них нет причины мне звонить, мы недавно виделись, и это совсем не «их время», к тому же они знают, что сейчас я торопливо ем свои макароны, чтобы успеть на следующую пару. Однако телефон продолжает звонить, и в моем мозгу проносятся страшные предчувствия: дедушка попал в больницу, у младшей сестры неприятности, да бог знает что еще… Но ясно одно: случилось нечто ужасное.
Реальность оказывается даже хуже, чем я предполагала.
— Женщина пропала.
Голосу отца на том конце телефонной линии в три секунды удается увлечь меня в пучину страха. Папа говорит, что наш поселок взбудоражен, в соседнем доме полно жандармов и «этого идиота» допрашивают, вне всякого сомнения, в связи с этим похищением.
Он взялся за старое.
Мир моментально плывет у меня перед глазами, пальцы начинают дрожать. Пульт управления телевизором и мобильный падают на пол. На мою голову словно обрушился молот.
Он взялся за старое.
— Морган, ты меня слышишь? Ты в порядке?
Нет.
Я снова вижу его. Его леденящий взгляд, его руки, сжатые в кулаки, готовые ударить, и мое сердце заходится так, что мне начинает казаться, что оно вот-вот разорвется. Я снова вижу ветки деревьев, вычерчивающие на небе арабески, снова ощущаю его отвратительный запах, тяжесть его большого тела на моих бедрах ребенка. Голос отца слабеет, тонет в вате, наполнившей мой череп. Слова, сказанные им, моим насильником, снова звучат в ушах:
«Снимай курточку!»
«Я знаю, каково это — быть с девственницей…»
«Если расскажешь кому-нибудь, я тебя убью».
Меня жутко тошнит, слезы катятся по щекам, когда я, хлопнув дверью, бегу обратно в университет. Я добегаю до места на автопилоте, и подруги при виде моих покрасневших глаз начинают волноваться. Линда, Луиза и Жанна, мои верные подружки на все времена, торопятся утешить свою обожаемую Морган, которая совсем расклеилась. Они уверены, что только неудача на любовном фронте может испортить настроение такой жизнерадостной девушке, как я. Разве могут у меня быть другие проблемы?
Я не пытаюсь их переубедить.
Разве смогут они понять, что я здесь, с ними, и в то же время очень далеко? Как объяснить, что моя голова склонилась над письменной работой, которую нужно закончить, но душа моя в это время вернулась туда, в лес? Мерзкий запах и острая боль, холод и страх, испытанные под елями в тот октябрьский день, — все ощущения остались ужасно реальными, как если бы и не было этих девяти лет. В одно мгновение я снова стала несчастным ребенком, бегущим по улицам поселка, чтобы укрыться наконец от этого кошмара. Мне снова тринадцать лет, и только одному человеку на свете я могу рассказать о случившемся. Моей подруге Мари.
Она — мое все. Моя соседка, подруга, моя наперсница. Я бегу к ней, словно призрак, вырвавшийся из озера, не способная говорить, думать, дрожащая и близкая к истерике. Она обнимает меня, утешает, она дарит мне свое сочувствие в оболочке из папиросной бумаги. В этот вечер она спасает меня.
В отличие от меня, Мари слышала об этой истории с похищением, о которой трубят все средства массовой информации. Ей хорошо известны детали, и она посвящает в них меня. Оказывается, пропала женщина, которая совершала привычную пробежку в лесу Мийи-ла-Форе. Красивая блондинка с ласковыми глазами, пышными волосами и милой улыбкой. Я представляю себе это лицо грязным, изуродованным, искаженным страхом, со следами побоев. Я брежу наяву, и перед моими глазами встает мое детское тело, и вместо своего лица я вижу ее лицо — это она и я одновременно, в крови, без признаков жизни…
— Нет доказательств, что эту женщину убили, Морган! — успокаивает меня папа по телефону чуть позже тем же вечером.
Это правда. Никто не знает, что случилось в лесу, что довелось пережить Мари-Кристин Одо в день, когда она имела несчастье попасться на глаза хищнику.
Только я одна знаю.
Я предчувствую, что она мертва и знаю, что ей пришлось испытать. Я представляю себе ее страх и боль, причиняемую насильником, слышу ее крики и хрип удовольствия этого зверя. Я ощущаю, как под пальцами извращенца затухает крик. Я понимаю, что через девять лет, почти день в день, человек, который сломал мне жизнь, Мануэль Да Крус, мой сосед и палач, отправился в лес в поисках новой жертвы, которой не оставит ни единого шанса.
Несколько дней спустя полиция подтверждает все мои опасения: Мари-Кристин Одо изнасиловали, убили и оставили лежать голой на земле в лесу, словно собаку. После ДНК-экспертизы Да Крус признался в этом убийстве. Зверь вернулся и, вне всяких сомнений, снова нанес удар, — на этот раз смертельный, и в том же самом месте. Два года назад он вышел из тюрьмы, и ни социальные службы, ни правоохранительные органы, ни психологи не сочли нужным взять его под наблюдение.
Почему?
Представителям власти я рассказала все. Рассказала об исключительной жестокости того, кто меня изнасиловал, и о его «опыте» обращения с девственницами, и об отработанной тактике, позволившей меня выкрасть и спрятать, — обо всех этих деталях, свидетельствовавших о том, что мой случай — не первый. Я понимала, что я не первая и, разумеется, не последняя жертва Да Круса. Я сказала это, но никто не стал меня слушать. Почему?
Приговоренный к одиннадцати годам тюрьмы за то, что разбил мне жизнь, Мануэль Да Крус шесть лет провел за решеткой, после чего вернулся в то место, где совершил преступление, в дом, расположенный почти напротив дома моих родителей, и власти сочли возможным оставить его без психологического либо медицинского наблюдения.
Почему?
Мари-Кристин никогда не сможет задать этот вопрос. Ее заставили замолчать навсегда.
Но не меня.
Меня зовут Морган Вале, и мне двадцать два года. Я — первая из известных жертв Мануэля Да Круса и, насколько я знаю, единственная оставшаяся в живых. Единственная, кто может рассказать, что на самом деле произошло в лесу. Мари-Кристин Одо сделала все, чтобы ее убийцу поймали: из багажника машины, в котором он ее запер, она сумела позвонить в полицию и преподнести им на блюдечке описание и номер серого «Пежо-106», увозившего ее к смерти. Помощь подоспела слишком поздно, и Мари-Кристин, жертва убийства без свидетелей, никогда не сможет рассказать, что происходило с ней дальше. Она не может говорить, значит, это сделаю я. Чтобы люди вспомнили имя Мари-Кристин Одо, вспомнили о ее мужестве и о ее мучениях. Когда закончится суд, когда средства массовой информации и политики займутся другими делами, кто о ней вспомнит? Кто узнает, что «случай спортсменки», изнасилованной, задушенной и брошенной в яму, — вовсе не исключительный по своей сути, что такая же драма случалась в прошлом и еще повторится? Во Франции каждая шестая женщина признает, что в течение жизни ее пытались изнасиловать или же она стала жертвой этого акта[5]. Каждая двадцатая становилась объектом нападения, получала побои или ее пытались убить[6]. В год, когда разбилась моя жизнь, почти пятьдесят тысяч женщин были, как и я, изнасилованы[7]. Некоторые насильники потом берутся за старое. Что делается, чтобы им помешать?
Меня зовут Морган Вале, мне двадцать два, и полагаю, что в 2010-м для Франции пришло время принять меры по надлежащему лечению живущих в ее пределах извращенцев и помешать правонарушителям совершить новые преступления.
Услышат ли меня на этот раз?
2 МОЙ ТАКОЙ СПОКОЙНЫЙ ГОРОДОК…
Вся суть живого существа отражается в его глазах. Тяжелые, опухшие веки выдают труса, и я не доверяю тем, у кого глаза мечутся, словно нанюхавшиеся химикатов мухи. Я с давних пор сужу о людях по взгляду и верю, что в нем легко можно прочесть как искреннее расположение, так и хитрость. Я довольна парой гляделок, которой одарила меня природа. Мои большие глаза смотрят на мир честно и открыто, без тени злого умысла, а что до их цвета, то это настоящая загадка. В нашей семье недоумевают, от кого я унаследовала зеленый, с голубыми искорками цвет радужки. Как известно, когда подводят факты, на помощь приходит фантазия, и я сделала вывод, что это подарок далекого предка-путешественника, возможно, того самого ирландца, который поселился во французской глубинке в далеком 1900 году… По правде говоря, в истории моей семьи действительно много пробелов. Я мало что знаю о своих предках. И не намного больше — о детстве моих матери и отца. Она родилась здесь, в Луаре, а он какое-то время жил в Париже, потом поселился неподалеку, в нескольких километрах от того места, где жила она. И вот однажды высокая черноволосая девушка и симпатичный парень встречаются на городском рынке. Они замечают друг друга, он назначает ей свидание, потом они снова встречаются, обнимаются, веселятся и наконец решают жить вместе. Они не женаты, свободны, радостны и без ума друг от друга. Я появляюсь на свет в 1987-м — первый ребенок этих весельчаков и бонвиванов, и, спешу признать, с первых же дней купаюсь в бескрайнем море родительской нежности.
В Малезербе мы живем в чудном доме, разделенном на две половины: в одной мы с родителями, в другой — дядя и тетя. Поэтому всегда находится кто-то, кто рад приласкать «малышку», то есть меня. Я то и дело перехожу с рук обитателей первого этажа на руки живущих на втором, разукрашиваю входную дверь оттисками чернильной печати, пою на лестнице — я всюду у себя дома! — а потом бегу в садик, где мы с мальчиком, который в меня влюблен, целуемся под детской горкой, когда нас выводят на прогулку. На лето мои работающие родители отправляют меня к бабушке и дедушке в их ветхий домик в Авейроне. Он стоит на высоком холме один-одинешенек — настоящий остров, затерявшийся в полях, и наши единственные соседи — угрюмые коровы и лошади на вольном выпасе. Там, в эти золотые недели, когда ничто не напоминает о школе, я наслаждаюсь полнейшей свободой и свежим воздухом, увлекая двоюродную сестру Лоранс в марафон радостных проказ. В понедельник — пробежка по лугу и охота на кузнечиков. Во вторник — бассейн, а потом — баловство и шалости на наш выбор: методично оборвать все посаженные дедушкой цветы, стоит тому на минуту отвернуться; кричать как оглашенные и скакать перед безмятежной коровой; жариться на солнце; сварить суп из листьев и грязи. Столько всего можно сделать в эти долгие жаркие дни! Вернувшись из очередного набега на луга, мы решаем порыться в бабушкином комоде, презрев самые строгие запреты. И находим брошку с блестящими камешками и блузку в цветочек! Я влюбляюсь в них с первого взгляда, но Лоранс они тоже нравятся, и это — настоящая драма! Мы начинаем тузить друг друга из-за этой божественно красивой брошки, и нашей любимой бабушке приходится оторваться от кастрюль, чтобы нас разнять. Она останавливает драку и возвращает предмет спора обратно в ящик, которого тот не должен был покидать, а потом отправляет нас, провинившихся, в нашу комнату:
— Она никому не достанется, и точка! Это будет вам наукой за то, что дрались и рылись в моих вещах!
Но я — любимица, а потому, вернувшись домой с каникул и разбирая свой чемодан, я нахожу заботливо спрятанный между двумя свитерками предмет своих вожделений, который бабушка сунула в мои вещи под носом у моей двоюродной сестры.
Сколько я себя помню, я знаю, чего хочу, и часто это получаю. Меня ведь все любят! И мне прекрасно это известно.
Однажды утром мама отправляется за покупками и берет меня с собой; я слезаю с детского сиденья на магазинной тележке для покупок, рассудив с высоты своих трех лет, что уже слишком взрослая, чтобы меня катали, как младенца. Мама не возражает, вообразив, что я послушно пойду за ней и буду ждать, пока она переложит пакеты с молоком в багажник нашего «Фольксваген Кадди». Как бы не так! На другом конце магазина я заприметила отдел мягких игрушек. Туда-то я и направляюсь, как только мама отворачивается. Когда, перепугавшись, она начинает меня искать, то видит в очереди к кассе огромного бежевого плюшевого мишку с розовым галстуком-бабочкой, из-под которого торчат ножки ее обожаемой дочки Морган.
Я решаю купить этого мягкого мишку, такого громоздкого и такого красивого, который очень мне понравился, и даже не сомневаюсь, что магазин мы покинем вместе.
И я оказываюсь права. Столкнувшись с такой самоуверенностью, мама уступает и покупает мне это пушистое чудище.
Случай с медведем для меня — не исключение. Мои родители совсем не богаты, но ради «своей крошки» готовы на все. Каждый вечер мама укладывает меня в кроватку с деревянными перильцами, целует и шепчет на ушко самые сладкие и замечательные слова, обещая, что завтра будет еще лучше и радостнее, чем сегодня, и я ей верю. По воскресеньям папа отвлекается от очередной самоделки и запускает мою электрическую железную дорогу или сажает меня на свои крепкие плечи, и мы отправляемся на прогулку по улочкам Малезерба. Благодаря родителям первые годы своей жизни я проживаю радостно и без страха, от них получаю и море ласки, и губную гармонику, с которой не расстаюсь ни на минуту, и тощую кошку, которая без устали приносит котят. Родители дают мне все, в том числе и маленького братика, который собирается появиться как раз к моему пятому дню рождения.
Когда же он наконец рождается, я переживаю огромное разочарование. Пока мамин живот увеличивался в размере, превращаясь в цистерну, я перебрала в уме все игры, в которые мы с «новеньким» будем играть; за девять месяцев — а это целая вечность! — я построила тысячу воздушных замков, представляла, как мы играем в пятнашки и деремся подушками… И кто, по-вашему, прибыл из родильного дома на руках у мамы? Визжащий червячок, совсем крошечный, который даже не мог удержать в своих ручонках конструктор-playmobil. И это — брат? Зачем же было обещать, что мне с ним будет весело? Но хуже всего то, что он орет. Ну, по крайней мере, поначалу. Но очень скоро он начинает улыбаться мне во весь свой беззубый рот, и я понимаю, что могу играть с ним, как с куклой, только живой. По прошествии нескольких недель я привязываюсь к этому мальчугану, шумному, но забавному. Однажды утром маме приходит в голову идея увековечить эту идиллию, и она устраивает нас с братом на кровати, умоляя посидеть смирно всего одну минуту. Она уже держит в руке фотоаппарат, che-e-e-ese… Напрасный труд! Я набрасываюсь на малыша с поцелуями, он кричит, я покатываюсь со смеху. Портрет получился мутным, но это не важно. Я не хочу, чтобы брата отдавали в садик, ведь нам так весело вместе! Его зовут КорентЕн, но для меня он — ТитИ, потому что я так его люблю…
За год до рождения братишки родители ставят перед собой замечательную цель: найти симпатичный дом и устроиться в нем вместе со своим потомством. Четыре стены и крыша — не важно, где именно, главное, чтобы за городом, чтобы воздух был чистым, а вокруг — полно хлорофилла. Моим родителям несложно угодить, они всего лишь ищут для себя райский уголок, спокойный и зеленый, где они смогут наблюдать за тем, как растут их дети. И вот в 1991 году они совершенно случайно обретают этот рай в городке Эшийёз, в самой глубинке Луаре. Финансовое положение семьи никогда не отличалось стабильностью, а потому приходится довольствоваться полуразрушенным домом без ванной, туалета и второго этажа. Зато в этой халупе имеется просторный пыльный чердак, и мой отец, у которого золотые руки, заверяет нас, что превратит его во дворец. А пока масштабные работы по обустройству не начались, мы живем очень просто. В доме только одна спальня, и мы спим там все вместе. В сарайчике папа устроил себе мастерскую, и когда я прихожу отвлечь его от работы, то бишь каждые три минуты, мне приходится взбираться по такой крутой и ветхой деревянной лестнице, что я каждый раз боюсь с нее свалиться. Остальные помещения в доме тоже не слишком удобные. Когда приходит банный день, мама наливает теплую воду в большую лохань, и мы с Тити в ней моемся — прямо посреди кухни, обрызгивая мыльной пеной газовую плиту и барахтаясь в полное свое удовольствие. Наш туалет — это маленький домик в глубине сада. Там прохладно, и в сумерках страшно идти к нему мимо хозяйственных построек во дворе, но разве комфорт — главное? Для ребенка моих лет жить в этом старинном доме — настоящее счастье. Во-первых, он большой. У нас есть огороженный высоким каменным забором двор, сарай, полный под завязку всякого интересного мусора, старых ржавых инструментов и сломанных тачек, вдоль стен которого стопками сложены каменные плиты, какими мостят пол… «У этого дома хороший потенциал и свой собственный характер!» — любят повторять родители. Мне эти слова непонятны, но, видя, с какой гордостью они озирают свои новые владения, я понимаю, что живу в особенном месте. Наше немного облезлое семейное гнездо притулилось между церковью и городской управой, стена к стене с жилищем священника. Высокие деревянные двери ведут во двор, точно такие же есть в каждой комнате. Красивые двери, и в одной, прямо по центру, имеется отверстие. Мне это кажется забавным. А папа спешит меня поправить: «Это не забавно, это — история!»
— Когда-то через это окошко передавали блюда с едой, Морган!
За кратким ответом следует часовой рассказ-объяснение — в этом деле отец не знает себе равных. Он рассказывает, что в былые времена в нашем скромном жилище, вне всяких сомнений, обитал господин этих мест. Окрестные леса в ту пору буквально кишели лягушками-древесницами, и жителей деревеньки Эшийёз прозвали лягушатниками. Сняв слой штукатурки с наружных стен дома, папа обнаруживает великолепные арочные дверные проемы, довольно широкие, глядя на которые я думала, что люди, жившие здесь до нас, были очень знатными или очень богатыми. Под домом есть два подвала с каменными сводами и красивыми аркадами, до половины засыпанные землей, накопившейся там за много десятков лет. Отец уверен: наш дом связан с церковью и мэрией подземными ходами. Под сараем он находит начало двух темных средневековых туннелей, но родители строжайшим образом запрещают мне даже подходить к ним. А вот к колодцу я и сама подходить боюсь. В нем полно паутины, и мне кажется, что целая армия мохнатоногих бестий только и ждет момента, чтобы на меня наброситься. Мой храбрый папочка отваживается спуститься на самое дно колодца. Оказывается, там — целая каменная комната, о существовании которой наверху ни за что не догадаться, такая просторная, что в ней легко можно спрятаться.
— В войну члены отрядов Сопротивления наверняка скрывались тут сами или прятали оружие! — восторгается своей находкой отец.
Я слушаю его открыв рот. Мой дом не только очень красивый, в нем еще и полно секретов! И этот — не самый удивительный из всех. В саду, рядом с которым раньше наверняка располагалось кладбище, мы натыкаемся на захоронения белых костей. Мама, решив выкопать яму, чтобы посадить тую, находит в земле бедренную кость. А когда дело доходит до посадки герани, — пожалуйста, вот вам и череп! В подвале тоже полным-полно весьма старых и очень мертвых горожан. Я разгребаю землю и нахожу пальцы рук и кости ног, представляя, как устрою этим неизвестным предкам достойное погребение в нашем саду, а потом меня посещает другая идея и я решаю отнести восстановленные скелеты в местный музей и стать новым Индианой Джонсом. Однако у моего отца другие планы на эти кости: им предстоит отправиться в мусорную кучу, и незамедлительно! Папочка, пожалуйста, оставь мне мои любимые пазлы! Но папа неумолим. Археолог во мне жестоко страдает, и я, рыдая, убегаю в кухню, где меня дожидается мама. С ней я разговариваю реже, чем с папой, зато чаще что-то делаю руками. Дождливыми воскресеньями, склонившись надо мной, она учит меня делать маленьких крокодильчиков из блестящих бусинок, рисовать витиеватые розочки и собирать и сшивать между собой разноцветные лоскутки, чтобы получился симпатичный пэчворк, который затем она помещает в рамочку и вешает на стену, словно полотно великого художника. Слушая терпеливые материнские наставления, я вдыхаю ее вкусный запах и неловко пытаюсь повторять за ней. Мама — большая мастерица, и из-под ее пальцев выходят настоящие маленькие сокровища. На своей громоздкой швейной машинке, стоящей в гостиной, она целыми вечерами шьет для нас с братом фантастические наряды. К каждом школьному празднику она одевает нас принцессой и рыцарем, если только ей не придет на ум изобрести причудливое и в то же время поэтичное одеяние, секретом изготовления которого владеет она одна. Однажды, в день открытия городской ярмарки, она решила нарядить меня лесным эльфом. Вуаля! В мои волосы вплетены веточки, мое платье зеленое, словно лесной мох, на лице — фантазийный макияж. В другой раз оказывается, что мама нашла на чердаке дома моего дяди, ставшего его хозяином после владельца оптики, несколько сотен оправ для очков и спасла их от мусорного ведра. В течение многих часов она пришивает эти оправы на длинную юбку моего старенького платья. И вот на следующем бале-маскараде я перевоплощаюсь в Мадам Бинокль! Я обожаю смотреть, как работает мама, чтобы превратить дочку в королеву праздника. У нее живая фантазия, и, судя по тому, что на каждом маскараде я получаю первый приз, заставляя зеленеть от зависти моих подружек, настоящий талант…
И все же однажды премия за самый лучший маскарадный костюм досталась не мне.
В тот год я попросила маму сшить мне наряд к Хеллоуину. Я хотела перевоплотиться в Сатану, самого что ни на есть настоящего. Маме идея понравилась, тем более что этот костюм как нельзя лучше отражал мой нрав, к этому времени проявившийся во всей красе. Она не покладая рук работала, чтобы сделать из меня хорошенького дьяволенка: кроваво-красное трико, маленькие вилы в руке, заостренные ушки, змеиный хвостик… И вот в назначенный день я появляюсь на городской площади, горделивая, как сам Сатана, и приступаю к поискам своей подружки Лоры, перед которой хочу похвастаться своим великолепным костюмом. Но ее нигде не видно. Я расстраиваюсь, я бегаю взад и вперед, я даже иду к ней домой и возвращаюсь ни с чем… Ну куда она могла подеваться? И тут на меня снисходит озарение: она может быть только в церкви. Наверняка играет там с кем-то в прятки или тайком задувает свечки… Долго не раздумывая, я бегу туда, ведь мне не терпится услышать слова восхищения. Я забываю и о своем наряде, и о том, что сейчас одиннадцать, а значит, как раз начинается служба.
Я влетаю в здание, распахнув двустворчатые двери и, споткнувшись о край ковровой дорожки, растягиваюсь во весь рост в центральном проходе нашей красивой церкви. Во время мессы. И лежу на полу, наряженная Сатаной.
Прихожане в смятении.
Этот анекдотический случай быстро облетел городок. О происшествии узнали все жители, даже те, кто нечасто бывал на мессе… В Эшийёзе любят почесать языки! Как и в любом другом городке или деревне, у нас есть кумушки, которые с утра до вечера и с вечера до утра не отходят от своих окон. Правду сказать, на три сотни жителей у нас даже слишком много этих прячущихся за занавесками болтушек, способных превратить голую истину в роман с продолжением. Каждый раз, когда в городке селится новая семья, они заводят одну и ту же песню:
— Ни за что не догадаетесь, что рассказывают про этих новеньких!
И начинаются бесконечные пересуды. Через несколько лет после нашего переезда в эти места родители однажды замечают возле соседнего дома молодую улыбчивую женщину. И местные кумушки приступают к делу:
— Вы знаете про вашу соседку, ну, ту, блондинку? Она на самом деле… Она бывает в таких местах… Ну, скажем так, она — несерьезная женщина!
Если им верить, вновь прибывшая — личность подозрительная. Доказательства? Она одевается так, чтобы выглядеть сексапильно, носит короткие юбки и даже шорты. Ее часто видят на пороге собственного дома с сигаретой в руке. Она живет одна, но несколько раз в месяц к ней приезжает мужчина. А еще она работает по ночам, и это очень подозрительно.
Спустя какое-то время мои родители уже поддерживают дружеские отношения с этой новой симпатичной соседкой, несмотря на ее плохую репутацию. Она курит у двери, поскольку у ее дома нет ни двора, ни сада. И работает по плавающему графику. Она в разводе, и мужчина, навещающий ее по средам, — ее бывший муж, который приезжает повидаться с их двумя детьми. Ее зовут Кароль, и она — воспитательница.
Мои родители убеждаются в том, что у обитателей их очаровательного райского уголка злые языки, причем прекрасно подвешенные, и все новости стремительно облетают городок. Особенно домыслы и сплетни.
Эшийёз… Я обожаю мой городишко и знаю в нем каждый уголок. С моей бандой — пятью ребятами чуть постарше меня — мы носимся по нему во всех направлениях и всеми возможными способами — пешком, на велосипедах, на роликовых коньках, галопом, хохоча… После занятий в школе и в выходные этот спокойный городок величиной с носовой платок и все окрестные поля становятся для нас игровой площадкой. В ближнем лесу мы построили себе хижину, которой восхитился бы любой архитектор, если бы ему пришлось заблудиться в наших забытых Богом чащах. Мы на славу потрудились, возводя этот дворец из ветвей. Он получился совсем как настоящий — с крышей, дверью и даже туалетом, и в нем была мебель, сколоченная тремя гвоздями из двух досточек в родительском сарае. Высунув языки от старания, мы мастерили соломенные кровати, делали стулья, устанавливали стол и развешивали для красоты фотографии по стенам. Во дворе на барбекю — а оно у нас тоже имелось! — мы часто жарили колбаски, а когда в меню бывали маршмеллоу, домашние задания могли и подождать! В этой «пещере с сокровищами» я не замечала, как бежит время, а может, делала вид, что позабыла о своих часиках, чтобы повеселиться подольше. Папа принимался укорять меня, когда я возвращалась домой позже дозволенного с кучей ворованных фруктов, но уже через три минуты гладил по голове. Все забывалось, и я снова убегала играть.
Но если дело касалось принципиальных вопросов, родители были непреклонны: нам в обязанность вменялась элементарная вежливость при общении со всеми — «спасибо!», «здравствуйте!», «извините!» — и уважительное отношение к старшим. Из этих правил не было исключений. Что до остального, к примеру, опоздания домой на пару минут с прогулки, то мои родители вовсе не являлись слепыми поборниками дисциплины. Да и нужды в этом не было: невзирая на повадки сорвиголовы, я хорошо училась и, даже если и бывала задиристой, то невежливой — никогда. К тому же мои родители думали, что на улицах нашего такого спокойного городка со мной не может случиться ничего плохого. Рядом всегда моя банда, да и всех жителей Эшийёза я прекрасно знаю, в том числе родителей Лоры и семейство Ливр, чьи дети составляют половину нашей компании. По соседству с нами живет Мария, симпатичная булочница, которая иногда заходит к нам, чтобы подарить одежду, из которой выросла ее старшая дочь. Сын Марии Седрик ходит вместе со мной на тхеквондо, а мой отец иногда пропускает по стаканчику с ее мужем МанЮ[8]. Он тоже славный малый; недавно, на празднике 14 июля[9], он участвовал в забеге в мешках и бузил, как ребенок. На городскую площадь выходит дом моей лучшей подружки СюзИ, одноклассницы Седрика. Она на два года младше меня, но, как говорится, рыбак рыбака видит издалека, поэтому мы быстро поладили; ее старший брат Джефферсон в моем классе, а их мама, та самая Кароль, чьи белые кудри не дают покоя местным кумушкам, тоже меня очень любит: когда я переступаю порог их дома, меня всегда угощают чашкой теплого шоколада с пенкой… Мои родители бывают в гостях у лесника Фернана, оригинала, который держит в качестве домашнего животного лысого попугая, все повторяющего за ним и любую тираду заканчивающего фразой: «Эй, потише, здесь глухих нет!»
И каждый раз, услышав это, я умираю со смеху. В число моих любимых соседей нужно включить и Джонатана, красивого белокурого мальчика моих лет, и Мадам Капусту — маленькую морщинистую старушку, которая в любую погоду катит по улочкам Эшийёза свою тачку с овощами. Не зная, что я придумала для нее обидное прозвище, эта добрейшая женщина регулярно покупает мои работы в технике пэчворк. Я продаю их жителям городка, таким образом зарабатывая себе карманные деньги. При всей своей непритязательности мои поделки пользуются спросом. Все мамаши городка меня обожают, и мне достаточно обойти несколько домов, чтобы все распродать и вернуться домой с набитым конфетами школьным рюкзаком. В общем, у нас очень милые соседи. А с теми, к кому этот эпитет относится в меньшей степени, у меня особые отношения. Ворчунов и сплетниц я и моя банда наказываем, как они того заслуживают, — как только стемнеет, обносим их сады и огороды. Ату кисло-сладкой смородине, сочным черешням, душистой малине! Прокравшись в их владения, мы поедаем сладкие ягоды, облизывая сок с пальцев, потом вскакиваем на велики, довольные, с полными животами и карманами, а разъяренные соседи пытаются догнать воришек! Но ведь если бы не мы, все эти богатства попросту сгнили бы на корню, верно?
— Это будет им наукой, — заключаю я тем же вечером без малейших угрызений совести, рассказывая за ужином семье о своих похождениях.
От родителей, хотя они временами сами этому не рады, я унаследовала чувство справедливости и хорошо подвешенный язык.
И мои школьные учителя за это расплачиваются. Мой дневник пестрит призывами меньше разговаривать с подружками на уроках и больше работать. Не стану спорить: я — отчаянная болтушка. Не проходит недели без того, чтобы меня не наказали, и взрослые уже не знают, что бы такое придумать, чтобы заставить меня замолчать. Поставить в угол, заставить писать повторяющиеся строчки, лишить отдыха на перемене — с меня все как с гуся вода. Стоя в углу, я потихоньку сдираю со стен краску, кривляюсь за спиной у учительницы, и мои одноклассники хохочут; тысячу раз написав «я больше не буду разговаривать на уроке», я продолжаю болтать как ни в чем не бывало. Короче говоря, я — смутьянка и вместе с тем тайна: не особенно убиваясь над учебниками, я получаю самые высокие отметки. Я всегда первая или вторая в классе, и мне достаточно всего раз прочитать параграф, чтобы знать урок наизусть. Отвечать на вопросы учителя в классе я тоже отлично умею. Однажды на утреннем уроке речь заходит о кончине Моцарта. Когда учительница задает вопрос, я сразу же поднимаю палец:
— Я знаю! Вызовите меня! Я знаю, как он умер!
— Морган!
— Моцарта закопали вместе с бедняками и бродячими акробатами в выгребной яме!
Учительницу мой ответ явно позабавил, но это ни на секунду не поколебало моей уверенности. Я знаю, что права, потому что об этом мне рассказал папа.
А мой папа знает все.
Он знает генеалогию королей и умеет залить бетонный пол, починить стул и превратить корявое полено в симпатичный табурет. Он знает историю войн, всех войн, даже тех, что происходили в России и в древнем Риме. Мой отец получил свой диплом бакалавра и дальше учиться не пошел, но в области гуманитарных и естественных наук у него познания очень широкие. Сидя бок о бок, мы часами смотрим по телевизору «Les Mercredis de l’histoire»[10] и научные программы, которые маме кажутся ужасно скучными. Когда он мастерит что-нибудь в подвале, а я путаюсь у него под ногами, папа рассказывает мне, смахивая пыль с большой берцовой кости, как умер последний монарх Франции, рассказывает о религии, о Столетней войне, о Средневековье. Слушая его, я представляю рыцарей в шлемах, вооруженных до зубов и бегающих по подземным ходам под нашим домом от церкви к нынешней мэрии и обратно; я буквально слышу их торопливые шаги и вздрагиваю от страха и удовольствия. В следующую минуту отец переключается на фараонов, и вот я уже в Карнаке, в Гизе или в Саккаре, среди пирамид. Храмы, обелиски, спрятанные сокровища… Мама зовет нас ужинать, но ведь рассказ еще не закончен! Я хочу знать больше! Благодаря отцу я мысленно путешествую по миру. Благодаря его рассказам — настоящей машине времени! — в моей душе пробиваются ростки страстей, которые навсегда останутся со мной — любовь и интерес к истории, археологии и другим наукам.
Все очень просто: у меня — самый лучший в мире папа.
Но когда его взгляд затуманивается, когда наступает ночь и он наливает себе стаканчик, я понимаю, что праздник закончился и теперь не время для задушевных бесед.
У меня лучший на свете отец. И хуже всего то, что он пьет.
3 ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ И МЫ
В моем детстве было много солнечных дней, праздников и радости, простых и веселых выходных, семейных сражений в «Монополию», прогулок на природе и игр с братом на улице возле дома.
В моем детстве утро обычно было счастливым, а ночь — полной беспросветной тоски.
Я никогда не забуду эту музыку — одуряющую, невыносимую, которая наполняла дом вечерами, когда мой отец напивался. Магнитофон включался на полную громкость, и плевать, что это кому-то мешает! В такие вечера папа, похоже, забывал о своих детях, о жене, о соседях и вообще об окружающем мире. Для него существовали только «Роллинг Стоунз» или Альфа Блонди, чьи песни звучали очень громко и очень долго, оглушая меня и мешая спать. Я крутилась под одеялом, накрыв голову подушкой и обратив свои мольбы к моему обожаемому четвероногому другу — умершему давным-давно псу. Его фотографию я прикрепила к стене напротив своей кровати. Жибюс, где бы ты ни был, умоляю, помоги!
Если это и есть любовь — спасибо, я лучше обойдусь без нее. Когда родители ссорятся, я обещаю себе, что в будущем ни за что не позволю так с собой обращаться — ни мужчине, ни кому бы то ни было вообще. Я снова и снова говорю себе, что у меня точно будет выбор, будет хорошая работа, которая обеспечит мне независимость, и уважающий меня супруг. Именно такой — или никакого! В такие вечера оба родителя представляются мне жертвами: он — своей бутылки, она — своего мужа.
И я внезапно понимаю, что позиция жертвы вызывает у меня отвращение.
Покорные — те, кто смиряются, признают над собой чью-то власть, слово боятся сказать, слабаки и безвольные… Я таких терпеть не могу. У нас в классе тоже есть один такой, Твикс. Это прозвище мы навесили на невысокого мальчика по имени Доминик, который, на свое несчастье, очень упитанный. Его зовут на футбольное поле, только если не остается выбора, а когда начинается игра «в квача», девочки бросаются врассыпную, чтобы толстый Твикс не успел их поймать или, что еще хуже, чмокнуть в щеку. Я не отстаю от других: насмехаюсь над его полнотой и над тем, что он прячет в своем школьном ранце сладости. И довожу его до слез. Однако меня толкает на это не упрямая детская жестокость или желание показать, что я — на стороне «силы». Я пытаюсь заставить его ответить. Я надеюсь однажды увидеть, как увесистый кулак Доминика пройдется по носам тех, кто над ним насмехается, и он раз и навсегда перестанет быть козлом отпущения. Я дразню его, я провоцирую его на протест. Напрасно. И моя мать во многом похожа на Твикса. Как же мне хочется, чтобы она наконец очнулась! Чтобы поставила отца на место, когда он пытается к ней придираться из-за пустяков! Но она вместо этого делает вид, что не слышит все те гадости, которые он отпускает в ее адрес. И когда я говорю ей об этом, она отвечает:
— Я люблю твоего отца. А теперь иди в свою комнату!
Чем старше я становлюсь, тем сильнее мне хочется жить обычной жизнью. Я мечтаю быть как все, но это не так-то просто. Когда папа всю ночь не дает мне спать, наутро я встаю с постели злая, как гиена. В школе на меня смотрят с удивлением, когда я начинаю рыдать при первой же шутке в свой адрес, и мое поведение кажется странным друзьям и подружкам. Мрачная и молчащая или раздражительная, я все равно для них сумасбродка. И в том, что моей лучшей подружке Лоре не разрешают ночевать у меня, нет моей вины. Когда я ее приглашаю, она всегда отказывается, а потом через пару дней остается на ночь у нашей общей подружки. Правда в том, что весь городок знает, что мой отец — парень с причудами. В иные ночи своей музыкой он не дает спать целому кварталу, и родители Лоры, конечно, не хотят отправлять свою дочь в такой шумный дом. Ведь у них самих в доме так тихо! И это замечательно! Родители Лоры богаты, у них большой сад с голубым бассейном и большая машина, а еще у них есть огромная ванна, в которой мы с подружкой плещемся часами. Я завидую Лоре, ведь у нее такой замечательный новый дом и такие правильные родители… Я уверена, что они точно не ругаются так, как мои. И с ней, в отличие от меня, никогда бы не произошла эта жуткая история с фотографией.
А случилось вот что. Утром я проснулась с туманом в голове, потому что отец бузил чуть не всю ночь, и, конечно, поняла, что опаздываю. Сегодня в школе наш класс должны были фотографировать, но я об этом начисто забыла. На сборы у меня всего пять минут. Быстрее, еще быстрее! И я надеваю первое, что попадается под руку — старенький розовый свитерок и любимые узкие и короткие брючки. Я их просто обожаю: они черно-белые, с рисунком «под зебру», а на протертых коленках мама поставила заплатки в виде забавных физиономий мультяшного пса Ратанплана. Я выбегаю из дома, не посмотрев в зеркало, и появляюсь в школе запыхавшаяся, наспех одетая и растрепанная. Мои одноклассники уже собрались на школьном дворе, нарядные как никогда: девочки в платьях с плиссированными юбками, мальчики — в лакированных туфлях. Фотограф наготове, не хватает только меня. Учительница, как мне показалось, хочет поставить меня к самым высоким, но мое одеяние, должно быть, рассмешило фотографа, и он определяет мне место в первом ряду. Но мне совсем не до смеха.
Сидя в первом ряду в совершенно дурацком прикиде, я чувствую себя белой вороной. Не такой, как остальные. Я ощущаю себя не на высоте положения, в отличие от тех, кто меня окружает.
И это — отвратительное ощущение.
Сердце у меня сжимается и в тот момент, когда на выходе из школы мои подружки чмокают друг друга в щечку и спрашивают: «А ты что будешь делать вечером?»
Ответ всегда один: «Играть на компе, конечно!»
Интернет… У меня компьютера нет. Родители считают, что это дорого, и предпочитают, чтобы я читала, а не тратила время на сидение перед монитором. Закономерное следствие: в моем доме нет веб-камеры, не устраиваются пижамные вечеринки, и бассейна, который поразил бы воображение подружек, тоже не имеется. Но я с успехом компенсирую все это: в школе я из кожи вон лезу, чтобы быть самой классной, самой дружелюбной и веселой. Особенно в столовой. Там я отрываюсь по полной: бойкотирую еду, строю недовольную мину, рассказываю тысячу разных анекдотов, только бы рассмешить всех вокруг.
— Ешь спокойно, Морган, или я тебя накажу! — сердится кто-нибудь из сотрудниц столовой.
Но на меня не действуют уговоры. В итоге я оказываюсь в раздевалке для персонала, где поставили стол и стул специально для меня, ужасной и обаятельной Морган, которая так любит вызывать восхищение у одноклассников, дурача и изводя взрослых. Однажды за обедом я прибегаю к своему излюбленному трюку, чтобы позабавить подружек. Когда официантка требует поскорее освободить тарелку, я тихо отвечаю, что слишком расстроена и не могу доесть свой кусок говяжьего языка со шпинатом, ведь я сегодня узнала (да, мадам!), что живу в семье приемных родителей. Мои веки дрожат, я громко всхлипываю, приукрашивая свой рассказ сентиментальными подробностями, и бедная официантка с блестящими от слез глазами уже и не думает меня бранить. Несколько дней мы с подружками наслаждаемся тем, с какой легкостью взрослые ведутся на это шитое белыми нитками вранье. Но чего не сделаешь, чтобы понравиться сверстникам?
В день моего рождения мама разрешает мне привести домой пятнадцать друзей, но я привожу вдвое больше — целый батальон взбудораженных, веселых ребят и девчонок, которые за пятнадцать минут превращают нашу гостиную в поле боя! Мама ворчит, но я не обращаю внимания. Я хочу, чтобы все меня любили, а потому раздаю приглашения налево и направо. В коллеже, куда я перехожу в 1998-м, я меняю тактику. Чтобы завоевать признание, я щедро делюсь знаниями. На контрольных, стоит преподавателю отвернуться, я высоко поднимаю свой листок, чтобы все желающие могли списать правильные ответы. Коллеж — это уже серьезнее, чем школа: здесь нужно вести конспекты, переходить из комнаты в комнату перед каждым уроком и начать задумываться о будущей профессии. Я уже взрослая и горжусь этим. Знания, полученные на занятиях, я передаю своему брату весьма оригинальным, мной же придуманным способом: я усаживаю его за стол и, предупредив, чтобы берег пальцы, потому что пластиковая линейка у меня наготове, заставляю слушать мои разглагольствования. Уморительное зрелище! Подружек у меня и в коллеже море. Жюли, дочь преподавателя технологии, всегда ухоженная и стильно одетая Одри… В моем классе учится и Дженнифер, она очень хорошенькая и вызывает интерес у мужской половины класса. На фоне этой фигуристой звезды переменок я теряюсь, особенно если учесть, что у меня брекеты и я ношу очки. Успехами у мальчиков я похвастаться не могу, хоть и влюблена по уши в симпатичного одноклассника Антони. В течение года, когда мы учились в шестом классе, я подружкам все уши прожужжала, делясь впечатлениями об этом черноволосом худышке:
— Он красивый, правда? Ты видела, в каких он вчера был классных джинсах? Как думаешь, эта дылда ему нравится? Думаешь, он сядет рядом со мной на немецком? Думаешь, я ему нравлюсь? Правда нравлюсь, честно?
Изо дня в день мы обсуждаем стратегию покорения Антони, и мои усилия венчает такой долгожданный поцелуй (с язычком!) — мой первый поцелуй, который я описываю подружкам в подробностях три минуты спустя.
Антони и я! Наша идиллия длится целый вечер и заканчивается ужасным разрывом (назавтра на уроке математики он демонстрирует полнейшее ко мне равнодушие), и я переживаю из-за этого не меньше недели.
К счастью, дома у меня появляется новая забота, поскольку, какой бы нелепостью мне это не казалось, папа и мама все-таки любят друг друга настолько, что решили подарить нам с братом младшую сестренку. Ее зовут Рашель, она улыбчивая и вся в забавных складочках. Чтобы насладиться в полной мере возней с малюткой, мама бросает работу, и теперь за место у колыбели приходится бороться. Каждому хочется потискать малышку! Я, к примеру, без конца расчесываю три кудрявых волосинки малютки, наслаждаясь ее отчаянным криком. Мы с Корентеном деремся за право подержать бутылочку с молоком, а когда брат решает поучаствовать в купании младшей сестренки, я украдкой отвешиваю ему подзатыльник, утверждая за собой право старшинства: в этом доме я купаю Рашель, и никаких возражений!
На следующий день я в классе подробно рассказываю подружкам, как мы забавлялись с малюткой: Рашель, накрашенная моими усилиями; Рашель в парике а ля Мария-Антуанетта; Рашель спит в отсеке для белья стиральной машины и прочее, и прочее… Долгие разговоры шепотом на занятиях, розыгрыши, девичьи сплетни и обмен секретами… По мере того как я взрослею, все это становится сущностью моей жизни. В компании подруг я веселюсь, забываю о родительских ссорах, и мне так легко! В классе и после занятий я — заводила, если речь идет о какой-нибудь шутке. Я первая в учебе, первая болтушка, первая в игре «догони собаку» на улицах Эшийёза… Я первая мчусь сломя голову на велосипеде и первая вхожу в дом с привидениями, особенно если это запрещено.
А эта развалина и в самом деле страшная! Но нам все равно весело. Создается впечатление, что злая фея остановила здесь время и отправила жильцов к черту на кулички в ту самую минуту, когда они сидели за накрытым к обеду столом. Если не считать пустых стульев, все осталось как было: фарфоровая посуда на столе с остатками еды, пожелтевшие фотографии на стенах, зола в камине. На всем лежит слой пыли, за исключением, естественно, изваяния Пресвятой Девы. В общем, здесь точно должны быть привидения. Доказательства? Даже взрослые в это верят. Мама одной из моих подружек не придумала ничего лучшего, кроме как рассказать нам передававшуюся из уст в уста историю последних обитателей этого дома — супружеской четы, которая замучила своего сына-инвалида до смерти и с тех пор гниет в тюрьме. Мальчик, над которым издевались недостойные родители, — о ужас, о горе! Правда это или вымысел, но я и мои приятели, Джефферсон, Сюзи, Джонатан и остальные, принимаем на веру этот жуткий рассказ. Мы убеждаем друг друга, что слышали стоны бедного ребенка, ставшего привидением, и никто из нас не сомневается, что без крючков, которые мы видели в подвале, дело точно не обошлось… На цыпочках, вздрагивая от малейшего шороха, мы исследуем комнату за комнатой в этом доме, приподнимаем дрожащими пальцами каждую подозрительную бумажку, и нам страшно и в то же время ужасно весело. Когда порыв ветра заставляет скрипнуть одну из дверей, стены вздрагивают от наших воплей, и мы сломя голову несемся на улицу и божимся, что больше ни ногой в этот жуткий и такой интересный дом.
Разумеется, мы возвращаемся, и не раз.
Мне нравятся игры, когда бывает страшно. Мне нравится, как нарастает ужас, а потом по телу пробегает дрожь облегчения. Мне нравится бросать вызов запретному, но… потихоньку и за компанию с друзьями. Надуманные ужасы, хлопающие двери и несуществующие привидения отвлекают меня от реального страха, который охватывает меня, когда я слышу, как ругаются родители за стеной, когда папина музыка не дает мне сомкнуть глаз… Я люблю пугаться понарошку, потому что еще не знаю, что такое настоящий испуг. Испуг, который рвет на клочки ночи и омрачает дни. В эти первые годы в коллеже я с аппетитом вкушаю жизнь, я полна девичьих надежд и детских печалей, я живу с родителями, которые меня очень любят, но не ладят между собой. Я еще не знаю, что многие подростки стыдятся своих родителей, а особенно отцов, злоупотребляющих спиртным. Иногда вечером я чувствую себя ужасно одинокой. Я часто веселюсь и часто грущу, временами впадаю в отчаяние, иногда восстаю против правил и при этом хорошо учусь; я спешу вырасти и спешу играть. Словом, я нахожусь между двумя возрастами, между двумя мирами. Мне плохо в собственной шкуре и хорошо с друзьями. Мне больше нравится быть не дома, мне лучше с приятелями, чем с родителями. Я не люблю воскресенья и люблю понедельники. У меня еще почти незаметны груди, но уже имеется лифчик. Я уже не расточаю ласк родителям и пока еще — мальчикам. Я перехожу в четвертый класс, что же вы хотите! И, как и все сверстники, я отчаянно хочу быть самой собой и «своей» в компании. Как и все сверстники, я свято верю, что трава зеленее и семья крепче за соседским забором, и с отвращением осознаю, что мои родители — не супергерои. Само собой разумеется, я ненавижу их так же сильно, как и люблю, и с наступлением вечера клянусь всеми богами, которые мне известны, что моя жизнь сложится удачнее, чем у них.
В общем, мне тринадцать лет.
Я — нормальная девочка, живу в нормальной семье в нормальном городке.
Но это продлится недолго.
4 АДСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первое октября 2000 года.
Я ненавижу воскресенья. А это — в особенности.
Сегодня родители решили навестить Ролана, старинного приятеля моего отца, с которым они потеряли связь много лет назад и неожиданно встретились в каком-то магазинчике. Оказалось, он живет в нескольких километрах от нас. Папа и мама радуются предстоящей встрече, а я — нет. Мне хотелось подольше поваляться в постели, но теперь об этом не может быть и речи: нас ждут в гости утром, и обедать мы остаемся там же. У гостеприимного мсье есть сын, Питер, а по-домашнему — Титу, он немного старше меня. Выясняется, что, когда я была маленькой, наши родители часто виделись, а мы с Питером подружились и прекрасно ладили и на пикниках, и по вечерам, когда все пели под караоке.
— Как брат с сестрой! — в который раз повторяет папа. Он как раз ищет ключи от машины и между делом вспоминает, как они со стариной Роро жарили мясо на мангале, как мы с Титу вместе плескались в ванне (нам было года по два)… Поток воспоминаний не иссякает.
Но я не знаю, о чем буду с этим Питером говорить. Я совсем его не помню и с большей охотой осталась бы в своей комнате, где можно поспать или порыться в книжках.
Эта встреча старых друзей… Какая скука! Но ничего не поделаешь, родители настроены решительно. Айда, ребята! Рашель усаживают в автомобильное детское креслице, мы с братишкой садимся сзади, дверцы машины захлопываются, и мы отчаливаем.
Когда мы приезжаем к вновь обретенному другу, они с папой бросаются друг другу в объятия, и нам, подросткам, предлагают сделать то же самое. Мне немного неловко, в особенности потому, что родители не замолкают ни на секунду: едва сняв пальто, они уже рассказывают, как я подрезала Титу волосы, пока он спал. Я представляю, что когда-то спала рядом с этим высоким парнем, которому на вид не меньше пятнадцати, и краска смущения заливает мне щеки. Пока родители болтают, Титу, который чувствует себя так же скверно, как и я, предлагает мне посмотреть свою комнату. О’кей, думаю я, там нам будет веселее. Переступаю порог, и… У меня перехватывает дыхание: на письменном столе возвышается (я готова умереть от зависти!) великолепный новенький компьютер. Выясняется, что у Питера есть и Интернет. А значит, есть и MSN, и чаты, и блоги, и онлайновые игры! Вот повезло!
— А мне папа не хочет покупать компьютер, он говорит, что это слишком дорого, — с убитым видом вздыхаю я.
Титу спешит изложить мне свою стратегию. Он не стал ждать, когда родители выиграют в лотерею и купят ему компьютер его мечты. Он нашел себе подработку — в вечерние часы и во время каникул, и все время экономил, откладывая каждый су, пока наконец не смог себе его купить. Молодец, Титу! Я сразу же принимаюсь шевелить мозгами. Если у него получилось, почему не получится у меня? Но мне еще предстоит найти способ подзаработать. Весь городок успел накупить моих вещиц в технике пэчворк, и теперь, сколько бы я ни улыбалась, ни одна мамочка не потянется за кошельком. Как же быть? Давать частные уроки? С радостью, но чему я могу научить? И кого? Титу отвлекает меня от размышлений предложением пойти посмотреть на его мотоцикл.
Когда мы возвращаемся в дом, оказывается, что аперитив не пошел нашим отцам на пользу.
Ролан и папа поссорились. Перепуганная мама побелела как полотно, отец разгорячился в споре, обстановка ужасная. Мама тянет своего невозможного супруга за рукав, и мы сматываем удочки раньше, чем ожидалось. Вот тебе и встреча старых друзей! На обратном пути я закрываю уши руками, чтобы не слышать ядовитых замечаний, которыми мать осыпает отца, и его криков — он требует, чтобы она заткнулась.
Мне хочется только одного: бежать со всех ног, спрятаться в своей хижине или еще где-нибудь, забыть об их разборках и о своей боли. Через три минуты после возвращения домой я убегаю, хлопнув дверью. Я не знаю, куда податься, но бегу, задыхаясь и рыдая, снова и снова прокручивая в уме события сегодняшнего утра, испорченного чрезмерным употреблением спиртного.
Сегодня воскресенье, и на городской площади тихо. Я заглядываю в окна и вижу включенные телевизоры, заставленные едой столы, я чувствую приятный запах домашнего обеда. Ну почему мои родители не могут жить вот так, просто и здорово? Сейчас я не осмеливаюсь заявиться на порог ни к своей подружке Сюзи, ни к кому-либо другому. Рядом не оказывается никого, кто мог бы развеять мою тоску, поэтому я слоняюсь по улицам, задрав голову, и ветер осушает мои слезы. Понемногу я успокаиваюсь, и мои мысли и дыхание входят в привычный ритм. Как и всегда, пробежка по улицам городка меня успокаивает. Мысль о компьютере, таком, как у Титу, прочно засела в моем мозгу. Мне так хочется иметь такой же! Думай, Морган, думай! Наверняка это не так уж сложно — заработать немного денег! Может, наняться к кому-нибудь убирать дом? Моя мать так подрабатывала в молодости, почему бы мне не последовать ее примеру? Это отличная идея. И я решаю без проволочек начать обход всех соседок. Я предлагаю всем пожилым дамам, кто ко мне хорошо относится, помочь им с уборкой в доме или в саду, но, к несчастью для меня, в подобной помощи они не нуждаются. Обежав весь Эшийёз, я возвращаюсь несолоно хлебавши. Я расстроена. И вдруг меня осеняет: наша соседка, булочница, у которой двое детей, ходит ради приработка убираться в чужие дома. У нее, конечно же, не хватает времени на уборку собственного! И если я помогу ей вытереть пыль или погладить, она наверняка даст мне пару монет. Сказано — сделано! Я решительным шагом направляюсь к дому булочницы. Настроение у меня сразу улучшается, я бегом взлетаю на крыльцо и нажимаю на кнопку звонка.
Дверь мне открывает ее муж, тот самый Маню. Я посвящаю его в свой план. Он отвечает, что с женой сейчас поговорить не получится, потому что она куда-то уехала с детьми. Я говорю «спасибо» и собираюсь уходить, когда он добавляет:
— Ты это хорошо придумала, с помощью по дому! — Его взгляд останавливается на моем лице. — Зайди на минутку, посмотришь дом, оценишь, сколько здесь работы…
То, как Мануэль растягивает слова, и его затуманенный взгляд наводят на мысль об отце, когда он бывает в подпитии. Нет, в дом я не пойду ни за что! По телевизору постоянно рассказывают о похищенных детях и других ужасах. Я не дурочка, лучше зайду позже, когда его жена вернется. Однако мсье Да Крус настаивает. Конечно же, жена обрадуется, узнав, что такая милая девушка, как я, будет ей помогать! И мне обязательно нужно самой оценить объем работы. Похоже, моя идея и впрямь пришлась ему по душе. Он берет меня за руку, уговаривает, и я… я уступаю. Мне не хочется обижать его, не хочется показаться невежливой. Так уж я воспитана… И вообще, не съест же он меня, верно? Я прохожу в коридор, а оттуда — в дом, где никого нет. Мануэль улыбается, но легче мне от этого не становится. В большой гостиной работает телевизор, а на полу валяются игрушки его детей, которых я знаю, но мы с ними не особенно дружим. Чтобы не расстраивать их отца, которому мое предложение так понравилось, я решаю осмотреть этот дом, а потом вернуться домой или сходить в свою хижину, — в общем, неважно куда, только бы побыстрее отсюда уйти.
Маню же решил по-другому.
Он медленно обходит вокруг стола, потом останавливается возле шкафа со стеклянными полочками и проводит по одной из них пальцем.
— Посмотри, сколько пыли! Что-что, а помощь с уборкой нам точно не помешает! Наверху, в спальнях, еще грязнее. Идем покажу!
Внезапно в голове у меня раздается голос, который приказывает побыстрее сматываться отсюда! Но я не успеваю придумать предлог, чтобы уйти, а он уже подталкивает меня к лестнице:
— Поднимайся!
Он уже не улыбается. Он говорит твердо, серьезным тоном, не допускающим возражений. Он не просит, он приказывает.
И в это мгновение я понимаю: ничего не могло быть хуже, чем постучаться в эту дверь.
Лестница, ведущая на второй этаж, кажется мне бесконечной, и я пытаюсь унять усиливающуюся дрожь в коленках. Мануэль следует за мной по пятам. Я осматриваю комнату его дочери, качая головой, я делаю вид, что мне это интересно, а в глубине души надеюсь, что хозяин дома передумает показывать мне все свои владения. Напрасно. Он тянет меня за руку в комнату своего сына, а потом заводит в ванную. Когда мы возвращаемся в коридор, я бормочу, что родители меня ждут и мне пора домой.
— Нет.
Мануэль загородил собой проход, он стоит, раскинув руки, чтобы я не могла улизнуть. Потом прижимается ко мне.
— Нет, никуда ты не пойдешь. Мы с тобой хорошо развлечемся, ты и я!
Кровь застывает у меня в жилах, и я начинаю плакать.
— Так нельзя, пожалуйста, мсье, отпустите меня, я хочу к маме и папе, я хочу вернуться домой…
Пока я говорю, он все сильнее прижимается ко мне. Я начинаю звать на помощь, но Мануэль сжимает мне горло. Я отбиваюсь, дрожащая и перепуганная, я задыхаюсь, а он совершенно спокойно смотрит на меня, потом разжимает пальцы и говорит тихо, повелительным тоном:
— Ты сама понимаешь, какую сделала глупость? Что, если бы я оказался психом? Что, если бы я тебя изнасиловал? Испугалась? Так тебе и надо! Никогда нельзя заходить в дом к чужим людям одной, ты меня поняла? Дошло до тебя?
Конечно, «дошло», вы еще спрашиваете! Какая же я идиотка! Выходит, Маню просто решил меня припугнуть. Что ж, хороший урок! Задыхаясь от радости и облегчения, я клянусь ему всеми святыми на небе, что больше никогда не сделаю такой глупости. Я пытаюсь обойти его, чтобы попасть на лестницу, когда его рука вновь опускается на перила, преграждая мне путь.
— Я передумал. Ты остаешься.
Он играет, и его игрушка — я. Я попала в руки к настоящему злодею, какими их показывают в кино, и внутри какая-то пиявка начинает высасывать из меня силы и способность мыслить здраво. Это страх, неизведанный раньше, жуткий, безграничный, как смерть, только еще хуже, потому что я понимаю все, что со мной происходит. Он стоит так близко, что я ощущаю тошнотворный запах его тела, запах пота мужчины, вижу его широкие плечи, и ужас накрывает меня стремительно, как лавина. Я должна что-то предпринять, и быстро, я должна убежать! Я проскользну у него под рукой, спущусь по лестнице и добегу до входной двери, оставшейся открытой. А потом…
— Даже не думай об этом, — бросает он, заметив, как я поглядываю в сторону первого этажа. — Мы с тобой хорошо повеселимся. Раздевайся!
Я замираю на месте — не могу ни слова сказать, ни пошевелиться. Мануэль хватает меня за запястья и швыряет в ванную.
— Раздевайся, тебе говорят!
Нет, только не это! Я не хочу, я не могу, я цепляюсь за свою одежду, умоляя его перестать, подумать о своей жене, о детях, но он подходит ко мне, и тон его взлетает вместе с рукой. Из страха, что он меня ударит, я стягиваю штаны, потом футболку и на этом останавливаюсь. Я не могу, не могу… Он швыряет меня лицом на холодную плитку пола и стаскивает последнее, что на мне осталось. Мои симпатичные розовые трусики падают в ванну, запястья он мне связывает моим же лифчиком, и я слышу, как ломаются в нем «косточки». Когда он толкает меня к широкой, застеленной чем-то красным кровати, я думаю о сотне вещей одновременно: о родителях, которые пока еще не начали волноваться, о красивом лифчике, моем первом, который теперь испорчен, о солнце, которое в этот момент проходит через окно на потолке, я думаю обо всем и ни о чем, лишь бы не думать о том, что сейчас со мной случится. Я уже ощущаю, как его мерзкие руки ощупывают мои ягодицы, мои груди, я слышу, сама того не желая, его развратные словечки: «у тебя классная фигурка», «ты меня возбуждаешь»… И вдруг он останавливается.
— Уйдем отсюда!
Наверняка скоро должна вернуться его жена или дети, поэтому нужно срочно убираться. Он связывает мне ноги футболкой, забрасывает меня на плечо, несет в гостиную на первом этаже, где, как мешок с грязным бельем, швыряет на диван. По телевизору как раз идет сериал «Уокер — техасский рейнджер». Хотя я продолжаю рыдать, мне в голову вдруг приходит несуразная мысль: «Значит, все это взаправду!»
Раз по каналу TF1 показывают, как и всегда по воскресеньям, этого длинноволосого Уокера с его дурацкими выходками, значит, все, что со мной происходит, — реальность, а не кошмарный сон. Я и вправду связана, меня изнасилует этот мерзкий тип, а потом, вполне возможно, задушит, и последнее, что я увижу в жизни, будет это паршивое кино.
Мануэль позаботился сложить мою одежду и трусики в полиэтиленовый пакет, и теперь направляется к выходу. Стараясь как можно меньше шуметь, он запирает входную дверь и открывает окно, выходящее во внутренний двор позади дома. Рядом с сараем с инструментами, спрятанная от любопытных взглядов соседей, возвышается поленница. Мануэль кладет меня прямо на поленья — совершенно голую, со связанными руками и ногами, и уходит. Он пропадает из моего поля зрения, и я не знаю ни где он, ни может ли он сейчас меня видеть. Мне очень хочется убежать, но мне страшно, я собираюсь с силами, чтобы предпринять попытку к бегству, но они мгновенно покидают меня, стоит мне только подумать, что он за мной наблюдает. И я больше не осмеливаюсь шевельнуться. Вдалеке я вижу золотые поля, день выдался теплый. Деревяшки колют мне бедра, а запястья и щиколотки болят. И под ласковыми лучами солнца, отчаявшаяся и одинокая, я жду своей собачьей смерти. Я без одежды, рядом нет никого, кто мог бы спасти меня или пожалеть. Даже родители, и те меня не ищут. Это ощущение — я пропала, я одна на целом свете, помощи ждать неоткуда, ничем помочь себе я не могу, я во власти насильника — понемногу опустошает меня, лишает меня последних сил. «Я совсем одна, и скоро моя жизнь закончится», — повторяю я про себя снова и снова. Чем больше времени проходит, тем сильнее во мне нарастает паника. Я ощущаю на сердце какую-то ужасную тяжесть, по телу струится пот, когда я представляю возвращение Мануэля. Что он со мной сделает? Куда отвезет? Я должна успокоиться, или будет еще хуже. Мой страх его только обрадует. Дыши, Морган, дыши, так лучше! Я читала где-то, что настоящих извращенцев только забавляет страх, испытываемый их жертвами. Поэтому, лежа на куче поленьев, я пытаюсь перестать паниковать любой ценой, я решаю обмануть этого здоровенного мерзавца. Я найду способ выпутаться из этого кошмара. У меня просто нет выбора, мне нужно выпутаться!
Слышится шум мотора. Он возвращается уже на машине, паркует ее аккуратненько у поленницы, снимает ногу с педали газа и идет за мной. Мгновение — и я оказываюсь на полу возле заднего сиденья; из предосторожности он накрывает меня куском грязного брезента. Через три секунды я слышу, что он снова уходит. Наверное, решил прихватить с собой что-то еще, но куда он направился, я не имею понятия. Ясно одно: сейчас или никогда. Извиваясь, как сумасшедшая, я сбрасываю со своих запястий лифчик, а потом на четвертой скорости развязываю ноги. Бесшумно открываю дверцу и осматриваюсь: вокруг никого. Я мчусь со всех ног, как фурия. До выхода со двора всего двадцать метров, а там я выскочу на дорогу, и все — спасена! Прохожие увидят меня, голую и перепуганную, я стану кричать изо всех сил, и даже если он побежит за мной следом, все поймут, что что-то не так, он не сможет забрать меня, увести, я буду свободна, свободна, свободна!
И вот я бегу, но двор вымощен большими камнями кремового цвета, такими, которыми мы рисуем классики на асфальте и разрисовываем стены. У этих камней острые грани, они замедляют мой бег, режут мне подошвы ног, я поскальзываюсь и, как у марионетки на веревочках, у меня подламываются ноги… Слишком поздно.
Мануэль подхватывает меня, выкручивает мне руки и тянет назад, да так грубо, что я вскрикиваю от боли. Через распахнутые ворота я вижу, как по улице проезжает машина, а в ней — мой потенциальный спаситель, вот только он меня не замечает. В голове у меня все мутится от отчаяния. Швырнув меня обратно в машину, Мануэль так сильно бьет меня по голове, что в моем ухе что-то взрывается. Несколько долгих минут у меня перед глазами мерцают звездочки, я ничего больше не слышу, в голове — пожар. Что-то течет по шее, я прикасаюсь к жидкости пальцами, и они оказываются красными. Волосы мои слиплись от крови.
Но есть кое-что похуже боли: навязчивая, ужасная, не дающая ни секунды покоя мысль о том, что еще немного — и у меня бы все получилось!
Мое освобождение было так близко, рукой подать — большая улица, на которой полно машин, соседей, просто прохожих. Меньше чем в четырех метрах от меня как раз открывались ворота, мне нужно было поднапрячься, сделать еще одно усилие, я ведь почти добежала…
Почти.
Лежа на полу в машине, я представляла, как это могло бы быть: та машина останавливается, из нее выходит высокий мускулистый мужчина и заслоняет меня собой от моего обидчика. Или прохожий видит, как я бегу через проезжую часть совсем голая, в мгновение ока понимает, что случилось, и надирает задницу этому гаду, который пытался меня похитить. Или из-за угла выезжает маленький «Рено Твинго», и семья, которая в нем едет, видит, как я выбегаю за ворота, забирает меня с собой и доставляет живой и невредимой к родителям. А там — нежные материнские поцелуи. Вновь обретенный покой в надежных отцовских объятиях. Так хорошо…
— Я бы на твоем месте больше не глупил, а то хуже будет, — бурчит Мануэль, откашлявшись.
Его грубый голос разбивает хрупкие мечты, в которых я пыталась укрыться от реальности. Надежда — безнадежность… Невыносимое йо-йо, которое мне пришлось пережить, высосало из меня последние силы. И я снова впадаю в уныние, на этот раз еще более глубокое. У меня не получилось убежать, и из-за собственной глупости у меня теперь слышит только одно ухо, а второе гудит, словно там бьется какой-то сумасшедший шершень. У меня идет кровь, мне очень больно и кажется, что я навсегда оглохла. Но и это еще не самое худшее: я разозлила моего палача, и теперь боюсь, что он мне отомстит. Между двумя приступами ужаса я проклинаю саму себя. Это же надо быть такой ни на что не способной идиоткой! Нужно было получше все продумать, не колебаться так долго, как следует подготовиться к побегу. Нужно было спрятаться в доме или за кучей поленьев, а не пытаться сразу выскочить на улицу, ведь именно этого он от меня и ожидал! Какая же я бестолочь…
Мануэль снова отправляется в дом, даже не дав себе труда связать меня, но его жестокость сделала свое дело: парализованная страхом, я больше не пытаюсь убежать. Он возвращается с большим рулоном скотча и использует его до последнего сантиметра, крепко-накрепко связав мне ноги и руки. Последний кусок — на мой рот, сверху на меня снова падает брезентовая тряпка — и дело сделано: я не смогу теперь ни пикнуть, ни пошевелиться.
Мануэль спокойно заводит мотор.
Он ведет машину, а я плачу. И считаю. Я считаю остановки и повороты, влево и вправо, я отчаянно пытаюсь понять, куда мы едем, чтобы рассказать об этом полиции, если каким-то чудом мне удастся с ней связаться. Вслепую я пытаюсь запомнить этот маршрут-лабиринт, но через несколько километров перестаю ориентироваться. Мы едем очень долго, может, час, а может, и вечность, в любом случае достаточно долго, чтобы мне хватило времени представить худшее.
Я скоро умру, теперь мне это совершенно ясно. Я видела его безжалостный, леденящий кровь взгляд, когда он сжимал мне шею, видела, как легко, без малейших угрызений совести, и глазом не моргнув, он меня ударил. У этого типа нет сердца. Меня ждет глупая, бессмысленная смерть, и все потому, что мне хотелось иметь компьютер, как у моих приятелей. Я умру из-за собственной зависти и неосмотрительности… Я ужасно на себя разозлилась. Я умру, и сама в этом виновата. Я мусолила эту ужасную мысль и не могла остановиться.
Я никогда не сдам экзамен на степень бакалавра.
Я никогда не стану археологом.
Я никогда не увижу египетские пирамиды.
Я не поеду с классом на экскурсию в Бавьер.
Я не увижу, какой станет моя сестричка, когда вырастет.
Я больше никогда не буду рисовать на полях тетради цветочки и завитушки.
Я никогда не влюблюсь в парня и не выйду замуж.
Я никогда не стану старушкой.
И перед тем, как Да Крус убьет меня, мне придется страдать, я это знаю. Издевательства, насилие, лишение свободы… Самые худшие сценарии развития событий пролетают у меня перед глазами. Дела ДютрУ и ему подобных, дети, которых годами держат под замком, насилуют десятки мужчин, продают в подпольные публичные дома связанных, избитых… Наводящие ужас картинки вертятся в моем мозгу. И мне тоже придется пережить все это, и я закончу свою жизнь, как тот мальчик из дома с привидениями. Я представляю себя запертой в погребе с кляпом во рту, меня принуждают сниматься в порнофильмах или делают фото XXX, которые потом будут вывешены в Интернете. Сколько времени это будет продолжаться? И когда он решит меня убить?
Вот какие страхи охватывают меня в мои тринадцать, когда грузовичок наконец останавливается.
Брезент приподнимается, мы — в незнакомом месте, на грунтовой проселочной дороге, а рядом — лес, в котором я раньше не бывала.
— Не дергайся! — приказывает он и ножом разрезает связывающий меня скотч, в том числе и тот кусок, что закрывает рот.
Потом Да Крус направляется к багажнику своей колымаги и возвращается с курточкой от спортивного костюма семидесятых годов — пестрой, с флуоресцентными вставками, желто-малиновой, которая едва прикрывает мне попу. Я совсем замерзла, мои ноги посинели от холода; Мануэль приказывает мне повязать вокруг талии все тот же кусок брезента. В таком виде он наконец разрешает мне выбраться из машины, а потом закрывает дверцу на ключ. Вдалеке, там, где начинается проселочная дорога, я вижу проезжающий автомобиль. И в моем мозгу моментально начинает совершаться напряженная работа: бежать, кричать? Мануэль не отстает от меня ни на шаг. Если он догонит меня, если помешает спастись, его гнев будет стоить мне очень дорого. И я лишаю себя надежды на спасение.
Мы углубляемся в лес, и тропинка становится все уже, я ступаю босыми ногами по камешкам, спотыкаюсь о корни, а он — прислушивается. При каждом шорохе, каждом хрусте сломанной ветки он настороженно замирает. Я умоляю Бога, если Он только есть на небе, послать мне охотника или какого-нибудь любителя воскресных прогулок — кого угодно, только поскорее! Но, на мое несчастье, мы здесь одни и Мануэль уже присмотрел подходящий уголок. В обрамлении деревьев — квадратный клочок травы, скрытый со всех сторон листвой. Именно там он расстилает кусок брезента и приказывает мне снять эту жуткую курточку. Значит, здесь закончится моя жизнь, и это случится сейчас.
Я не помню точно, каким было лицо моего мучителя, но очень четко — момент, когда он приспустил свои джинсы. Не помню отвратительных слов, которыми он меня обсыпал, но очень остро — прикосновения его языка по всему моему детскому телу и отрывистое приказание:
— Соси!
Но я не умею. Я говорю ему об этом. Для меня это — всего лишь трюк из порнофильма, только актрисы фильмов XXX и героини эротических манга делают это; настоящие люди таким не занимаются. Оказывается, я ошибалась. Я сжимаю челюсти так, что еще немного — и сломаются зубы, но Мануэль хватает меня за плечо и швыряет на землю. Теперь я стою перед ним на коленях. Я отшатываюсь, а он хватает меня за голову и дергает к себе так резко, что у него в руке остается немаленький клок моих волос.
— Похоже, ты не очень-то хочешь вернуться домой…
И я подчиняюсь, хотя меня чуть не стошнило прямо ему на причинное место. Я с отвращением делаю, что мне приказывают, пока он не останавливается, чтобы высказать мне, что я ужасно неловкая и неопытная.
Я не помню, какого цвета было небо в тот день, но могу по памяти нарисовать арабески из веток, нависавших надо мной, когда Да Крус уложил меня на брезент. Отвратительная тошнота и пронзительная боль — словно кол прошел сквозь все тело — эти воспоминания останутся со мной навсегда. Я вдыхаю его отвратительный запах, и меня мутит, снова и снова накатывает тошнота. Мое тело сжимается, чтобы избежать худшего. Я стискиваю ноги так сильно, что мешаю ему двигаться, и он, лишенный возможности делать, что хочет, белеет от гнева.
— Перестань дергаться, лежи спокойно! Или ты это делаешь нарочно, мерзавка?
Его голос дрожит от ненависти, одним движением руки он запросто может сломать мне шею, поэтому я цепляюсь ногой за какой-то корень, чтобы ему не мешать. Я отключаюсь или, по меньшей мере, пытаюсь это сделать: не думать, не видеть, не слышать, не чувствовать, не существовать… Единственное, чего я хочу в это мгновение, — это потерять сознание. Для него — животного, которое дергается, обливаясь потом и скуля, и перебрасывает мои ноги из стороны в сторону, словно какой-нибудь микадо во власти своих похотливых капризов, — это ничего не изменит, потому что меня не существует. Ни мой плач, ни крики боли не заставят его остановиться или хотя бы чуть умерить свои толчки; если бы он мог вырвать мне ногу, чтобы войти поглубже, он бы так и сделал. В руках этого садиста я — кукла, резиновая женщина. Но только я живая. Он даже не видит меня. За исключением тех минут, когда приходит в бешенство. Это происходит внезапно, через несколько секунд после того, как он начал. Он вдруг замирает и вперяет свой безумный, невидящий взгляд в мое лицо.
— Ты — не девственница!
Конечно я девственница! Единственное, в чем меня можно упрекнуть, — так это в том, что я целовалась с Антони «с язычком» два года назад! Но Мануэль не верит ни одному моему слову, хоть это и чистая правда. Он злится, распаляется, спрашивает, кто лишил меня невинности, какой мерзавец это сделал.
— Ну, признавайся, с кем ты этим занималась?
Озлобленный, он брызжет на меня слюной, словно я — его дочка, которую он поймал «на горячем» — с пластинкой противозачаточных таблеток в руке. Это выводит его из себя — подумать только, он может быть не первым! Он так злится, что мне начинает казаться, что он вот-вот начнет меня бить. Умирая от страха, я пытаюсь найти подходящее объяснение, чтобы погасить припадок гнева, от которого у него покраснел лоб и сжались кулаки. Я — девственница, правда, правда, клянусь вам, мсье, и у меня уже несколько месяцев идут месячные, может, это тампон повредил что-то там внутри…
Однако мое псевдонаучное бормотание не производит на него никакого впечатления.
— Ты не девочка, я знаю, каково это — быть с девственницей! — изрыгает они снова набрасывается на меня. — Сожми ее, ну же!
Кошмар длится вечность. Когда он наконец останавливается, я ощущаю свое тело как некую инертную массу, полную боли. Живот у меня окаменел, бедра кажутся разорванными, не говоря уже об остальном, и мне так больно, что я уверена: мне никогда не стать прежней. Он разбил меня изнутри; к тому же я ощущаю, что из меня вытекает какая-то жидкость, и, в силу своей полной неосведомленности в вопросах секса, я прихожу к выводу, что это кровь и течет она из ран, которые мне нанес этот подонок.
— Одевайся!
Он швыряет курточку от спортивного костюма мне в лицо.
Я чувствую себя отвратительно. Более грязной, чем земля, которую он топчет, застегивая пояс на брюках, более замаранной, чем тряпка, которую он аккуратно складывает, более уродливой, чем эта страшненькая курточка, которую я, испытывая чувство облегчения, натягиваю на себя, чтобы быть не такой голой и не такой уязвимой. Я чувствую вкус земли на губах, а на животе — его слюну, чувствую его большие ладони на своих грудях. Я теперь — куча грязи, застрявшая между смертью и жизнью, в том самом коридоре со светом в одном конце, в который попадают души, покинув этот мир. Смогу ли я теперь вернуться домой?
Может быть. Вид у Мануэля теперь странный, даже печальный, словно у внезапно протрезвевшего.
— Господи, Господи, что же я наделал?!
И вдруг он разражается потоком благих речей, с дрожью в голосе заверяя, что никогда не простит себе этого, что это все из-за вина… Я же вижу только его застегнутые на все пуговицы джинсы и думаю об одном: все закончилось. Он протягивает мне брезентовую тряпку, чтобы я снова сделала себе из нее подобие юбки, потом берет меня за руку, словно отец, который собирается вести дочку в школу. В голосе его теперь нет ни злости, ни ненависти. Мы молча идем по тропинке, ведущей к опушке, и он сжимает в своей сухой огромной ладони мои замерзшие пальцы. Понемногу тошнота проходит, и мне уже не так страшно. Он не начнет снова, ведь он попросил прощения. Значит, он такой же, как мой папа: то злой, то снова добрый? И это правда, что от спиртного можно совсем потерять голову? Когда мы подходим к лесной опушке, я уже почти жалею этого типа, который окончит свои дни в тюрьме и который только что испортил жизнь себе, а заодно и мне.
На обочине проселочной дороги нас ждет его машина. При виде нее он ускоряет шаг и отшвыривает мою руку.
— Пошевеливайся! — резко приказывает он.
И снова меня нет. Он бежит к машине, не заботясь о том, что я буду делать, а я вдруг вижу себя, вижу его как бы со стороны. Я почти голая, он одет. Он решает, я подчиняюсь. Он смягчается — я его жалею. Он злится — я подчиняюсь. Насилует меня, а потом разыгрывает из себя папочку. Он дает мне надежду, что я вернусь домой, а потом меняет решение, и я превращаюсь в его игрушку, в вещь, в марионетку, готовую исполнить любой приказ. У него получилось даже заставить меня поверить, что он раскаялся! Он манипулирует мной, словно я кукла! Как ему, наверное, нравится эта игра в «холодно-горячо», как он возбуждается, видя, что я белею от страха, что я страдаю, что я надеюсь! А ведь я и правда поверила, что он сейчас отвезет меня домой, что он просто был пьян! Только дебилы бывают такими легковерными!
«Я знаю, каково это — быть с девственницей!»
Эта фраза снова и снова звучит в моей голове; значит, я не первая, вполне может быть, что он уже проделывал это с другими девочками моего возраста. Мое идиотское сострадание разлетается вдребезги. У меня больше нет ни грамма понимания, ничего, кроме огромной, жесточайшей ненависти, неудержимого отвращения, такого же колоссального, как и страх, который он мне внушает. Каждый его жест вселяет в меня беспокойство, от каждого его движения зависит моя жизнь. Из машины он достает мои очки и протягивает мне. Потом снова ныряет в салон и на этот раз вынимает нож.
Теперь точно конец, я пропала. Он зарежет меня прямо здесь, на грунтовой дороге, и я истеку кровью… Однако он швыряет нож к моим ногам.
— Подними и прикончи меня, другого я не заслуживаю. Ну, бери! — говорит он мне.
Он требует, чтобы я заколола его этим огромным ржавым ножом, говорит, что только тогда мне станет легче, а он получит то, что заслужил. А я… мне так хочется перерезать ему горло! В своих мечтах я убиваю его, я десятки раз вонзаю нож в его грудь, пока он не испускает дух! Но на этот раз я не собираюсь ему подчиняться. Он уже один раз обманул меня, там, у себя дома, когда притворился, что хочет отпустить меня, а потом вдруг передумал. Я теперь знаю, какие игры он любит! Если я направлю на него нож, он запросто швырнет меня на землю и обратит острие на меня. В голове у меня только одна мысль: как избавиться от ножа? Пока он здесь, между нами, у моих ног, в пределах досягаемости его руки, мне угрожает опасность. Инстинктивно я чувствую, что рискую жизнью. Я хватаю нож фирмы Opinel и отшвыриваю его так далеко, как могу, и он падает в заросли колючего кустарника.
— Нет, я не хочу вас убивать, — дрожащим голосом говорю я ему.
Он удивлен. В первый раз он смотрит на меня так, будто я существую, и я понимаю, что опасность отдаляется. Быстрее, быстрее, я пытаюсь придумать, что бы еще добавить:
— Не мне решать, умирать вам или нет, я не хочу и не могу. И то, что вы со мной сделали, — это плохо, но не настолько, чтобы умереть…
Я бормочу первое, что приходит в голову, и прихожу к выводу, что, пока он слушает мои бредни, он не желает ни моего тела, ни моей смерти. Так я удерживаю его на расстоянии…
— Возвращаемся, — бросает он через несколько минут после начала моего монолога.
Спасена. Я не осмеливаюсь даже рта раскрыть, так переполняет меня надежда. Мои мучения скоро закончатся! Сидя на заднем сиденье грузовичка, я узнаю поселки, которые мы проезжаем; медленно, но верно мы приближаемся к Эшийёзу. В соседнем городке Мануэль делает остановку, чтобы купить сигареты, и приказывает мне оставаться в машине. Как только он скрывается в баре, я начинаю мучительно соображать. Убежать или остаться? Если я выскочу из машины, а он увидит меня через витрину табачного киоска, то успеет меня догнать, и тогда мне точно конец. Нельзя поддаваться панике. В прошлый раз я уже потеряла ухо и теперь не хочу подвергать себя еще большему риску. Конечно, я могла бы потихоньку выскользнуть из машины, но я была полумертвой от страха, который связал мне руки, словно тисками зажал голову. Есть еще кое-что, что сдерживает мои порывы и гасит мою волю. Только что, в лесу, я была вещью, объектом манипуляций. Я подчинялась, снова и снова, и это искажение моей души не исчезло после того, как мой мучитель оделся. Несмотря на то что сейчас Мануэль далеко от меня, он «держит меня в руках». А раз он, похоже, решил отвезти меня обратно к родителям, мне лучше сидеть спокойно, только так у меня появится шанс выпутаться из этой истории. Вот о чем я думаю. И смирно сижу в грузовичке.
Он возвращается через несколько минут, заводит мотор, и я вдруг вижу, что он сворачивает с прямой дороги.
— Но нам нужно прямо! — осмеливаюсь сказать я.
— Покатаемся еще!
Эти слова погружают меня в пучину ужаса. Он уже получил что хотел, так почему бы не отвезти меня домой прямо сейчас? Ответ один: он решил меня убить. Через несколько минут я буду мертва, я в этом абсолютно уверена, и я знаю, где закончится моя жизнь — у озера, на которое мы часто ездили, прямо на просторном пляже, обрамленном грудами камней и облюбованном местными рыбаками, совсем рядом с шикарным гольф-клубом. Мануэль останавливается на пляже и швыряет мне мои вещи вместе с приказом одеться, пока он отойдет на пару метров, к деревьям, помочиться. Я хватаю свои жалкие одежки и молюсь, чтобы он вернулся не слишком скоро. Если он опять увидит меня голой, то может захотеть повторения. И вот, скрючившись на заднем сиденье, я стремительно натягиваю штаны и футболку, решив не тратить время на белье, которое поспешно и неловко пытаюсь рассовать по карманам.
Он возвращается раньше, чем я успеваю это сделать.
Я сжимаю скомканные трусики и лифчик в кулаке, но он их замечает.
— Одевай белье, быстро! Если мать увидит, что ты вернулась без трусов, что она подумает?
Выбора у меня нет, приходится подчиняться. Я стараюсь как можно быстрее стянуть с себя штаны. И случается то, чего я боялась: в его глазах я читаю желание начать все сначала.
Я не знаю, что мне сделать, чтобы выбраться из бездонной пропасти, в которую я снова соскальзываю. Я опять начинаю плакать, умоляю его разрешить мне вернуться домой, ведь родители будут волноваться, и его жена тоже. Я замерзла, и мне нужно надеть мои кофточку и джинсы…
— Сейчас я тебя согрею! — отрывисто говорит он, заставляя меня встать на четвереньки на заднем сиденье.
Потоки слез стекают по моим щекам, пока он давит на меня всем весом своего тела, от его запаха меня тошнит до рвоты, я сдерживаю крик и пытаюсь сопротивляться, как могу.
— Прекрати дергаться! Стой спокойно, или я засажу его тебе в задницу! — орет он.
И я стараюсь не шевелиться, пока он лапает меня своими мерзкими руками, стараюсь не слышать грязные словечки, которые он бормочет, и его поросячье хрюканье, стараюсь не чувствовать боль, еще более острую, чем в первый раз. Мне хочется вонзить пальцы ему в глаза, искусать его до крови, вырвать ему кишки, но я не делаю ничего подобного — безвольная кукла, которую перебрасывают из стороны в сторону, как обычную подушку. Я ненавижу его, ненавижу его крики удовольствия, а он отворачивает противосолнечный козырек с зеркалом так, чтобы видеть происходящее со стороны. Я ненавижу его, а себя презираю еще сильнее.
Совсем недавно, когда Да Крус ушел за сигаретами, я верила, что он отвезет меня к родителям.
Я нисколько не сомневалась в том, что сумела его перехитрить. Я ни на секунду не допускала мысли, что он может захотеть повторения. Найдется ли на этой планете вторая такая идиотка, как я? И неужели только смерть заставит меня осознать, насколько я глупа?
Наконец он останавливается, вытирается, натягивает штаны и неторопливым движением возвращает козырек в прежнее положение.
— Если проговоришься кому-нибудь, я тебя убью, — твердо произносит он.
Жестом он приказывает мне выйти из машины, прижимает меня к высокой ограде гольф-клуба. Его левая рука сжимает мое плечо, правая — шею. Он сначала сжимает ее слегка, потом сильнее, и я начинаю задыхаться.
— Я ничего не скажу, клянусь! Я обещаю вам! Отпустите меня, прошу вас, умоляю!
Я с трудом дышу, но он меня не отпускает, наоборот, обхватывает мою шею двумя руками и сжимает еще сильнее, тем временем рассказывая, что случится, если я открою свой паскудный рот: он убьет меня, и мои родители очень огорчатся, лишившись своей доченьки, и никогда не оправятся от этой утраты, и в этом буду виновата только я одна.
Мои родители… Пальцы Да Круса сдавливают мне горло, а я вижу родителей в кухне, и мою собаку тоже. Воздуха не хватает, все как в тумане, но картинки из моего привычного мира мелькают в голове. Двор коллежа и преподаватель немецкого; мы с мамой вместе собираем из разноцветных клочков ткани одеяло; папа громко хохочет; тачка с овощами Мадам Капусты; мой маленький брат, который даже не захочет обо мне вспоминать, столько гадостей я успела ему сделать… Я задыхаюсь, и нелепый хоровод пустяковых деталей и любимых лиц кружится в моем сознании. Я на полшага от смерти, когда хватка рук на шее вдруг ослабевает.
— Ты, как и другие, все расскажешь, а я не хочу в тюрьму, слышишь меня? — заявляет он. — Какие у меня гарантии, что ты не проболтаешься?
Нужно что-то придумать! Я должна выпутаться, ведь тогда, с ножом, у меня получилось, нужно опять заговорить ему зубы!
— Я не расскажу, потому что не хочу, чтобы вас арестовали! У вас есть дети, я их знаю, и было бы жестоко отобрать у них отца.
Слова вырвались сами собой. Но стоило мне напомнить ему о детях, как он опустил руки. А я тем временем с энтузиазмом продолжала болтать. Я сказала ему, что его дети очень расстроились бы, если бы папу забрали из дома. Я и правда знаю его детей, иногда вижу их в школе или в городе, и мы здороваемся, но не более того. Но какая теперь разница, насколько близко мы знакомы! Ради спасения своей жизни я сочиняю, приукрашиваю, не стесняясь откровенной лжи. Да с вашими ребятами мы лучшие друзья, разве вы не знали? Я обожаю вашего сына, мы вместе занимаемся восточными единоборствами! А ваша дочка — такая славная девчушка! Я никогда и никому не расскажу о том, что случилось сегодня, ведь я хочу, чтобы мы с ними остались друзьями; разве можно нанести такой жестокий удар по их невинности, их юности? О нет, я бы себя потом за это ненавидела…
— У меня у самой отец — алкоголик, и я знаю, что такое испорченное детство! Я не хочу, чтобы другие дети из-за меня страдали.
И все это я рассказываю ему, этому мерзавцу и гаду, который только что снова меня изнасиловал. Ради спасения своей шкуры я поношу своего отца, которого, несмотря ни на что, обожаю. И это срабатывает: Мануэль отпускает меня, мы возвращаемся в машину и выезжаем на дорогу. Молча. Проезжаем через Буланкур, через Ожервиль… Я вижу в окно дом Титу, где мы были сегодня утром, и мне кажется, что с тех пор прошло лет сто. Пюиссо, Гранжермон[11]… Эшийёз. Да Крус дает крюк, чтобы объехать городскую площадь. Уже темнеет. Он останавливается в паре сотен метров от нашего дома, выключает двигатель и говорит мне:
— Ты будешь молчать, как обещала. Если обманешь, меня заберут в тюрьму, а дети будут очень горевать. Ты меня поняла? Возвращайся домой и молчи как рыба. Когда сядешь за стол, улыбайся и болтай, как обычно.
Он приказывает мне причесаться.
— Если мать спросит, почему ты вернулась так поздно, соври, что заблудилась.
Я не дышу, не шевелюсь, не думаю. Господи, умоляю, только бы он не передумал! Он открывает дверцу, я выпрыгиваю на тротуар, но он бросает мне вслед, высунувшись в открытое окно:
— Если проговоришься, я тебя найду. До тюрьмы или после — не важно. Из-под земли достану, и ты за это поплатишься. Начнешь болтать — и ты труп, уразумела?
Теперь болтай сколько хочешь! Я свободна.
5 ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
Грузовичок проезжает мимо меня, я чувствую на себе тяжелый взгляд Да Круса, однако упорно продолжаю смотреть себе под ноги. Только не смотри на него, Морган, ни в коем случае не смотри! Пока я ощущаю его присутствие за своей спиной, меня не покидает чувство, что жизнь моя висит на волоске, и я мечтаю только об одном — бежать, скорее, скорее! Как только автомобиль исчезает из поля зрения, я как сумасшедшая несусь к тайнику, о котором никто, кроме меня, не знает — к нише в каменной ограде, которая окружает сад, где я временами краду спелые фрукты. Здесь я чувствую себя в безопасности. Если Да Крус вдруг передумает и повернет назад, ему ни за что меня не отыскать.
Скукожившись в своем укрытии, я жду, затаив дыхание. Мимо проезжает машина, но я ее не вижу, и сердце просто взрывается страхом: я уверена, что это он. Как случилось, что он меня отпустил? Сейчас он наверняка осознал, какую ошибку совершил. Он ищет меня, я в этом уверена. И я, окаменев от ужаса, сдерживаю рыдания. Звук мотора удаляется. Теперь пора действовать. Затаившись на краю утонувшего в темноте сада, — перепуганная, измотанная, с ощущением боли в каждой клеточке тела, — я пытаюсь перестать паниковать и придумать план собственного спасения. Только на этот раз — никаких ошибок! Во-первых, нужно подождать еще немного и убедиться, что Да Крус не вернулся, потом выбраться из тайника, добежать до дома, броситься в спасительные объятия родителей, а потом рассказать все, и пускай этот мерзавец гниет в тюрьме до седых волос!
И тут в мою душу закрадывается сомнение.
Даже седой, он все еще будет в состоянии причинить мне вред. Эта мысль внезапно перечеркивает весь мой план. И я начинаю стремительно подсчитывать: если Да Крус, которому сейчас около сорока, получит двадцать лет тюрьмы за все то ужасное, что со мной сделал, он выйдет как раз тогда, когда при нормальных обстоятельствах ушел бы на пенсию. Но и в шестьдесят вполне можно убить человека! И он поклялся, что убьет меня, если я на него донесу. Я до сих пор ощущаю давление его пальцев на горле, вижу кулак, который бьет меня в висок. Его холодные глаза, моя шея в его руках, его угрозы… Я не могу думать ни о чем другом. Выдать его — означает умереть.
У меня в голове хаос.
Я не хочу умирать. Я хочу жить, хочу стать археологом, хочу смотреть, как растут брат с сестрой! И потом, если я расскажу, как к этому отнесутся здесь, в городке? Его жена, всегда такая обходительная, с ума сойдет от горя. Я представляю ее большие черные глаза покрасневшими от слез, ее дом станет «домом насильника», а дети впадут в жуткую депрессию. Я сказала это несколько минут назад, чтобы спастись, но теперь действительно в этом уверена: если я расскажу правду, его дети никогда не смогут оправиться от такого удара. Они потеряют отца, будут расти с ужасным клеймом «детей извращенца». В школе за их спинами будут перешептываться. Им придется жить в аду: меня станут жалеть, а они превратятся в объект издевательств и насмешек. Если я все расскажу, то разрушу семью, опозорю двух детей. И окажусь виноватой во всех этих ужасах. А мне этого вовсе не хочется.
Но, с другой стороны, если я промолчу, что и кто помешает ему сделать это снова? Он решит, что может пользоваться мной опять и опять. Если развязать ему руки, сохранив этот омерзительный секрет, кошмар может повториться.
Ни за что! Я хочу, чтобы меня выслушали, защитили, помешали ему снова прийти за мной. Я расскажу правду, и мне все поверят, вот увидишь, мамочка! Отправив его гнить в тюрьму, я поступлю правильно, потому что плохие люди не должны оставаться безнаказанными.
Я все расскажу.
На улице уже совсем темно, когда я наконец выбираюсь из укрытия. Я несусь к городской площади, все время ускоряя бег. Я боюсь, что на дороге каждую секунду может появиться грузовичок, и тогда я пропала. И вот я уже лечу, задыхаясь, на всех парах, и вижу отца, который разговаривает с мамой моей подружки Сюзи у порога ее дома. Кароль! Папа! Какое это облегчение — просто смотреть на них! Я делаю последний рывок, а добежав, замедляю шаг. Мой отец явно взволнован, у него красное лицо и взгляд такой же мутный, как в худшие вечера… Я бросаюсь в объятия Кароль — взъерошенная, обессиленная. Рыдая, я прижимаюсь лицом к ее плечу, а мой отец смотрит на меня с недоумением.
— Морган, ты давно на часы смотрела? Мы всех на ноги подняли, мать с ума сходит! — заявляет он.
Но я захлебываюсь слезами и не могу ему ответить. В течение нескольких часов, думая только о том, чтобы выжить, я прошла через ад, затаив дыхание, а теперь я наконец могу дышать, и воздух обжигает мне горло. Я совершенно расклеилась: меня захлестывает ужас, и я цепляюсь за Кароль, умоляю ее меня спрятать, скорее, скорее, пока он меня не увидел, пока я не попала снова в его мерзкие руки! Она спрашивает у меня, что случилось, она проявляет настойчивость, и я, заикаясь и всхлипывая, шепчу ей на ухо несколько слов.
Я говорю очень тихо, но она слышит. Она отрывает меня от своей груди и смотрит ласково мне в глаза. Лицо у нее белое как полотно. Срывающимся голосом она говорит, что теперь все будет хорошо, что она идет звонить жандармам, и велит отцу поскорее привести мою мать.
— Да что тут, черт побери, происходит, хотел бы я знать? — вспыхивает тот.
— Твоя дочь только что сказала, что ее изнасиловали. Скорее иди за женой!
Отец хватает меня за руку и начинает трясти, как грушу:
— Что ты опять придумала, Морган? Ты понимаешь, что несешь?
Его слова кажутся мне пощечинами.
— Надеюсь, ты не врешь, потому что полицейских нельзя вызывать без повода!
Его слова убивают меня. Он мне не верит! Разве не достаточно просто посмотреть на меня, чтобы все стало ясно? Я чувствую себя одинокой как никогда раньше… Кароль уводит меня к себе в кухню, захлопнув дверь у отца перед носом. Мы слышим, как он, не переставая ругаться, удаляется по улице в сторону нашего дома.
В доме Кароль, как обычно, тепло. Она и ее мать суетятся вокруг меня, стараясь утешить. Но я не хочу ни горячего шоколада на молоке, ни одеяла. Я не испытываю голода, мне не холодно, просто мое тело меня больше не слушается, и я чувствую только тупую боль в ухе и как по щекам катятся слезы. Я не хочу думать, не хочу говорить, хочу только, чтобы меня оставили в покое…
Когда в комнату входит моя подруга Сюзи, она сразу понимает, что произошло что-то ужасное. Сжавшись в комок на кухонном диванчике — ноги поджаты, волосы упали на лицо, — я вся истекаю слезами. Она обнимает меня и спрашивает, что случилось. Я молчу, и тогда за меня отвечает ее бабушка:
— Ее изнасиловали.
Мгновение — и Сюзи тоже начинает рыдать, а у меня щемит сердце: это из-за меня она так расстроилась… В окно я вижу бегущую по улице мать. Она влетает в кухню, встревоженная и растрепанная. Едва переступив порог, она пытается меня обнять, но я не хочу, чтобы она ко мне прикасалась! С некоторых пор я избегаю ее ласк, ведь я уже не ребенок. Когда она меня обнимает, я злюсь и смущаюсь, и сегодня дистанция между нами становится еще больше из-за того, что я чувствую себя оскверненной, и из-за моего гнева. Я чувствую себя слишком грязной для объятий. И вообще, где она была, когда Да Крус меня увозил? Почему ничего не сделала, чтобы ему помешать? Я ненавижу ее. И мне очень плохо. Мне ужасно больно видеть ее обезумевшей от страха, с перекошенным лицом, и понимать, что она, как и я, уже успела с головой окунуться в горе… И вдруг раздается чей-то крик. Это мой отец явился в дом Кароль и сразу начал вопить:
— Кто? Кто этот мерзавец, кто с тобой это сделал? Отвечай немедленно!
Чем больше он надрывается, тем сильнее я плачу и тем меньше говорю. Если я назову отцу имя, кто знает, что он вздумает сделать? Не хватало только, чтобы все стало еще хуже, так что я молчу. Кароль, моя мама и даже Сюзи сначала просят, а потом требуют, чтобы он заткнулся. Бесполезно. И тут за дело берется бабушка. Ее способ оказывается эффективнее: тапи militari[12] она хватает моего отца за шиворот и выталкивает из дома, потребовав, чтобы в ближайшее время он не вздумал вернуться.
Так что жандармы, приехав к дому Кароль, в качестве «комитета по встрече» получают изрыгающего ругательства индивидуума, который мечется возле входной двери, — моего отца. Мне стыдно и страшно. Сюзи сжимает мою руку. Ощущать рядом ее присутствие для меня — огромное облегчение, а гостиная тем временем заполняется людьми в форме. Вокруг меня начинают суетиться четверо или пятеро мужчин и одна женщина. С телефонной трубкой в руке и блокнотом в кармане, они перебрасываются непонятными словами, говорят что-то о процедуре, прокуроре, и вообще имеют очень озабоченный вид. Неужели меня оставят наедине со всеми этими чужими людьми? Эти взрослые, что они собираются со мной сделать? Я шепотом прошу Сюзи пообещать, что она не оставит меня одну. Она говорит, что я не должна переживать, она и шагу не сделает из комнаты.
— Мы заберем девочку для допроса.
Ни за что! Я цепляюсь за спинку кухонного диванчика, потом за руку подруги, я кричу, чтобы меня оставили в покое, я никуда не пойду с этими типами, я хочу остаться здесь, с Сюзи! Жандармы уступают, и мы — моя мать, моя подружка и я — оказываемся в гостиной Кароль в обществе двух полицейских, мужчины и женщины, которые не сводят с меня глаз.
— Расскажи, что с тобой произошло, Морган, — тихо просит женщина-полицейский.
Пришло время все рассказать, но у меня не получается. Слова застряли где-то в горле, которое сжалось от страха. Все мое тело сотрясает дрожь, с которой я не могу справиться, и собраться с мыслями я тоже не могу. В моем сознании сегодняшний день превратился в жуткую игру-пазл, и все его элементы покачиваются на волнах океана безысходности. Грудь моя сотрясается в конвульсиях, я опускаю глаза… Не могу взять себя в руки. А потом это начинает выходить из меня обрывками, сбивчиво: скотч на губах, лес, кусок брезента. Спущенные штаны. Я рассказываю, потому что так надо, не вдаваясь в детали. Иногда меня перебивает своим вопросом дама-полицейский или всхлипы Сюзи, которая никак не может перестать плакать. Сначала слезы тихо катились по ее щекам, но по мере того, как я рассказывала, они полились потоком. Мои истерзанные гениталии, позы, которые он заставлял меня принимать, и боль, которую я при этом испытывала, сперма повсюду в машине… Моя подружка, которой едва исполнилось одиннадцать, все это слышит. Моя мама сидит рядом с ней и с каждой минутой становится все бледнее, и каждое мое слово, как мне представляется, еще больше леденит ее кровь и добавляет тоски в ее мокрые от слез глаза. И чем сильнее напрягается ее тело, чем сильнее она кусает губы, чем громче становятся рыдания Сюзи, тем легче мне говорить. Эффект, производимый моим рассказом на других, ошарашивает меня. Воплощенные в слова, зверства Да Круса становятся осознанной реальностью, и пережитое кажется мне еще ужаснее. По мере того как я рассказываю, я снова ощущаю толстые пальцы на моей шее, вес его тела на моем животе, его слюну у меня во рту…
Никогда раньше я не чувствовала себя такой грязной.
Мне хочется вычистить себя изнутри, я готова часами оттирать свое тело хлоркой, чтобы смыть следы, которые его оскверняют. Но сейчас еще не время: дама-полицейский спрашивает, кто «это» сделал. Я отвечаю на ее вопрос, и она не успевает произнести ни слова, как в полной тишине, повисшей в комнате, звучит дрожащий голосок моей подружки:
— Отец Седрика?
Для Сюзи это еще один страшный удар. Седрик для нее — не просто знакомый, они крепко дружат, и мысль о том, что он как-то связан с моей драмой, убивает ее окончательно. У нее явно нервный срыв, мне же становится еще хуже. Я больше не могу говорить, даже держать глаза открытыми мне тяжело, крики Сюзи пронзают меня насквозь, и хочется мне теперь только одного — помыться. Скажите, мне теперь можно в душ? Я сделала то, что требовалось, я все рассказала, отпустите меня! В ответ я слышу «нет». Мне еще предстоит поездка к судебно-медицинскому эксперту. Оказывается, это часть его работы — подтверждать факт изнасилования с медицинской точки зрения. Доктор также возьмет образцы жидкостей, которые Да Крус мог оставить в моем теле. Но хотя бы в туалет мне сходить можно?
— Иди, только побыстрее, — говорит мне один из жандармов. — И постарайся не подтираться.
Я киваю в знак согласия, хотя даже не попыталась вникнуть в его слова, и бросаюсь домой. Мама не отстает от меня ни на шаг. Влетев в ванную, я закрываю дверь на задвижку и сдираю с себя грязную одежду. Как бы мне хотелось сжечь ее! Через несколько минут мама начинает волноваться, почему я не выхожу, и у нее есть на то основания. Унитаз в нашем доме находится рядом с большой ванной, и она неодолимо влечет меня к себе. Ну наконец-то! Наконец-то я могу помыться. Я раздеваюсь догола. Плевать я хотела на все запреты! Мне нужно освободиться от этой скверны. И я уже ступаю ногой в воду, когда мама начинает тарабанить в дверь:
— Морган, прошу, только не делай глупостей!
Она умоляет меня не уничтожать доказательства, и я, рыдая, соглашаюсь: она права. Мы выходим из нашего дома, а я даже не смогла помыть руки. На «скорой» нас отвозят к судмедэксперту. В полночь я переступаю порог кабинета пожилого доктора, которого, вероятнее всего, разбудили специально ради этого случая. Кабинет выглядит так, словно на дворе — начало девятнадцатого столетия, но никак не двадцать первого. Вдоль стен стоят книжные шкафы из темного дерева, на полках теснятся старые книги. Посреди комнаты возвышается стол. Доктор похож на собственный кабинет: он такой же суровый.
Сперва он осматривает мое ухо, после чего делает заключение, что барабанная перепонка лопнула. Ясно одно: если она не восстановится сама собой, понадобится пересадка тканей. Его слова меня пугают, я боюсь навсегда остаться глухой и начинаю паниковать. Доктор просит меня раздеться и лечь на стол, чтобы он мог произвести полный осмотр. Потом я вижу, как он склоняется надо мной с металлическим инструментом в руках. Да, он собирается ввести его в меня, чтобы проверить состояние моей девственной плевы. От страха мое тело буквально деревенеет. Это кошмар после кошмара. Я сильно сжимаю ноги, и доктор обреченно вздыхает:
— Если ты не раздвинешь ноги, у меня ничего не получится.
Я вижу, что он сердится.
— Лежи спокойно!
Который раз за сегодня я слышу эти слова! Отчаяние накрывает меня, и я снова начинаю плакать. Однако эксперт настроен решительно, он обязан исполнить свой долг, как бы мне ни было плохо. Мама подбадривает меня взглядом, а он тем временем силой раздвигает мои бедра, просит быть умницей… Он берет мазки, какие-то образцы, да бог знает что еще! Как я теперь жалею, что вообще раскрыла рот! Если бы я этого не сделала, то была бы сейчас дома, с родителями, лежала бы, свернувшись калачиком, под одеялом, а напротив висел бы постер с моим любимым Жибюсом! А вместо этого кто-то снова выворачивает меня наизнанку!
Вернувшись домой, я спешу под душ. Обжигающе горячая вода стекает по шее, плечам, смывает с меня грязь и мои слезы. Я тру себя мочалкой, тру ожесточенно, потому что еще с большим удовольствием я содрала бы с себя эту оскверненную кожу и надела бы новую. Если бы мне сейчас под руку попался кусок наждачной бумаги, я бы стерла себя в кровь. Когда же, по прошествии часа, я наконец закрываю кран, то вижу, что похожа на вареного рака. Мама провожает меня до постели.
— Теперь отдыхай, моя радость, — говорит мне она. — Все наладится, ты не волнуйся…
Я еще слышу ее голос, когда падаю головой на подушку, и тут же забываюсь глубоким сном.
На следующее утро оказывается, что отоспаться не получится: на рассвете приходят полицейские, и мне предстоит выдержать второй допрос. Мне снова нужно рассказать все, с начала и до конца. Но на этот раз все серьезнее. Рядом нет ни мамы, ни подружки Сюзи, нет внимательной дамы-полицейской, готовой утешить, и я не в гостиной Кароль, где чувствую себя в безопасности. Меня привезли в Питивье и отвели в просторную комнату, совсем голую и очень белую, к специалистам по делам несовершеннолетних. И этот допрос будет записан на видеопленку.
Каждая мелочь имеет значение.
Полицейские, которые ведут дознание, хотят знать, какого цвета был грузовичок, и точное место, где произошло изнасилование. А откуда мне это знать? Я стараюсь дать им желаемое, и как можно скорее, чтобы эта пытка наконец закончилась; я напрягаю каждую клеточку своего серого вещества, чтобы вспомнить мельчайшие детали, от которых многое может зависеть и которые так их интересуют, — дорожные знаки, которые я заметила, когда мы ехали, и название фирмы-производителя трусов, которые были вчера на моем насильнике. Я пытаюсь вспомнить, что именно он говорил, когда издевался надо мной, и подробности начинают сыпаться сами собой. Я до того погружаюсь в эту грязь, что меня начинает тошнить, и усилия мои представляются мне тщетными: мне кажется, что дознаватели мне не верят. Они берут запись моего вчерашнего допроса и сверяют с сегодняшними показаниями.
Вчера я сказала, что мы проезжали через Амийи, но ведь эта деревушка находится в пятидесяти километрах от Эшийёза! Может, то была Мийи-ла-Форе? И не затруднит ли меня описать трусики, которые были тогда на мне? Они были новые, правильно? Какой марки был нож? И почему я его отбросила? Когда он вышел из машины за сигаретами, почему я не убежала?
Медленно холодная змея заползает в мою черепушку; я начинаю чувствовать себя виноватой. Виноватой в том, что не убила Да Круса, что не смогла сбежать. Виновата во всем, и это меня убивает. Когда камеру выключают, где-то через час с четвертью, у меня больше нет ни слов, ни слюны, ни сил. Я хочу вернуться домой, хочу в постель, хочу тишины. Но в расписании на день значится совсем другое: мне предстоит отправиться в детскую больницу в Фонтенбло. Надеюсь, что проведу там два-три часа, этого должно хватить на дополнительный осмотр и анализы, но меня ждет неприятный сюрприз: медсестра ласково сообщает, что я проведу здесь неделю — мне надо прийти в себя и пройти «курс лечения». «В палате с тобой будут еще две девочки, — добавляет она. — Если что-нибудь понадобится, вот звонок». Затем мадам-белый-халат скармливает мне горсть разноцветных таблеток, и я моментально улетаю на небеса. Завтра и послезавтра — idem[13]: таблетки, еще таблетки — и я парю. Но туман у меня в голове, оказывается, еще не самое худшее. Хуже этого — беседы с психологом.
Эта дама не понравилась мне с первой встречи, и тем не менее мне приходится видеться с ней каждое утро. Со своим тихим голосом и приторной улыбкой, она — мое ежедневное ярмо. Ей, наверное, наше общение тоже особой радости не доставляет, потому что в ее присутствии я становлюсь такой же разговорчивой, как рыба-еж. Теперь я не доверяю никому. Все взрослые внушают мне опасение, особенно мужчины. Не может быть и речи, чтобы я осталась наедине с представителем мужского пола. Все врачи в больнице уже об этом знают, и даже мой отец, когда приходит меня навестить, не может не заметить, что я его избегаю. Однако это объективная реальность: взрослые внушают мне страх. Женщин я боюсь чуть меньше, но доверять незнакомым людям? Ни за что! То же относится и к этой женщине-психологу, которая смотрит на меня с притворным сочувствием, — я попросту с ней не разговариваю. Каждое утро я жду от нее какой-нибудь новой гадости, подвоха. Она делает вид, что понимает меня, но я-то прекрасно знаю, что никто на это не способен. Никто! Ну кто может ясно представить себе, что мне пришлось вынести? Или поставить себя на мое место там, в лесу? Даже я сама уже не могу поверить в случившееся. Дни проходят, сегодня уже четверг, но для меня время остановилось. С воскресенья, в любое время дня и ночи, у меня перед глазами вдруг всплывают отвратительные картины того дня, я ощущаю вкус его слюны и толчки внизу живота. Страх накрывает меня волной, когда я лежу на своей кровати или говорю по телефону с мамой.
Я нахожусь здесь и там одновременно. Кто может понять это?
И в своем кошмаре я чувствую себя ужасно одинокой.
И потом, эта дама-психолог постоянно делает не то. Во время нашей первой встречи она протягивает мне большой лист бумаги и предлагает взять ручку и излить всю ненависть, которую я испытываю к «человеку, который тебя изнасиловал». Если задуматься, я могла бы сплошь исписать не то что лист, а целую тетрадь оскорблениями, но сейчас из меня почему-то ничего не выходит. Я не знаю таких оскорбительных слов, которые могли бы вместить в себя все то, что я к нему чувствую. Для меня все, что я пережила, — из разряда невыразимого, непередаваемого словами, непостижимого. Я могу это описать, когда того требуют полицейские, но не могу об этом думать. И это меня ошеломляет. Когда я вспоминаю о Да Крусе, мне никакие мысли в голову не приходят. Я только ощущаю жуткий страх, с которым невозможно совладать, который невозможно описать и выразить словами, страх, который затопляет мой мозг и блокирует все мои мысли и действия. Перенести его на бумагу означало бы принизить, уменьшить ужас, который внушает мне мой насильник. Поэтому я не пишу вообще ничего.
— Ты на него сердишься? — спрашивает у меня психолог, часто моргая.
На него — не знаю, а вот ее я бы с удовольствием стукнула, засунула бы ей в глотку и ее листок, и ручку вдобавок. Она смотрит на меня своими дебильными маленькими глазками, а я… я до сих пор опасаюсь за свою жизнь. Я боюсь, что он вернется, боюсь окружающих, боюсь воспоминаний, боюсь смерти. С тех пор как я в больнице, я по многу раз в день принимаю «лечение» — горы таблеток, и это становится еще одним поводом для волнений. Если я глотаю столько пилюль, значит, я действительно больна. Да Крус занес в мое тело какие-то жуткие микробы, возбудители болезни, наверняка неизлечимой, но никто не осмеливается сказать мне правду. А может, он навсегда порвал что-то у меня внутри, ведь там, в лесу, мне так и показалось… От всех этих «а может» у меня голова идет кругом, появляется животный страх, из-за чего исчезает аппетит и портится настроение.
— Ты принимаешь лечение против СПИДа, — как-то утром сообщает мне одна из медсестер. — Тебе назначена тритерапия, поскольку ты имела незащищенный половой контакт.
После ее объяснений я погружаюсь в отчаяние. Совершенно ясно мне только одно: вполне вероятно, что я скоро умру. Через несколько недель мне предстоит сдать анализы, чтобы выяснить, заразилась я или нет, а пока мне придется жить с этим страхом, как под бетонной плитой, которая в любой момент может рухнуть мне на голову. Успокаивающие, которыми меня закармливают, помогают мне справиться со всеми этими новыми ужасами. Целый день я живу в легком тумане, который защищает меня от окружающих и сглаживает приступы неконтролируемого страха. Ночью я проваливаюсь в черную дыру. Таблетки втягивают в себя тени кошмарных снов и мрак воспоминаний. И вдруг в какой-то момент я оживаю. Я даже начинаю понемногу болтать с девочками, которые делят со мной заточение. Одна — анорексичка, а другая — очень симпатичная несостоявшаяся самоубийца, у которой очень красивая одежда, и она умеет играть в гольф. Мы разговариваем о шмотках и о музыке. Я начинаю наведываться в игровую комнату больницы, потому что там есть компьютер с интересными программами. На нем я изменяю фотографии своей маленькой сестры — пририсовываю ей русые кудри или усы. Это меня развлекает, потому что в такие минуты я ни о чем не думаю, а когда я показываю Рашель эти маленькие карикатуры, она хохочет. Я очень люблю ее улыбку и смех. Я вижусь с ней каждый день — с моей сестричкой, которая едва научилась ходить. Когда мама приходит меня навестить, она всегда берет ее с собой. Мы разговариваем обо всем и ни о чем, и мама изо всех сил старается меня подбодрить, а Рашель все это время сидит у нее на коленях.
Но я все-таки хочу знать.
Я хочу быть уверена, что Да Крус не сможет прийти сюда за мной, хочу доказательств того, что в больнице я в полной безопасности. Мама меня успокаивает: она своими глазами видела, как жандармы приехали арестовать этого мерзавца — в понедельник на рассвете. Похоже, наш соседушка не удивился, увидев представителей закона, и послушно проследовал в участок. Там он сразу признался, что изнасиловал меня. Теперь его точно надолго запрут в тюрьму, добавляет мама, так что я могу быть спокойна. Потом она меняет тему и кладет мне на постель перечень моих домашних заданий.
Я рада, что могу заняться учебой, я не хочу вернуться в класс с мыслью о том, как много мне придется наверстывать.
Руководство коллежа поставили в известность о случившемся, но мои соученики ничего не знают. Мои подружки уже начали волноваться, они названивают мне домой и спрашивают, что со мной стряслось. У мамы для всех заготовлена спасительная ложь: «Морган попала на неделю в больницу с аппендицитом». Я неохотно разрешаю маме рассказать правду, в общих чертах, но только моим самым близким подругам. Из коллежа однажды утром я получаю великолепную открытку, подписанную всеми моими друзьями. Их «Выздоравливай скорее!», нацарапанное чернилами всех цветов радуги, согревает мне душу куда лучше, чем отвратительный густой больничный суп. В эти дни мне просто необходимо оказаться в обществе тех, кто меня знает и любит. Мамы мне мало; мне хочется вернуться к моим друзьям, снова стать такой же, как все. Чувство принадлежности к группе, ощущение безопасности, которое оно дает… Я всегда искала его, и теперь нуждаюсь в нем как никогда. Мои соседки по палате — симпатичные девчонки, но довольно скоро их разговоры мне надоедают. Лишние килограммы, родители, которые их не любят, — вот о чем они предпочитают говорить. Сейчас от меня вряд ли можно ждать сострадания, поскольку собственная ноша кажется мне слишком тяжелой. Их жалобы меня утомляют. Скорей бы вернуться домой…
Я с нетерпением жду, когда же наконец смогу сесть дома за стол и до отвала наесться вкусной еды маминого приготовления, но особенно я скучаю по коллежу, по нашим с подружками шумным разговорам, по шуточкам и смеху. Мне очень хочется снова погрузиться в повседневную жизнь, забыть на школьном дворе во время перемены о лесе, снова занять свое место среди моих товарищей. Это кошмарное воскресенье — я вычеркиваю его из жизни. Как если бы его и не было. Подружки, домашние задания, оценки — вот мои ориентиры, они помогут стереть воспоминания о соприкосновении с адом. Я представляю себе, что вернусь — и все пойдет своим чередом, как если бы и не было этой последней недели, этого воскресенья, когда мой мир разрушился. Прошло семь дней, которые я прожила, горстями поглощая таблетки, но завтра я возвращаюсь домой. Очень скоро я вернусь в класс, я просто не могу дождаться этого момента! В школе ничего не изменится, именно на это я надеюсь; ничего не изменится, разве что мои лучшие подружки, те, кто знает, что со мной произошло, будут смотреть на меня еще ласковее. Я думаю об их нежных улыбках, о поцелуях радости при встрече после недельной разлуки, и утешительное тепло согревает мне душу, когда я в последний раз забираюсь под белую больничную простыню.
Завтра я вернусь в свою привычную жизнь, я ни на секунду в этом не сомневаюсь.
И я представления не имею, как сильно ошибаюсь.
6 МИР ВВЕРХ ДНОМ
Когда, проведя неделю в больнице, я возвращаюсь домой, младшая сестренка бросается в мои объятия, и даже мой брат, с которым мы часто ссорились, очень рад меня видеть, как мне кажется. Нежные взгляды и вкусный обед — все ради того, чтобы обеспечить мне «мягкую посадку». Родители со мной особенно ласковы, а я… У меня такое ощущение, будто я наблюдаю за происходящим со стороны, что меня бросили в привычные декорации, но я не могу существовать в них, как раньше. Фотография моей собаки по-прежнему висит у кровати, мои детские рисунки все так же развешаны по стенам в кухне. Телевизор, мои игрушки — все на месте.
Ничего не изменилось, однако же все теперь по-другому.
Отец, мать, брат и сестра — эти четыре столпа, на которых покоится моя жизнь, незаметно покрылись трещинами. На наших семейных фотографиях всех моих родственников отныне окутывает дымка, такая легкая и почти невидимая, что только я ее замечаю.
А еще я замечаю, что между братом, сестрой и мной повисла такая же призрачная завеса. Они остались в мире детства, а меня унесло куда-то в иные миры. Корентен рассказывает мне о своих делах, о видеоиграх, о школе, о музыке, но я его совсем не слушаю. Стоит мне закрыть глаза, как я снова переношусь туда — в лес, в грузовик, на кучу поленьев. Чем бы я ни занималась — болтала с ним или играла с маленькой сестренкой, — вдруг от страха у меня скручивает живот и я не могу продолжать. Мне хочется проявлять интерес к их жизни, но у меня это больше не получается.
Я вижу, что мой отец тоже очень изменился. На прошлой неделе, в больнице, я уже ощутила, что неловкость и смущение встали между нами. Сегодня я уже не принимаю психотропных средств, поэтому правда предстает передо мной во всей красе: это он виноват, что мне пришлось пройти через ад, по крайней мере, сейчас я в этом уверена. Если бы он не напился в тот день, я бы не убежала из дома, мне бы не пришлось идти развеивать свой сплин на улицах городка, и я бы не зашла в дом Марии. И я помню, что, когда я рассказала о своем несчастье Кароль, папа, услышав о случившемся, мне не поверил. А перед жандармами даже подверг мои слова сомнению.
— Морган ищет себя, она — подросток, — сокрушался он, когда его стали допрашивать. — Все знают, что Да Крус — порядочный человек, работящий… Надеюсь, она не выдумала все это…
Реальность была ужасна, поэтому моего отца качало, как лодку в шторм. Он поверил мне, потом усомнился, потом поверил снова… И за этот «вальс-качание» я на него ужасно злюсь. Но есть еще кое-что, отдаляющее меня от него, кроме горьких воспоминаний, разочарования и гнева, — жуткое подозрение, невыразимое и грязное, которое зреет во мне и от которого я, по крайней мере в те дни, никак не могла отделаться.
«Ты не девственница!»
Эти слова Да Круса до сих пор звучат у меня в голове. Но я-то знаю, что никогда и ни с кем этим не занималась! Я это знаю, и судмедэксперт в своем заключении подтвердил мою невинность черным по белому, в следующих выражениях: «Разрыв девственной плевы; признаки вагинального проникновения, повлекшие за собой дефлорацию». Эти медицинские термины я понимаю, и все же, несмотря на свидетельство врача и вопреки всему, я думаю об этом снова и снова, бесконечно вспоминаю эту фразу Мануэля. Сомнение живет во мне, терзает меня: если я не была девственницей, когда Да Крус меня изнасиловал, то кто это со мной сделал?
Мужчины, живущие по соседству, мои учителя, дяди — все проходят поочередно пред моим мысленным взором. Каждый мужчина, которого я знаю, становится подозреваемым, в том числе (и в особенности!) мой отец. Разве не полно на страницах газет такого рода историй — рассказов об инцестах, десятилетиями хранившихся в тайне, этих отвратительных воспоминаниях, которые всплывают на поверхность много лет спустя? По ночам я, сама того не желая, позволяла своему воображению разворачивать передо мной ужасные сценарии с папой в роли Да Круса. Оба мои кошмара — реальный и вымышленный — сплелись в один. И когда здравый смысл наконец брал верх над страхами, оставалось иррациональное отвращение, результат совмещения моего насильника и моего отца. Это абсурдное, безосновательное подозрение вопреки всему так прочно обосновалось во мне, упрямое и ужасное, что между мной и отцом образовалась железная преграда. Изнасилование положило конец нашему взаимопониманию. С этого дня и в течение многих лет я ни разу его не поцеловала. Наши ласки, наши бесконечные разговоры — со всем этим было покончено.
Мерзость, приключившаяся со мной, хлынула через край, оскверняя своей липкой слюной мою собственную семью.
Мои родители, судя по всему, решили, что не выполнили свой долг по отношению ко мне. Они-то думали, что поступают правильно, они хотели воспитать меня в любви, хотели, чтобы я росла без жестких ограничений, без чрезмерной опеки, но с правильными представлениями о том, что хорошо и что плохо! Они давали мне свободу быть там, где мне хочется, разрешали гулять по городку… Однако защитить меня не сумели. И этот провал стал для них большим ударом. Отвергнутый своей дорогой Морган, отец чувствовал себя последним ничтожеством. «Дерьмо дерьмом!» — повторял он, когда думал, что я не слышу. Хрупкий сосуд его душевного равновесия разлетелся вдребезги. Получалось, что моей сестричке, которой недавно исполнился годик, предстояло расти с родителями, утратившими веру в себя, раздавленными горем, отмеченными клеймом моего несчастья. Мой восьмилетний брат уже старается привлекать к себе как можно меньше внимания; самостоятельный по своей природе, он без лишних слов понял, что на него у родителей теперь найдется не слишком много времени. Отпуск по уходу за малышкой превращается для мамы в испытание: вместо того чтобы лелеять своих троих детей, наслаждаясь счастьем, она день за днем принимает сыплющиеся на нее со всех сторон удары. Словно треснувшая ваза, которая тем не менее хочет казаться крепкой, как бетонный блок, она понимает, что у нее нет права быть слабой; семья, где разрушились все внутренние связи, держится на ней одной: дом, уборка и стирка, адвокат, годовалый ребенок, покупки, муж в депрессии, вернувшаяся домой из больницы дочка с развороченными телом и душой…
И вдобавок ко всему этому — Мария.
Едва ее Мануэля забрали в тюрьму, как мадам Да Крус прибежала к нам, потрясенная свалившимся на ее голову кошмаром. И с тех пор она бесконечно рыдает на нашем пороге. Родители приглашают ее в дом, повторяя, что она тут вовсе ни при чем и нет ее вины в том, что ее муж — гнусный поганец. Ее, Марию, все очень любят. Она, как и мои родители, испытывает потребность излить кому-нибудь этот избыток несчастья; спаянные драмой, наши семьи теперь становятся одним целым. По крайней мере, на первых порах. Потому что очень скоро обстановка накаляется. Расстроенная Мария то и дело приходит к нам и, сжав меня в объятиях, начинает жаловаться на наше несчастье. Каждый день мы наблюдаем извержение вулкана: слезы текут у нее по щекам, беспокойство бьет ключом, меня коробит от стыда, когда я думаю, что из-за меня пришлось пережить этой бедной женщине, а терпение моего отца начинает иссякать.
Он задумывается о том, нормально ли это — жене насильника приходить плакаться к жертве изнасилования. Он сочувствует бедняжке, но у него все чаще мелькает мысль, что Марии нужно было подумать получше, прежде чем связываться с сексуальным извращенцем. В общем, через какое-то время он приходит к выводу, что нашу соседку куда больше волнуют ее собственное горе и будущее ее детей, чем горе и будущее настоящей жертвы, то есть меня, в то время как я молча сижу у окна.
Два несчастья в одной комнате — это слишком; в очередной раз выслушав сетования расстроенной Марии, папа взрывается и со скандалом выставляет ее за дверь.
Между ею и нами начинается холодная война, но мои родители не слишком переживают по этому поводу. У них своя забота — я. Я и мои фантомы. Я и мои кошмары. СПИД, который мне угрожает, ощущение грязи на всем теле, которое меня не покидает, иррациональный страх, что Да Крус вернется за мной, — все это смешивается у меня в голове и подтачивает мои силы. Моя мама, встревоженная тем, что я быстро устаю, предлагает мне побыть еще несколько дней дома. Еще несколько дней не ходить в коллеж? Нет, спасибо, я слишком соскучилась по своим подружкам, я тороплюсь снова оказаться в классе, где никто не знает о случившемся. И потом, я не хочу возбуждать подозрений слишком долгим отсутствием, не хочу сильно отстать от программы. Четвертый класс коллежа — это не шутки.
И вот однажды утром я возвращаюсь в коллеж.
Я чувствую себя не слишком уверенно, и это еще слабо сказано. Мне кажется, будто на меня косо смотрят, преподаватели ко мне слишком добры, а мои ненаглядные подружки — слишком любопытны. Они, конечно, страшно рады моему возвращению, они вьются вокруг меня, но они тоже хотят услышать мой рассказ. Правды, лаконично изложенной мамой с моего разрешения, пока я лежала в больнице, им мало. Они жаждут получить ответы на свои «как?», «когда?», «почему?», они ждут от меня подробностей. Я превращаюсь в фельетон, и каждый хочет (ради любопытства или чтобы лучше меня понять и мне помочь) прочесть его от корки до корки. И их желание понятно, вот только я слишком часто это рассказывала взрослым — даме-психологу, жандармам, следователям. Мне хочется совсем другого. Я хочу легких разговоров, забавных и пустых. Хочу снова стать нормальной. Подружкам, которые задают мне вопросы, я отвечаю уклончиво, говорю, что со мной все в порядке, а про себя умоляю их сменить тему. Я не хочу говорить об этом, и уж точно не перед всеми. Я не хочу, чтобы рассказ о моих несчастьях вышел за пределы узкого круга моих самых верных подружек. Кстати, а кто еще в курсе? На уроке немецкого вместо того, чтобы учить материал, я пытаюсь выяснить, кто и что знает в моем классе, и с комом в горле прислушиваюсь к разговорам. Я узнаю, что у Седрика, похоже, какие-то проблемы, и он ходит странный с тех пор, как его отца забрала полиция. Пока я была в больнице, моя подружка Сюзи страдала из-за того, что услышала во время моего допроса. Результат: она потеряла сознание на уроке физкультуры, ей было трудно дышать. Пришлось увезти ее в больницу на «скорой», и ее положили в ту же самую палату, где лежала я. За все — и за горе Седрика, и за кошмары Сюзи — я чувствую себя в ответе, и осознание этого терзает меня до самой перемены. Закутавшись в пальто, в кругу своих подруг я болтаю в тихом уголке школьного двора, когда наш одноклассник Марк с кривой улыбочкой останавливается прямо передо мной.
— А скажи-ка, Морган, в газете написали, что девочку нашего возраста изнасиловали, и она была в больнице, — говорит он громко. — Ты как раз оттуда, так, может, это про тебя?
И этот идиот складывается пополам от хохота. Скорее всего, он вздумал надо мной пошутить, а может, таким образом решил проверить слухи, я не знаю. Но своего добился: на меня его тирада произвела эффект взорвавшейся бомбы. При слове «изнасиловали» у меня «снесло крышу». Я решила, что о моем позоре уже всем известно и Марк пришел надо мной поиздеваться. Я белею как полотно и убегаю в туалет для девочек, где закрываю замок на два оборота, чтобы выплакать все слезы, какие только у меня есть. Подружки бросаются за мной, пытаются силой открыть дверь. Поднимается гвалт, все, кто вышел на переменку, собираются возле туалета. Мой друг Джефферсон подходит узнать, что со мной случилось. Услышав, что Марк довел меня до слез какой-то историей про изнасилование, он набрасывается на моего обидчика с кулаками. А я в это время рыдаю, пребывая в уверенности, что противный Марк сказал это, желая меня обидеть. Я с ужасом осознаю, что то страшное воскресенье проложило себе путь даже в коллеж. Хуже того: немного успокоившись, я понимаю, что выдала себя с головой. Мое бегство и слезы стали подтверждением того, о чем этот болван и не подозревал: девочка из газеты — это точно я.
И теперь об этом узнает весь коллеж.
Мне ужасно плохо…
За несколько дней, как этого и следовало ожидать, новость распространяется повсюду. У меня появляется чувство, истинное или ложное, что весь день на меня все смотрят. Но самое худшее — это школьный автобус, который утром собирает учеников коллежа по окрестным городкам и деревням, а вечером развозит их по домам. Все школьники из Эшийёза собираются на одной остановке, и с этим ничего не поделаешь. И вот мы стоим — сын моего мучителя и я, а между нами, осязаемая и отвратительная, неловкость, которая заражает других ребят. Мы изо всех сил стараемся не замечать друг друга, и я не знаю, куда деваться. Мне бы хотелось провалиться под землю, но это невозможно, и одно мое присутствие портит всей компании настроение. Я — изнасилование, Седрик — вина, и наше мучительное сосуществование начинается заново каждое утро. По средам дело обстоит еще хуже: в этот день мы с Седриком посещаем тренировку по тхеквондо. Иногда нас сводят в спарринге — меня, жертву изнасилования, и его, сына подонка, — и заставляют лупить друг друга. Естественно, ни он ни я не осмеливаемся ударить или делаем это вяло, лишь бы не сердить тренера. Я не могу ударить, потому что, так или иначе, из-за меня он лишился отца, а он не решается поднять на меня руку, потому что все время думает, я в этом уверена, что по вине его отца мне пришлось пережить весь этот ужас. Мы стоим и смотрим друг на друга — жалкие марионетки, такие разные жертвы одного несчастья, раздавленные судьбой, которая сыграла с нами столь скверную шутку.
Во время тренировки, под неоновыми лампами гимнастического зала, на скамейках сидят наши матери и наблюдают за нами. Они медленно, но верно начинают ненавидеть друг друга.
С того дня, как мой отец выставил Марию за дверь, отношения между ней и моими родителями ухудшились. На автобусной остановке мама и Мария не разговаривают, только обмениваются злыми взглядами, давая обильную пищу для пересудов городским кумушкам. В Эшийёзе мое изнасилование, арест Да Круса и последствия этих ошеломительных событий стали темой номер один. Сплетницы торопятся сообщить нам последние новости о наших соседях напротив. Лишившись кормильца, семья Да Крус, судя по всему, начала получать пособие на покупку продуктов, и мэр написал им письмо, чтобы поддержать в этот трудный момент жизни.
— А мы? Мы ничего не получили! — взрывается мой отец.
У моих родителей нарастает неприятное ощущение фрустрации. И это не мое предположение, это реальность. Оказывается, жителям Эшийёза трудно общаться, как раньше, с обеими семьями — насильника и жертвы, особенно с тех пор, как мои родители и Мария поссорились; значит, нужно выбирать, чью сторону принять. И вот однажды один из сотрудников отца вдруг перестает с ним здороваться. Еще одна неприятная новость: на пороге школы некоторые мамочки моментально замолкают, едва завидев мою. В моем мире — idem. Некоторые мои знакомые вдруг перестают отвечать на мое «Привет!» или делают вид, что не замечают меня в коридорах коллежа. Кое-кто из мальчиков, которые раньше дружили и со мной, и с Седриком, отворачиваются, завидев меня. Из солидарности с ним, поскольку ситуация не подразумевает компромисса, они больше со мной не разговаривают и обходят стороной на школьном дворе. У Сюзи, которая раньше очень близко дружила и со мной, и с Седриком, постоянно случаются нервные припадки. То, что она услышала во время моего допроса, произвело на девочку гнетущее впечатление, а необходимость разрываться между двумя своими лучшими друзьями в коллеже довела ее в итоге до такого состояния, что ей пришлось посещать психотерапевта. Доктор посоветовал ей хотя бы на время дистанцироваться от «источника своего травматизма», то есть от меня. Результат: моя подружка отдаляется, и Джефферсон, ее старший брат, тоже. Спустя несколько недель тот, кто поспешил мне на помощь в день, когда я вернулась в школу после больницы, почти не разговаривает со мной.
Седрик, вероятно, переживает нечто подобное, хотя наверняка я этого не знаю. Но ясно одно: несмотря на то что жертва происшедшего — именно я, как раз вокруг меня и образовывается пустота.
Надо сказать, что я тоже не слишком приветлива.
Та Морган, какой я была до недавнего времени, умерла. Вежливая девочка, услужливая подружка, душа компании… она исчезла. Хандра обрушилась на меня, а я и не думаю сопротивляться. Не проходит и дня, чтобы я не вспомнила об «этом», о насильнике, о боли внизу живота, об осквернении, которое стало моим клеймом. Не проходит и дня, чтобы мысленно я не произнесла его имени. Да Крус… Эти два слова перемещают меня в сумрачную зону моего сознания, и я тут же забываю обо всем остальном: об уроках, которые нужно учить, о болтовне подружек. На занятиях и на переменах я плохо запоминаю, о чем идет речь, разговоры кажутся мне обрывочными и быстро улетучиваются из памяти, я выпадаю из действительности. Слишком часто я пребываю здесь и, в то же самое время, нигде. Уроки проходят без меня, некогда примерной ученицы, которая теперь витает в облаках. Я даже не замечаю, как посреди школьного дня по моим щекам вдруг начинают струиться слезы, и это случается так часто, что у меня появляется привычка прятать лицо за своими длинными волосами. Дома — я ем. И во время обычных приемов пищи, и между ними. За пять дней я набираю пять килограммов, потом, перепуганная цифрами на напольных весах, не могу проглотить вообще ничего, даже яблоко, чтобы скорее сбросить этот нежеланный жир. Мое тело уподобляется мячику «йо-йо», я начинаю терять форму, появляются стрии — длинные красные рубцы на коже, которых я ужасно стыжусь. Мое тело меня стесняет, оно мне мешает, и я начинаю выбирать мешковатую одежду, с каждым днем все более уродливую. В коллеж я хожу в спортивных костюмах, темных и бесформенных.
Мои лучшие подружки в классе остаются такими же, как и раньше. Они относятся ко мне хорошо, но я тем не менее чувствую себя не в своей тарелке рядом с ними. Они смеются, болтают, обсуждают мальчиков и обновки. Я же ощущаю себя невзрачной, грязной, настолько безобразной, что утром в раздевалке снять с себя пальто становится для меня подвигом. Общество мальчиков, по правде говоря, мне неприятно. Они вызывают у меня нечто вроде отвращения. И потом, из-за того, что я пережила, я пришла к выводу, что теперь у меня нет права думать и говорить о них, пусть даже забавы ради. Это могло бы быть неверно понято, неверно истолковано… Это могло бы быть истолковано как доказательство обвинения, которое на меня навесил Да Крус, решивший, что я не девственница.
И я запрещаю себе быть тринадцатилетней.
Болтать о шопинге, мальчиках и других глупостях я больше не могу. Подружки говорят, а я слушаю с отсутствующим видом. Как мне хочется вернуться в свой маленький мирок, когда я была в больнице! Но теперь я в нем чужая. Пустые разговоры, как песни, припевы которых забылись, заставляют меня вспоминать о моих проблемах, и очень скоро я начинаю злиться, потому что они делают еще ощутимее разрыв между интересами моих подруг и тем, что заполняет мою жизнь. Я жду результатов теста на ВИЧ, поэтому мне плевать на новую пару сапожек от Unetelle и на то, что Машинетта поцеловала Трюка… Совершенно раздавленная своим несчастьем, я не знаю, о чем рассказать, когда приходит мой черед. Когда я заговариваю об изнасиловании, мои подружки проявляют к этой теме такой интерес, что мне становится не по себе, но я отвечаю на их вопросы, пока меня не начинает тошнить. В такие моменты, как и во многих других случаях, меня не покидает уверенность, что никто меня не понимает. Я ощущаю себя чужой, я не знаю, кто я и какой мне следует быть.
В результате я отдаляюсь от сверстников. Не отдавая себе в этом отчета, я сама отстраняюсь от них. Какое-то время я стараюсь вырваться из кружка подружек, нахожу разные предлоги, чтобы простоять всю перемену в тихом уголке. Когда я одна, ощущение, что я не похожа на других, оставляет меня. И это — огромное облегчение.
Но мои подружки на меня обижаются.
Когда я пытаюсь вернуться в их круг через неделю или две, оказывается, что уже поздно.
— Друзей не бросают, как грязный носовой платок! — выговаривает мне одна из подружек.
Похоже, они решили, что мое стремление к уединению — результат плохого настроения. Меня изнасиловали, да, но ведь это в прошлом, хотя на самом деле это случилось меньше двух месяцев назад… Сегодня имеет значение только обида, которую я им нанесла и которую они теперь ставят мне в упрек. Они считают, что я — странная, а мне они кажутся по-ребячески наивными. Узы, соединявшие нас, оборвались, и это непоправимо.
Вот и выходит, что в школе я чувствую себя ужасно одинокой, но и вне ее стен жизнь меня не слишком-то радует. За прошедшие недели мое настроение не улучшилось ни на унцию, мои дни и ночи населяют те же самые кошмары, подпитываемые новостями, которые я получаю о Да Крусе. Это чудовище пребывает под стражей в следственном изоляторе в Орлеане, расследование продолжается, подготовка к судебному процессу — тоже. Адвокат, судьи, эксперты… Я почти каждый день получаю приглашение явиться туда-то в такое-то время, однако моя мама часто освобождает меня от этих визитов. Чтобы не огорчать меня еще сильнее, они с отцом тщательно «просеивают» информацию; о том, что происходит, я знаю далеко не все, но я — не идиотка и о многом догадываюсь.
Я слышу вечерние разговоры родителей. Это несложно, потому что папа и мама практически только об этом и говорят, а я не глухая. Я вижу письма, полученные от следственного судьи. И я время от времени вижусь с нашим адвокатом, которая настаивает на том, чтобы я была в курсе происходящего.
— Важно, чтобы ты была активным участником событий, ты со мной согласна, Морган? — повторяет эта высокая белокурая дама серьезным тоном.
Еще бы я была не согласна! Ничего не расстраивает меня сильнее, чем само упоминание имени Да Круса, каждый раз, когда я его слышу, меня начинает жутко тошнить. Это случилось и в тот день, когда я узнала, что он сознался, что изнасиловал меня. Меня заверяют, что до суда он останется за решеткой, но я все равно боюсь. Однако предел всему — это результаты психиатрической экспертизы, копию которой мои родители, будучи «гражданскими истцами», получили. Следственный судья поручил некоему психиатру обследовать Да Круса. От специалиста ожидали ответов на простые вопросы: осознавал ли Мануэль, что делает, когда выкрал меня и изнасиловал; сумасшедший он или вменяемый; представляет ли он опасность для окружающих; можно ли его вылечить; возможно ли вернуть его в общество; какие события из его прошлого, его детства или школьных лет могли бы объяснить это преступление. Два года назад, в 1998-м, во Франции был принят новый закон, который позволяет установить за теми, кто совершил преступление на сексуальной почве, так называемое «социально-судебное наблюдение» после их выхода на свободу. Это событие было широко освещено в прессе. Мой отец никогда не упускает шанса получить новые знания, поэтому быстро наводит справки, и мы узнаем, что в рамках этого «наблюдения» на виновного после освобождения накладываются некоторые ограничения, к тому же он должен регулярно являться по первому требованию к судье по исполнению судебных постановлений, и все это — в течение довольно длительного времени, до двадцати лет. Эта мера, рассказывает нам папа, стала маленькой революцией в судебной системе, доказательством того, что правительство в те годы уделяло много внимания мерам пресечения, применяемым к людям, совершившим сексуальные преступления. Законодатели полагали, что — слушайте, граждане, и радуйтесь! — эта поправка поможет упредить рецидивы.
Что ж, замечательно!
Помимо прочего, следственный судья спрашивает у психиатра, который наблюдает за Да Крусом, нуждается ли последний в подобном наблюдении после освобождения из-под стражи.
Для меня ответ абсолютно очевиден. Да Крус был в полном сознании, когда надругался надо мной, более того, для «новичка» он действовал слишком уверенно и четко. Он меня связал, собрал мои вещи в пакет, прятал меня от глаз соседей в «мертвом углу» своего двора, потом — под брезентовой тряпкой в машине, пока вез меня в «тихое место». В общем, более обдуманного преступления не найти, что бы мне ни говорили. И потом, он же не набросился на меня в темном переулке под воздействием минутного порыва. И между первым и вторым половым актом прошло достаточно много времени, чтобы он успел все обдумать и даже сходить за сигаретами. Так что не пытайтесь меня убедить, что у Да Круса просто «взыграли гормоны»!
«Я знаю, каково это — быть с девственницей!»
Эти слова он сказал мне и повторил на допросе в полиции. Мне всего тринадцать, но я не идиотка: отец семейства, который получает удовольствие от совершения насилия над девочкой-подростком, может быть только чокнутым или извращенцем, и после того, как ему «настучат линейкой по пальцам» или на несколько лет запрут в камеру, его ненормальность не испарится, словно по мановению волшебной палочки. Это их пресловутое «наблюдение» — не просто дополнительная мера, это необходимость. Да Крус пообещал, что убьет меня, если из-за меня попадет в тюрьму. Его ни в коем случае нельзя выпускать, не посадив ему на хвост и судью, и врача!
Однако уполномоченный судом психиатр, по всей видимости, придерживается иной точки зрения. Однажды утром в почтовом ящике мы находим составленный им отчет. Он пестрит орфографическими ошибками, а его выводы говорят о том, что этот «нейропсихиатр» не стал слишком утруждаться. Он довольствовался тем, что записал рассказанное ему Да Крусом.
Это написано черным по белому: мой насильник был пьян, а потому не помнит, как бил меня. Он не помнит (как это удобно!) ни об орогенитальном контакте, ни о втором насильственном половом акте, и уточняет, что в то время пил как бездонная бочка. Тут же он добавляет, что алкоголь имеет свойство разжигать сексуальное желание и что он полностью удовлетворен семейной и сексуальной жизнью с Марией. Этот трюк с превращением в «папочку-алкоголика», похоже, прекрасно сработал: эксперт долго рассуждает о количестве алкоголя, которое выпил Да Крус, исходя из его показаний, и уточняет, что обвиняемый «на сегодняшний день осознает свою вину». Еще бы! По мнению этого «врачевателя душ», Да Крус искренне сожалеет о том, что сделал со мной. Доказательства? «Имели место эмоциональные реакции при упоминании факта изнасилования… — пишет доктор и добавляет: — Под воздействием алкоголя Мануэль Да Крус утратил способность рассуждать здраво и критически мыслить, что повлекло за собой несоответствующее сексуальное или агрессивное поведение». Усилиями психиатра передо мной, к моей полнейшей растерянности, возникает образ совсем другого Да Круса, которого не существует в реальности. Я вижу не жестокого извращенца, порвавшего мне барабанную перепонку, сжимавшего мою шею, наблюдая за тем, как я задыхаюсь, насиловавшего меня в течение нескольких часов и угрожавшего мне смертью, а несчастного человека, раскаивающегося пьяницу, совершившего большую глупость. «Большую глупость» — именно это выражение использует эксперт и подводит итог: обвиняемый «действовал в состоянии острого алкогольного опьянения» и «не имеет склонности к извращениям на сексуальной почве». Далее следуют его рекомендации: «Мануэль Да Крус может представлять опасность, находясь под воздействием алкоголя», поэтому все, что ему нужно, — это пройти курс детоксикации. Необходимо ли подвергнуть его принудительному лечению, установить за ним «социально-судебное наблюдение»? «Не считаю это уместным».
Чего вы еще ждете? Я свое слово сказал…
Прочитав этот отчет, мои родители с ума сходят от ярости. Что их особенно ужасает, так это лицемерные сожаления Да Круса, публичное покаяние, которое ничего ему не стоит, зато может произвести благоприятное впечатление на присяжных, и тот факт, что он сваливает вину с себя на бутылку.
Что убивает лично меня, так это то, что Да Крус отрицает второе изнасилование. Как если бы мне все это просто пригрезилось! Он не говорит категоричное «нет», а твердит: «уже не знаю, может, что-то и было…», «я плохо помню», «не могу сказать с уверенностью, что…». Память его подводит, признается он, и очень расстраивается по этому поводу. Ему, конечно, хотелось бы все помнить в точности, «но вы же понимаете, господа психиатры, у меня просто не получается…» Легкость, с какой он относится к своему преступлению, то, что он строит из себя несчастного, попавшего под воздействие спиртного, для меня — словно нож в сердце.
Я уже не помню, написали мои родители письмо судье, в котором выразили свое возмущение, или такова процедура, но была назначена вторая психиатрическая экспертиза Да Круса, через неделю после первой. На этот раз экспертов было двое — психолог-психоаналитик и психиатр, и они «спели» совсем другую «песню». Основательно покопавшись в прошлом Да Круса, они эксгумировали его демонов и его фантомов. Отношения с детьми от первых двух браков, с которыми он не видится, влияние его собственного отца (хронического алкоголика, выставившего его, семнадцатилетнего, за порог), интимные отношения с женой, отношения с коллегами, употребление алкоголя, общественная жизнь, досуг — казалось бы, ничто не укрылось от их проницательных взоров. В итоге они пришли к выводу, что Да Крусу нанес глубокую моральную травму жестокий отец, и с тех пор он компенсирует, как может, свой страх быть отвергнутым. Спиртное ему в этом помогает. В сексуальной сфере он также старается подавлять свои страхи, овладевая телом партнерши, как предметом, и используя других женщин, когда жена по каким-то причинам находится вне пределов досягаемости. «Неосознанное стремление к господству», «проблемы с родственными связями», «проблематика инцестуальной эквивалентности» — профессиональные термины отчета настолько сложны, что у меня начинает болеть голова. Да, с этим не поспоришь, эксперты как следует сделали свою работу.
Согласно их заключению Да Крус не является сумасшедшим, и лечить его нужно от алкоголизма — в этом они соглашаются с первым экспертом. В остальном же их мнения расходятся: Да Крус представляется им вовсе не симпатичным пьяницей, сорвавшимся с катушек, а «очень эгоцентричной личностью, стремящейся к господству», демонстрирующей при этом «жестокость и садистские наклонности». По их мнению, он способен к «жестокому насилию с использованием угроз в момент, который может быть квалифицирован как «импульсивный взрыв». Я могла бы сказать то же самое! «По результатам клинических исследований Мануэлю Да Крусу свойственны нарциссизм, психологическая незрелость и извращенность, — пишут специалисты и добавляют: — Он убежден, что пристрастие к спиртному может служить ему оправданием». Согласно их отчету, «подследственный пытается оправдаться в собственных глазах именно тем, что алкоголь подтолкнул его к насилию». Не приняв его заявления на веру, они подчеркивают: «Нельзя не отметить, что алкоголь действительно является фактором, который отключает механизмы торможения агрессивных импульсов. Однако его употребление обуславливается подсознательным стремлением к отключению указанных механизмов и высвобождению [этих] импульсов. Поэтому невозможно признать существование простой причинно-следственной связи между употреблением алкоголя и фактами совершения насилия, тем более что обследуемый несет полную ответственность за злоупотребление алкогольными напитками». Короче говоря, Да Крус напился нарочно, чтобы избавиться от последних моральных запретов, которые мешали разгуляться его сексуальным порывам.
Исписав девять страниц, двое экспертов приходят совсем не к такому выводу, как их коллега неделей раньше: поскольку Мануэль Да Крус «даже на настоящий момент не демонстрирует признаков осознания своей вины», «представляет существенную опасность в криминальном плане» и его «как личность можно назвать незрелым, нарциссичным, склонным к отклонениям от нормы. Поэтому является необходимым применение закона от 1998 года, предусматривающего установление дополнительного контроля за совершившими преступления на сексуальной почве». Перевожу: установление социально-судебного наблюдения в случае Да Круса обосновано.
Как могло статься, чтобы мнения трех человек в белых халатах, проучившихся десятки лет и обследовавших одного и того же пациента, могли так разниться? Я боюсь даже предположить, как эти расхождения скажутся на судебном процессе. Стоит мне подумать об этом, как меня охватывает дрожь. Кому поверят судьи? Отправят ли они Да Круса за решетку надолго? Ведь когда он выйдет, он мне отомстит, я это точно знаю. Возможно, он задушит меня. Сколько лет жизни мне осталось? Иногда мне в голову приходит еще более мрачная мысль: если того, кто меня изнасиловал, и вправду сочтут простым алкоголиком, его ведь могут выпустить сразу после суда, и он вернется домой… Стоит мне об этом подумать, как все мое тело немеет от страха, и тогда я стараюсь не думать вообще ни о чем — ни о суде, ни о Да Крусе. Но мне напоминают о них если не ночные кошмары, то следственный судья.
В рамках расследования он требует, чтобы я тоже пообщалась с психологом, экспертом апелляционного суда в Орлеане, которому заплатили за то, чтобы он оценил правдивость моих слов и последствия нанесенной мне моральной травмы. Нужно сказать, что путь в наш городок этот специалист проделал не зря. После нашей долгой встречи тет-а-тет, во время которой я с трудом отвечала на его нескромные вопросы, он измарал дюжину страниц рассуждениями о моем душевном состоянии. «Сильный посттравматический невроз», «синдром психического посттравматического повторения в активной фазе», «общая боязнь представителей мужского пола», «приступы панического страха»… Не подлежит обжалованию его вердикт: не только всем моим словам можно безоговорочно верить, но и перенесенные мною страдания приводят к «депрессии и очевидной склонности к суициду». Поэтому он настойчиво рекомендует мне продолжать принимать психотропные препараты и регулярно посещать психотерапевта. Я соглашаюсь, но без особой радости. Я ненавижу глотать эти таблетки, от которых перестаю хоть что-то соображать, поэтому предписания врача из больницы уже давно отправлены в мусорное ведро. Что до психотерапевта, с которым я встречаюсь раз в неделю… Она, конечно, милая женщина, но я не рассказываю ей и половины того, что меня мучит.
Каждую среду за мной приезжает машина «скорой помощи» и отвозит меня в Питивье, где она принимает. Мы с ней разговариваем о разных пустяках, о школе. Мне после таких разговоров становится легче, это правда (хорошо пообщаться с тем, кто выслушает тебя без осуждения). Ей первой я рассказала, какое облегчение испытала, узнав, что все-таки не больна СПИДом, ей я жалуюсь на одноклассников и друзей, которые меня третируют, но всю грязь, остающуюся внутри меня, мне не удается выплеснуть наружу ни перед ней, ни перед кем-либо другим. Грязь — это отвратительные детали изнасилования, оскорбления, слюна, пальцы, ощупывающие мое тело…
Есть еще одна проблема — мой отец.
Часть его жизни тоже была растоптана в том лесу, где со мной все это случилось. С того дня, когда я вернулась из этого инфернального леса, он постепенно погружается в глубокий маразм, и «зеленый змий» торжествует. Его периодические запои становятся постоянными, жестокими и неконтролируемыми. Теперь он пьет, чтобы ни о чем не думать.
Он хочет забыть о том, что меня изнасиловали, хочет потерять память, но происходит прямо противоположное: все возвращается к нему в искаженном виде, напоминая чудовище, освободиться от которого невозможно. И папа начинает себя жалеть и выходить из себя по любому поводу — из-за запоздавшего ужина, из-за фламбе[14], если огонь не хочет загораться, из-за шефа, который цепляется к папе… Конец подобной сцены всегда одинаков: зачем первого октября 2000 года ты, Морган, слонялась по чужим домам, как какой-нибудь продавец страховок, зачем, как какая-то прошмандовка, шлялась по улицам?
Да Крус в тюрьме, поэтому папе не на ком сорвать зло, однако он находит выход. Он злится на всех — на меня, на мою мать, на весь городок. Все вокруг оказываются виноватыми, только так ему удается забыть о своей собственной вине. Считая себя плохим отцом, под воздействием алкоголя он становится им на все 100 %. Он осыпает оскорблениями небо и землю. Если его послушать, так моя мать — недалекая и безответственная, а если бы я не была такой дурой, то никто бы меня не изнасиловал.
Его оскорбления похожи на отравленные стрелы, он нарочно делает нам больно и преуспевает в своем намерении. Вечер за вечером проходит в аду. Отцовские срывы доводят меня до изнеможения, его безосновательные обвинения и обращенный на меня гнев лишают меня почвы под ногами. Мне так нужна поддержка, но мне ее не оказывают, даже наоборот! Под этим потоком грязи моя мать теряется и, глядя на отца, оскорбляющего меня, как ему в голову придет, только и может, что крикнуть, чтобы он заткнулся. Она кричит, он толкает ее, она разражается рыданиями. Их вопли разносятся по всей улице, и перед нашим домом частенько останавливается полицейская машина. Когда жандармы входят в нашу неприбранную гостиную, я чаще всего уже бьюсь в истерике на полу, дрожащая и бледная как простыня.
Наши соседи все это слышат.
За несколько месяцев мы становимся жуткой карикатурой на семью. Пьяница-отец, все безропотно сносящая мать, психически нездоровая старшая дочь и заброшенные младшие дети. Вечерние потасовки в доме и красные глаза у всех наутро — день за днем доверие и уважение к нам тает. А скажите-ка, правда ли все это — ну, та история с изнасилованием? Девочка всегда была немного не в себе, и воспитана она плохо, все время носилась по улицам с приятелями… А на отца посмотрите — через день пьяный как сапожник! Жители городка не знают, что и думать, местные кумушки пребывают в растерянности, и появляются слухи. Оказывается, Мария сомневается в том, что ее супруг надо мной надругался. Приятели Мануэля, с которыми он обычно пропускал по стаканчику, сходятся во мнении, что все подстроено. В школе — то же самое: одна из девочек во всеуслышание поливает меня грязью. Ее родители близко дружили с Да Крусами, и она, очевидно, решила проявить инициативу и доступными ей способами очернить меня. С ее слов я — гадкая лгунья, которая не знает, что бы еще придумать, чтобы вызвать к себе интерес. На школьном дворе ее слова приобретают достоверность Евангелий, многие дети ей верят, и мои невинные басни прошлых лет, будучи извлеченными на свет Божий, срабатывают против меня.
— Помнишь, как Морган заявила, что ее удочерили? Только ненормальная могла выдать такое, ты не считаешь?
Для этой девочки, как и для многих других, моя история с изнасилованием — чистейшей воды выдумка. Меня обвиняют в клевете, и вскоре это доходит и до моих ушей. Некоторые считают, что меня изнасиловал не Мануэль, а кто-то другой, отдельные люди — что я сама его соблазнила, а есть и такие, кто уверен, что я выдумала все от первого слова до последнего. Это разнообразие мнений повергают меня в глубочайшую депрессию. Чем меньше мне верят, тем сильнее я замыкаюсь в себе и отключаюсь от реальности. Когда на уроке кто-то просит у меня листок бумаги, я посылаю его к черту и обзываю кретином или начинаю рыдать. В коридорах коллежа я превращаюсь в тень. Я печальная, плаксивая, нервная — то есть такая, с кем никому не захочется водить дружбу. Для моих прежних товарищей я, естественно, становлюсь обузой.
На всех переменах я теперь стою одна, прижавшись спиной к батарее центрального отопления напротив учительской. Теперь они, учителя, стали моими хорошими приятелями — кто бы мог подумать, что так будет? Время от времени кто-нибудь из них подходит и спрашивает, в порядке ли я, но разве я могу быть в порядке, если, где бы я ни спряталась, меня обязательно найдет кто-то из соучеников и начнет дразнить? Сам факт изнасилования не стал предметом для насмешек, в отличие от его последствий — моей новой привычки закрывать волосами лицо, набранными лишними килограммами, постоянными рыданиями по любому поводу, моей крайней робостью, моим нежеланием ни с кем разговаривать… Самые развязные обзывают меня уродкой, пришибленной, страшилкой. Меня все время норовят толкнуть, шутки соучеников кажутся мне оскорбительными. Лицо мое из-за прыщиков похоже на вишневый пирог клафути, а сама я — на половую тряпку, до того страшны мои растянутые спортивные штаны. Меня то и дело поднимают на смех, и бумажные шарики, выпущенные через трубочку, слишком часто приземляются на моей голове. Изнасилование отгородило меня от моих одногодок, вырвало из их беззаботного круга, и теперь я, как все, кого постигла та же участь, от этого страдаю. Особенно на уроках физкультуры.
Перед игрой в баскетбол все одноклассники выстраиваются в шеренгу, и оба капитана набирают себе в команду игроков. И всегда всех лучших и пользующихся популярностью выбирают очень быстро, стоять же остаются худшие: те, кого все терпеть не могут, ябеды, «странные»… То есть рыжий, толстяк и я.
— Нет, только не Морган! Она — полный ноль!
И это говорится вслух, когда я стою в двух метрах, потея от стыда.
В столовой — продолжение ада. Перед обедом мы складываем свои портфели у стены напротив туалета, а потом направляемся в столовую. Несколько месяцев назад я смешила всех своими выходками, а теперь сижу в углу и пытаюсь справиться с тошнотой. Редко кто заговаривает со мной. Едва прикоснувшись к десерту, я иду за портфелем, и почти каждый раз у меня сжимается сердце, когда я вижу, что он лежит не на прежнем месте и на нем отпечатки чьих-то подошв. Моим портфелем снова играли в футбол, и теперь все карандаши сломаны, а линейка разлетелась на тысячу кусочков.
Проходят месяцы, и мне все труднее заставлять себя ходить в школу. Иным утром я говорю себе, что, если бы у меня хватило смелости выпрыгнуть из окна высокого здания или одним глотком выпить сильнодействующее лекарство из аптечки моих родителей, с этой проблемой было бы покончено. К счастью, нам сообщают, что вскоре мы всем классом едем на экскурсию в Бавьер. Эта перспектива так захватывает умы моих товарищей, что они становятся менее жестокими по отношению ко мне. И вот во время этого путешествия в Германию происходит чудо: Дженнифер, одна из самых популярных в коллеже девочек, начинает со мной понемногу разговаривать. Она настолько уверена в своей неотразимости, что не боится ничьего осуждения. Общение «со страшилкой» не наносит вреда ее имиджу — никто не осмеливается ни в чем ее упрекнуть, до того она, что называется, «в струе». По крайней мере, по Дженнифер не скажешь, что ей неприятно общество гадкого утенка, в которого я превратилась. Она общается со мной, чтобы я подсказала ей правильные ответы на контрольных, но не только поэтому. Раз или два в автобусе, увозящем нас в Мюнхен или в замок Людовика II, эта блондинистая «звезда школы» перекидывается со мной несколькими фразами, и мы хохочем как полоумные. Эти моменты взаимопонимания слегка поднимают мне настроение, и все же я с огромным облегчением покидаю школу в конце июня, ведь впереди — летние каникулы.
Я отправляюсь в Авейрон.
Там меня ждут дедушка и бабушка, их красивый домик на вершине холма, коровы, луга и кузина Лоранс. За эти дни, проведенные под палящим солнцем, мои несчастья становятся менее обременительными. Бассейн, походы в гости, прогулки… Бабушка изо всех сил старается, чтобы мы постоянно были при деле и чтобы нам было весело, поэтому я редко вспоминаю о своих печалях. Вернувшись в Эшийёз в конце августа, на площадке для игр я встречаю Джефферсона и Сюзи. Отношения между нами по-прежнему слегка натянутые, но, поскольку другие дети еще не вернулись с каникул, мы вчетвером — они, я и мой брат — начинаем перебрасываться мячом, ведь больше нам делать нечего. Иногда Джефф приглашает меня в гости поиграть на игровой приставке. Это, конечно, не «большая любовь», но я начинаю хоть с кем-то общаться. И уже чувствую себя не такой одинокой.
Когда наступает вечер, я сворачиваюсь калачиком на кровати и начинаю размышлять. Этот школьный год стал для меня длинным путем на Голгофу, который мне пришлось одолеть в одиночку. Если еще один год будет таким, я этого не перенесу. Уже на следующий день после изнасилования я мечтала снова увидеться со своими товарищами, а вместо этого мой мир рухнул, и я оказалась без точки опоры, без друзей. Жертва, и тем не менее отверженная. Преступник признал свою вину, но это в моей правдивости сегодня все сомневаются. Я прекрасно осознаю, что не смогу долго выносить насмешек моих одноклассников. Мне нужна их дружба и поддержка. Нужны друзья, которые смогут отвлечь меня от дурных мыслей, которые выведут меня из убивающего меня леса и из нашего дома, где родители поносят друг друга. У нас дома — все еще настоящий ад. Воспоминания об изнасиловании и пьяные выходки отца превращают мои вечера в пытку. У меня появляется ужасное чувство, что рядом нет никого, кто мог бы мне помочь, и это пугающее одиночество временами заставляет меня желать смерти. Мне нужны друзья и приятели, срочно! В сентябре мне предстоит пойти в третий класс. И вот я решаю окончательно и бесповоротно: все должно перемениться. Я пока не знаю, как именно это будет происходить, но готова сделать все, чтобы снова стать среди сверстников своей.
Я буду вести себя по-другому.
7 ДУРНАЯ РЕПУТАЦИЯ
Я довольно долго думала, что от Да Круса мне передалась какая-то неизлечимая болезнь — СПИД или что-нибудь еще. На самом же деле он заразил меня страхом. С тех пор как мне удалось от него спастись, прошел год, и я боюсь леса и одиночества, боюсь засыпать и боюсь мужчин. Почтальон звонит в дверь, а я начинаю дрожать. Когда кто-нибудь из родственников-мужчин неожиданно заглядывает к нам в гости, я ему не открываю. Папа и мама, как могут, стараются меня успокоить: «Никто не причинит тебе вреда, Морган, Да Крус в тюрьме, не волнуйся!» В повседневной жизни они пытаются делать вид, что ничего не случилось. История с изнасилованием не стала «табу», однако они стараются не напоминать мне об этом без повода. Они стремятся вести нормальную жизнь, как раньше, и думают, что это — наилучший способ помочь мне забыть пережитый ужас. Но я злюсь на них за это притворство, за то, что они делают вид, будто все в порядке. Меня изнасиловали, разве нет? Зачем они вообще в тот день позволили мне уйти из дома? Для меня тихой жизни в семье больше не существует. Я превратилась в зомби. Я не могу, как раньше, вместе с Рашель собирать из «Лего» какой-нибудь домик, болтать о музыке и о Playstation с братом. Мне недостает беззаботности, не хватает слов и жестов. Заблудившись в своем кошмаре, я отстраняюсь от своей семьи. Во время ужина я — тень, в выходные я сижу в своем углу. Изредка маме удается вытащить меня с собой на розыгрыши призов, организуемые где-нибудь поблизости от Эшийёза, где она постоянно получает самые заманчивые подарки. Мы возвращаемся домой с новеньким холодильником или микроволновкой. Эти поездки меня отвлекают, я отдыхаю душой, но это длится недолго. Я не могу по-настоящему наслаждаться общением со своей семьей, равно как и всем остальным. И сам наш дом, и его окрестности напоминают мне о том ужасном воскресенье. По этой дороге мы ехали с Да Крусом в лес… Здесь, в столовой, рядом с игрушками Рашель, мама складывает судебные бумаги… В этой ванне мне запретили помыться, когда я вернулась домой… Из окна видна улица, ведущая к дому Марии и Мануэля. Странно, мама тоже сидит с отсутствующим видом. Может, она думает о том же, что и я?
Часто мне кажется, будто меня подстерегает какая-то опасность. И это отбрасывает на приятные ежедневные радости мрачную тень: с того дня, когда Да Крус меня выкрал, я никогда не чувствую себя в безопасности. Страх становится особенно сильным по вечерам. Я не могу заснуть, если не закрыла дверь на два поворота ключа. Под подушкой у меня нож для разделки мяса. Я баррикадирую дверь, но враг подстерегает меня, притаившись в моей же голове. В полусне я иногда проигрываю события первого октября 2000 года, но в версии «happy end». Сценарий № 1: оказавшись в грузовичке Да Круса, я смогла развязать путы и, вместо того чтобы бежать к воротам, тихонько вернулась в гостиную его дома и спряталась там. Пока он ищет меня на втором этаже, я убегаю. Сценарий № 2: я убегаю, пригибаясь к земле, пока он находится в придорожном киоске. Сценарий № 3: я убиваю его ножом в лесу.
В полночь, в два ночи и в четыре утра я вдруг просыпаюсь и чувствую, что превратилась в сгусток ненависти. Я ненавижу Да Круса, а еще больше — саму себя. Я могла спастись, эти сценарии тому доказательство! Я ненавижу себя за то, что приняла неверное решение. Ненавижу за то, что не сумела избежать изнасилования. Но самое гадкое — это то, что я на какие-то минуты даже нашла Да Крусу оправдание… После первого изнасилования, когда он извинился, когда сказал, что «на него что-то нашло» из-за спиртного, я ему поверила. Я вижу себя протягивающей ему руку там, в лесу, уверенная, что сожаления его искренни, что ему стыдно за все те ужасы, которые он только что совершил. В тот миг я была уверена, что теперь он отвезет меня домой. Когда я снова и снова вспоминаю об этом, то задыхаюсь от осознания собственной глупости. Я чувствую себя полной идиоткой, оскверненной и изуродованной на всю жизнь. Как все повернуть вспять? Как вычеркнуть из памяти раз и навсегда это воскресенье, отравляющее жизнь мне и моей семье? Отцовские оскорбления снова начинают вертеться в моей голове, они убивают меня. Я злюсь на родителей за то, что они не помогли мне, и на себя — за то, что из-за меня они вынуждены терпеть столько мучений. В такие вечера я не вижу способа стереть мысли о худшем дне в моей жизни, снова стать нормальной девочкой, какой я была раньше, вырвать из памяти мерзкие воспоминания, которые меня преследуют. Единственное, пожалуй, что можно сделать, — это разом со всем покончить. Меня соблазняет лежащий под подушкой нож: я режу себе вены, пока боль не выдергивает меня из этого кошмара наяву.
И все мои ночи похожи одна на другую.
Днем, в коллеже, я пытаюсь вести себя так, словно ничего не случилось. Главная задача, которую я ставлю перед собой в начале нового учебного года, — это снова стать «своей» в группе. Любой ценой. И я цепляюсь за Дженнифер как за спасательный круг. К моему огромному облегчению, она продолжает со мной общаться. Почему? Загадка. Захария, мой одноклассник, — один из немногих, кто до сих пор со мной разговаривает, а у Дженнифер на него виды, поэтому, вполне вероятно, приятельство со мной — это часть ее стратегии. Но быть со мной в хороших отношениях полезно и с другой, более прагматичной точки зрения: даже будучи на самом дне депрессии, «страшилка» Морган по-прежнему в числе лучших учеников класса. Списывая у меня, можно не бояться получить плохую оценку, и это стоит минутного разговора.
То, что Дженнифер ценит мое общество, удивляет всех. Мои бывшие подружки предупреждают меня: у этой девочки репутация нахалки, она курит, кокетничает и обнимается с мальчиками, так что мне лучше держаться от нее подальше. Теперь вы заговорили со мной, предательницы! Но их мнение для меня ничего не значит. Хотя раньше я не водила дружбу с нахалами и лентяями, для Дженнифер я нахожу сотню оправданий. Уже само то, что она разговаривает со мной — экстраординарное событие! Примерно год назад меня, образно выражаясь, приковали к позорному столбу, а многие и теперь хихикают, когда я прохожу мимо. Мои бывшие подружки делятся друг с другом своими тайнами и треволнениями, но никто из них не подходит ко мне, чтобы прошептать что-то на ухо. А Дженнифер рассказывает мне о себе все. Рассказывает, кто из мальчиков ей сейчас строит глазки, а кто нравится ей самой. Она уверена, что, будучи доверенными такой парии, как я, ее маленькие секреты не станут известны никому. Потому что никому не интересно, что я говорю. Я слушаю ее россказни не осуждая, никому не пересказывая, и это наверняка ей нравится. Хотя… Может, эту мятежную с юных лет барышню привлекает моя испорченная репутация жертвы происшествия, о каком не принято говорить вслух? Но мне, честно говоря, плевать на то, что именно заставляет ее искать моего общества. Я наслаждаюсь простым ощущением того, что теперь я не одинока. И потом, miss Janniffer в коллеже не на последних ролях, она весьма популярная особа. Весьма. Особенно у мальчиков. Лето не развеяло эту ее ауру. Она вернулась на занятия еще более красивой, более стройной и с двойной порцией грудей. А у меня по-прежнему на лице прыщи, а на носу — очки. Чтобы такая «бомба», как она, заинтересовалась такой девочкой, как я, — это, по меньшей мере, неожиданно.
В классе я сажусь рядом с ней, разумеется, если Дженнифер не захочет устроиться возле кого-нибудь из мальчишек. Она пишет мне длинные послания, в которых живописует все свои любовные переживания, и я прилежно на них отвечаю до того самого дня, когда писем нам становится мало: мы переходим на тетрадки, столько всего хочется рассказать! Каждое утро я передаю Дженнифер толстый блокнот, в котором она писала накануне, и она потихоньку читает мой ответ на уроке математики. Я — ее советчица, ее наперсница, ее фан номер один. Я во всем ей подражаю. Совершенно неожиданно для себя и к своему огромному удовольствию я вдруг оказываюсь в касте сверстниц, пользующихся успехом и популярностью. Таких на весь коллеж не больше дюжины, и объединяет их то, что остальные девочки им завидуют и к ним прислушиваются. Однако в этом сообществе «звездочек» я на особом положении: если рядом нет Дженнифер, ее подружки меня старательно не замечают. А некоторые из них терпеть меня не могут. Когда у них хорошее настроение, они перебрасываются со мной парой слов. Я, стоя чуть в стороне, наслаждаюсь созерцанием этих «VIP-персон», и этого мне вполне достаточно. Когда они чем-то недовольны, я выслушиваю колкости в свой адрес.
— Зачем ты возишься с этой уродкой? — спрашивают у Дженнифер подружки.
К счастью, ей совершенно нет дела до того, кто и что думает. Уже для того, чтобы у всех на виду общаться со мной, нужна немалая смелость.
Я, которая всегда терпеть не могла жертв, я, которая в первом классе дразнила толстого Твикса, чтобы заставить его взбунтоваться, я, которая презирала свою мать за то, что она позволяет отцу собой помыкать, я пала ниже, чем эти двое вместе взятые. Я не только позволяю издеваться над собой, но и искренне уверена, что это единственный способ заслужить расположение окружающих. Кого люблю, того и бью, верно? И потом, прошлый год стал для меня уроком. Я не пыталась скрывать свои эмоции и заслужила репутацию депрессивной сумасбродки, стала настоящим козлом отпущения. Это будет мне наукой… Этот опыт позволяет мне сделать два вывода: первый — что я ничего не стою, и второй — чтобы нравиться, мне нужно стать кем-то другим. Дженнифер, похоже, знает рецепт успеха, значит, буду подражать ей. Она красится? Я начинаю делать то же самое. Она носит стринги и облегающие джинсы? Я тоже. И не замечаю, что все это мне совсем не вдет. Дженнифер нравится, что я за ней обезьянничаю, она делает мне комплименты, и в этом случае, как и во всех прочих, я ей верю.
А не надо бы.
Вот уже несколько месяцев мы дружим с Джонатаном, мальчиком родом из моего городка. Мы знакомы с детства, вместе ходили в дом с привидениями и воровали клубнику в садах Эшийёза. Я выросла. Он — тоже. Белокурый голубоглазый малыш превратился в любимчика всего коллежа, но остался при этом простым в общении и милым. В моем классе не мне одной он кажется очень симпатичным, вокруг Джонатана постоянно вьется стайка девочек, однако именно со мной он предпочитает болтать. Его родители тоже часто ссорятся, как и мои, и это становится постоянной темой наших разговоров. После школы он приглашает меня в гости, и мы болтаем у него в комнате, он — лежа на кровати, а я — примостившись на подоконнике, или устраиваемся рядышком на диванчике и смотрим фильм, а я кладу голову ему на плечо… Это и влюбленность, и дружба, только мы никогда не говорим об этом. И все же однажды все портится. Не случилось ничего плохого, просто, по его просьбе, я решаюсь его немного приласкать. Не могу сказать, что мне это было слишком противно, ведь он, к счастью, ни разу ко мне не прикоснулся. Слишком жива память о Да Крусе, чтобы я решилась на что-либо подобное. Мы с Джонатаном даже ни разу не поцеловались. То, что я с ним делаю, мне лично никакого удовольствия не доставляет. Я просто радуюсь, что он получает удовольствие, а он польщен и счастлив тем, что мы теперь так близки. И еще мне кажется, что я ему по-настоящему нравлюсь. И все же, когда все закончилось, я не могу думать об этих подростковых ласках, не испытывая ужасного стыда. Я уверена: то, что я только что сделала, — ненормально. И грязно, очень грязно. Как я могла это делать после того, что произошло со мной меньше двух лет назад? У меня появляется ощущение, что я совершила нечто ужасное. Я знаю, что у некоторых моих одноклассниц уже есть подобный опыт, но мне кажется, что я не имею на это права, — словно эти ласки a posteriori[15] оправдывают насилие, жертвой которого я стала. Меня будто замыкает: заливаясь слезами, я умоляю Джонатана никому об этом не рассказывать. Он обещает, но я сама себя выдаю. Я не могу думать ни о чем другом, и мне ужасно хочется поделиться моими переживаниями с лучшей подругой — Дженнифер. И вот однажды вечером я собираюсь с силами и описываю эту сценку в нашем блокноте. На следующий день, взяв с подружки обещание сохранить все в тайне, я с бьющимся сердцем передаю ей нашу «библию» и с нетерпением жду ее совета…
У нас впереди несколько часов занятий. Она сразу же погружается в чтение, но очень скоро оборачивается ко мне с ошарашенным видом. Она не верит своим глазам. Джонатан и я? Симпатичный мальчик, которого даже ей не удается прельстить, водится с гадким утенком? Быть того не может! Я киваю, подтверждая, а она вдруг разражается хохотом, таким визгливым, что все одноклассники поворачиваются к нам. И все хотят знать, что происходит. Через ряд сидит лучший друг Джонатана. Он просит Дженнифер сказать, что с ней такое. И тогда случается самое страшное: я умоляю подружку не говорить, а она просто протягивает ему блокнот и смеется, не обращая на меня внимания.
Через час весь коллеж обсуждает эту новость.
Из ревности или по глупости Дженнифер выдала мой секрет, и результат не заставил себя ждать: моя репутация «меняет окраску». Из «странной» я превращаюсь в «легкодоступную». Эта придурочная Морган делала то самое с мальчиком, с которым даже не встречается! Значит, она — та еще шлюшка. Сколько бы я ни пыталась объяснить, сколько бы ни злилась и ни оправдывалась, никто не верит, что нас с Джонатаном связывает симпатия и что он относится ко мне с уважением. Я превращаюсь в доступную девицу, которой особи противоположного пола могут пользоваться как и когда захотят. На меня моментально навешивают зашифрованные клички, и когда я наконец понимаю их смысл, то заливаюсь краской стыда. Я становлюсь «Spanky», что на жаргоне моих товарищей означает «рабыня секса». Из-за того, что мне пришлось вытерпеть от Да Круса, эти сальные шутки воздействуют на меня разрушительно: я не могу ответить, ужасно смущаюсь, но, чем хуже я себя чувствую, тем больше неистовствуют мои обидчики. Мне делают неприличные предложения, говорят гадости. И все это — из-за того, что я по глупости доверилась Дженнифер.
С того самого дня мне нужно было порвать с этой лжеподругой. Предпочесть унижениям одиночество, никогда больше с ней не разговаривать. Но я этого не делаю. Я попросту сжигаю исписанные нами тетради и блокноты в камине гостиной, а назавтра сажусь с ней рядом на немецком, как будто ничего не случилось. Мне кажется, что выбора у меня нет. Дженнифер — моя единственная подружка, и даже больше: она — мой пропуск в нормальную жизнь. Пока я рядом с ней, сверстники принимают меня в свой круг, каким бы жестоким он ни был. Мне не приходится больше подпирать спиной батарею на переменках. Я хочу разговаривать, общаться. Я иду туда, куда идет Дженнифер, и вдруг даже начинаю получать приглашения на вечеринки. Там надо мной часто потешаются, ну и пусть! Если Дженнифер исчезнет из моей Вселенной, я снова стану невидимкой. Останусь в изоляции, в безвыходном положении, наедине со своими кошмарами. Я этого просто не вынесу…
Рядом с ней я чувствую, что живу.
Мною даже начинают интересоваться мальчики. Моя вызывающая одежда вместе с подмоченной репутацией делают свое дело: парни больше не отворачиваются, когда я иду по коридору. Некоторые даже мне подмигивают, а мне, идиотке, это льстит. Дженнифер подталкивает меня к ним. Оказывается, для нее очень выгодно иметь в подружках такую, как я. Она меняет приятелей как перчатки, а я теперь могу всюду ходить с ней. Она встречается с самым симпатичным мальчиком в квартале? Меня пристраивают в пару к его лучшему другу. За несколько месяцев я перецеловалась с двумя десятками мальчиков, хотя ни к одному из них не испытывала симпатии и не получала от этого удовольствия, не считая чувства удовлетворения от реванша. Вчера я для всех была отвратительной, а сегодня я привлекательная, лучше и быть не может, верно? Но лапать себя я никому не позволяю. Поцелуи — терплю, но это — тот минимум, который я допускаю, чтобы Дженнифер не злилась, чтобы быть как все, чтобы гулять по городку в обнимку с темноволосым красавчиком… Остальное вызывает у меня жуткое отвращение. Впрочем, надо признать, что я со своими кавалерами не успеваю зайти дальше поцелуев: Дженнифер меняет привязанности со скоростью света, одного хватает на час, другого — на вечер. Она, словно бабочка, порхает от одного к другому, то ей симпатичен один, то другой, и подразумевается, что я должна поступать так же. Что ж, следующий!
Да Крус играл со мной, словно я — вещь, теперь пришла моя очередь! По крайней мере, так я говорю себе, чтобы обрести уверенность. И все же иногда мне самой от себя тошно. У меня появляется смутное подозрение, что я не хозяйка своих мыслей и поступков, но я продолжаю упрямо копировать Дженнифер. Я делаю это, чтобы нравиться, чтобы быть своей в группе. Но в моменты проблеска сознания я совсем расклеиваюсь. В горле стоит комок, и, чтобы подавить тошноту, я сжимаю себе шею все сильней и сильней, пока перед глазами не начинают кружиться звездочки. Ради чего мне просыпаться завтра утром? Однако мне не хватает храбрости, я разжимаю пальцы и проваливаюсь в сон.
С каждым месяцем вихрь уносит меня все дальше. Теперь я встречаюсь с мальчиком по имени Дэвид, хорошим приятелем Дженнифер. На этот раз все серьезно: я бываю у него в гостях, он — у меня. Мы были настоящей маленькой парой, по крайней мере, я была достаточно наивна, чтобы так думать, пока он не произнес в разговоре с несколькими своими приятелями фразу, которую Дженнифер поторопилась пересказать мне:
— Если Морган не переспит со мной до воскресенья, я ее брошу!
Оказалось, друзья над ним насмехались. Они доставали его вопросами, уложил он уже меня в постель или нет, а он, естественно, стыдился того, что у него никак не получается добиться желаемого. Морган, которую все считают легкодоступной, должна дать ему то, что он хочет! Если нет — все, любви конец!
Выходит, моя судьба должна была решиться в течение недели. Как только я осознаю это, обжигающе горячие слезы льются из моих глаз. Я плачу от разочарования, но еще — потому что я в панике. Я строила из себя женщину-вамп, я делала вид, что отношусь к числу девушек со «свободными взглядами», и теперь стала заложницей собственной игры: Дэвид мне поверил и хочет свою долю. Вот только я ни с кем не собираюсь заниматься сексом. Я слишком молода, мне слишком страшно, и одна мысль о половом акте переносит меня под ели, я чувствую толчки Да Круса в себе, и у меня появляются позывы к рвоте. Утонув в бездонной тоске, я размышляю. Я говорю себе, рыдая, что никогда ни с кем не захочу заниматься любовью, настолько глубока травма, нанесенная мне Да Крусом, что у меня никогда не будет детей, что я никогда не найду парня, который будет относиться ко мне с уважением. Потому что Дэвид, как и остальные, обращается со мной как с половой тряпкой: если он готов порвать со мной из-за такой мелочи, значит, я ему совершенно безразлична.
Так оно, конечно, и есть.
Однажды вечером он приходит ко мне и, едва чмокнув меня в щеку, достает из кармана презерватив. Это мой последний шанс сохранить отношения, я это осознаю и все-таки даю ему понять, что меня это не интересует. Он расстроен, даже рассержен. Я пытаюсь взять его за руку, однако он отстраняется, он на меня даже не смотрит. Он все еще рядом со мной, но мыслями — далеко. И тогда я, не понимая, зачем это делаю, немного уступаю ему. Для меня это — слишком, для него — недостаточно. Мы не занимаемся любовью, нет, но в этот раз и еще несколько раз я делаю для него то же самое, что меня заставил делать Да Крус. Мне это настолько отвратительно, что мое тело говорит за меня: меня тошнит и воротит с души, однако я снова и снова иду на этот скабрезный компромисс. Так я пытаюсь получить отсрочку. Только бы Дэвид меня не бросил…
Я всем сердцем надеюсь, что он в конце концов полюбит меня, но этого не происходит.
— Давай, делай!
Когда ему хочется, чтобы я им занялась, он говорит эти два слова, и я соглашаюсь, испытывая отвращение и к нему, и к себе. Мне кажется, что выбора нет, я подчиняюсь, ощущая себя в замкнутом круге, из которого нет ни единой лазейки. И начертал для меня этот отвратительный путь не кто иной, как Да Крус.
Мой насильник победил. Не отдавая себе в том отчета, я продолжаю действовать по его команде — я подчиняюсь чужим желаниям. Не оставляя себе права выбора. Я делаю то, что мне приказывают. Жонглируя мальчиками, я убедила себя, что теперь контролирую ситуацию. Оказалось, это — иллюзия. На самом деле я считаю свое тело инструментом, как и Да Крус. Я была живой куклой, ею и остаюсь. Вчера я была послушной, потому что боялась смерти, а сегодня — потому что боюсь жить. Я страшно боюсь, что меня не будут любить, считать своей в компании, боюсь потерять расположение моих приятелей, боюсь «социальной смерти», которая для такого закомплексованного подростка, как я, почти равноценна настоящей. Мне кажется, что я ничего не стою, и внешность — моя единственная сильная сторона, единственный способ вызвать интерес окружающих. Получается, что я отношусь к себе так же, как ко мне отнесся Да Крус, — как к вещи. Я смотрю на себя его глазами. Я себя не уважаю, издеваюсь над собой, пытаюсь задушить себя, совсем как он в тот день. Став своим палачом, я рою себе могилу.
В коллеже моя репутация ухудшается. Дэвид порвал со мной, потому что так и не получил полноценного секса, а теперь кричит на каждом углу, что все у нас было, и другие мальчики начинают ему вторить. Раздуваясь от гордости, совершенно незнакомые мне парни хвастаются, что тоже со мной спали. Мне — четырнадцать, я никогда не занималась любовью, но выясняется, что тем, кто спал со мной, счету нет!
А я даже не пытаюсь ничего отрицать.
Потому что чем активнее я опровергаю слухи, тем больше надо мной издеваются. Это так патетично — девочка, бьющаяся в сетях людской молвы! И вот я сдаюсь. Думайте что хотите, однако получается, что, согласившись примерить отвратительный образ шлюшки, который я сама и создала, я понимаю, что мне больше верят. Серьезные девочки смотрят на меня с презрением, хорошие мальчики — с жалостью, но, по крайней мере, меня теперь не травят, как раньше. Я теперь — не жертва изнасилования, не «страшилка», не преданная собачка Дженнифер. В коллеже я наконец стала кем-то, пускай даже кем-то плохим, не страшно! Я — потаскушка, иначе меня и не называют. И в коллеже, и вне его.
Однажды в субботу моя тетя, к которой я приехала в гости, заводит со мной серьезный разговор. Ей тридцать пять, она живет в сорока километрах от нашего городка, но все же умудрилась услышать весьма нелестные отзывы обо мне. «О Морган говорят, что она спит с мальчиками, и соседка видела ее в супермаркете в компании черноволосой нахалки и четырех парней…» Услышав это, я каменею от ужаса. Слухи о моей отвратительной репутации распространяются в мире взрослых! Умирая от стыда, я шепотом сообщаю ей правду: да, у меня есть приятели-мальчики, но ничего серьезного, я клянусь тебе, тетя, милая, я никогда ни с кем не спала!
— Вот уж не думала, что моя племянница может заслужить такую славу! — вздыхает тетя. — Твоя мама знает, какие о тебе ходят слухи?
Это мне не известно. Может, до моих родителей и донеслись отголоски городских сплетен. Но у них самих в городке репутация не лучше, а потому они не обращают внимания на досужие разговоры. Осмелюсь думать, они мне доверяют и знают, что я — не из тех, кто ляжет в постель с первым встречным. Что до мальчиков, с которыми я целуюсь, то о них родителям вряд ли что-то известно. Я даже и не думала им рассказывать, это моя личная жизнь, тем более что у них хватает забот помимо того, чтобы следить, с кем я общаюсь: дома отец продолжает топить свое горе в водке. Для моей семьи это рутина, за тем только исключением, что с недавних пор я принимаю участие в боях, расцвечивающих наше повседневное существование. Напившись, отец начинает искать ссоры с матерью, и я встаю между ними, чтобы ее защитить. Я толкаю его и говорю ему грубости, приказываю отправляться на свой диван и сидеть там молча. Проходит несколько месяцев, и мой отец перестает третировать мать — он переключается на меня. Он осыпает меня оскорблениями, причем всегда одними и теми же, имеющими отношение к изнасилованию: я все сама подстроила, я сама виновата, это для меня урок, и если мне что-то не нравится, я могу отправляться к Да Крусу, и пусть он снова задаст мне жару… Несправедливость, отвращение, провокация — и все ради того, чтобы оправдать собственный припадок гнева. Он цепляется ко мне и получает даже больше, чем ожидал. Он называет меня шлюхой? Я отвечаю в том же тоне и осыпаю его оскорблениями, которые он возвращает мне сторицей. Мать, оказавшись между молотом и наковальней, пытается успокоить то одного, то другого, пока отец, обессилев под воздействием алкоголя, не валится без чувств на диван. К матери я испытываю не больше сочувствия. Со временем моя обида на нее растет, и ощущение горечи из-за того, что она меня не понимает, тоже. Я жутко злюсь на нее за то, что мы живем такой жизнью, за то, что она не развелась с моим отцом, за то, что день за днем длится этот кошмар.
— Да Крус издевался надо мной день, а вы — всю мою оставшуюся жизнь!
Вот что я заявляю своим родителям в вечера, когда особенно остро их ненавижу.
Однажды наступает момент, когда я больше не могу их выносить. Я считаю, что моя мать — трусиха, а отец — жалкий пьяница, и им нет оправдания. Отныне они не являются для меня авторитетом. Я не проявляю к ним уважения, я грублю, я замыкаюсь и погружаюсь в депрессию. «Словно с тебя живой содрали кожу…» — вздыхает моя мать. После каждой размолвки я хлопаю дверью. Это — кризис подросткового возраста, умноженный на тысячу. Мои родители втягивают головы в плечи и грозят наказанием, но до этого, впрочем, никогда дело не доходит. Я прекрасно знаю, как бы они реагировали, будь я обычной девочкой, без пятна «жертва сексуального насилия» на биографии. При первой же попытке повысить голос меня бы заперли в моей комнате. Но они и так живут в аду, и изнасилование дочери лишило их веры в свои силы. Ужасное последствие: они не осмеливаются больше быть родителями. Испытывая вину за то, что провалили свой экзамен на зрелость, напуганные моими приступами ярости, они носятся со мной, как с хрустальной вазой. Они думают, что мне нужна свобода, прогулки, друзья. После того, что я перенесла, они не хотят травмировать меня придирками. Думая, что это поможет мне забыть о моих несчастьях, они все мне позволяют и прощают, ну, или почти все. Они позволяют мне гулять, сколько мне хочется, они не мешают мне сбиваться с пути… Они доверчиво расширяют пределы дозволенного, и я устремляюсь в открывшуюся брешь. Когда же они решают немного завинтить гайки, я режу правду-матку им в глаза. Я говорю матери, чтобы она занималась не мной, а своим пьяницей-муженьком, а отцу попросту затыкаю рот:
— Сначала перестань квасить, тогда будешь высказывать свое мнение!
Я жестоко давлю на их больные места, и родители в глубине души считают, что я права. Вместо того чтобы поставить меня на место, которое надлежит занимать в семье ребенку, они уступают:
— Ты хочешь провести вечер с приятелями? Хорошо! Тогда пригласи их домой, — решает отец, уверенный, что в этом случае я буду у него на глазах.
Что ж, ему же хуже…
Однажды вечером я привожу в дом Ясина и Лорана, чтобы вместе с ними посмотреть фильм. У нас на втором этаже для этих целей выделена просторная комната с большим телевизором, книжными шкафами и канапе, на котором удобно устраиваются оба парня. Это приятели Дженнифер, она совсем недавно нас познакомила, и мы пару раз вместе болтались по городу после занятий в школе. Они симпатичные и немного старше нас — пару лет назад закончили коллеж, что делает их еще более привлекательными для таких малявок, как мы. К тому же они имеют репутацию «плохишей», у них модные стрижки и имеются права на вождение, значит, встречаться с ними — уже настоящая авантюра. И вот мы сидим и смотрим фильм, время от времени отлучаясь в туалет по маленькому. Когда Ясин спрашивает, где туалет, я объясняю: на первом этаже, от гостиной направо. Мы с Лораном пользуемся его отсутствием, чтобы поцеловаться. Когда фильм заканчивается, парни уходят, и мы обмениваемся обещаниями скоро увидеться.
На следующее утро перепуганные родители врываются в мою комнату:
— У нас украли машину! Ключи были в гостиной на полке, они исчезли!
В жандармерии подтверждают их догадку: Ясин и Лоран не только кажутся плохими, они таковыми и являются. Их уже не раз привлекали за кражу автомобилей. Обычно они катаются, сколько душа пожелает, а потом сжигают украденную «тачку». Пропадает последняя надежда увидеть невредимым новенький «Фиат» моих родителей, которые взяли его в кредит на пять лет. Хорошая новость: через несколько дней полиция находит нашу машину увязшей в грязи посреди какого-то поля, но целой, из нее только выгребли все ценное. И новость плохая: Ясин и Лоран, чтобы отомстить моим родителям, которые подали на них заявление в полицию, теперь кричат на всех углах, что имели меня вдвоем.
Не хватало только этого, чтобы моя репутация упала ниже плинтуса.
В свете моих скандальных похождений невиновность Да Круса становится версией, которую принимает все больше народу. Некоторые наши соседи довольно-таки рьяно отстаивают ее, и каждый день в булочной, на автобусной остановке — в общем, всюду — сплетники изыскивают для насильника тысячу оправданий. Он признался? Значит, на него «надавили»! Морган его сама соблазнила! Посмотрите на нее, путается с преступниками! То, что Да Крус напал на меня, когда я была еще ребенком, забывается, все видят перед собой неуправляемую девицу. Забыта белокурая девочка, для всех жертва — прожженная бестия, в которую я превратилась. Никто не задумывается над тем, что это Да Крус сделал меня такой — изгоем, мятежной, вульгарной. Некоторые жители городка полагают, что я давно стала на «худую дорожку». В общем, на меня обрушивается вал обвинений, и все же никто не ругает меня больше, чем я сама. Это я, девица в обтягивающих джинсах, — творец собственных неприятностей, это я — свой самый лютый враг. Если доказательств моей вины не находится, их придумывают. В тот день, когда меня изнасиловали, на мне был маленький белый лифчик с вышивкой, первый в моей жизни, — подарок маминой приятельницы. Эта деталь зафиксирована в протоколе моего допроса. Как же отличается описание этой детали туалета хорошо воспитанной девочки от того, что передается из уст в уста! Мой лифчик превратился в убийственно соблазнительное кружевное дезабилье!
«Нет дыма без огня! — думают теперь в Эшийёзе. — Если эта девчонка оказалась в машине извращенца, значит, она сама на это нарывалась». Самые отъявленные сплетницы идут еще дальше: что, если я переспала с Да Крусом за деньги? «Проститутка! И это в тринадцать лет! Хотела купить себе компьютер…» Эти пошлые, дебильные байки имеют силу закона. Общественность ополчается против меня, и у этого «жюри присяжных» то, что я сама виновата в случившемся, не вызывает сомнений.
А ведь вскоре должен начаться настоящий процесс. Вот уже двадцать месяцев расследование идет своим чередом: следственный судья передал дело в суд, полицейские опросили всех, кого только могли. Да Крус копам, равно как и психиатрам, сознался, что затянул меня в свой дом, а потом изнасиловал в лесу. Его признаний, отчетов судмедэксперта и психиатров, а также улик, найденных в его доме и автомобиле, достаточно, чтобы он предстал перед судом присяжных в Орлеане. Дата судебного заседания назначена: 18 июня 2002 года.
На наш домашний адрес приходит постановление относительно передачи дела Да Круса в суд присяжных. В этом документе, подписанном следственным судьей, изложен вкратце ход расследования и черным по белому перечислены установленные факты. С первых строк разница между тем, что я помню, и тем, что написано, становится очевидной. В то адское воскресенье я несколько раз смотрела в глаза смерти. Я действительно думала, что мой насильник меня задушит. По моему мнению, мне удалось спастись только благодаря тому, что я заговорила о его детях и убедила Да Круса, что не стану заявлять на него в полицию. В постановлении ничего подобного нет. Оказывается, Да Крус просто «сжимал мне шею», когда я начала кричать, и точка. На допросах Мануэль отрицал, что душил меня. И не признал, что намеревался меня убить. По крайней мере, прямо. Следователям он сказал следующее:
— Слава Богу, мне не пришло в голову ее убить, потому что в том состоянии, в котором я находился, я мог это сделать.
Судя по всему, полиция и судья приняли его ложь за чистую монету. Да Крус предстанет перед судом не за попытку убийства или нанесение тяжких телесных повреждений, а всего лишь за «изнасилование, усугубленное незаконным лишением свободы».
Еще большие опасения внушают абзацы, в которых описывается «личность обвиняемого». В них — смесь выводов, сделанных экспертами во время обеих психиатрических экспертиз. Ну и что, что они полны противоречий? Это не важно. Вот каков окончательный вывод: «Мануэль Да Крус является натурой противоречивой, незрелой и склонной к нарциссизму. В детстве стал жертвой жестокого отношения взрослых. Злоупотребляет алкоголем, который провоцирует нездоровые проявления сексуальности. Установлено, что вменяемые ему в вину действия он совершил под воздействием алкоголя. Применение нормы о социально-судебном наблюдении не представляется необходимым».
В постановлении не просто искажены выводы психиатров: заключение врачей, проводивших вторую экспертизу и утверждавших, что Да Круса необходимо лечить во время его пребывания под стражей и после выхода на волю, а также вести за ним наблюдение, полностью из него исключено. Но ведь они подчеркивали тот факт, что Да Крус представляет опасность для общества, и алкоголизм — не главная движущая сила его противоправных действий! Мануэль предстанет перед присяжными в образе пьяницы, с которым жестоко обошлась жизнь, а вовсе не как мерзкий извращенец, за которым на свободе должен ходить по пятам целый отряд жандармов!
Словом, от суда мы не ждем ничего хорошего.
С каждым днем мой страх растет. Я изо всех сил стараюсь не думать о предстоящем закрытом судебном заседании, потому что, стоит мне об этом вспомнить, как содержимое желудка начинает подниматься к горлу. Кому поверят присяжные? Слухи о моей ужасной репутации, которую я заслужила, наверняка дошли до магистрата. Я убеждаю себя, что жандармы постарались собрать обо мне побольше сведений, опросили соседей, которые с радостью облили меня помоями, так что у них есть доказательства моей неблагонадежности. То, что я теперь ношу стринги, история кражи машины — все это взято на заметку, я уверена! На заседании родители узнают все подробности моей жизни, им зачитают список мальчиков, с которыми я целовалась, и они придут в ужас! Конечно же, они, как и все вокруг, поверят, что я — потаскушка и заслуживаю, чтобы со мной поступали так, как Да Крус. Мои щеки пылают от стыда, стоит мне подумать, что адвокат Да Круса будет поливать меня грязью. Все просто: в своем бреду я даже вижу, что это я выступаю в роли обвиняемой, а не он. Суд представляется мне невыносимой пыткой. К счастью, на утреннем заседании мне позволено не присутствовать. Но после обеда я просто обязана явиться. Родители в зале суда с самого утра, поэтому, когда 18 июня 2002 года я выхожу из дома, меня сопровождают бабушка, дедушка и Дженнифер.
Находясь в суде, в зале ожидания, я на самом деле пребываю в четвертом измерении. Моя подружка шутит, курит сигареты, а я пытаюсь отрешиться от происходящего. Я не хочу думать о том, что Да Крус совсем близко и скоро я окажусь с ним лицом к лицу. Ко мне подходит служащий и говорит, что мне нужно перейти в комнату, которая расположена рядом с залом ожидания. Этот парень — неважный психолог: в этой комнате уже находится супруга Да Круса. Бабушка возражает: о том, чтобы ее дорогая внучка оказалась тет-а-тет с женой насильника, не может быть и речи. Сотрудник суда уходит ни с чем. Спасибо, бабушка! По крайней мере, от этого мне удалось отвертеться.
— Пора, Морган!
Мое сердце обрывается. Пора! Я толкаю тяжелые двери и усаживаюсь между мамой и папой, в первом ряду. Я не могу поднять глаза, а тем более посмотреть на возвышение, где, я это знаю, сидит Да Крус. Я не хочу видеть стеклянную клетку и его в ней, я не хочу, чтобы его лицо, черты которого уже стерлись из моей памяти, снова в ней обосновалось. Я смотрю себе под ноги. Я едва замечаю развевающиеся полы платья его адвоката, которая вертится перед возвышением, взволнованно произнося свою речь. Когда называют мое имя, отцу приходится поддерживать меня, пока я иду к указанному мне стулу. Взгляд Марии обжигает, и я боюсь, что мои слова будут использованы против меня. Мои челюсти сжимаются, я не могу произнести ни звука. Я называю свое имя так тихо, что никто его не слышит, и мне настолько тяжело говорить, что судья быстро прерывает этот кошмар, отправляя меня на место.
Как бы мне хотелось убежать из зала, хлопнув дверью, не участвовать в этом судебном заседании! Как же мне плохо! Но у меня нет на это права. Я снова усаживаюсь на стул, повернувшись лицом к стене. Это — единственное, что я могу сделать, чтобы не видеть ни его тупого лица, ни ее злобных глаз. В таком положении я и правда ничего не вижу, зато все слышу. Слышу, как Да Крусу зачитывают обвинение, в деталях. Кто-то описывает полный ужасов день, который мне довелось пережить. Мои собственные слова произносит чей-то чужой голос, и каждое отзывается болью в моей груди. Рассказчик не акцентирует внимание на удушении. Как мы и предвидели, прочитав постановление о передаче дела в суд, главный предмет разбирательства — изнасилование. Да Крус признает, что выкрал меня, что был половой контакт, рассказывает, по какому маршруту мы ехали. Он говорит глухим, тихим голосом. Если бы у него спросили, что он ел накануне, наверное, эмоций в его голосе было бы столько же. Это отсутствие угрызений совести производит на меня сильное впечатление — словно он не сделал ничего особенного, ничего предосудительного. Я рыдаю, по-прежнему сидя ко всем спиной, и считаю минуты, отделяющие меня от конца заседания, и вдруг слышу следующее:
— Я не уверен. Я этого не помню.
У Да Круса спросили, признает ли он, что изнасиловал меня повторно в машине. Я помню это слишком хорошо — как ручной тормоз давил мне в колени, и все остальное тоже. Помню, как Да Крус тянул меня за волосы, его омерзительные слюни и зеркало, повернутое так, чтобы он мог лучше видеть происходящее. Каждая деталь запечатлелась в моей памяти навечно, а он притворяется, что не помнит ничего! Волна ненависти захлестывает меня, я поворачиваюсь и кричу на весь зал:
— Грязная скотина!
Слова сорвались с губ сами собой.
На какое-то мгновение в зале суда воцаряется полная тишина, потом заседание продолжается. Моя же душа окончательно покинула тело. Для меня больше не существует ни судьи, ни присяжных. Перед глазами все время стоит эта ужасная сцена. Машина, зеркало, угрозы… Я смотрю на Да Круса, который сидит напротив, я пытаюсь раздавить его взглядом, заставить его устыдиться, показать, что мне он соврать не сможет. Он сидит в своей стеклянной клетке, и теперь я осмеливаюсь бросить ему этот молчаливый вызов. Его постыдное отрицание придало мне сил. Я не слышу генерального адвоката, требующего для обвиняемого двенадцати лет заключения, не вижу, как присяжные встают со своих стульев. В заседании объявлен перерыв. Мама берет меня за руку и выводит в коридор. Папа приносит кока-колу. Слова льются из него потоком и жужжанием отдаются у меня в ушах. Он говорит, что все идет как нужно, что я должна быть мужественной, что присяжные, конечно же, мне поверили, что все присутствующие знают, кто врет и кто говорит правду. Мой отец повторяет снова и снова, что уверен в том, что вердикт будет суровым, но все в нем — и дрожание губ, и прерывистая речь — свидетельствуют об обратном: он взволнован и подавлен.
И вот мы возвращаемся в зал заседаний. Через две минуты зачитывают вердикт: одиннадцать лет тюрьмы Да Крусу, 12500 евро в качестве возмещения ущерба мне и 3000 евро — моим родителям. И никакого социально-судебного наблюдения за виновным после того, как он отбудет свой срок. Мнение первого эксперта, отнесшего преступление Да Круса на счет алкоголя, восторжествовало. Заплаканная жена в зале суда, стабильная работа в течение семнадцати лет и жалкий вид — все это сделало свое дело. Моему насильнику удалось склонить присяжных на свою сторону. Версии о том, что преступление было совершено исключительно под воздействием алкоголя, было отдано предпочтение. К черту результаты второй экспертизы, в которой перечислены проблемы обвиняемого психического плана, и он характеризуется как «нарциссическая, незрелая личность, склонная к извращенным реакциям», где подчеркивается его потенциальная опасность для общества! Присяжные суда в Луаре пришли к выводу, что этот тип — обычный алкоголик. Мария бросается на шею супругу прямо перед моими родителями и мной — мы ведь сидим в первом ряду. Адвокат Да Круса, судя по всему, уязвлен «суровостью приговора». Брызгая слюной и размахивая руками, он возмущается решением органов правосудия: ведь это всего лишь изнасилование, а не преступление против человечества! В ответ мой отец обзывает его такими словами, что адвокат краснеет, а наш адвокат вынуждена вмешаться:
— Мсье Вале, прекратите, иначе вас обвинят в неуважении к суду!
Совершенно обессиленные, мы возвращаемся домой.
В машине родители не разговаривают. Суд свершился, и им стало спокойнее. Мне тоже. Да Крус теперь сидит под замком и выйдет нескоро. Целых одиннадцать лет, возможно, чуть меньше, я могу не бояться, что он вернется и убьет меня. Наш адвокат поставила нас в известность о том, что осужденные никогда не отбывают полный срок. Во Франции существует система, предусматривающая сокращение времени пребывания в тюрьме каждого заключенного — это так называемое «автоматическое» сокращение срока. За хорошее поведение могут «скостить» еще немного. Я не знаю, зачем это делается, — то ли чтобы не переполнялись тюрьмы, то ли чтобы облегчить освобожденным интеграцию в общество, и мне на это плевать. Я помню одно, главное: Да Крус осужден на одиннадцать лет. Предположим, срок ему уменьшат на два года, еще два года он провел тюрьме до суда, значит, получается семь. У меня впереди по меньшей мере семь лет жизни, до 2009 года. Мне тогда будет двадцать два.
Уже неплохо!
Еще меня успокаивает мысль, что теперь, когда свершился суд, досужие разговоры сойдут на нет. Городские сплетницы заткнутся, когда узнают вердикт присяжных: одиннадцать лет тюрьмы за изнасилование с отягчающими обстоятельствами и незаконное лишение свободы. Да Крус — виновный, я — жертва, так постановил суд. Все, кто сомневался во мне, кто думал, что я сама соблазнила Да Круса, кто злобствовал — как им теперь будет стыдно! Я уже представляю, как все мои обидчики, которые называли меня на школьном дворе лгуньей, подходят ко мне с жалким видом и извиняются…
И я в очередной раз заблуждаюсь.
Слухи — это мутирующая гидра, которая поглощает факты, переваривает их и выдает в совершенно деформированном виде. Сумма в 15500 евро, присужденная нам в качестве возмещения нанесенного ущерба, производит вне стен суда огромное впечатление. Лично у меня эти деньги вызывают отвращение, словно я решила «списать» вину за чек. Как если бы моя боль и несчастья имели цену! Мои родители считают, что это — минимум, который я должна была получить, и что из этих денег они как раз заплатят адвокату.
— Даже если Да Крусу придется вкалывать до конца жизни, чтобы выплатить эти деньги, так ему и надо! — подхватывает моя мать.
Так вот, оказывается, что эти деньги, при мысли о которых меня воротит, кое у кого вызывают зависть. На следующий же день у всех на устах уже новая песня: «Теперь понятно! Эти Вале, которые постоянно сидят без гроша, возвели напраслину на соседа, чтобы вытянуть у него деньжат! Девчонка готова на все ради денег! Родители ей подыграли!» Но ведь факт изнасилования подтвержден самим осужденным, установлен судмедэкспертом, доказан в суде! Как можно в этом сомневаться? И все же приятели Мануэля вопреки всему продолжают утверждать, что он ни в чем не виноват. В коллеже одна мадемуазель, подружка Да Крусов, придумывает свое объяснение, которое добрые люди спешат довести до моего сведения:
— Может, Морган и изнасиловали, но это точно был не Мануэль!
Но кто тогда?
Через несколько месяцев после суда отец утром отправляется на работу. Он теперь — водитель «скорой помощи» и должен регулярно отвозить в больницу милую и разговорчивую старушку семидесяти с лишним лет. Папа тоже не прочь поболтать, и время летит незаметно. Как обычно, они разговаривают о пустяках, и вдруг пожилая дама заводит речь о мрачном происшествии, о котором недавно писали местные газеты, — об изнасиловании девочки в Эшийёзе. Разумеется, она не знает, что ее обожаемый шофер — одно из действующих лиц этой истории.
— Думаю, над девочкой надругался ее собственный отец. Представляете, какая это для нее травма! — со вздохом вещает старушка. — Не удивительно, что она постоянно болталась на улице и с ней приключилась беда! Да и как знать, правду ли она сказала? В таких случаях, мсье, сути дела не знает никто…
Отцу стоило больших усилий сдержаться, так что бабушке едва не пришлось с полдороги добираться до больницы на инвалидной коляске.
Я это поняла довольно скоро: изнасилование оставило на мне пятно, от которого я никогда не смогу полностью избавиться. Мой отец тоже это понял, и его кризы не только не стали более редкими, наоборот — они участились и усугубились. Он пьет, злится, оскорбляет меня и мстит мне за несчастье, которое, как он считает, из-за меня обрушилось на нашу семью. Эта несправедливость сводит меня с ума. В те вечера, когда отец пьян, мы с ним становимся злейшими врагами, ненавидящими друг друга, мы обмениваемся пощечинами и швыряем друг другу в лицо бутылки. Однажды я разбиваю об отцовскую голову симпатичную масляную лампу, которая обычно стоит на полке в кухне. У меня в крови рука, у него — лицо. Мы оба отправляемся в больницу. И пока медсестра вынимает из моей ладони осколки стекла, у меня в голове кружится одна мысль: «Надо продержаться, пока мне не исполнится восемнадцать, и тогда все — хватит с меня!»
Я повторяю про себя эту мантру, но прекрасно знаю, что столько не выдержу. Я умру раньше. Постепенно я прихожу к мысли, что самоубийство — единственно верный способ избавиться от отчаяния.
Все чаще моя мать хватает детей в охапку и просит приюта у родственников и друзей. Три дня мы живем у бабушки, месяц — у тети, выходные — у приятелей… Потом возвращаемся домой, но отец спустя какое-то время снова ныряет с головой в бутылку, и мы снова уезжаем. Мы превращаемся в каких-то кочевников… Когда найти приют не удается, мы сидим на стоянке возле «Макдональдса», пока отец не проспится. Подкрепляясь гамбургером, я обрушиваю на мать всю свою ненависть, требую, чтобы она развелась с отцом.
Она никогда не возражает, но мне кажется, что на ее лице написано полнейшее ко мне безразличие. В глубине души она, конечно, понимает, что дальше так продолжаться не может. И вот наступает день, когда решение принято: мы переезжаем из Эшийёза к тете, а потом — к моей бабушке по матери, живущей в Питивье.
Отец остается наедине со своей бутылкой. Это станет ему наукой… Но я чувствую себя виноватой. Виноватой в том, что мы переехали, что мама грустит, что рушится их с отцом брак, что разваливается семья… Даже прогулки с Дженнифер не отвлекают меня от моих горестей. Однажды нас с ней приглашает в гости наш общий приятель. Мы смотрим фильм, и у меня вскоре начинает болеть голова. Я прошу дать мне аспирин, и хозяин дома объясняет, где найти таблетки.
Решение приходит само собой: мне нужно много таблеток, чтобы перестать ощущать эту боль. Пора сказать «стоп». Чтобы больше не мучиться, не бояться… Я хочу, чтобы мама поняла, как мне плохо, чтобы по-настоящему помогла мне… Чтобы мой отец перестал пить и оскорблять меня! Я хватаю две пластинки таблеток и проглатываю все до одной.
Мне всего пятнадцать, но с меня хватит страданий. Все, занавес.
8 ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ
Оказалось, что сжевать пару десятков таблеток долипрана — не самый действенный способ свести счеты с жизнью. В полукоматозном состоянии, но я все-таки возвращаюсь домой, к бабушке, в час ночи. Словно в тумане, я приоткрываю дверь, и все набрасываются на меня. Бабушка и дедушка очень волнуются. «Что на тебя нашло, Морган? Разве можно без предупреждения так задерживаться?» Плохо соображая, что происходит, я признаюсь, что недавно наглоталась таблеток. Мама впадает в панику. Меня тут же подвергают допросу. Что именно я выпила? Кто дал мне таблетки? Она бросается к телефону и звонит маме парня, у которого я провела вечер. Узнав, что я наглоталась парацетамола, а не чего-то похуже, мама вздыхает с облегчением, и ее тон меняется кардинальным образом. Начинается разбирательство. Мало того, что я вернулась домой поздно, но что теперь подумает обо мне мама моего приятеля? Силы терпеть мои глупости у матери иссякают. Бабушка и дедушка тоже хмурятся и упрекают меня в безответственности, в общем, мне начинает казаться, что все ополчились против меня. Мне читают мораль, и я реагирую как обычно — взрываюсь. Я кричу, я оскорбляю весь мир, заявляю, что не желаю выслушивать их упреки, что я уже взрослая и могу сама о себе позаботиться. Разбушевавшись, я бросаю дедушке:
— А ты вообще заткнись, старый козел!
Пощечина заставляет меня умолкнуть, и мама, потирая ушибленную руку, отправляет меня в мою комнату.
— Я не хочу выслушивать твои глупости! Немедленно в постель, тебе завтра в школу!
Я пыталась покончить жизнь самоубийством, и вот как они реагируют! Им все равно! Оплеуху тебе, Морган, и марш в постель! Какое презрение! Им плевать на меня, на мои страдания. К чему думать о смерти, если им все равно, буду я жить или нет? Я проклинаю их так громко, как могу, но после этой пощечины у меня почему-то пропадает желание попрощаться с миром.
Похоже, в моей жизни что-то переменилось: я перешла границы дозволенного, и меня поставили на место. В доме бабушки существуют правила, и никто не имеет права их нарушать. И в ее доме никто не пьет.
Все в мире потихоньку встает на свои места.
Наступает лето. Я заканчиваю коллеж. В сентябре я пойду в лицей, а пока впереди у меня целых два месяца каникул. Два месяца без уроков, без кавалеров, без вечеринок с Дженнифер. По идее, я должна бы расстроиться, что придется на время расстаться с подружкой и ее «кликой», с моей повседневной жизнью и нашими гульками. Но ничего подобного не происходит. Наоборот, в последний раз выйдя из дверей коллежа, я чувствую, что тяжеленный груз упал с плеч. Начались летние каникулы, и я уже очень скоро буду у дедушки и бабушки, в их красивом доме в Авейроне. Папа не любит ездить туда в отпуск, поэтому мои родители с младшими детьми, Рашелью и Тити, обычно оставались летом в Эшийёзе. В отличие от папы, я обожаю холмы и ни за что на свете не отказалась бы от этой поездки. Даже без родителей и брата с сестрой я туда еду с радостью и прекрасно провожу там время. Забыты макияж и облегающие джинсы! Забыты вечерние прогулки по городу и коллекционирование мальчиков! Я целыми днями шляюсь в шортах, болтаю, бегаю по лугам и жарюсь на солнце. Мои волосы растрепаны, а ноги исцарапаны о колючие кусты. Свой костюм «леди вамп» я оставляю дома, в шкафу, и только сейчас понимаю, до чего же он был для меня тяжел.
Здесь, у дедушки с бабушкой, я снова становлюсь пятнадцатилетней девушкой. Легкой, как перышко! Грязь, комом стоявшая в горле, исчезает. Я уже не опасаюсь, что обо мне могут подумать, и мне не кажется, что все меня постоянно за что-то осуждают. Я больше не считаю нужным выглядеть распущенной, делать себя объектом насмешек и подставляться под пинки ради того, чтобы на меня обратили внимание. Рядом нет ни Дженнифер, ни Джефферсона, зато есть кузина Лоранс. А она принимает меня такой, какая я есть. Она ко мне прислушивается. Она меня любит. Мы болтаем, смеемся. Летом в Авейроне испаряется все, что отравляло мне жизнь: нет ни школы, ни сплетен обо мне, ни мальчиков. Ну, почти нет…
Дедушка с бабушкой постарели, поэтому мы реже, чем раньше, разъезжаем по окрестностям. Зато время от времени ходим в местный открытый бассейн. Тетя лежит на полотенце, а мы с Лоранс целыми часами прыгаем, ныряем, плаваем, толкаемся, визжим и хохочем, и тете удается выгнать нас из воды только под угрозой, что нас завтра же отправят по домам. Вокруг огромного бассейна много таких же шумных подростков, как и мы, в том числе и компания местных парней и девочек, но мы с сестренкой, как форменные задаваки, даже на них не смотрим. Провинциалы несчастные! Девочки кажутся нам глупенькими, а мальчики и вовсе не заслуживают внимания. Мы с Лоранс потешаемся над их акцентом и странноватой одеждой. В общем, никому из местных не удалось произвести на нас впечатление.
Нет, пожалуй, один симпатичный парень среди них все же есть.
У него черные волосы, белозубая улыбка, как в рекламе зубной пасты, загорелая кожа, светлые глаза. Он даже слишком красивый, чтобы быть настоящим. Наши с Лоранс забавы вызывают у него улыбку, и он все время держится неподалеку. Нам кажется, что ему хочется принять участие в нашей возне, однако он не решается, а мы слишком впечатлены его красотой, чтобы заговорить первыми. Однажды вечером, когда мы с сестренкой мылись под душем перед тем, как отправиться в раздевалку, кто-то нас окликнул:
— Эй, девчонки, вы завтра придете?
Он! Он хочет снова с нами увидеться! Вот радость! Мы с Лоране не находим себе места, мы суетимся, как две блохи, нанюхавшиеся амфетаминов. Весь вечер говорим только об этом и спать ложимся ближе к рассвету. Однако на следующий день в восемь утра мы уже готовы отправиться в бассейн. Но тетя категорически против. Во-первых, еще слишком рано, а во-вторых, мы там были вчера… Мы теребим ее, упрашиваем, и ей стоит огромных усилий уговорить нас подождать немного. «Да что с вами сегодня, девочки?» Выхода у нас нет, и мы признаемся, в чем дело. Симпатичный парень, свидание… «Пожалуйста, тетечка, милая!» Тетя, добрейшая душа, соглашается остаток своего отпуска посвятить пыткам хлорированной водой, и каждый день после полудня мы отправляемся в бассейн, и так — на протяжении нескольких недель. Она готова на многое, чтобы доставить удовольствие своей дочке, а в особенности племяннице.
Дело в том, что понравилась Давиду именно я.
И через пару дней это становится очевидным: это меня он топит, толкает в воду, обрызгивает, и у меня, в итоге, просит номер телефона. С моей стороны это любовь с первого взгляда. Каждый вечер я с нетерпением жду его звонка сидя в траве на лугу позади дома, где пасутся коровы, потому что только там берет мобильный. Мы болтаем по нескольку часов, а на следующий день встречаемся после полудня в бассейне, под большим трамплином. Однажды вечером, на закате, мы стоим, опираясь локтями о бортик бассейна, и происходящее кажется мне дьявольски романтичным. Я уверена, что он меня поцелует. Наши головы соприкасаются, но в последний момент мой Давид отворачивается. Ад! Непонимание! Позже, по телефону, он объясняет: к несчастью, он уже давно встречается с девушкой, наша встреча все изменила, он хочет с ней расстаться, но не может сказать ей это по телефону, это не слишком вежливо. О том, чтобы встречаться с двумя одновременно, не может быть речи. Я ему очень нравлюсь, и все же нам придется остаться друзьями. В этот вечер кузине Лоранс приходится несколько часов утешать меня и поднимать мою упавшую ниже плинтуса самооценку.
— На одного такого сто других найдется! — наконец после двухчасового разговора выдает она в качестве последнего аргумента.
Легко ей говорить, а для меня это — настоящая драма. Однако я быстро успокаиваюсь, потому что мы с Давидом продолжаем встречаться каждый день. И он по-прежнему внимателен, любезен и предупредителен. Он повторяет, что хотел бы встречаться со мной. У нас с ним — настоящая love story[16], только любовь наша платоническая. Когда я об этом думаю, то расстраиваюсь, ведь это доказательство того, что мы вместе не по-настоящему, и все-таки такая данность меня утешает. После изнасилования многие вещи в жизни меня пугают и огорчают. Если парень начинает активно требовать «телесных» доказательств привязанности, меня охватывает страх, возвращаются отвратительные воспоминания, я начинаю спрашивать себя: имею ли я право делать это после того, что со мной случилось? А если я скажу «нет», парень меня бросит? Отвращение, ощущение насилия над собой, страх для меня неразрывно связаны с интимной стороной любви. Давид ничего от меня не требовал, и я не думала ни о чем плохом. Нас связывала взаимная нежность, и наши отношения ничто не омрачало. Когда в конце каникул мы расстались, мое сердце полнилось странным коктейлем чувств, в котором перемешались грусть и радость. Между нами ничего не произошло, и это «ничего» имеет для меня огромную ценность.
Многие недели парень восхищался моими чувством юмора, добротой, очарованием. Цветы он присылал мне совершенно безвозмездно, потому что даже не пытался меня поцеловать. А ведь я думала, что только моя дурная репутация может сделать меня привлекательной для мальчиков! Я заставляла себя играть роль «девочки-секси», чтобы добиться признания! Давид видел меня всегда небрежно одетой, растрепанной и даже ненакрашенной. Он не знал, что обо мне рассказывают. Он не хотел уложить меня в постель, он ничего от меня не ждал, и все-таки делал мне комплименты! Получается, все эти нежные слова из самого сердца? Я нравилась ему такая, какая есть, значит, я тоже чего-то стою. Как говорят математики, «что и требовалось доказать». И даже более того: Давид относился ко мне с таким почтением и трепетом, как никто раньше. А ведь он мог убедить меня в том, что у него нет девушки, погулять со мной пару месяцев, а потом бросить, как использованный носовой платок, и уехать к своей подружке. Но он ничего такого не сделал.
Он относился ко мне с уважением.
Это было что-то новое.
Думаю, мы с Давидом больше никогда не увидимся, но, несмотря на то что мне было очень грустно, я ощущала, что новая сила родилась во мне, пришло иное понимание вещей, и это сделало меня менее уязвимой. Сейчас я понимаю, что была бы счастлива, если бы он стал моим первым парнем. Другие, абсолютно все, были всего лишь чередой ошибок. И больше я подобных промахов делать не буду.
Мне кажется, что я вдруг обрела себя, после того как на много-много месяцев потеряла себя из виду.
И это — первый шаг долгого восхождения.
Прогулки и развлечения на свежем воздухе и чистая любовь… Это как ежедневные инъекции счастья! В общем, после двухмесячного пребывания в Авейроне я возвращаюсь в Питивье, в дом бабушки по материнской линии, у которой по-прежнему живут моя мать, брат и сестренка. Мой отец целое лето провел в одиночестве, и, похоже, это дало желаемый эффект: он принял решение пройти курс детоксикации, чтобы завязать со спиртным. Он сообщает об этом матери, а она торопится уведомить нас — Рашель, Корентена и меня. Я не верю своим ушам. Неужели мы скоро снова будем настоящей семьей: папа, мама, дети, и ни тени «зеленого змия» между нами? Курс лечения начнется скоро, отец уже подписал все бумаги и купил билет на поезд. Успокоенная и обрадованная этим доказательством любви, моя мать решает вернуться в Эшийёз. Я же уподобляюсь Фоме неверующему: пусть сначала мне покажут трезвого отца, потом я вернусь домой. Поэтому пока остаюсь жить у бабушки. Да и потом, мне сейчас некогда собирать вещи, завтра у меня — первый день занятий.
Третье сентября, 7.45 утра. Я робко переступаю порог моего лицея. Я не знаю здесь никого, не знаю своих одноклассников. В списке учеников второго «В» нет ни одного человека из моего коллежа. Не знаю, может, преподаватели сделали это нарочно, чтобы дать мне шанс начать все заново, чтобы никто не отравлял мне жизнь, не напоминал о прошлом. Если это правда, я им очень благодарна, потому что я тоже хочу все начать с чистого листа. Мое светлое лето вырвало меня из инфернального круга соблазнов, в котором я существовала, и я вспомнила, что такое настоящее счастье. Это — простая жизнь без беспочвенных обвинений и сплетен. За последние два месяца никто не заговорил со мной об изнасиловании, и я не слышала всяких гадостей о себе, произносимых мне вслед. В окружении тех, кто меня любит и знает, какая я на самом деле, я снова стала задорной, милой, любопытной и совсем не «распущенной». В эти месяцы я почувствовала себя счастливой, а значит, не может быть и речи, чтобы машина по производству сплетен заработала теперь здесь, в лицее. Вчера я долго выбирала, что надену в первый день занятий, — что-нибудь простое, не слишком детское, но и не слишком облегающее. Джинсы, симпатичную трикотажную кофточку, кроссовки, а к этому — лишь легкий макияж. Я готова начать все с начала.
Пока же передо мной стоит куда более прозаическая задача — найти свой класс, и пока мне не удается это сделать. Стоя посреди холла, я верчу головой вправо и влево и понятия не имею, где находится комната 112. Мимо меня с уверенным видом проходит довольно хмурая белокурая девочка. Осмотрев меня с головы до ног, она спрашивает без всяких околичностей:
— Ты новенькая? Ты во втором «В»? Тогда мы в одном классе. Пошли!
Не слишком любезный прием, но ничего не поделаешь, и я следую за ней по пятам. Эту неласковую особу зовут Анжелика, и скоро она станет моей лучшей подругой.
Если не принимать во внимание резковатые манеры, эта девушка — сама доброта. Веселая, говорливая Анжелика всегда готова прийти на помощь, а еще она хорошо учится. Рядом с ней мне легко и спокойно, и я наслаждаюсь крепкой дружбой, в которой нет нездоровых тенденций. К нашему дуэту присоединяются Лоранс, моя кузина и хранительница сердечных тайн, которая учится в том же лицее, и Леа. Моя Леа… Неизменно доброжелательная, хорошая советчица, она всегда рядом, хорошо мне или плохо. В компании этих славных девиц я счастлива, как никогда. Когда мы гуляем вместе, о том, чтобы просто болтаться по городу или «цеплять» мальчиков, нет и речи. Наше постоянное меню включает сумасшедший хохот, шопинг, долгие разговоры ни о чем. Я получаю огромное наслаждение от этих простых радостей, и Дженнифер приходится с этим считаться. Она теперь тоже живет в Питивье, но в лицее мы в разных классах. Иногда в выходные мы с ней встречаемся. Ее интересы остались прежними: мода, парни, вечеринки.
Я изменилась, она — нет.
Она рассказывает мне, как и в прошлом году, о своих любовных похождениях со всеми подробностями, вот только роман ее жизни больше меня не интересует. Она тащит меня с собой на вечеринки, где мне ужасно скучно. Я больше не хочу прогулок с целью «снять» симпатичного парня, мне не нужны эти типы, которые вертятся вокруг и думают только «про это». Мне они кажутся слегка дебильными, неспособными вести нормальный разговор и некультурными. Я и так много времени на них потратила, теперь баста! Однажды вечером один из парней кладет на меня глаз, но я довольно резко его осаживаю. Ради смеха или чтобы ускорить ход событий, он вдруг хватает меня за запястья и пытается силой поцеловать. Раньше я бы, конечно, уступила. Но времена изменились, и я не собираюсь целоваться с первым встречным. Я пинаю хама сами знаете куда и, услышав его вой, с трудом сдерживаю улыбку. Ему очень больно, а Дженнифер в бешенстве: видите ли, я испортила ей вечер. Позднее, на Рождество, она звонит мне и говорит, что все еще на меня злится, что с нее хватит и она не желает больше со мной знаться. Когда я вешаю трубку с растерянным видом, встревоженная мама спрашивает, что случилось.
— Мы с Дженнифер поссорились, — отвечаю я.
Произнеся эти слова, я понимаю, что от этого разрыва мне ни холодно ни жарко.
И слава Богу!
И не только я одна стремлюсь навести порядок в своей жизни. Мой отец занят тем же. Из больницы он шлет мне открытки, от которых у меня на глаза наворачиваются слезы.
«Клопик мой, здесь я многое понял, на многое я теперь смотрю по-другому, — пишет он. — Я люблю тебя».
И подпись: «Папа».
За этими несколькими словами я угадываю целый роман. Я представляю, что он осознал свои ошибки, слышу извинения, обещания новой жизни. Я представляю, что пьяное чудовище по имени Рикар исчезло навсегда, и мой папа такой, каким был раньше, скоро вернется домой. И я оказываюсь права: отец приезжает домой преображенный. Даже лицо у него не такое, как в последние несколько лет. Морщины, гримаса гнева, злые взгляды — все это забыто. Мой папа полон сил. Счастлив. Влюблен в свою жену. Готов с утра до вечера возиться с нами, своими детьми. Когда я возвращаюсь жить в Эшийёз, дела у него идут намного лучше, и у меня тоже. У меня теперь есть настоящие подруги и хороший отец. И страхов у меня стало меньше. Кошмары снятся мне реже, и они утратили яркость. После изнасилования прошло два года, и мне часто кажется, что я проснулась после долгого и тяжелого сна. Проснулась и вдруг увидела рядом умного мальчишку и проказливую девочку — брата Корентена и сестричку Рашель. Закрывшись ото всех в своем маразме, я не заметила, как сильно они выросли, и теперь с радостью общаюсь с ними. Мы чуть ли не каждый день устраиваем во дворе семейные посиделки с барбекю и сеансы щекотки… в общем, стараемся наверстать упущенное. Жизнь в семье входит в нормальное русло, и так проходят год за годом. Второй класс, первый класс, выпускной класс… В этот период моей жизни у меня есть все для счастья. О мальчиках я не думаю.
Сказать правду, я всячески их избегаю. Мне и без них живется прекрасно! Какое спокойствие ума! Иногда, лежа в постели, я размышляю о том, как в ближайшем будущем сложится моя личная жизнь. Мне скоро семнадцать, и, согласно статистическим данным, вскоре должно случиться неизбежное. «В среднем молодые французы получают первый сексуальный опыт в возрасте семнадцати с половиной лет» — это черным по белому написано в онлайн-словаре Википедия, и некоторые мои подружки уже начинают рассказывать о своем «первом разе». Теоретически я допускаю, что не умру, так ни разу и не занявшись ни с кем любовью. На практике — полный мрак. Стоит мне только подумать об этом, как хочется бежать куда глаза глядят. Интимный контакт представляется мне чудовищной пыткой, худшим, что может со мной случиться. Я вижу себя лежащей на земле, полностью во власти Да Круса. Меня моментально начинает тошнить, и я не могу даже представить, что второй раз может отличаться от первого. В голове вертится столько вопросов, что я не могу уснуть. Если однажды я влюблюсь, как избежать занятий любовью? Ведь когда двое любят друг друга, заниматься любовью — это совершенно естественно! И придет день, когда отношения станут серьезными. Верно? Но на настоящий момент все это кажется мне немыслимым и откровенно грязным. Об удовольствии нет и речи, я не знаю, бывает ли оно, и не желаю пытаться это узнать. Перед тем как уснуть, я прихожу к следующему выводу: чтобы не заниматься любовью, мне просто не надо влюбляться. Вот и все.
Так что я ставлю крест на противоположном поле. Я — да, а вот мои подружки даже не помышляют об этом. Уже несколько дней моя подруга Анжелика все уши мне прожужжала о каком-то Жо — замечательном парне, с которым она познакомилась прошлым летом, когда подрабатывала, чтобы иметь деньги на карманные расходы. С утра до вечера я только и слышу о том, какие у Жо глаза, какое чувство юмора и как он потрясающе обаятелен. О Жо моя Анжелика говорит, даже когда ест, и я ставлю подруге единственно верный диагноз: у нее тяжелая интоксикация, помешательство на почве влюбленности. Однажды вечером она звонит мне в крайнем волнении и сообщает, что — ура! Ура! — Жо наконец-то предложил ей пойти с ним на день рождения своего друга, и она полагает, что на этой вечеринке все между ними решится. Вот только она не совсем уверена в благоприятном для себя исходе дела, а потому просит меня пойти с ней, чтобы не подпирать стенку в одиночестве.
Ни за что!
Я слишком часто ходила с Дженнифер на такие вечеринки, где никто друг друга не знает, и моя дорогая подруга толкала меня в объятия незнакомца, потому что имела виды на его друга. Хватит! Я больше не хочу! Нет, нет и нет! Анжелика упрашивает меня, ей так хочется туда попасть, что я наконец уступаю. Итак, пытка состоится в субботу вечером. И вот мы с ней оказываемся в саду, где полно довольно милых девушек и парней, которые знают друг друга с яслей. И вдруг в толкотне я замечаю его — брюнета, сидящего на стуле. Даже со спины он кажется красавцем, но когда поворачивается ко мне лицом… Просто нет слов. Купидон моментально всаживает мне стрелу между лопаток, но я тут же одергиваю себя: судя по всему, парень уже успел не только выпить лишнего, но и растерять свои хорошие манеры. Сначала он не обращает на меня внимания, но последние два часа буквально ходит за мной по пятам. Сангрия[17] делает его предприимчивым, и чем ближе ко мне он подбирается, тем активнее я отстраняюсь, пока наконец не упираюсь спиной в стену. «Если он не престанет ко мне клеиться, — думаю я, — я его стукну!» Не успела я об этом подумать, как Ян (так зовут моего настойчивого кавалера) целует меня. И только я собираюсь вцепиться ему в волосы, как Анжелика толкает меня в бок локтем, умоляя не устраивать скандал. Чтобы не опозорить подружку перед ее обожаемым Жо, я сдерживаюсь. Я вежливо прощаюсь с «липучим» Яном и даже даю ему свой номер мобильного, когда он просит, но сама я уверена, что продолжения не последует: мы с этим типом никогда больше не увидимся.
Однако, как только мы уходим с вечеринки, я получаю от него эсэмэску:
«Ты мне очень понравилась, надеюсь, скоро увидимся».
Даже не мечтай об этом! Ян, конечно, хорош собой, но уж слишком он похож на тех парней, с которыми я общалась, когда дружила с Дженнифер. Хватит с меня фанатов секса! Анжелика пытается меня переубедить. Они с Жо так и не поговорили толком, и он назначил ей назавтра свидание. Ян тоже придет. «Мы будем только вчетвером, выпьем по бокалу, ты о-бя-за-тель-но должна прийти, иначе весь план рухнет!» Вот незадача! Бывают дни, когда жалеешь, что у тебя есть друзья… Решено, я пойду, но с Яном буду подчеркнуто холодна.
К моему огромному удивлению, мне не приходится его осаживать. Он подходит ко мне с виноватым видом и целует в щечку. Едва я успеваю сказать «привет!», как он пускается в пространные пояснения: он просит у меня прощения, так как вчера обошелся со мной по-хамски, но на самом деле он совсем не такой, это из-за спиртного, и теперь он ужасно сожалеет…
— Если ты не захочешь больше меня видеть, я пойму, — заключает он с убитым видом.
И я по-настоящему влюбляюсь.
И, разумеется, даю ему второй шанс. Милый, галантный, предупредительный — он просто парень моей мечты. Для меня столь трепетное отношение настолько необычно, что я — на седьмом небе от счастья. С того дня, как мы начали встречаться, я все время глупо улыбаюсь, на щеках — румянец, глаза сияют. В общем, я счастлива как никогда. А вот что касается интимной жизни, хуже и быть не может. Я увертываюсь, извиваясь, как уж, стоит моего возлюбленному попытаться меня обнять. Он не отчаивается, полагая, что моя крайняя стыдливость объясняется неопытностью, и дает мне обещание, что подождет, пока я буду готова.
— Это нормально, что ты волнуешься, — утешает он меня. — Не беспокойся, я понимаю, ты ведь никогда не спала с парнем…
Он, как всегда, великолепен. Хотя на этот раз попал впросак. Мне же стыдно оставлять его в неведении относительно того, что он у меня — не первый, поэтому я говорю правду. Пугаясь в словах, я объясняю, что не девочка, но опыта у меня нет никакого. Потому что, с точки зрения физиологии, у меня уже был «первый раз», а вот с психологической точки зрения — нет. Ян не пытается прервать мои путаные излияния, но дрожание моих рук и мой срывающийся голос внушают ему тревогу, и он требует объяснений. После двадцатиминутного бессвязного бормотания я наконец делаю глубокий вдох и, дрожа всем телом, начинаю рассказ. Я описываю, как меня выкрали, лес и все остальное. Этот отвратительный «ком грязи» я вываливаю к его ногам и закрываю глаза крепко-крепко, потому что знаю: я только что уничтожила нашу любовь. Я представляю моего возлюбленного с искаженным лицом, испуганным, преисполненным отвращения. Как бы то ни было, теперь я уверена, что, сию же минуту или чуть позже, но он найдет причину прекратить наши встречи. Между ним и мной все уже, определенно, кончено. Кто захочет встречаться с девушкой, когда-то кем-то изнасилованной? Кто будет продолжать любить такую? Однако когда я наконец открываю глаза, Ян все еще рядом. И он плачет. Он прижимает меня к себе, и мы рыдаем вместе, пока моя печаль и отчаяние не иссякают. Его слезы смывают с меня грязь воспоминаний. Ян не хочет со мной расставаться. Он не боится ни моего страха, ни моего прошлого. Он принимает меня такой, какая я есть, — с исковерканной душой.
Позже, положив голову мне на живот, он скажет, что любит меня. Скажет просто, как нечто само собой разумеющееся, не пытаясь воспользоваться волнением, которое эти слова вызовут во мне. Он скажет это так же, как заплакал, — искренне. Его ласковые слова и слезы рождают во мне уверенность: он и никто другой станет моим первым мужчиной. И это, скорее всего, случится скоро.
Когда я думаю об «этом», внизу живота от страха у меня все сжимается в комок, но внимание и забота Яна меня успокаивают. День за днем его рука постоянно сжимает мою руку, я слышу его голос по телефону, он шепчет мне ласковые слова каждое утро… Наша история любви так красива, и я прихожу к убеждению, что «под одеялом» между нами ничего плохого случиться просто не может. Ведь это будет совсем не так, как было с Да Крусом! Быть может, я даже не вспомню о прошлом… Если задуматься, настоящего «первого раза» у меня все-таки не было, поэтому я умираю от волнения и страха, но понемногу прихожу к мысли, что сейчас в моей жизни все не так уж плохо, и я могу дать себе шанс в плане секса. Попытаться все «переиграть». Как с экзаменом на диплом бакалавра, который мне предстоит сдать в конце года: если в июне провалился, можешь попробовать еще раз в сентябре. Здесь — то же самое. Мой «второй раз» будет настолько хорош, настолько полон любви, что сотрет воспоминания о первом. Сотрет лес и страх, боль, отчаяние. Мне так хочется, чтобы у нас с Яном получился настоящий счастливый «второй первый раз», каким его воображают девушки: со шквалом эмоций, слезами счастья и приятным ощущением радости от того, что ты наконец по-настоящему стала женщиной. Как в фильмах…
Я надеялась на воплощение мечты, а пережила кошмар.
Я представляла себе все, но только не самое худшее. Я не предполагала, что слова моего возлюбленного напомнят мне приказы Да Круса, что его прикосновения моментально перенесут меня туда, в лес. Я не подумала о запахе — запахе тела моего возлюбленного, этом остром характерном запахе, который ассоциировался у меня с насилием. Я вдруг переношусь в тот лес, вижу над головой ели, ощущаю землю под брезентовой подстилкой, и меня жутко тошнит. Мне становится так страшно, что единственное, чего мне хочется, — это потерять сознание. Я не могу заставить себя взглянуть на любимого, но стоит только смежить веки, как я вижу над собой Да Круса, и мое тело тотчас же отказывается делать то, чего желает рассудок. Мне очень плохо. Мои плечи трясутся, на лице появляется гримаса отвращения, бедра сжимаются, как два бетонных блока, и я ничего не могу с этим поделать. Испуганный Ян спрашивает, хочу ли я, чтобы он остановился, но я с этим не соглашаюсь. Я не хочу его обижать, не хочу все испортить. Я мечтала о нежных объятиях, однако на деле все заканчивается силовым состязанием. После того, как все случилось, я бросаюсь в ванную, чтобы выплакать реки слез и жестко оттереть мочалкой тело под душем. Ян потом мне скажет, что я рыдала уже тогда, когда он меня обнимал.
Я этого даже не заметила.
Есть в жизни грустные вещи, которые не забываются. Моя потеря невинности — одна из таких. В этот день я поняла, что никогда не буду такой, как другие. Я никогда не смогу это «переиграть», никогда не узнаю, что значит первый раз в жизни соединиться сердцем и плотью с тем, кого полюбила. Я не смогу не видеть перед глазами чудовищных картин, не ощущать отвратительных запахов. Да Крус не только надругался надо мной, он меня ограбил. Больше всего в жизни я теперь жалею, что вообще вошла в их с Марией дом. И злюсь на себя за это, как никогда раньше.
Да Крус в тюрьме уже четыре года, но ему до сих пор удается портить мне жизнь. Мне все труднее жить с этой тенью, омрачающей мое существование. Из-за нее я в очередной раз не могу насладиться счастьем, которое само идет мне в руки. Но ведь мне всего семнадцать, я так молода! Нельзя уже сейчас отказаться от всех надежд на счастье! Нельзя навсегда остаться жертвой! Гнев, который понемногу, но неумолимо накапливается во мне, становится моей движущей силой. Я хочу жить и испытать все женские радости, и я их испытаю! Много месяцев я буду бороться за нормальную интимную жизнь, бороться с воспоминаниями, встающими перед глазами, с отвращением к запаху спермы и пота, от которого меня мутит до рвоты. Все средства хороши, лишь бы вырвать Да Круса из моей головы и нашей постели, и я даже прошу Яна душиться посильнее перед тем, как лечь со мной в постель.
После года сражений с самой собой я наконец тону в объятиях моего возлюбленного без страха и с улыбкой на губах.
Он любит меня, я люблю его. И благодаря ему я люблю и себя тоже.
Рядом с ним, месяц за месяцем, я перерождаюсь. Чтобы нравиться Яну, я покупаю себе красивую одежду, юбки и кофточки с декольте, на которых я давно поставила крест. Ощущение, что, одевшись женственно, я подвергаю себя опасности, уже не приходит ко мне. Перемены затрагивают не только мой гардероб, но и самоощущение: рядом с Яном мне спокойно, и я ничего не боюсь. Забота, которой он меня окружает, делает меня сильнее, и я впервые за долгие годы представляю себе будущее в радужных тонах. То, что Ян относится ко мне с уважением, придает мне сил и уверенности в себе, и я начинаю меньше бояться привлекать к себе внимание. Более того, теперь я это делаю сознательно. Мне хочется доказать всем, что я, ребенок, подвергшийся сексуальному насилию, девочка-подросток, которая, по мнению многих, просто обязана была «плохо кончить», могу добиться успеха в жизни, и немалого! «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». С этой сентенцией я познакомилась на уроке философии в выпускном классе, и она стала моим девизом. Я даю себе обещание, что скоро у меня будет большой дом, ласковый любящий муж, красивые дети и суперработа. Я прошла через ад, значит, все самое лучшее ждет меня в будущем. Мысль о том, что Да Крус еще долгие годы будет гнить в тюрьме, помогает мне бесстрашно смотреть вперед.
Получив диплом бакалавра, я поступаю на фармацевтический факультет. Суперархеологом, новым Индианой Джонсом предстоит стать, увы, не мне. Слишком много лет придется учиться, чтобы получать очень скромную зарплату… Мои родители часто сидели без гроша, поэтому я хочу всегда иметь достаточно денег. Мне нравится заниматься научной деятельностью, поэтому выбор падает на фармацию. Я вижу себя в просторной лаборатории в процессе изготовления нового лекарства. А почему бы и нет? Я стремлюсь к счастью, потому что теперь во мне живет уверенность: я этого достойна, а еще мне хочется взять реванш. Изнасилование надолго сделало меня парией, и если уж мне пришлось стать не такой, как другие, придется добиться большего, чем они. Я представляю, как возвращаюсь в Эшийёз элегантно одетая, за рулем красивой машины, а рядом сидит мой муж… Я представляю, как вытянутся лица у тех, кто запомнил меня несчастным ребенком, а потом — презираемым всеми подростком. Я хочу, чтобы в недалеком будущем мое счастье кололо глаза всем, кто пытался его у меня отнять.
Да Крусу, из-за которого моя жизнь подростка пошла прахом.
Всем местным сплетницам, оговаривавшим меня и считавшим меня лгуньей.
Всем моим товарищам по коллежу, которые от меня отвернулись и которые относились ко мне хуже не придумаешь.
И моему отцу тоже. Я хочу доказать ему, что все его оскорбления не сломили меня.
К тому моменту, когда меня, полную здоровых амбиций и нездорового гнева, зачисляют на фармацевтический факультет университета города Тура, он уже давно пьет, как раньше. Нам всем понятно, что у нас обычной, благополучной семьи никогда не будет. Но теперь этот факт расстраивает меня куда меньше, чем прежде, потому что я не живу вместе с родителями. Тур находится довольно далеко от Эшийёза, поэтому я сразу же переезжаю в маленькую съемную квартирку, чтобы быть поближе к кампусу. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что моим родителям непросто оплачивать мое жилье, но что стоят деньги в сравнении с сознанием, что их Морган, несмотря ни на что, по прежнему добивается блестящих результатов в учебе? Я раскладываю свои вещи в этой однокомнатной квартирке без кухни, расплываясь в улыбке. Для меня этот день символизирует начало независимости, о которой я столько лет мечтала, возможность встречаться с друзьями, когда я захочу, делать что и когда заблагорассудится! Настоящее счастье — жить вдали от родного городка, от слухов, от ненавидящей меня Марии Да Крус, от Орлеанской тюрьмы, где отбывает срок извращенец, который испортил мне жизнь и чьего возвращения в родные места я боюсь больше всего на свете. А лучшее, что есть у меня сейчас в жизни, — это анонимность. Новая квартира, новые подруги, новая жизнь. Новое начало. Я вычеркиваю изнасилование из своего CV[18] и никому об этом случае не рассказываю. Я чувствую, что с моих плеч падает огромная тяжесть. Я наконец перерождаюсь. Меньше волнений, больше легкости… Дополнительное преимущество студенческой жизни: я реже вижу родителей. Только в выходные, и то не всегда. Дело в том, что, отправляясь в Эшийёз, я не знаю, в каком состоянии застану отца. Однажды в воскресенье он встал не с той ноги, и начался спектакль, сразу напомнивший мне обо всех прелестях жизни в семье Вале. Первый акт: мой родитель, перебрав за завтраком вина, начинает оскорблять мою мать и меня. Второй акт: мы посылаем его подальше сначала мягко, потом с ожесточением. Третий акт — «Нервный срыв»: папа приносит с чердака старый штык и начинает размахивать им у меня перед носом, словно хочет его вонзить в меня. Это явный перебор! Я бросаюсь в кухню и возвращаюсь с длинным кухонным ножом в руке.
— Хочешь, чтобы я всадила в тебя этот нож? — ору я отцу.
Младший брат в панике, сестричка заходится от крика. Мы с отцом подступаем друг к другу, готовые к схватке. В доме вдруг повисает мертвая тишина, и это резкое «понижение температуры» моментально успокаивает моего противника. Он убегает, хлопнув дверью и пригрозив напоследок, что пустит себе пулю в лоб. Никто ему не верит, и мы с облегчением прислушиваемся, как его шаги затихают на улице.
Эти полные страсти перепалки до такой степени меня утомляют и огорчают, что я стараюсь как можно реже видеться с родителями. Выходные я провожу у Яна или с друзьями, а остальное время — в Туре; в приятной жизни, которую я для себя создала, нет места Эшийёзу. А городок тем временем понемногу забывает ужасные события, принесшие мне столько горя. Факт моего похищения и изнасилования — словно камешек, упавший в воду, и волны, образовавшиеся на поверхности, наконец почти угасли. Изредка в разговоре кто-нибудь нет-нет, да и вспомнит о том, что теперь называют «делом о сексуальных домогательствах». Никто не говорит «изнасилование», и чем больше проходит времени, тем реже вспоминают о преступлении. Между Марией и моей матерью больше не происходит шумных ссор. Они уступили место холодной безмолвной ненависти, которая, однако, оживает каждый раз, когда женщины встречаются нос к носу на глазах у изумленных жителей городка, не знающих, как на это реагировать. Некоторым непонятно, почему эти две дамы до такой степени не переносят друг друга. За годы, прошедшие со времени моего изнасилования, в Эшийёзе поселились новые семьи — молодые супружеские пары с младенцами в колясках, которые, как и мои родители в свое время, мечтали о тихом зеленом уголке для своих подрастающих детей. Новые соседи радуются переезду, они твердо верят, что сделали правильный выбор: этот городишко, утопающий в садах и с виду такой безопасный, — воплощение их грез. Моя мать иногда на полуслове обрывает их восторги:
— Поверьте, преступники встречаются везде, даже на самых тихих улицах! Невозможно предугадать, что может случиться…
Те, кто ничего не слышал о нашей драме, полагают, что у мадам Вале не все дома, и со смущенным видом спешат попрощаться. Те же, кому все известно, утешаются мыслью, что молния не бьет дважды в одно и то же место.
А такое все же случается.
9 ЗВЕРЬ ВЕРНУЛСЯ
Однажды в субботу мы с отцом едем за покупками в Бон-ла-Роланд. Это симпатичный маленький городок, находящийся в десяти километрах от Эшийёза, который лично для меня примечателен тем, что там имеется супермаркет, а для отца — тем, что некогда в этих местах проживало племя галлов. Папа сегодня в отличном настроении, поэтому в пути меня ждет лекция по истории.
— Знаешь ли ты, Морган, что в свое время Бон-ла-Роланд держал в осаде сам Юлий Цезарь? — спрашивает у меня отец. — А недавно, когда строили автобан, там нашли настоящее галло-романское поселение, много посуды и даже термы…
И он рассказывает, переключая скорости и жонглируя эпохами, что этот спокойный городок в 1870-м стал театром боевых действий, а позднее, во время Второй мировой, через него прошли по пути в Аушвиц тысячи евреев… Я знаю все, что он скажет, слово в слово, но это не важно. Я люблю этот маленький ритуал, связывающий нас, отца и меня, в хорошие спокойные дни: он рассказывает, я его слушаю, и солнце согревает луга в это ранее утро 2006 года… У нас все хорошо.
До того самого момента, когда мы останавливаемся на перекрестке.
Справа, по улице, пересекающей нашу, подъезжает красивая машина из тех, которые обычно приковывают к себе все взгляды, — блестящая, с рельефным кузовом, на больших колесах. И вдруг мой отец бледнеет как полотно. Я тоже поворачиваю голову и вижу сидящих в «берлине»: дети сзади, Мария — на пассажирском сиденье, а за рулем — мужчина. Солнце мешает мне рассмотреть его лицо, но мне это и не нужно. Эти руки, эта посадка, эти черные волосы… Это он Это Да Крус, я в этом уверена.
Меня прошибает пот. Мне кажется, что земля поплыла у меня под ногами. От страха я не могу членораздельно выговорить ни слова. Что он тут делает? Он сбежал? Или его выпустили? Он вернулся, чтобы меня убить? Отец хмурится. Я чувствую, что он готов взорваться гневом, но сдерживается и, глядя мне в глаза, говорит, стараясь, чтобы это прозвучало как можно увереннее:
— Это не Да Крус.
Потому что Да Крус, заявляет мой отец твердо, в тюрьме и не выйдет оттуда раньше чем через три года, и это как минимум. Наверное, Мария нашла себе другого мужчину или машину ведет кто-то из ее друзей… В любом случае, нас это не касается, нам важно помнить одно: Да Крус сейчас гниет в застенке. Бледный и напряженный, отец так спешит меня успокоить, что мне никак не удается ему поверить. Думаю, это потому, что он сам себе не верит. На самом деле мой отец узнал сидевшего в БМВ Да Круса, и когда мы возвращаемся, едва я отворачиваюсь, рассказывает об этой встрече моей матери, до которой уже дошли тревожные слухи. Поговаривают, что муж Марии регулярно наведывается в Эшийёз и даже иногда подвозит свою жену к булочной. Правда или вымысел? Родители хотят знать наверняка, освободили этого мерзавца или нет, но как навести справки? Мама спрашивает совета у членов Ассоциации жертв насилия, которая с самого начала занималась моим случаем. Одна смекалистая добрая душа советует ей позвонить прямо в тюрьму и попытаться получить ответ на интересующим ее вопрос под предлогом, что нам перестали выплачивать компенсацию. Сказано — сделано: мама хватает телефон, и вот уже служащая тюрьмы выслушивает ее маленькую ложь. На другом конце линии на пару секунд воцаряется тишина, а потом слышно, как шуршат страницы досье.
— Да Крус, Да Крус… Подождите-ка… Нашла! Этот мсье уже не у нас, его освободили условно, наверное, поэтому вы и не получаете перечислений. Советую вам написать письмо в…
Конца фразы мать не дослушала. Она узнала главное: Да Крус на свободе! Через пять лет и несколько месяцев тюремного заключения, хотя суд приговорил его к одиннадцати годам, мой насильник свободен как ветер! И, как ни в чем не бывало, бродит в нескольких сотнях метров от моего дома! Взбешенная, мать снова хватает трубку, но на этот раз она звонит судье по исполнению судебных постановлений. Она представляется: «Это Элизабет, мама Морган Вале, жертвы изнасилования». И продолжает: «При всем моем уважении к закону, могли бы вы мне сказать, почему Мануэль Да Крус освобожден и имеет ли он право проживать в нашем регионе?»
«Мадам, вас это не касается!» — следует ответ.
Тип на другом конце линии грубо отделывается от матери, заявляя, что законом не предусмотрено уведомление семьи жертвы преступления ни о том, на каких условиях осужденный выпущен из исправительного заведения, ни о его нынешнем местопребывании, ни о чем-либо другом. Моя мать теряет голову. Отдает ли себе отчет этот чиновник, вросший в свой стул, что на свободу вышел опасный насильник? Его жертва, то есть я, живет в страхе! И может в любой момент столкнуться на улице с человеком, поклявшимся ее убить, если она засадит его за решетку! Невообразимо! Моя мать бушует в трубку. Самое меньшее, что, по ее мнению, могли сделать чиновники, — это хотя бы известить нас о возможности возвращения Да Круса в наши места.
— Единственное, что я могу вам сообщить, — это то, что он не имеет права посещать ваш город, — слышит мама, и на том конце линии кладут трубку.
Легче после этого звонка никому не стало. На наш взгляд, правосудие предоставило Да Крусу слишком много свободы. Напомним, что во Франции преступник, не являющийся рецидивистом и не осужденный пожизненно, может подать прошение об условном освобождении, отбыв половину срока заключения. Судья решает, удовлетворить ходатайство или нет, в зависимости от перспектив социальной реадаптации осужденного, его личных качеств, поведения в тюрьме, планов на будущее после освобождения, семейного, профессионального и социального положения. Да Крус, который в полном ладу с рассудком, не преминул воспользоваться этим подарком, который Франция преподносит своим преступникам. Он знает, на какие «кнопки» нажать: хорошо ведет себя в тюрьме, к тому же у него есть супруга, которая от него не отказалась, и дети, которых надо содержать. Осенью 2005 года он составил первое прошение об освобождении, которое сначала было отклонено, а потом, после подачи апелляции, удовлетворено. Его освободили с условием, что он пройдет курс лечения от алкоголизма и будет работать. И ему строго запрещено пытаться вступать в контакт со мной и посещать наш городок. Вот только никому из судей в голову не пришло, что Да Крусу нет особого дела до того, что законно, а что — нет. Оказавшись на свободе, мой насильник не стесняет себя ограничениями: несмотря на то, что ему предписано жить в Париже, он то и дело наведывается в Эшийёз, и поэтому мы частенько видим его машину. Моя мать снова звонит судье по исполнению судебных постановлений и сообщает, что отправила возмущенное письмо, чтобы официально уведомить органы правосудия о том, что Да Крус вернулся в город. Ее усилия оказались не напрасными: через несколько месяцев после освобождения судья возвращает Да Круса в тюрьму, приняв во внимание, что он не только не работает, но и поселился в двадцати километрах от нашего дома. Но упорство моего насильника так просто не сломить: он пишет новое ходатайство об условном освобождении. И пожалуйста! В 2007-м он снова выходит из тюрьмы! Условия освобождение те же: посещать собрания Общества анонимных алкоголиков, работать и не показываться в Эшийёзе. Как и раньше, плевать он хотел на последнее предписание: его постоянно видят у Марии. Он приезжает вечером, проводит в доме жены ночь и на рассвете уезжает, полагая, что остался незамеченным. Он забыл, что в маленьком городке ничего утаить невозможно, а скорее всего, просто плюет на всех и вся, и оказывается прав, потому что судья несколько раз приглашает его к себе, чтобы призвать к порядку, однако оставляет гулять на свободе.
Судья по-прежнему видит в нем хорошего отца и мужа, который на почве алкоголизма, бедняжка, поддался преступному порыву; к тому же он не какой-нибудь негодяй, а человек, который с уважением относится к системе правосудия. Слуги Фемиды полагают, что двух требований — посещать собрания анонимных алкоголиков и не приезжать в Эшийёз — достаточно, чтобы вернуть «раскаявшегося» на праведный путь. Но ведь между алкоголизмом и изнасилованием нет никакой связи! Почему-то все игнорируют тот факт, что преступление совершено им вследствие склонности к извращенному удовлетворению своих желаний. Мои родители на всех углах кричали о том, что этот тип представляет опасность и может совершить новое преступление, но их слова не были услышаны. Магистрат, вне всяких сомнений, руководствуется тем соображением, что Да Крус, который в заключении вел себя примерно, оказавшись на свободе, снова станет достойным уважения гражданином. Но разве изнасилование в течение нескольких часов с элементами садизма можно отнести к разряду спонтанных действий? Почему никто не подумал о том, что вне стен тюрьмы для такого человека найдется множество новых соблазнов? Более того: Да Крус один раз уже попрал запрет показываться в Эшийёзе во время своего первого условного освобождения; он не остановил его и во второй раз. Я полагаю, что подобная нечувствительность к тревожным сигналам ведет правосудие к краху. Спите спокойно, славные граждане!
Но я, я не могу сомкнуть глаз!
Да Крус пообещал, что прикончит меня, если я все расскажу, я помню его угрозы, словно это было вчера. С тех пор как я увидела его в машине рядом с Марией, меня не покидает страх, и это при том, что на тот момент я знать не знала о двух его условных освобождениях. Каждый раз, когда родители узнают, что их враг разгуливает по городку, они пишут письмо судье, но свое «бумажное сражение» они хранят от меня в тайне. При мне, щадя меня, они цепляются за жалкую ложь: Да Крус в тюрьме, поэтому нет причин для паники. Родителям пришлось приложить массу усилий, чтобы убедить меня ничего не бояться, но во мне все равно что-то сломалось.
Жуткий страх вернулся.
Когда я остаюсь ночевать в Эшийёзе, по вечерам я вспоминаю привычки, которые, как мне казалось, остались в прошлом. Я кладу рядом с собой палку или топор — все равно что, так как без этого я не чувствую себя в безопасности. Дверь я подпираю чем-нибудь из мебели, чтобы убедить себя, что через нее он в комнату не проникнет. Спать спокойно я могу только вдали от родного городка, в Туре или где угодно, но только не дома. Слова Да Круса не дают мне смежить веки:
«Начнешь болтать — и ты труп, уразумела?»
Я все рассказала, значит, он меня убьет. При первой же возможности явится, чтобы исполнить свои угрозы. Мне снова кажется, что мои дни сочтены, а ночи превращаются в пытку. Настроение у меня хуже некуда, но беда, как известно, никогда не приходит одна: именно сейчас Ян решает со мной порвать. Через три года после нашего знакомства он ставит точку в «деле Морган». Он тяготится рутиной, у нас теперь разные желания. Я — прекрасная девушка, но мы ведь можем остаться друзьями, в общем, он выдает обычный спич, цель которого — смягчить неприглядность реальности. А она такова: между нами все кончено. Я глубоко несчастна. С ним я снова стала сильной, ко мне вернулось желание построить счастливое будущее. Теперь же я чувствую себя покинутой, беззащитной перед лицом опасности, близость которой ощущаю уже несколько месяцев. Интуиция меня не обманывает, и родители в конце концов подтверждают ужасную догадку: Да Крус действительно вышел из тюрьмы.
— Но Да Крус живет в Париже и не имеет права к тебе приближаться, — заявляет отец, пытаясь, как может, успокоить меня. — Тебе не надо бояться!
Понимает ли он, что говорит? Изнасиловать тринадцатилетнюю девочку — это противозаконно, однако он пошел на это! С той самой секунды, когда я узнала о его освобождении, Мануэль видится мне всюду. Я вижу его на перекрестке, когда перехожу дорогу, вижу в супермаркете, когда покупаю пакет макарон, вижу на улице, когда смотрю в окно своей квартиры. Но самое страшное, что мне еще предстоит, — это моя стажировка. Все студенты второго курса фармацевтического факультета должны отработать шесть недель в аптеке. Мои товарищи подают заявки на распределение в то или иное заведение, руководствуясь рациональными соображениями — симпатичный патрон, посещаемость аптеки, ее расположение недалеко от их дома… Я же не могу думать ни о чем, кроме него. Мысли о Да Крусе преследуют меня. Меня берут на стажировку в аптеку, находящуюся недалеко от Эшийёза. Это удобно, я смогу вечерами возвращаться в родительский дом и не буду чувствовать себя такой одинокой. Это, разумеется, наилучший вариант, но ведь придется в течение полутора месяцев жить в эпицентре моей драмы, в двух шагах от Марии, которая, я в этом уверена, чуть ли не каждый вечер принимает у себя своего муженька — экс-заключенного. Чем ближе начало стажировки, тем более нервной я становлюсь.
Я представляю себя в белом халате в аптеке. Я готовлю состав по рецепту и вдруг, подняв глаза, вижу перед собой лицо этого мерзавца Да Круса. Потом я вижу себя за кассой, а его — в очереди покупателей. И наконец сценарий-катастрофа: со мной на глазах у всех случается нервный припадок, я полностью дискредитирована, стажировка провалилась, я получила плохую оценку — пропадай зря, год занятий!
Стажировка еще не началась, а я уже представляю собой комок нервов.
Сейчас совсем не время для выяснения отношений, но мой отец, очевидно, этого не понимает. Однажды вечером, выпив лишнего, он начинает без повода ко мне придираться, я его одергиваю, и мы начинаем ссориться, как в «старые добрые времена». Теперь такое случается редко, но сегодня я взрываюсь: тарелки начинают летать по комнате, и, выбившись из сил, я вызываю полицию. Когда жандармы входят в гостиную, отец, сгорая со стыда, предпочитает свалить всю вину на меня:
— Не случилось ничего серьезного, — говорит он. — Вы должны извинить мою дочь, ее в детстве изнасиловали, и это сильно на нее повлияло. Она реагирует слишком эмоционально…
Я не верю своим ушам: он использует преступление как оправдание, пытается выставить меня чокнутой! Это оказывается последней каплей. Я убегаю из дома, хлопнув дверью, и направляюсь прямиком в лес. В голове все перемешалось: Да Крус, который бродит по окрестностям; отцовские оскорбления; Ян, который больше меня не любит; изнасилование, о котором мне, судя по всему, никогда не удастся забыть; ожидавшая меня стажировка в аптеке; учеба в университете, на которой теперь можно поставить крест… На меня наваливается крайняя усталость, мне кажется, что я никогда ни в чем не преуспею и всегда что-то будет мешать мне двигаться вперед. Что есть моя жизнь? Разочарования, кошмары, неудачи и оскорбления. Все это не стоит моих усилий. На земле я вижу старый ржавый нож, хватаю его и начинаю с остервенением резать себе запястья. Все, с меня хватит, я хочу смотреть, как течет кровь, пока не потеряю сознания. Когда через несколько часов меня находит полиция и на «скорой» отправляет в больницу, доктора выносят свой вердикт: мои дела плохи. Либо я соглашаюсь принимать психотропные препараты, либо меня отправляют в клинику для принудительного «отдыха». В сумасшедший дом? Одну? Ни за что! По прошествии нескольких недель я приступаю к стажировке, накачанная антидепрессантами.
И ни разу за все время работы в аптеке не встречаю Да Круса.
«Ну вот, разве оно того стоило?» — читаю я на лице матери, которая тоже совершенно выбилась из сил.
Я прекрасно понимаю, что ей очень хочется, чтобы я стала прежней, стала ее милой девочкой! Чтобы я защищала ее от нападок отца, чтобы молчала и не пыталась ему возражать, чтобы перестала кричать, возмущаться, впадать в депрессию. Насколько бы это облегчило жизнь нашей семье! Иногда она говорит мне:
— Будь умнее отца, не обращай на него внимания! Пусть говорит что хочет. И не провоцируй его!
От таких советов во мне вскипает злоба. Это я должна молчать? Как будто я в чем-то виновата! Какая несправедливость! Нет, молчать я не буду, я не тряпка и не отступлюсь, если чувствую, что права. И чем больше мать старается уменьшить напряженность в доме, тем сильнее я обижаюсь на нее за то, что она не разделяет моей тревоги, моего справедливого возмущения. Мы все больше отдаляемся друг от друга. Да и, честно признаться, мне очень трудно сдерживаться, когда рядом отец. Будучи пьяным, он говорит мне ужасные вещи.
— Если ты и правда хочешь со всем покончить, то знай, что вены надо резать чуть ниже, — заявляет он однажды в пылу ссоры, уже после моей попытки самоубийства.
От подобных провокаций у меня «на загривке шерсть встает дыбом», его попытки выставить мои страхи в комичном свете рождают во мне желание его ударить, а призывы матери сохранять спокойствие меня возмущают, однако польза от них все-таки есть — я словно бы пробуждаюсь от тяжелого сна. В моем сознании горе и отчаяние сменяются сильнейшим гневом. Попытка покончить с собой, как я сейчас понимаю, означала, что я опустила руки. Я позволила оскорблениям отца себя уничтожить. И, что еще хуже, я чуть не позволила этому мерзавцу Да Крусу восторжествовать. Он бы несказанно обрадовался, узнав о смерти той, которая отправила его за решетку. Вопрос о суициде закрыт навсегда. Я довольна, что у меня ничего не вышло, и это был хороший урок: я поняла, насколько ранима. Когда Да Крус был в тюрьме, я чувствовала себя в безопасности, чувствовала себя свободной, больше любила себя, строила тысячу планов на будущее. Я наивно полагала, что излечилась от страха перед ним. На самом же деле этот страх просто уснул. И одного осознания, что эта свинья вышла на свободу, оказалось достаточно, чтобы он пробудился. Теперь я понимаю, что этот страх надолго станет частью моей жизни. И мне придется с ним жить. Жить, и стараться, чтобы мои дни были как можно более счастливыми. Я должна быть счастлива вопреки этому страху, вопреки всему. Это будет мое настоящее сражение, и я одержу победу. Я так хочу. Ведь в противном случае победителем окажется он.
В будни, пока я на занятиях или с подружками и далеко от моего городка, все хорошо. Никто из обитателей Эшийёза не знает моего адреса в Туре, и я спокойна. Я хожу на лекции, провожу вечера с подругами. Я — компанейская девчонка, всегда готова пойти в клуб или устроить набег на магазины. Однако стоит мне вернуться в Эшийёз, как над моей головой снова будто повисает дамоклов меч, и приходится бороться со страхом. Обычно мне это неплохо удается. И я стараюсь крепиться — повторяю себе, что ничего не боюсь, что нельзя допускать, чтобы Мария или Мануэль влияли на мою жизнь. Когда я встречаюсь с женой Да Круса, она пронзает меня взглядом, но теперь я не опускаю голову. Временами я даже решаюсь зайти в ее булочную и выдерживаю ее взгляд, пока она меня обслуживает. Такая мелочь для меня — большая победа. Мне страшно, но я держусь молодцом. И вот однажды я говорю себе: когда я все-таки повстречаю Да Круса, мы еще посмотрим, кто кого! Я буду злой, агрессивной, быть может, даже попытаюсь унизить его перед прохожими. Или, наоборот, я вскину голову и буду смотреть на него свысока. Как это было бы здорово — облить его презрением! Он поймет тогда, что ему не удалось меня сломать… Я тысячу раз прокручиваю в голове сцену нашей встречи и всегда выхожу победительницей, потому что правда на моей стороне. Да Крусу запрещено ко мне приближаться. Если я увижу его, это будет означать, что он нарушил закон, и я смогу позвонить жандармам, втоптать его в грязь, отправить обратно в камеру…
Как все произошло на самом деле, мы скоро увидим.
Весной 2009-го мы приезжаем на ярмарку в соседний городок Пюизо. Каждый год в мае здесь совершается один и тот же ритуал: рынок пестрит яркими красками, всюду карусели и разноцветные гирлянды. Словом, самый обычный праздник, окутанный запахами хот-догов. Такое нельзя пропустить! В это воскресенье мы с Лоранс, кузиной, отправляемся на ярмарку. Мои родители и дядя тоже тут, но у них свои интересы. Весь день мы с Лоранс гуляем, перекусывая на ходу и болтая. Мы переходим от прилавка к прилавку в поисках хорошеньких безделушек стоимостью в один евро и прохладной кока-колы. Ближе к четырем дня мы решаем дать себе передышку. У дома, принадлежащего друзьям моего дяди, я встречаю тетю и нескольких приятелей моих родственников. Мы разговариваем, шутим. Я поглощена беседой, как вдруг — удар в самое сердце.
Впереди на улице — они. Мария идет под руку с мужчиной. Я не успеваю его рассмотреть, но догадываюсь в одно мгновение, кто это. Он набрал вес, на нем большие солнцезащитные очки, и все же это он — в трех метрах от меня. Мануэль Да Крус. Внезапно карусели испаряются, музыка умолкает, я уже не ощущаю ни аромата цветов, ни затхлого запаха пережженного жира, присущих празднику. Только его запах, его большие руки, воспоминания о лесе…
От страха у меня кровь леденеет в жилах.
Как я мечтала о реванше, о том, как выкрикну оскорбления, как опозорю его перед всеми! Я так хотела совладать со своим страхом, плюнуть на этого мерзавца, сказать ему, что мне теперь двадцать один год, и пришел мой черед сделать его жизнь адом! И вместо этого я моментально превращаюсь в ту маленькую девочку, какой была восемь лет назад. Мои ноги подгибаются, я падаю прямо перед крыльцом дома, и тете приходится занести меня внутрь и уложить на диван. Она испугана, она спрашивает, что случилось; я успеваю шепнуть ей пару бессвязных слов, а потом уношусь в ванную, где меня безудержно рвет. Все напрасно: огромный ком грязи по-прежнему стоит у меня в горле. Я не только не смогла посмотреть в лицо Да Крусу, я даже не могу исторгнуть его из себя вместе с рвотными массами.
К тому времени, когда я прихожу в себя и осмеливаюсь выйти из дома, Да Круса давно и след простыл. Сражение между нами так и не состоялось.
Моя мать, напротив, дала выход своим чувствам. Она встретила его на несколько минут раньше на рынке и обрушила на него целую тонну оскорблений. Перед десятками посетителей ярмарки она припомнила Да Крусу все, что он со мной сделал. Не моргнув глазом, рука в руке, Мануэль и Мария прошли через эту грозу, и все на них смотрели. Рассказ мамы об их публичном унижении придал мне сил. С той самой секунды, как я увидела моего насильника, я убеждена: он живет в Эшийёзе со своей женой. Как бы родители не клялись, что это неправда, я повторяю, словно заведенная, что он не имеет права жить так близко от меня и что я им больше не верю. Если Да Крус и вправду обосновался в столице, что он делает сегодня в пяти километрах от нашего дома, да еще под ручку с супругой? Что касается меня, день теперь безнадежно испорчен. Даже речи быть не может, чтобы я осталась ночевать у родителей, рядом с насильником. Я, не теряя времени, собираю вещи и возвращаюсь в Тур, где баррикадирую дверь своей студенческой квартирки. Зачем Да Крусу появляться в окрестностях Эшийёза, если не с целью отомстить мне? Почему органы правопорядка за ним не следят? Почему? В течение нескольких недель эти вопросы разъедают мне мозг, мешают сосредоточиться на чем бы то ни было. Я позорно проваливаю июньские экзамены, предстоящее лето не сулит мне ничего хорошего. Летние каникулы я провожу у родителей. По выходным сижу в доме, потому что боюсь повстречать его на улице. Я рассчитывала все два месяца в будние дни работать в одной аптеке, в нескольких километрах от Эшийёза. В июле я провожу там дни напролет, но это меня совсем не успокаивает: стоит звякнуть колокольчику над дверью, как я замираю в страхе, что сейчас войдет он. Через пару недель, как только я прихожу на работу, у меня начинается нервный тик, меня все время тошнит. Я увольняюсь раньше предусмотренного в контракте срока, чтобы отдохнуть и подготовиться к пересдаче экзаменов. Из прочитанного в учебниках я не запоминаю ничего — информация словно бы проходит мимо моего сознания. Приступы паники сменяются рыданиями. Это нужно прекратить! Совершенно измотанная, я отправляюсь на прием к своему доктору. В приемной, пока я жду, когда врач освободится, мое напряжение растет. Я не могу думать, не могу читать. Я испытываю только одно чувство — страх смерти. Перед глазами все время прокручивается моя последняя встреча с Да Крусом. Я вхожу в кабинет доктора и, услышав его вопрос: «Ну, как вы себя чувствуете?», даю выход своим эмоциям. Я начинаю кричать, из глаз потоком льются слезы, грудь сотрясает дрожь, которую невозможно унять. Захлебываясь слезами, я все-таки с трудом объясняю, что схожу с ума от страха, что Да Крус вернулся в наш городок, хотя ему это запрещено, а раз так, то он точно задумал меня убить… Внимательный доктор, дождавшись, когда поток слов иссякнет, прописывает мне кучу лекарств и берет в руку телефонную трубку. Он звонит в жандармерию. Там подтверждают, что Да Крус действительно снова живет в Эшийёзе, и теперь уже на законных основаниях.
Я не верю своим ушам. Законники разрешили моему насильнику вернуться и жить недалеко от моего дома, даже не сообщив мне об этом? Оказывается, это законно. Объяснение простое: судьи не сочли нужным установить за Да Крусом социально-судебное наблюдение после его освобождения. Поэтому условия, поставленные ему, — работать, не появляться в Эшийёзе — имели силу только до того момента, когда окончился срок его условного освобождения, а это случилось, когда истек срок его заключения по приговору суда, то бишь в конце ноября 2008 года. На дворе уже 2009 год, и Да Крус теперь уже не условно, а абсолютно свободен. Над ним не тяготеют никакие обязательства, его никто не контролирует. Ему не надо посещать собрания анонимных алкоголиков, не надо ездить на встречи с судьей! Да Крус волен делать что хочет, жить где пожелает, хотя бы и в двух метрах от дома моих родителей. Именно это, кстати, и происходит: Мария и Мануэль переезжают в многоквартирный дом, расположенный в нескольких сотнях метров от нашего, и Мануэль устраивается там же консьержем. Когда я увидела его на ярмарке, он уже много месяцев проживал на новом месте. Просто чудо, что мы не столкнулись нос к носу раньше.
Он не стесняется показываться в городке. Прохаживается перед своим новым домом, водит новенький автомобиль, гуляет под ручку с женой… Мимо нас он проходит, не испытывая ни угрызений совести, ни сожалений. Эшийёз с распростертыми объятиями встретил своего уроженца, как если бы ничего и не случилось. Вся эта история с судом, по мнению многих, — всего лишь ошибка молодости. Подумаешь, потискал какую-то развязную девчонку! Однажды утром, когда мама разговаривает с одной из соседок на городской площади, мимо них на машине проезжает Да Крус. Маминой собеседнице он сигналит в знак приветствия, и та машет ему в ответ со словами:
— Ах, он такой симпатичный, этот Мануэль! Я его обожаю!
— Когда он изнасилует твою дочку, восторгов будет меньше! — бросает моя мать.
Шокированная соседка спешит закрыть уши своей девочке обеими руками. Правду слышать неприятно, поэтому люди предпочитают ничего не помнить. Тюремное прошлое Да Круса не мешает некоторым жителям Эшийёза навещать его. На его барбекю собираются большие компании. В бистро мужчины охотно с ним чокаются. На автобусной остановке женщины интересуются у Марии, как поживает ее супруг. Эта стремительная реадаптация, происходящая у нас на глазах, становится для всей моей семьи настоящей пыткой. Меня лично всеобщая благосклонность к Маню приводит в бешенство, но и страх меня не оставляет. Я знаю, что моя сестренка Рашель часто гуляет по городку, совсем как я в ее годы. Мысль, что где-нибудь в темном переулке она может наткнуться на него, меня парализует. Я не могу поверить, что этот тип, проведя несколько лет в заключении, забыл, что ему нравится насиловать девочек. В тюрьме он не проходил никакого лечения, а я прекрасно помню выводы, сделанные психиатрами после второй экспертизы. Его склонность к извращениям и насилию прописана черным по белому, а подобные вещи сами по себе не проходят. Если бы кто-то спросил меня, я бы сказала, что законники выпустили на свободу дикого зверя, и не сегодня, так завтра он снова кого-нибудь искусает. Однажды утром я узнаю, что Мануэль Да Крус отвез нескольких городских ребятишек на матч по баскетболу. Поездка туда и обратно, в его машине, несколько детей и он. И родители согласились! Я в шоке, я не могу поверить в услышанное. Неужели эти люди так глупы или они просто не знают, что он совершил? Кто защитит этих крошек от неосмотрительности взрослых и извращенных страстей этого мерзавца? Но я-то знаю, на что он способен, поэтому чувствую себя ответственной за ужасное несчастье, которое может случиться. Я должна действовать, но как? Жандармам до меня нет дела, судьям тоже. И вот я прихожу к заключению, что мне придется вершить правосудие своими руками. Это — самый быстрый и эффективный способ помешать ему причинить вред еще кому-то. Я забегаю в кухню, хватаю нож и вылетаю из дома. Маме и брату стоит немалых усилий удержать меня, потому что я твердо намерена найти Да Круса и всадить в него нож.
Истерия или полное уныние: пока мой насильник, как прежде, наслаждается всеми удовольствиями жизни, я слабею. Мне кажется, что я никогда не смогу избавиться от страха перед Да Крусом и от воспоминаний об изнасиловании. Он отсидел свой срок, но когда же истечет срок моего заточения? И хуже всего то, что я презираю себя, поскольку не могу ему противостоять. Когда в конце августа я возвращаюсь в Тур, моей лучшей подруге Мари приходится буквально собирать меня по кусочкам. Я рассказываю ей все — и об изнасиловании, и о продолжении этой истории. Рассказываю вкратце о последних девяти годах своей жизни, буквально за полчаса. Мари ошеломлена, но старается этого не показывать. Она тут же начинает «операцию по спасению Морган». Отныне я постоянно окружена заботой. Мари заставляет меня поесть, вытирает мне слезы, когда я в очередной раз впадаю в отчаяние, следит, чтобы я высыпалась и вовремя читала учебники. Ее нежная забота меня утешает, но ничего не меняет. У меня по-прежнему не получается сосредоточиться на повторении пройденного материала, в голове гвоздем засела идея: я должна написать письмо Прокурору Республики. Он — big boss[19] в судебной системе, и к тому же держит под контролем полицейские расследования, а значит, нужно уведомить его о том, какой опасности подвергаются все девочки окрестных городков и деревень, пока Да Крус живет в Эшийёзе. Я напишу ему, что происходит после освобождения Да Круса из тюрьмы: ни контроля, ни наблюдения — ничего! В письме я укажу, что разрешать моему насильнику жить рядом с моим домом — это означает проявлять неуважение ко мне и заставлять страдать мою семью, а помимо этого существует риск, что случится еще одна драма. Чтобы отомстить мне, Мануэлю достаточно перейти улицу. Что до моего отца, то долго ли ему удастся сдерживаться, чтобы не пойти и не ввязаться с ним в драку? Решено: как только сдам экзамены, я обязательно напишу письмо прокурору и все ему объясню. Он примет нужные меры, я на это очень надеюсь.
Мои экзамены, как и ожидалось, становятся для меня настоящей катастрофой, но мне удается in extremis[20] перейти на следующий курс. В начале сентября начинаются занятия, нагрузка растет. Иногда вечером я набрасываю черновик письма прокурору. Длинное послание начинается со слов «Господин прокурор» и заканчивается «с наилучшими пожеланиями». Я засыпаю с ручкой в руке, а на следующее утро снова мчусь в университет. Вечером подружки ждут меня на ужин, мы смеемся и болтаем. Время идет. Вдали от Эшийёза мне почти удается забыть о Да Крусе.
Наступает 28 сентября, а письмо так и лежит у меня на письменном столе. Я до сих пор не купила марку.
И буду жалеть об этом всю жизнь.
10 КОШМАР НАЧИНАЕТСЯ СНОВА
28 сентября 2009 года я, заскочив в свою студенческую квартирку пообедать, спокойно ем тальятелле, когда вдруг раздается телефонный звонок.
— Пропала женщина. Жандармы сейчас у Да Крусов, — говорит мне отец.
В ту же секунду меня охватывает тревога, я не сомневаюсь: зверь нашел новую жертву.
На занятия я возвращаюсь сама не своя от страха и волнения.
Целый день папа, мама и Мари, мой ангел-хранитель, сообщают мне новые подробности «дела бегуньи», как его теперь называют. Симпатичная блондинка, высокая, худенькая и спортивная, пропала сегодня утром в лесу Фонтенбло во время пробежки. И не просто пропала — ее похитили. Между девятью и десятью утра она звонит по номеру 17 в полицейскую службу спасения. Напуганная до смерти, она все же смогла сообщить дежурному жандарму, что ее, угрожая ножом, похитил черноволосый мужчина, который говорит с акцентом. Ей, лежащей в багажнике машины, скрюченной, тем не менее удается передать максимум информации в минимальный отрезок времени: номер автомобиля похитителя, его марку, цвет. Она говорит отчетливо и достаточно громко, чтобы ее хорошо было слышно. Через две минуты и семнадцать секунд, считая с начала разговора, двигатель автомобиля замолкает и звонок обрывается.
«Машина останавливается».
Это ее последние слова, услышанные дежурным жандармом. Больше звонков с этого номера не поступало.
Вероятнее всего, Мари-Кристин говорила слишком громко.
Я представляю, что предполагает это молчание. Оно предполагает звук пощечин, крики, месть хищника, испугавшегося, что на него донесли. Потом — судорожные движения навалившегося сверху тела, крики удовольствия этого мерзавца и стоны боли его жертвы. Боль, невозможность дышать, железная хватка пальцев, сжимающих шею, тошнота — все это я испытала. Я пережила то, что, вне всяких сомнений, довелось испытать Мари-Кристин. Ненависть к насильнику, ненависть к себе, ощущение осквернения, протест, желание вырваться, инстинктивные попытки укусить, надежда на спасение, которая тает с каждой секундой, страх смерти, мольба о том, чтобы потерять сознание, желание жить — все это она пережила после того, как телефонный разговор прервался. Две минуты семнадцать секунд надежды, а потом — долгая пытка.
По номеру автомобиля «пежо» полиция быстро выходит на его владельца. Им оказывается начальник Да Круса. ДНК Мари-Кристин обнаружено под одним из ногтей Да Круса, камера видеонаблюдения супермаркета зафиксировала его за рулем «Пежо 106» серого цвета незадолго до того времени, когда, предположительно, было совершено похищение, однако это не мешает моему насильнику все отрицать. Он утверждает, что не имеет ни малейшего отношения к случившемуся. В это же время Мари-Кристин активно ищут, но безуспешно. Полторы сотни конных жандармов с собаками, вертолеты, добровольцы из гражданского населения — они, как «через мелкую гребенку» прочесывают Мийи-ла-Форе и окрестности. Безрезультатно.
В моей же голове начался обратный отсчет. Женщина, о похищении которой трубят все средства массовой информации, была не просто похищена. Сейчас она уже мертва, я это чувствую. Я только что узнала о похищении, мне ничего не известно о его жертве, но я догадываюсь, чьих рук это дело. Я подозреваю Да Круса. Такие, как он, хищные звери никогда не совершают дважды одну и ту же ошибку. Меня он в свое время отпустил, проявив минутную слабость, потому что я напомнила ему о его детях, и он поверил, что я никому не расскажу об изнасиловании. Я не знаю, что еще могло прийти ему в голову, но факт остается фактом: я оказалась на свободе. А он — в тюрьме. И уж если он решил повторить сценарий, то не для того, чтобы снова туда вернуться.
Я уверена, что через час, через день или через месяц тело этой женщины найдут. Ни моя мать, ни отец не хотят думать о самом страшном. Они убеждают меня и самих себя, что бедняжку обязательно обнаружат, наверняка избитую и замученную, но живую. Мои родители надеются. Жандармы продолжают поиски, следственный судья сомневается, вся Франция — ждет. Это похищение взволновало страну. Я же жду неизбежного. В Туре, когда рядом друзья, я пытаюсь вести себя так, словно ничего не произошло. Жизнерадостность Мари и других девочек отвлекают: я едва вслушиваюсь в их разговоры, но их хорошее настроение помогает мне сохранить способность рассуждать здраво. Кузина Лоранс тоже старается изо всех сил меня поддержать. Ее телефонные звонки для меня — словно спасательный круг для утопающего. Я с нетерпением жду, когда позвонит она и… ЛоИк. Я недавно познакомилась с этим парнем, который нравится мне и которому симпатична я; мы с ним виделись и сегодня, то бишь в понедельник, мы встретимся завтра, и я буду изо всех сил стараться вести себя как обычно. Я не хочу пугать его своим прошлым и этой новой драмой, в которую я успела погрузиться с головой. Улыбка Лоика, его взгляд — вот мои противоядия, которые помогают мне не сойти с ума. Когда он рядом, я перестаю нервничать, я словно бы складываю Да Круса, изнасилования и страх в черную коробку и закрываю ее на ключ. Однако стоит мне остаться в одиночестве, как она открывается сама собой, и жизнь превращается в кошмар, причем не важно, сплю я или бодрствую. Сон не приносит забвения, я не могу думать нормально. Я постоянно возвращаюсь в тот лес, на кусок брезента, и вижу себя словно бы со стороны — тринадцатилетнюю девочку, которую лапают, насилуют, бьют и душат под деревьями. Я вижу свое измученное обнаженное тело, тело девочки, но лицо у нее не мое. У нее лицо Мари-Кристин.
С дня ее похищения я словно распалась надвое. Часть меня хочет жить, а вторая — угасает, осознавая, что смерть неизбежна.
После трех дней лжи и уверток, в среду, находящийся под арестом Мануэль Да Крус признается в преступлении. Он рассказывает полицейским, что привязал Мари-Кристин к дереву электрическим кабелем. Потом съездил домой и вернулся. По его словам, добыча пыталась убежать, но он догнал ее, раздел и убил собственными руками, а одежду потом выбросил в ручей. Изнасилование? А изнасилования не было, Мануэль категорически это отрицает. Руководствуясь его указаниям, жандармы находят обнаженное тело Мари-Кристин в яме, прикрытое ветками, между полем и небольшим лесом.
Эти ужасные детали мне пересказывает по телефону мама. Она только что обо всем узнала из телепрограммы. С этого момента я постоянно срываюсь в истерику. Я задыхаюсь, потому что пережитый мной «день ужаса» повторился в худшем сценарии, и я переживаю его снова всем своим существом. Он убил на том же самом месте, где надругался надо мной. Если быть абсолютно точной, в Бют-о-Кай. В том же месте и практически день в день, только через девять лет. Как и меня, он бил свою жертву по лицу — у нее на виске остался след от удара. Как и в моем случае, он ей угрожал, он ее выкрал, связал, бил, душил. В пятницу 9 октября ДНК убийцы обнаружили в таких местах тела Мари-Кристин, что сомнений больше нет: она тоже была изнасилована в жестокой форме.
Проведя несколько лет в тюрьме, Да Крус воспроизвел и даже довел до логического конца свой прежний бесчеловечный сценарий. Его адвокат, тем не менее, придерживается иной версии: его клиент «поддался необъяснимому импульсу», «случайно» встретив Мари-Кристин, и не может объяснить свои «иррациональные» поступки. Следователи не верят ни единому слову подследственного. По их мнению, убийство вполне подходит под категорию «преднамеренное», а подозреваемый — с большой вероятностью может оказаться serial killer[21]. Они роются в архивах и извлекают на свет несколько старых досье. Каролин Марсель, жена и мать. Вышла из дома для пробежки в июне 2008 года. Обнаружена задушенной, тело нашли в речке рядом с городком Оливе, в шестидесяти километрах от Эшийёза. В то время Мануэль во второй раз был отпущен на свободу условно.
Сколько их было после меня? Почему сама я до сих пор жива? Я всегда считала и продолжаю считать, что была не первой и не последней добычей этого извращенца. Я уверена, что до случая со мной опыта у него уже было достаточно, и от того, что он делал, он получал огромное удовольствие. Узнав о смерти Мари-Кристин, я испытываю смятение. В глубине души я понимаю, что тоже в ответе за ее гибель. Мне кажется, что мое изнасилование и ее смерть — звенья одной цепи. Зная, на что способен Да Крус, я могла бы сделать так, чтобы этого убийства не было. По вечерам, когда Мари уходит к себе, а я остаюсь одна в своей квартирке в Туре, я ложусь на кровать, и в голове запускается все та же адская машина, генерирующая мучительные мысли, — в тишине ночи перед моим внутренним взором проносится вереница ранящих «если бы». Если бы Да Крус убил меня или если бы я не отправила его в тюрьму, вернулась бы Мари-Кристин домой живой и невредимой? А если бы я написала прокурору, моего насильника снова заперли бы в камере, и Мари-Кристин, вне всяких сомнений, могла бы и до сегодняшнего дня спокойно совершать пробежки недалеко от дома. Раскаяние меня терзает, угрызения совести — убивают.
А что, если бы я убила Да Круса?..
В последние годы я часто мечтала об этом. Когда, выйдя из тюрьмы, он снова поселился в моем городке, я не раз готова была схватиться за нож и всадить его в насильника. После убийства Мари-Кристин во мне проснулись прежние мечты о мести. Я просыпаюсь среди ночи вся в поту: ну почему у меня не хватило смелости пойти и перерезать горло тому, кто надругался надо мной, убить его, искромсать тело на части? Эти кровожадные фантазии исчезают так же быстро, как и появляются. А после убийства — что? Смертная казнь признана противоречащей конституции, значит, это — не решение. Всегда найдется еще один Да Крус, который будет убивать женщин, как домашнюю скотину, красть жизни и разрушать семьи. В Эшийёзе, как и всюду, живут свои волки. Уничтожив одного, стаю не переделаешь. Но зло уже свершилось. Сначала изнасилование, потом убийство. Зачем добавлять к ним еще одно преступление? Нужны средства и методы, которые позволят остановить преступника, пока он не успел совершить самое страшное. Остановить, наказать, лечить, защищать от него общество — в этом, по-моему, и заключается задача органов юстиции.
В моем случае проблема заключается в том, что с этой своей задачей они не справились.
Прокурор Д’Эври со мной не согласен. В одной из телепередач, когда речь заходит о человеке, который меня изнасиловал, он заявляет, и глазом не моргнув:
— У нас не было никаких оснований предполагать, что этот человек снова совершит преступление. Мы действовали в рамках закона.
«Не было никаких оснований»… Когда я это слышу, во мне вскипает ярость. Как осмеливается этот чиновник говорить такое? Правда — в обратном: если бы судьи и прочие блюстители закона применили к Да Крусу соответствующие предупредительные меры, он бы не совершил новое преступление. Мари-Кристин не была бы убита. Специалисты, изучающие эту тему, сходятся во мнении, что «изнасилование — это повторяющееся преступление»[22]. В среднем 13,7 % правонарушителей, совершивших преступление на сексуальной почве, совершают еще одно подобное преступление в течение пяти лет[23]. Уже в 1995-м были опубликованы выводы[24] исследователей, расставившие все точки над «i»: «Подавляющее большинство осужденных за преступления сексуального характера признались, что в прошлом уже совершали правонарушения подобного рода». Они совершали сексуальные домогательства, демонстрировали гениталии на публике, да бог знает что еще творили! А потом, позднее, насиловали и убивали. Напрашивается вывод: те, кто решается на рецидив, уже не останавливается на полпути. В случае с Да Крусом «первый тревожный звонок» прозвучал довольно громко — я имею в виду мой случай, долгие часы моих мучений. В свое время, еще в 2000-м, Мануэль обронил, что мог бы и убить меня: «Счастье, что я этого не сделал» — сказал он тогда.
Это могло случиться… Два акта изнасилования, мои тринадцать лет и это странное признание уже могли бы вызвать беспокойство у судей, психологов, полицейских, представителей пенитенциарных служб. Мой случай мог бы послужить им уроком. Исследователи давно говорят, что «чаще всего рецидивы случаются у насильников-педофилов, не состоящих с жертвой в кровном родстве», причем «в течение тридцати месяцев после выхода на свободу»[25].
Через девятнадцать месяцев после условного выхода на свободу Да Крус признается в убийстве Мари-Кристин. Это убийство было если не на сто процентов ожидаемым, то вполне предсказуемым. А если вы спросите меня, то я скажу: его не могло не быть.
Почему же органы юстиции ничего не сделали, чтобы изменить конец этой истории? Что тому виной — нехватка знаний, неумение слушать и слышать, недостаток времени или денег? Без сомнения, все вместе. Те, кто выпустил Да Круса, возможно, не были знакомы со всеми исследованиями, не знали всех статистических данных по рецидивам. Но даже без всего этого можно было обойтись — они могли бы просто поверить мне! Я чувствовала, что он возьмется за старое. Я открыто говорила, что думаю, но меня никто не слушал, потому что я — подросток и жертва. Мои слова не были услышаны, поступки Да Круса получили неправильную оценку. В 2000 году психиатру, то бишь специалисту по душевным болезням, было поручено его обследовать. А ведь мой насильник — не сумасшедший. Врачом этот факт был установлен, однако он объяснил акт изнасилования опьянением. В случае с Мари-Кристин, когда Да Крус душил ее, в его крови не было ни капли алкоголя. Мой мучитель — прекрасное подтверждение тезиса о том, что человек может иметь здравый рассудок, жить в обществе себе подобных и пользоваться всеобщим уважением, не иметь психических отклонений и при этом являться серийным насильником. Зная это, могут ли психиатры вполне объективно оценить степень опасности, которую представляет отдельно взятый индивидуум для общества? Достаточно ли у них для этого образования и опыта? И кто оценивает их компетентность?
Чуть позже Да Круса обследовали двое психиатров, и вот каким был их вывод: алкоголь в этом деле — не более чем предлог, и социально-судебное наблюдение после освобождения весьма желательно. В то время, в 2000-м, закон уже предусматривал возможность установить наблюдение за правонарушителем на срок до двадцати лет! Да Круса могли постоянно контролировать, могли подвергнуть лечению, могли оказывать ему психиатрическую или медикаментозную поддержку в течение многих месяцев, а то и лет после его выхода из тюрьмы. Но судья решил по-иному. Почему? Загадка. Наверняка он был уверен, что тот, кто меня изнасиловал, нуждался только в прохождении принудительного курса лечения от алкоголизма. Приходится признать и еще один факт: в этом году на всей территории Франции менее чем в трехстах случаях суд счел уместным назначить социально-судебное наблюдение после освобождения правонарушителя, хотя тысячи преступников могли бы стать объектами такого наблюдения. «Причина — недостаток средств», — пишет пресса. Разумеется, для осуществления такого наблюдения нужны люди, в частности, врачи, имеющие опыт работы с сексуальными преступниками. Уже в те годы ощущалась острая нехватка таких специалистов. И Мари-Кристин пришлось за это расплачиваться.
Счесть Да Круса обычным алкоголиком — о, насколько это удобнее и экономичнее! Наблюдение назначать не нужно, а значит, не нужно платить персоналу, которому пришлось бы его осуществлять. Пусть посещает собрания анонимных алкоголиков, и баста! А когда срок наказания истек, надо забыть о прошлом! И мои родители, и я сама пытались уведомить судебные инстанции о том, что Да Крус нарушает условия своего досрочного освобождения. Разве нормально, что насильник бродит недалеко от дома своей жертвы, что он плюет на запрет селиться в том же самом городе? Нормально, что бывший заключенный раскатывает на БМВ? Мое мнение — всем своим поведением он демонстрировал вызывающее тревогу отсутствие угрызений совести. Он не чувствовал за собой вины. А судья по исполнению судебных постановлений? Он что, оказался глухим или просто был слишком занят? Или решил, что мы, жертвы, клевещем, возводим напраслину на преступника? Да Круса выпустили из тюрьмы досрочно за хорошее поведение. Ему и тут удалось всех одурачить. Почему-то никто не подумал, что за решеткой заключенный может быть паинькой, и сверхопасным — на свободе. Из тюрьмы раньше срока выпустили хищника, что ж, теперь пришла пора пожинать плоды.
Дело Да Крус/Вале, как и многие другие, — свидетельство невероятной халатности. Затратив минимум сил и средств, виновного посадили в тюрьму, потом выпустили. Занавес.
В моем случае эти фатальные просчеты были сделаны десять лет назад. Однако и сегодня подобных ошибок достаточно по всей Франции.
За эти десять лет совершено много убийств, много изнасилований. Другим детям сломали судьбы, и у каждой драмы были свои следствия. Взволнованные горожане, пламенные дискуссии в средствах массовой информации, обещания политиков… Будьте спокойны, уж на этот раз мы положим конец рецидивам! И, в подтверждение этим обещаниям, — закон. Чтобы усмирить эмоции, заткнуть рот оппозиции, заговорить гражданам зубы — алле оп! За закон голосует Национальное собрание[26], и не важно, что таких законов уже вагон и маленькая тележка! Вместо того чтобы предпринять действенные меры, наши правители предпочитают имитировать деятельность.
В 1998 году дело Ги Жоржа (двадцать изнасилований и семь убийств за период с 1991 по 1997 гг.) послужило толчком к разработке института социально-судебного наблюдения. В 2004 году идут громкие процессы над насильниками и убийцами — Пьером Боденом, Мишелем Фурнье и Эмилем Луи. Как следствие — принят закон, позволяющий ставить на учет тех, кто в прошлом совершил преступления на сексуальной почве. В 2005 году — все то же: Нелли Кремель погибла от руки рецидивиста, которого освободили условно. Министр юстиции представляет законопроект, направленный на борьбу с рецидивами и предусматривающий «судебное наблюдение». Не считая незначительных деталей, это — все то же социально-судебное наблюдение, но кого это волнует? Магистрат, чтобы продемонстрировать гражданам свое рвение, создает электронные браслеты. В 2007-м жительница Бретони, двадцатитрехлетняя Софи Граво найдена убитой. Ее убийца насиловал и раньше. В Нанте четыре тысячи горожан выходят на улицу, сплоченные горем и гневом. Родственников убитой девушки тут же приглашают на аудиенцию к президенту, в Елисейский дворец. И в качестве подарка — закон о «минимальных сроках заключения» для рецидивистов. В 2007 году пятилетнего Эниса насилует педофил Франсис Эврар. Президент Республики выносит на обсуждение новый закон (еще один!), на этот раз об усилении мер пресечения, который предполагает содержание преступников, представляющих опасность для общества, в закрытых медицинских учреждениях после истечения срока их тюремного заключения. Раздел о рецидивах Уголовного Кодекса отныне представляет собой совершенно неудобоваримую смесь. Правительство принимает законы, ведет дискуссии, анонсирует изменения в законодательстве, пытаясь успокоить рядовых граждан. А что потом? Потом — ничего особенного. Во Франции создается Комиссия по оценке степени опасности индивида для общества, вот только существует она лишь на бумаге. Психиатры продолжают осматривать преступников: несколько часов беседы — и все, достаточно! Средств на осуществление правосудия выделяется все так же мало. Результат? Сегодня мы имеем законодательство в сфере сексуальных преступлений самое амбициозное и самое глупое в мире. На бумаге все предусмотрено, все возможно: очень серьезные сроки заключения, психиатрическое наблюдение во время и после отбывания наказания, оценка потенциальной опасности для общества, наблюдение после освобождения, химическая кастрация — словом, все! Кроме, разве что, денег, которые заставили бы все это «заработать». Стоит просто почитать газеты, чтобы узнать: в штате тюрьмы крайне редко имеется психиатр. Во всей Франции их едва ли наберется две сотни — тех, кто работает на условиях полной занятости. В правительственных учреждениях не достает тысячи психиатров. За тридцать лет количество коек в психиатрических больницах со ста сорока тысяч сократилось до девяноста тысяч. Сексуальных же извращенцев меньше не становится: они составляют, ни много ни мало, порядка 21 % заключенных[27]. Если не хватает специалистов, как, по-вашему, можно их лечить во время отбывания срока? Когда же преступник выходит за стены тюрьмы — все, idem. Два года назад Да Крус избежал социально-судебного наблюдения, а также принудительного лечения; нехватка квалифицированных врачей, так называемых «координаторов», тормозит внедрение этой превентивной меры. Сегодня ситуация не намного лучше: доктора-координаторы — редкость, и работ у них, как говорится, «выше крыши». Судьи по-прежнему неохотно присуждают подсудным принудительное лечение, зная, что средств для этого в системе нет. Согласно исследованию, проведенному министерством юстиции, в 2005 году из общей массы преступников, отбывающих наказание в тюремных заведениях, которым следовало бы назначить социально-судебное наблюдение, только десятой части оно, в итоге, было назначено. Только одной десятой! Всему виной — нехватка «людей в белых халатах». Советников по вопросам социальной реадаптации и пробации тоже постоянно не хватает. В обязанности такого специалиста входит наблюдение за преступником, пока он содержится в тюрьме, а затем — во время его условного освобождения. Он помогает бывшему заключенному найти работу, но также следит за тем, чтобы тот соблюдал условия, которые выдвинул суд, выпуская его на свободу раньше срока. Это все в теории. А на практике на одного такого «советника» приходится сто пятьдесят бывших заключенных. Судьи по применению наказаний тоже «стонут» под тяжестью находящихся в работе дел[28]. Неудивительно, что формат, в котором производится наблюдение, оставляет желать лучшего. Извращенцы, покинув стены тюрьмы, фактически получают полную свободу действий. За решеткой они часто — настоящие ангелочки, сокращение срока за хорошее поведение суммируется с автоматическим сокращением срока тюремного заключения, поэтому они выходят намного раньше, чем предусмотрено судебным решением. Совсем недавно несколько депутатов внесли предложение: осужденные должны пребывать в пенитенциарных заведениях до истечения установленного судом срока, без возможности досрочного освобождения. Какой поднялся шум! Сокращение срока заключения способствует более быстрой реинтеграции в общество, предотвращает переполнение тюрем, позволяет эффективнее надзирать за освобожденными условно… Конец дебатам положил самый главный довод, так называемый «нерв войны» — деньги. «Отмена сокращения срока пребывания в заключении повлечет за собой необходимость возведения новых тюрем», — выразил свое мнение глава юридического комитета. И проект похоронили.
Вы говорите о защите граждан? В деле организации их безопасности последнее слово остается за звонкой монетой.
В 2008-м Николя Саркози попросил первого президента Кассационного суда разработать ряд мер, которые помогут «сократить риск рецидивов в среде преступников, признанных опасными для общества». Спустя три месяца Венсан Ламанда, высокопоставленный чиновник, упомянутый выше, подал президенту толстый доклад, напичканный разумными рекомендациями. Чтобы помешать насильникам и убийцам «вернуться на кривую дорожку» после освобождения, мсье Ламанда предлагает, во-первых, строже оценивать, насколько большую опасность представляют преступники, осужденные за преступления сексуального характера, ведь очень часто они не являются душевнобольными и прекрасно ведут себя в тюрьме. Каким образом? Поддерживая исследования в сфере криминалистики, обучая специалистов по оценке опасности индивидуума и прекратив практику привлечения психиатров к юридическим экспертизам. Автор рекомендаций просил также обеспечить каждому заключенному, кто в этом нуждается, с момента его заключения под стражу лечение, психологическую и образовательную поддержку, чтобы время пребывания в тюрьме не пропало для них даром. Но на все это, разумеется, нужны деньги. Финансы, человеческие ресурсы, оборудование. Больше персонала, который помогал бы сверхзагруженным судьям по исполнению судебных постановлений. Больше денег, чтобы расширить ряды врачей, работающих в пенитенциарной системе, и чтобы набрать новых врачей-координаторов. Больше рабочих мест для советников по социальной реадаптации и пробации. Это не кажется сложным, и если бы соответствующие меры были приняты, когда судили Да Круса, Мари-Кристин, конечно же, осталась бы в живых. Но сегодня, как и вчера, голос здравого смысла слишком слаб, чтобы его услышали.
Из двадцати трех рекомендаций, сформулированных председателем Кассационного суда мсье Ламанда, правительством взято на заметку только три — те, что касаются изменений в законодательной базе. Все остальные, на реализацию которых нужны хоть какие-то средства, преданы забвению.
Своим решением наши избранники продемонстрировали, что по-прежнему не стремятся обеспечить нормальную работу системы правосудия, а тюрьмам — дать возможность нормально выполнять свою основную функцию: наказывать опасных индивидуумов, способствовать их нормальной реинтеграции и защищать от них общество. У серийных убийц в камерах имеются телевизоры, а вот докторов в тюрьме нет. Гаджеты, придуманные, чтобы следить за преступниками после освобождения, не могут изменить реальность: ни ношение электронного браслета, ни факт фигурирования в электронной базе данных преступников никому не могут помешать совершить новое преступление.
В свете убийства Мари-Кристин Одо вся эта «борьба с ветряными мельницами» в пенитенциарной сфере выглядит карикатурой на саму себя.
Как только об убийстве Мари-Кристин заговорили средства массовой информации (это случилось в конце сентября 2009-го), нам — отцу, матери и мне — все вдруг поверили. Оказывается, все началось в Эшийёзе. На нас вдруг перестали смотреть как на кликуш, наводящих на всех уныние, перестали считать лжецами. Некоторые наши соседи даже извинились перед матерью за то, что сомневались в ее правдивости. Весь город пребывает в ужасе. Они словно забыли о том, что я вынесла по вине Да Круса, его прошлые преступления как будто стерлись из их памяти! Однажды ночью горожане начинают швырять яйца и обливать краской дверь его дома. Послание яснее ясного: супруге Да Круса Марии больше не рады в этом городке. Отвергнутая всеми, однажды она исчезает вместе со своими детьми. Она оставляет свою булочную и навсегда уезжает из Эшийёза, обитатели которого не хотят знаться с убийцей и членами его семьи. Благосклонное вчера и жестокое сегодня общество, которое прежде так охотно верило супруге преступника и приняло ее мужа, когда он вышел на свободу, отвернулось от Да Крусов так же единодушно, как и простило их. Мой город — уменьшенная модель общества в целом; его жители предпочитают как можно дольше прятать голову в песок, словно страусы. Люди не могут или не хотят верить, что среди них тоже есть хищники. Но происходит убийство, и общество просыпается, требует возмездия. Политики торопятся вмешаться: они шумно и бестолково суетятся, а потом, словно фокусники, «вынимают из шляпы» новый закон.
После убийства Мари-Кристин в высших правительственных кругах — паника. Жители всей страны, а не только Эшийёза, взволнованы. Изнасилование, заключение под стражу, освобождение, убийство… На форумах в Интернете, в бистро, за семейным столом — словом, всюду только и разговоров, что об этом деле. Правительство не хочет огорчать своих избирателей, поэтому торопится как можно скорее принять меры. Министерство внутренних дел «нажимает» на судей, освободивших Да Круса; Елисейский дворец объявляет о «намерении активизировать ранее принятые меры по предотвращению рецидивов»; премьер-министр «разделяет горе сограждан в связи с этим ужасным преступлением»; официальный представитель UMP[29] требует введения в действие постановления о кастрации химическим способом, которое, кстати, уже принято. Каждый торопится дать свой комментарий. Судебные чиновники, которых обвиняют в том, что они выпустили чудовище, возмущаются. Оппозиция во весь голос кричит, что на судебную систему выделяется слишком мало средств. В общем, царит ужасная какофония.
Я тоже вношу свой вклад в полемику.
Как только стало известно о похищении Мари-Кристин, возле моего дома постоянно вертятся журналисты, умоляя каждого встречного дать им номер моего мобильного. Они хотят услышать рассказ первой жертвы, то есть меня. На первых порах я категорически против. Выступить в телепередаче? Об этом не может быть и речи! Никто из моих соучеников и преподавателей, ну, или почти никто, не знают о моем прошлом, а я, памятуя, сколько мучений мне пришлось пережить когда-то из-за клейма «изнасилованная», дорожу анонимностью. Все это так, но… Если я соглашусь дать интервью, то смогу во всеуслышание обличить систему, дефекты которой привели к столь предвидимой драме. Один-единственный раз меня захотели выслушать, так имею ли я право отказаться? Если не я расскажу, что сделал со мной Мануэль, кто расскажет? Идея публичного выступления некоторое время зрела во мне. И вот, чтобы доказать всем болванам, считавшим меня обманщицей, что я говорила правду, я решаюсь сделать это.
Я рассказываю об изнасиловании, о том, что меня преследовало ощущение, что я — не первая жертва Да Круса, и, без сомнения, не последняя. Рассказываю, что этот монстр бывал в Эшийёзе, несмотря на запрет суда, однако суд позволил ему выйти на свободу, причем дважды, в итоге на пять лет раньше назначенного ему срока. И без всякого наблюдения. Я говорю о странностях судебной системы, которая позволила преступнику вернуться в родной город и поселиться чуть ли не напротив моего дома. Меня даже не предупредили об этом, заявив, что «меня это не касается». Я утверждаю, что эксперты оказались некомпетентными, что правосудие не выполнило свою миссию, что понадобилось убийство, чтобы этого человека наконец признали опасным для общества. Я слово в слово повторяю то, что говорила раньше, разве что на этот раз передо мной микрофоны и камеры. Интервью со мной звучит на всех радиостанциях, его показывают на телевидении, выкладывают в Интернете, печатают в газетах. Благодаря участию массмедиа совершается чудо: в ту же секунду, как мое фото появляется на страницах газет, звонит мой мобильный: мадам министр юстиции желает со мной встретиться. Сегодня же, разумеется! Много лет наши с родителями голоса были голосами вопиющих в пустыне, но теперь, когда у нас на лбу написано: «Их показывали по телевизору», нас желают выслушать.
Встреча с министром назначена на сегодняшний вечер. Я поеду туда сразу после похорон Мари-Кристин.
Я хочу присутствовать на погребальной церемонии. Хочу продемонстрировать близким Мари-Кристин свою солидарность. Хочу без слов сказать им, что сочувствую, что я их понимаю. Я должна быть там ради них, но прежде всего — ради нее. Мари-Кристин теперь для меня как сестра, которую я не знала, зато я знаю, через какие муки ей довелось пройти. Нас сближает страх, лес и дыхание палача на нашей коже. Нас связывают ужасные, отвратительные переживания, а значит, я должна там быть.
Когда мы с мамой приезжаем в крошечный городок Мийи-ла-Форе, где должно состояться захоронение, мы всюду видим знаки глубокого траура. Торговцы закрыли свои лавочки, на большинстве железных ставней висят объявления о времени проведения поминальной службы по Мари-Кристин. Улицы перекрыты, время и жизнь в городке замерли. Перед церковью уже собралась плотная молчаливая толпа. Здесь сотни, а может, и тысячи людей — молодежь, дети, пожилые мужчины и женщины — весь городок и не только. И несколько чиновников. Местный депутат, министр внутренних дел Брис Ортефё в окружении телохранителей. Батальон жандармов и не меньше журналистов. На паперти — рыдания, охапки белых цветов, детские рисунки и много смешанного со скорбью гнева. И направлен он на убийцу. На представителей власти, явившихся на церемонию. На судьбу и систему правосудия, которые, объединившись в отвратительный союз, забрали из жизни эту миловидную, белокурую и робкую сорокалетнюю женщину. Все в городе знают ту, которою сегодня хоронят. Для них она — соседка, кузина, крестная мама, подруга, нянечка детей. Дитя этой земли, Мари-Кристин Одо работала воспитательницей в детском саду и заботилась о престарелой матери, которая жила вместе с ней. Вязала вещи для благотворительных целей. Давала бесплатные уроки танцев в местной ассоциации. Она была обычной женщиной без темного прошлого и не имела врагов. Посвящала свою жизнь заботе о других людях. Она была такой же, как вы и я, в самых лучших наших проявлениях. И мерилом печали ее близких и друзей является глубочайшее уважение, которое они к ней испытывали.
Мы пробираемся через толпу и входим в церковь. Внутри царит скорбь. Члены семьи Мари-Кристин в глубоком трауре. У меня слезы наворачиваются на глаза. Все это слишком печально, чтобы быть реальностью. Словно какая-то жестокая карикатура… Милая, всеми любимая, отдающая всю себя другим женщина убита чудовищем, которое не знает жалости. Невинность, попранная в лесной тиши. Кошмар стал реальностью, а несправедливость — настолько очевидной, что она может породить только ненависть. На улице телерепортеры берут интервью у жителей Мийи-ла-Форе, и те перед камерами требуют головы Да Круса, его кастрации, пожизненного заключения. Эта жажда мести докатывается до самого алтаря. Священник, совершающий обряд, слышит ропот толпы, обвинения в бездействии в адрес органов правосудия, требования поквитаться с преступником по принципу «око за око». Со своей кафедры он также видит представителей власти, которые сидят в пером ряду, и понимает, что они намерены извлечь из драмы выгоду. В своей проповеди, передаваемой через громкоговоритель на улицу и транслируемой по радио, он осаживает и первых и вторых:
— Мы не на суде, чтобы выносить приговор, не в больнице, чтобы лечить, не в парламенте, чтобы голосовать за закон, — напоминает он. — Мы собрались сегодня, чтобы дать возможность нашему сердцу высказать…
Но это справедливо не для всех. Сотрудница жандармерии, при оружии, провожает нас с мамой в то крыло церкви, где собрались члены семьи Одо. Второе крыло отдано политикам. Они восседают в первых рядах, и выражения их лиц соответствуют ситуации. Они стоически дожидаются конца церемонии. С нашей стороны прохода печаль вытеснила всякое желание с кем-либо дискутировать. Племянница Мари-Кристин, девочка лет двенадцати, содрогается от рыданий, и подружки поддерживают ее. Два брата Мари-Кристин, ее невестки, ее мать — всех их объединяет сильное горе. Щедрость души, простота, приветливость — каждое хвалебное слово в адрес умершей словно колючка впивается в сердца тех, кто скорбит по ней. Стоящий рядом со мной парень, мой сверстник, — подлинное воплощение печали. Мари-Кристин была его кормилицей, когда он был совсем маленьким, и сегодня он безутешен.
Он плачет не переставая, этот высокий черноволосый парень, который вдруг стал таким ранимым; по-детски сильные рыдания сотрясают его грудь, он оплакивает свою няню и часть своего детства, изливает в слезах свое горе.
А мне в этот момент хочется забиться в мышиную нору.
Оказавшись рядом со скорбящими родственниками умершей, я вдруг испытываю стыд из-за того, что я здесь, что я до сих пор жива. До сегодняшнего утра — в радио- и телепередачах — я говорила только о себе. О страхе, который мне внушал Да Крус, о том, как сердилась на судей. Я упоминала об убийстве Мари-Кристин, подчеркивая, что это преступление бесчеловечно, драматично, постыдно предсказуемо, но до конца не осознавала, что этой женщины уже нет на свете. Да, для нее уже все закончилось, я поняла это только когда увидела слезы моего соседа по церковной скамье, осознала, насколько глубоко его горе. Я смела жаловаться на то, что человек, который меня изнасиловал, жил напротив моего дома, в то время как находившиеся вокруг меня люди навсегда потеряли подругу, сестру, дочь. Служба идет своим чередом, но я уже ничего не слышу. Я думаю о том, что долго вынашивала мысль о самоубийстве, а ведь могла бы оказаться позавчера на месте умершей — в яме, под ветвями и листьями. Как мне повезло, что я живу! Я ощущаю эту радость впервые, и она смешана с болью. Я наконец отдаю себе отчет в том, как мне повезло и какая теперь на мне лежит ответственность. Я заставила Да Круса поверить, что хорошо знакома с его детьми, и благодаря этой маленькой лжи я выпуталась, а Мари-Кристин оказалась героиней. Она сражалась до конца. Благодаря тому, что Мари-Кристин удалось сообщить сведения, которые, вероятно, стоили ей жизни, полиция смогла поймать убийцу. Она была смелой и решительной, и все же она мертва, а я — живу. Невообразимая ирония судьбы… Теперь я вполне осознаю произошедшее, и это наполняет смыслом мое будущее. Я в долгу перед Мари-Кристин. Ее жизнь оборвалась, моя — продолжается, значит, я должна сделать что-то стоящее.
Ради Мари-Кристин Одо и всех тех, кто оказался, как она и я, не в том месте и не в то время, я должна рассказать, какими бывают насилие и насильники.
«Мы собрались сегодня, чтобы дать возможность нашему сердцу высказать… чтобы поддержать друг друга…»
Когда наступает мой черед проститься с погибшей, в моем сердце не остается места для добрых чувств. Бог — это абонент, линия которого не всегда доступна, поэтому остается полагаться на свои силы. И я буду действовать, я обязана что-то предпринять ради Мари-Кристин, я ей это обещаю, здесь, перед алтарем и гробом, окруженным венками.
Осталось только придумать, что именно я сделаю.
Когда церемония подходит к концу, у меня от гнева и душевной боли дрожат руки. В церкви звучит «Ave Maria». Мы выражаем свои соболезнования матери Мари-Кристин, онемевшей от горя, а братья покойной, отойдя в сторону, собираются на кладбище, где совершат погребение. Она будет похоронена вдали от любопытных взглядов.
Вернувшись домой, я застаю отца одетым и при галстуке. Он готов к отъезду. Нам пора на встречу с мадам Мишель Аллио-Мари.
— Мадам министр юстиции ожидает вас, — сообщает чиновник, который приехал за нами в Эшийёз на машине с мигалкой. Шофер ждет за рулем.
Теперь главе семейства Вале и его дочери все двери распахнуты. В лету канули времена, когда полицейские и судейские чиновники заставляли нас подолгу ждать у телефона. «Пишите, пишите!» — говорили они нам. Благодаря средствам массовой информации наше досье, по-видимому, стремительно переместилось на верх стопки. Министр юстиции устраивает нам пышный прием. Популярные итальянские пирожные, чай, улыбки. Она даже целует меня в щечку, когда мы входим в зал. Нас окружают огромные книжные шкафы со старинными книгами, на окнах — пурпурные портьеры, у стен — диванчики в наполеоновском стиле. Везде золото, роскошь — всего этого чересчур много. Здесь слишком красиво, слишком необычно. Слишком далеко от скорби и боли, с которыми мне пришлось столкнуться несколько часов назад у гроба Мари-Кристин. Совершенно растерянная, я вижу себя в этом интерьере со стороны, и мой гнев тает по мере того, как я рассматриваю мебель и картины. Мне вдруг начинает казаться, что я в музее, потом я беру себя в руки: раз уж меня захотела выслушать сама мадам министр, нужно этим воспользоваться. Я должна говорить, должна все объяснить. Ради Мари-Кристин. Ради всех жертв Да Круса. Я вспоминаю о том, что его окончательно выпустили на свободу после шести лет тюремного заключения — всего лишь! — и во мне снова поднимается гнев.
Я готова.
Министр юстиции сообщает, что как раз подготавливает закон, направленный на предотвращение рецидивов. Очередной, четвертый за последние четыре года! Она услышала интервью со мной в утренней радиопрограмме и хочет лучше понять, с какими проблемами функционирования судебной системы мне пришлось столкнуться. Когда после этой преамбулы мадам министр передает слово нам, на нее обрушивается словесная лавина. Наконец-то мы можем рассказать, сколько нашей семье пришлось пережить за последние девять лет; наконец-то можем излить наш гнев, показать, насколько мы поражены несправедливостью существующего порядка вещей, поведать, сколько негативных эмоций выпало на нашу долю!
Мы довольно связно выкладываем все: о возвращении Да Круса на постоянное место жительства в Эшийёз, о чем нас не сочли нужным предупредить; о вопиющей некомпетентности психиатров; об отсутствии социально-судебного наблюдения; о том, что Да Крусу не назначили никакого лечения; обо всех пробелах в системе правосудия и недоработках, которые в результате привели к убийству Мари-Кристин. Министр умудряется вставить свое слово в поток наших жалоб и нареканий:
— Жертвы преступлений не имеют доступа к информации относительно места жительства осужденного. Таким образом мы предупреждаем акты мести…
Это уже слишком! Забыты позолота, лепные орнаменты и напускная вежливая сдержанность. Я взрываюсь. А кто подумает о невинных? Неужели реинтеграция преступника важнее, чем безопасность его жертвы? Потеряв голову от гнева, мой отец перебивает министра:
— Вы, политики, получаете зарплату за то, чтобы обеспечивать безопасность честных граждан, разве не так? Не надо считать нас всех такими уж простофилями!
Я краснею от стыда, но министр юстиции улыбается как ни в чем не бывало; отец успокаивается, повисает молчание.
Когда я, совершенно измотанная, выхожу из кабинета, во мне живет надежда, что министр прислушается к нашим словам…
Подготовленный ею закон, направленный против рецидивов, был принят в феврале 2010 года. В нем прописана возможность содержать преступников, которые осуждены на пятнадцать и более лет тюрьмы, до истечения срока заключения в закрытых лечебных учреждениях. Однако эта мера применима только для тех правонарушителей, которым судом было назначено «медицинское, психиатрическое и социальное наблюдение». На практике из-за все той же нехватки средств наблюдение назначают редко, поэтому до сих пор лишь небольшое количество извращенцев находится под строгим наблюдением. Кроме того, в тексте нового закона упоминается «совершенствование методов работы с преступниками, чьи противоправные деяния носят сексуальный характер». Последним будут более настоятельно рекомендовать пройти курс лечения, а в некоторых случаях будут применять химическую кастрацию. Однако врачей, которые могли бы осуществлять такое лечение, по-прежнему недостаточно. Суды получили циркуляр, в котором им рекомендуют запрещать освобожденным из-под стражи приближаться к жертве преступления «в течение периода времени, определяемого на ваше усмотрение». В общем, ничего нового в этом «надцатом» по счету законе нет. Это очередная попытка «улучшить» законодательство с использованием минимальных средств.
Сегодня, когда я слышу дебаты по поводу преступников-рецидивистов, у меня сжимаются кулаки от злости. Некоторые «добрые души» заявляют, что наш Уголовный кодекс и так достаточно хорош, что меры пресечения более чем строги, что нельзя приставить по представителю правопорядка к каждому преступнику, совершившему противоправное деяние сексуального характера. Еще один умник добавляет, что невозможно наверняка предугадать, совершит тот или иной извращенец новое преступление. Человеческая психика — сложная система, предсказать, как человек поведет себя, невозможно… Пусть так. Но ведь суть проблемы не в этом. Я прошу одного: применения на деле юридических принципов, которые на сегодняшний день существуют только на бумаге. Превентивная система должна стать эффективной, насколько это возможно. Правительство обязано максимально защитить женщин и детей — это «пушечное мясо» для извращенцев. Разумеется, для реализации всего этого нужна смелость, решимость и, естественно, деньги. Еще — нужно желание. А хотят ли они этого?
Этот вопрос я задаю себе, об этом думаю, об этом говорила и скажу еще раз, если мне разрешат присутствовать на процессе Да Круса.
Потому что на этот раз я хочу там быть, и я не опущу глаза, ни на минуту.
Я больше не запуганная девочка, какой была много лет назад. Я наконец вернулась к себе самой. Моя юность была исковеркана, и многие годы я жила, запертая на ключ в своем несчастье, не радовалась жизни, отстранялась от близких. Пережитая мною драма и ее последствия усугубили в несколько раз кризис подросткового возраста; ссоры папы и мамы, ненависть, которую я к ним питала, ощущение, что они меня не понимают, — все это стерло из моей памяти прекрасные моменты, которые мы пережили вместе. Из-за изнасилования я даже не заметила, как брат и сестра выросли. Погруженная в свои переживания, я не уделяла им столько времени и любви, сколько мне хотелось бы. Между нами образовалась дистанция, которую мы еще не скоро преодолеем. Что касается родителей, я обижаюсь на них до сих пор. Я ставлю им в упрек то, что они разрешили мне, расстроенной, болтаться по улицам городка, вместо того чтобы попытаться меня утешить. Я упрекаю их за то, что они долго скрывали от меня факт освобождения Да Круса, что не переехали в другой регион, чтобы защитить меня от него и от людской молвы. Папа недавно высказал свое мнение по последнему вопросу:
— Но почему мы должны были уезжать? Ведь мы — жертвы! Не нам склонять головы перед преступником!
Когда я это слышу, меня накрывает волна ярости. Разве не о моем здоровье, душевном и физическом, нужно было думать в первую очередь? Как могло случиться, что родители так и не поняли, в каком аду я жила? Эти вопросы мучат меня, но в глубине души я знаю ответ: они делали, что могли.
Теперь, когда я выросла, я понимаю, что мое несчастье стало их несчастьем. Я осознаю, что родители, говоря мне неправду, старались меня уберечь. Я отдаю себе отчет в том, что после моего изнасилования на плечи моей мамы свалилось все разом — работа, забота о двух маленьких детях, муже-алкоголике и несчастном изувеченном подростке, то есть обо мне. И если она что-то делала не так, это происходило из-за того, что она страдала, что не знала, за что хвататься, я же думала, что ей нет до меня дела. Я считала, что она делает недостаточно, а на самом деле мама делала все, что могла. После того, что случилось со мной, отец с головой утонул в бутылке. Чувство вины, горе, ненависть, жажда мести — все это заставляло его искать утешения в алкоголе. Мое несчастье стало последней каплей, и если раньше его пьянство можно было сравнить с трещиной, то потом оно превратилось в каньон. Теперь я все это понимаю. Я лучше воспринимаю своих родителей, но не могу их простить.
Ужасные оскорбления, которые швырял мне в лицо отец, убивали меня. Почти каждый вечер, напиваясь, он обрушивал на меня этот спиртовой поток злобы, и мать не пыталась меня защитить. Она не развелась с отцом. Жестокость отца, слабость матери, их упорное нежелание покидать Эшийёз — все это навсегда запечатлелось в моей памяти, Через несколько лет после того, как меня изнасиловали, они позволяли моей младшей, тогда десятилетней сестре, гулять в одиночку по городу, совсем как когда-то мне, а ведь Да Крус уже бродил поблизости, и они об этом знали! Сегодня они оправдываются тем, что не хотели сажать Рашель под замок и вешать на ребенка груз моего прошлого. Их логика от меня ускользает. Такому поведению я не могу найти оправдание.
Между нами много непонимания и горечи, и это навсегда, хотя я люблю их, всегда любила и буду любить больше всех на свете. Я знаю, им было очень трудно. Те, кто их осуждал, осуждает или будет когда-нибудь осуждать, окажись они на их месте, вряд ли сподобились бы на что-то большее. Мои родители далеко не совершенны, однако они сделали все, что могли, чтобы пережить эту катастрофу. И моя признательность им так же искренна и горяча, как и моя любовь.
Моя жизнь развалилась в один момент, это так, но теперь я оправилась от всех потрясений. Как сложилась бы моя жизнь, если бы в тот день, первого октября 2000 года я осталась дома? Я часто задаюсь этим вопросом. Мне не снились бы страшные сны, я бы не была такой тревожной, и в сердечных делах все ладилось бы. Что касается общения с мужчинами, то до сих пор от некоторых их фраз, от их запахов у меня леденеет кровь. Если говорить о самом интимном, то, образно выражаясь, лес всегда рядом. Психиатр, который обследовал меня непосредственно после изнасилования, предрек мне ужасное будущее: хронические депрессии и склонность к суициду. Он не ошибся, я через это прошла. И теперь бывают периоды, когда я падаю духом, и мне даже трудно припомнить что-то хорошее. Приятные воспоминания — вечерние посиделки с друзьями или далекие путешествия — все это улетучивается из сознания. А вот в плохих воспоминаниях у меня недостатка нет. Настоящая база данных — на любой случай. Иногда мне кажется, что в моей памяти воспоминания о насилии завладели всем пространством, вытеснив все светлое. То, что я была на волосок от смерти, конечно, сделало меня более ранимой, но, как ни парадоксально это звучит, и более сильной тоже. Была бы я столь одержима желанием преуспеть в жизни, жаждой счастья вопреки всему и вся, если бы раньше не вынесла столько страданий? Каждый момент счастья для меня имеет привкус реванша. Стремление к успеху, более сильное, чем у моих сверстников, стало моей движущей силой. Я на четвертом курсе фармацевтического факультета и горжусь этим. В тот день, когда я получу диплом, я вернусь в Эшийёз с гордо поднятой головой. Теперь — моя очередь! Позднее, став женой и матерью, я докажу тем, кто унижал и презирал меня, что я преуспела во всем, а остальным — что можно пережить даже самую страшную драму.
А пока, через девять лет после изнасилования, передо мной — целая жизнь. И в ней есть место для друзей, женихов и сердечных переживаний. Сегодня я не кажусь себе непривлекательной и глупой, скорее — веселой и забавной.
Надеюсь, Да Крус, который гниет в Флери-Мерожи, узнает, какой замечательной девушкой я стала.
Казалось бы, я не должна даже вспоминать о нем, но такова данность. Тот, кто надругался надо мной, всегда присутствует в моем сознании. Если мне страшно, это — из-за него. Если я добиваюсь цели — это чтобы показать ему, что я все равно много стОю. Он по-прежнему влияет на мою жизнь. И ужас, который он мне внушил, временами сжимает невидимой рукой мое сердце. Раньше мне достаточно было подумать о Да Крусе, чтобы лишиться способности говорить, двигаться. Даже спустя много лет, в 2006-м, когда я полагала, что это прошло, при виде его машины меня охватила паника. В 2009-м, увидев его воочию, я лишилась чувств. Изнасилованная девочка внутри меня так и не выросла…
Но теперь ей придется повзрослеть.
Последний день жизни Мари-Кристин стал для меня уроком. Она сумела справиться со своим страхом. Попыталась избежать ловушки, расставленной для нее убийцей, голыми руками сражалась с ним, превозмогла ужас, чтобы выдать этого зверя жандармам. Этот пример мужества будет вдохновлять меня.
Суд над Да Крусом, надеюсь, станет примером торжества справедливости. Мой собственный случай пусть будет свидетельством того, что система правосудия может ошибаться. Произнесенные слова скоро забываются, поэтому я решила написать обо всем, черным по белому, в этой книге.
У гроба Мари-Кристин Одо я дала обещание, что не забуду ее. Что сделаю все от меня зависящее, дабы юстиция не совершала тех же ошибок, в результате которых пострадала я. Тогда я не знала, как действовать. Теперь — знаю.
Мне двадцать два года, я не судья, не министр, у меня нет никакой власти. Но я могу написать обо всем.
В память о Мари-Кристин Одо, умолкнувшей навсегда, и ради всех переживших изнасилование девочек и женщин, которые не осмеливаются сделать то, что сделала я, для всех, кто пострадал от насилия, но скрывает это, стыдится, испытывает страх.
Несправедливость торжествует, пока мы сидим сложа руки.
Я это точно знаю.
Каждые 5 минут в мире происходит изнасилование. Беззащитные женщины и доверчивые девочки — в этой книге Морган Вале будет говорить от имени тех, кто боится признаться, что их изнасиловали, и тех, кто уже замолчал навеки…
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Суд присяжных, рассматривавший дело об убийстве Мари-Кристин Одо, 8 ноября 2011 года приговорил Мануэля Да Круса к пожизненному заключению и 22 годам отбывания срока без возможности сокращения срока и получения прочих «поблажек». Источник: / articlc/2011/11/08/perpetuite-requise-a-l-encontre-du-rneurtrier-prcsume-dc-marie-christine-hodeau_1600698_3224.html. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)
(обратно)2
Игра в «войну пуговиц» заключается в том, что противники срезают друг у друга пуговицы с одежды, а побеждает тот, кто срежет больше пуговиц.
(обратно)3
Наги Фам, французский теле- и радиоведущий, комик.
(обратно)4
С хрустом, недоваренный, твердоватый (фр.).
(обратно)5
Результаты опроса «Контекст сексуальности во Франции/ Contexte de la Sexualitè en France» (опрос CSF, 2006), проведенного Натали Бажо/Nathalie Bajos и Мишелем Бозоном/ Michel Bozon под руководством Натали Белтцер/Nathalie Beltzer и опубликованного в «Исследования сексуальности во Франции/Enquêtes sur la sexualitè en France», La Dècouverte, INED, 2008. (Примеч. aвm.)
(обратно)6
«Национальные исследования проблем насилия в отношении женщин во Франции/Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France», так называемое «ENVEFF», проведенное под руководством Марисы Жаспар/Maryse Jaspard, INED, CNRS, INSERM…, 2000. (Примеч. авт.)
(обратно)7
ENVEFF, 2000. (Примеч. авт.)
(обратно)8
На французский манер имя Мануэль произносится как Манюэль, уменьшительно-ласкательное — Маню.
(обратно)9
День взятия Бастилии, национальный праздник Франции.
(обратно)10
Еженедельная программа, посвященная вопросам истории.
(обратно)11
Названия населенных пунктов.
(обратно)12
«Воинской рукой», т. е. применяя силу, насильственно (лат.).
(обратно)13
Тот же самый, то же (лат.).
(обратно)14
Кулинарный прием: блюдо поливают крепким алкогольным напитком и поджигают.
(обратно)15
«Из последующего» (лат.); исходя из опыта, на основании опыта.
(обратно)16
История любви (англ.).
(обратно)17
Слабоалкогольный напиток, смесь вина с соком фруктов.
(обратно)18
Curriculum vitæ — «ход жизни» (лат.); краткое описание жизни и профессиональных навыков.
(обратно)19
Большой босс (англ.).
(обратно)20
В последний момент (жизни), при последнем издыхании (лат.).
(обратно)21
Серийный убийца (англ.).
(обратно)22
Из статьи «Amondrir les risques de rècidive criminelle des condamnès dangereux/Как снизить риски рецидива у преступников, представляющих опасность для общества», автор — Венсан Ламанда/Vincent Lamanda, первый председатель Кассационного суда; статья опубликована в «La Documentation française» в 2008 г. Доступна в Интернете на французском языке: http//lesraports. ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000332/000.pdf.
(обратно)23
Из статьи «Predictors of Sexual Recidivism: An Apdated Meta-Analysis/ Факторы, позволяющие прогнозировать рецидивы преступлений на сексуальной почве: актуальный мета-анализ», авторы: Р.К. Хенсон и К. Мортон-Бургон/R.K. Hanson&K. Morton-Bourgon, Ottawa; статья опубликована в «Public Safety and Emergemcy Preparedess Canada» в 2004 г. Статья тех же авторов «L’Exactitude des èvaluations du risque de recidive chez les dèlinquants sexuel: une mèta-analyse/Точность оценки рисков повторения преступлений на сексуальной почве: актуальный мета-анализ» опубликована в «Ministère de la Justice du Canada» в 2008 г. На последнюю статью ссылается в своей работе В. Ламанда.
(обратно)24
«Traitement et suivi mèdical des auteurs de dèlits et crimes sexuels/Лечение и медицинское наблюдение за преступниками, совершившими правонарушения и преступления сексуального характера» — результаты исследования рабочей группы «Santè-justice», проведенного под руководством С. Балье, А. Кьявальдини и М. Жирар-Хайят/С. Balier, A. Ciavaldini, М. Girard-Khayat. На них ссылается В. Ламанда.
(обратно)25
Отчет В. Ламанда, op. Cit., 2008.
(обратно)26
Одна из двух палат французского парламента.
(обратно)27
«Les Conditions de dètention dans les ètablissements pènitentiaires en France, Sènat, rapport de commission d’enquête № 449 (1999–2000) par Jean-Jaques Hyest &Guy-Pierre Cabanel/Условия содержания заключенных в пенитенциарных учреждениях Франции, Сенат, отчет комиссии по делу № 449 (1999–2000), авторы: Жан-Жак Ист и Ги-Пьер Кабанелль. Доступно в интернете на французском языке: —449/199—4491.pdf; «Statistiques trimestrielles de la population prise en charge en molieu fermè, situiation au 1-er janvier 2006 et flux du 4-e trimestre 2005. Direction de l’administration pènitenciaire, Bureau des ètudes, de la prospective et des méthodes, février 2006/Квартальный статистический отчет относительно граждан, пребывающих на содержании в замкнутой среде, состоянием на 1 января 2006 года, за четвертый квартал 2005 года. Дирекция пенитенциарного управления, Бюро по изучению, перспективному прогнозированию и разработке методик, № 105, февраль 2006.
(обратно)28
«Les Prisons en France, volume II, Alternatives à la dètention», rapport de la Commision nationale consultative des droits de l’homme, La Documentation française, 2007/ «Тюрьмы во Франции, том 2, Альтернативы содержанию под стражей», отчет Национальной консультативной комиссии по правам человека, La Documentation franaise, 2007.
(обратно)29
Союз за народное движение (Union pour un mouvement populaire).
(обратно)

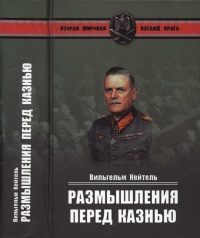






Комментарии к книге «Лишенная детства», Морган Вале
Всего 0 комментариев