Давид Шор. Воспоминания
От составителя
Предлагаемые вниманию читателей воспоминания Давида Соломоновича Шора, блестящего пианиста, педагога, общественного деятеля, являвшегося одной из значительных фигур российского сионистского движения рубежа веков, являются частью архива семьи Шор, переданного в 1978 году на хранение в Национальную и университетскую библиотеку Иерусалима Надеждой Рафаиловной Шор. Для книги был отобран ряд текстов и писем, охватывающих период примерно до 1918 года, что соответствует первому, дореволюционному периоду жизни Шора, самому продолжительному и плодотворному в его жизни.
В данную публикацию включены уникальные, не публиковавшиеся ранее на русском языке материалы. Воспоминания Шора — яркие, эмоциональные, написанные живым литературным языком — воссоздают образ человека сложной, интересной, насыщенной и исключительно своеобразной судьбы. Он не был ни приспособленцем, ни бунтарем, воинственно восстающим против юдофобски настроенного общества. Он утверждал свое еврейство как равный среди равных. Не декларировал о своем еврействе и равноправии с котурн, но утверждал его без ложного пафоса и фанатизма. Характер Шора отражается и в самом стиле его записок. Это размышления человека, пытавшегося разобраться в себе и, следовательно, в таком сложном феномене как “еврей”, человека, считавшего себя “иври”, а не только евреем, тем самым подчеркивающего свою принадлежность не к гонимому и притесняемому национальному меньшинству, а к презирающей рабство нации.
Основным материалом для публикации послужили тексты различных жанров: 1) собственно воспоминания; 2) дневниковые записки; 3) биографические эссе; 4) статьи и 5) письма. Эти тексты расположены в том порядке, в каком хотел их видеть сам Шор, систематизировавший свои воспоминания, что значительно облегчило работу составителя. В случаях, где указания Шора отсутствовали, текст вставлялся по хронологическому принципу в соответствии с описываемым в нем периодом.
Первую жанровую группу возглавляет основной текст воспоминаний Шора (ок. 80 машинописных листов), начатый им в 1917 году и озаглавленный “Что случилось в ноябре 1917‑го, когда большевики только заняли Москву”. Воспоминания начинаются с описания детства Шора в Симферополе и заканчиваются учебой в Петербургской консерватории. Характерной особенностью этого текста является его хронологическая многослойность. Об этом свидетельствуют многочисленные вставки от руки в машинописные варианты воспоминаний. Образцы почерка Шора в черновиках его писем, датированных 40‑ми годами, сопоставленные с правками в данном тексте, позволяют утверждать, что, начав его в 1917 году, Шор работал над ним до конца жизни. Существует два почти идентичных машинописных варианта — оригинал и копия, напечатанная под копирку. В обоих — рукописные правки и вставки сделаны рукой Шора. В процессе подготовительной работы над текстом сохранены и собраны все его пометки на обоих вариантах, в настоящей публикации они даны курсивом в квадратных скобках.
Воспоминания о детстве и юности заканчиваются отсылкой к следующему периоду в жизни Шора — московскому, поэтому следующей главой стал текст, озаглавленный Шором “Москва”, который является, по сути, автономным фрагментом. Эта часть воспоминаний публикуется также по машинописному варианту. Принцип сохранения авторских правок тот же[1]. Следует обратить внимание на тот факт, что и над этим текстом Шор работал по меньшей мере до 1937 года, поскольку в текст вкраплены абзацы и отдельные предложения, которые вошли в статью Шора о В. И. Сафонове, опубликованную в 1937 году в “Новом русском слове” (см. подробнее в “Примечаниях”). О процессе поздней обработки текста свидетельствует приписка, сделанная рукой Шора “Руб. конкурс. Затем Толстой”. Почерк Шора здесь сопоставим с его записками и письмами конца 30‑х, возможно, 40‑х годов.
Следующая серия текстов была отобрана в соответствии с вышеуказанной отсылкой Шора: 1) [Рубинштейновский конкурс]* — название дано составителем единственному тексту, посвященному этому событию и составленному из двух фрагментов; второй очевидным образом является продолжением первого, хотя далее и отходит от темы непосредственно конкурса. 2) [Антон Рубинштейн] — ряд текстов, объединенных под одним заголовком; состоит из пяти лишь тематически связанных друг с другом отрывков, большей частью аналитического характера, посвященных разбору творчества Рубинштейна. Включение этих отрывков сразу после описания конкурса обусловлено желанием сконцентрировать в одном месте материал, посвященный Рубинштейну. Как и в предыдущих текстах, правки Шора указывают на более позднюю обработку текстов. Не выделяется из общего ряда и отрывок № 2, первые два с половиной абзаца которого написаны в 1894 году и являются частью надгробной речи Рубинштейну. Пятый отрывок, несомненно, часть газетной статьи, на это указывает и сам Шор (см. “Примечания”). 3) “Л. Н. Толстой”, название дано Шором. К тексту прикреплен фрагмент № 2, посвященный теме “Толстой и музыка”. Фрагмент не поддается однозначной датировке, поэтому объединение сделано по тематическому принципу. Первый фрагмент, собственно эссе о Толстом, наоборот, благодаря указанию Шора на письмо дочери Толстого Т. Л. Сухотиной — Толстой, написанное в 1934 году, позволяет датировать последнюю правку 1934 годом.
Серия биографических и полубиографических эссе Шора, публикуемая вслед за эссе о Толстом, посвящена различным людям, в большинстве выдающимся музыкантам и общественным деятелям, с которыми доводилось встречаться Шору. Это: М. Я. Герценштейн, И. И. Петрункевич, А. Ф. Кони, И. А. Добровейн, А. С. Аренский, С. В. Рахманинов, И. И. Левитан, А. М. Горький. Эти тексты отличает одна особенность: они воспроизведены с рукописи (исключение составляет эссе о Левитане) и не содержат более поздних правок. Период, которому посвящена серия, охватывает 90‑е годы XIX века и начало XX века, не позднее 1920 года.
Вслед за биографической серией идет серия историческая, объединяющая три текста: [1904], [1905] и “1906”, которые представляют собой жанровую смесь: воспоминания соседствуют с дневниковыми записями. Тексты найдены в архиве лишь в машинописном варианте, в котором отделить воспоминания от дневниковых записей возможно, лишь проведя текстологический анализ. Последний выявил, что преобладает дневниковый жанр, что видно, к примеру, по употреблению наречий времени “теперь”, “сейчас” и др. В соответствии с этим тексты упоминаются как дневниковые записки и в примечаниях, и во вступительной статье.
Следующие три текста объединены тематически, но отчасти и хронологически, что обусловило их появление после записок 1906 года. “Давид Васильевич Высоцкий” [1907. Поездка в Палестину] и “Мое первое посещение Палестины”. Под этим заглавием [1907. Поездка в Палестину] публикуется отрывок из дневников 1924 года, не вошедших в данную публикацию по причине их большого объема, требующего их издания отдельным томом. Текст 1924 года потребовался для завершения картины 1907 года, ибо небольшой рукописный фрагмент “Мое первое посещение Палестины” не давал представления о поездке Шора в Эрец — Исраэль. Тема еврейства, доминирующая в этих трех текстах, потребовала выделения их в отдельную группу и присоединения еще одного, жанр которого — биографическое эссе о Высоцком.
Завершают публикацию два текста: [О Бетховене] и [Бетховенская студия] — тексты, которые иллюстрируют круг музыкальных интересов Шора.
В разделе “Письма” публикуются 23 письма Шора: 14 — из архива Шора в Национальной и университетской библиотеке Иерусалима (4°1521, папка 367), остальные 9 из Центрального сионистского архива в Иерусалиме (J43/2).
В заключение следует отметить, что в задачу подготовительных работ над текстами входило максимальное воспроизведение их в архивном варианте, отсюда сохранение не только правок и вставок Шора, но и перечеркивание им слов, фрагментов или целых абзацев, а также подчеркивания, отражающие ключевые, по его мнению, моменты его жизни. Сохранен стиль и правописание Шора, грамматические и орфографические ошибки исправлены в квадратных скобках без комментариев. Перевод иностранных слов и цитат дан в подстрочных примечаниях. Примечания по содержанию помещены в конце книги, нумерация дана сквозная, но с разбивкой по главам. В разделе “Приложения” опубликован фактический и иллюстративный материал, касающийся дореволюционной музыкальной деятельности Шора, а также некоторые его семейные фотографии. В указателе имен отражены все реальные персонажи, упоминаемые в текстах Шора, в “Примечаниях” и во вступительной статье. Указатель имен дает одновременно и краткую аннотацию персонажей, восполняя недостающую во всех предыдущих текстах информацию (отчество, годы рождения и смерти, род деятельности), или же отсылает на страницу, где содержится наиболее полная информация по данному лицу.
Данная публикация является завершением многолетних исследований архива семьи Шор. Автор выражает глубокую благодарность за помощь и содействие в архивной работе сотрудникам отдела рукописей Национальной и университетской библиотеке в Иерусалиме.
Моему мужу Валерию и дочери Анне я благодарна за неизменную моральную поддержку.
Список публикуемых материалов с указанием архивных номеров:
1. Что случилось в ноябре 1917‑го, когда большевики только заняли Москву (4° 1521, папка 449)
2. Москва (4° 1521, папка 449)
3. [Рубинштейновский конкурс] (4°1521, папка 208)
4. [Антон Рубинштейн] (4° 1521, папка 208)
5. Л. Н. Толстой (4° 1521, папки 367 и 209)
6. В. И. Сафонов (4°1521, папки 444 и 449)
7. [Исай Добровейн] (4°1521, папка 445)
8. [Аренский] (4° 1521, папка 445)
9. [Рахманинов] (4° 1521, папка 445)
10. [Исаак Левитан] (4° 1521, папка 209)
11. Герценштейн, Петрункевич, Скирмут, Кони (4° 1521, папка 209)
12. А. Ф. Кони (4°1521, папка 209)
13. Максим Горький — Ал[ексей] Максимович] Пешков (4°1521, папка 367)
14. [1904] (4*1521, папка 446)
15. [1905] (4°1521, папка 446)
16. 1906 г[од] (4° 1521, папка 446)
17. Давид Васильевич Высоцкий (4°1521, папка 396)
18. [1907. Поездка в Палестину] (4°1521, папка 450)
19. Мое первое посещение Палестины (4° 1521, папка 410)
20. [О Бетховене] (4° 1521, папка 390)
21. “Музей Музыки” (4° 1521, папка 343)
22. [Бетховенская студия] (4° 1521, папка 343)
23. Иллюстрации (афиши) (4° 1521, папки 367, 395 и 405)
24. Проект Музея Музыки (4° 1521, папка 343)
Юлия Матвеева. Давид Соломонович Шор
Давид Соломонович Шор (1867–1942), пианист и музыкальный деятель, основатель и руководитель Московского трио (1892–1924) и Бегховенской студии (1911–1917), был хорошо известен в музыкальной среде столичной и провинциальной России на рубеже XIX–XX вв. Вот что писала о нем “Еврейская энциклопедия” в 1913 г.:
“Ш[ор] составил известное Московское трио, с успехом игравшее в России и за границей. Ш[ор] выступал в Москве и провинции, как лектор по истории музыки, иллюстрируя лекции фортепианным исполнением. Ш[ор] популярен в Москве, как музыкальный педагог”[2].
В состав Московского трио входили: пианист Давид Шор, скрипач Давид Крейн (1869–1926), первая скрипка балетного оркестра Большого театра в 1900–1926 годах, и виолончелист Модест Альтшулл ер (1873–1963), которого после эмиграции в США в конце 1890‑х гг. заменил Рудольф Эрлих (1866–1924). Московский книгоиздатель и меценат Михаил Сабашников (1871–1943) в своих “Записках” отмечал “заслуженную известность” камерного ансамбля под руководством Шора среди московской и провинциальной публики: [грио] “насажда[ло] у нас в то йремя еще мало распространенную любовь к камерной музыке”[3].
Беллетрист и переводчик Татьяна Щепкина — Куперник (1874–1952), которой с детства любовь к музыке была так же свойственна, как и любовь к литературе[4], посвятила Шору одно из своих стихотворений.
Тонкий запах белого левкоя; Гайдн, Рамо[5], Бетховен, милый Бах… Ощущенье сладкого покоя И невольная улыбка на губах… Оживает вдруг душа Бехштейна[6] Под касаньем сильных нежных рук… Точно прелесть сказки, легковейно, Радостно летит за звуком звук. Слыша их — печаль свою оставишь И уйдешь от суетных забот… Кто умеет гак касаться клавиш, — И сердца ласкать умеет тот![7]Успех открывал Шору двери многих известных домов Москвы. Жена Льва Толстого (1828–1910), Софья Андреевна (1844–1919), приглашала его на семейные музыкальные вечера. Толстой вспоминает об одной из встреч с Шором в своих дневниках, отзываясь о нем как о незаурядном знатоке музыки, способном не только исполнять ее, но и умевшем ясно и доступно излагать воплощенную в музыкальном произведении идею.
“1893 г. 22 декабря.
На днях был тут музыкант Шор. Мы с ним говорили о музыке, и мне в первый раз уяснилось истинное значение искусства, даже драматического. Это будет первое из того, что я думал за это время”[8].
Вплоть до смерти Толстого Шор был частым гостем в его доме. О посещениях Шора вспоминают Софья Андреевна[9] и старший сын писателя, Сергей Львович (1863–1947).
Список ценителей музыкального дарования Шора можно продолжить, в их числе было много известнейших музыкантов и писателей того времени: русский философ и поэт Вячеслав Иванов[10] (1866–1949), писатель Федор Степун[11] (1884–1965), пианист и дирижер Большого театра (с 1919 г.), а затем Сток гольмской оперы (с 1941 г.) Исай Добровейн[12] (1891–1953), пианист и руководитель симфонического оркестра в Детройте (с 1918 г.) Осип Габрилович (1878–1936), художник Леонид Пастернак[13] (1862–1945) и многие другие.
В настоящее время имя Шора знакомо, пожалуй, лишь узкому кругу специалистов в области камерной музыки и исследователям истории еврейской культуры, для большинства оно практически забыто. Этот факт объясняется в значительной степени спецификой профессии музыканта — исполнителя: Шор не писал музыку, после него не осталось произведений, исполнение которых восстановило бы его имя для потомков, нет и звукозаписей с его исполнением, которые могли бы сохранить память о нем как о музыканте. Можно получить лишь опосредованное представление о его исполнительском мастерстве — по отрывочным воспоминаниям современников, что предполагает целенаправленный исследовательский поиск.
Между тем судьба этого еврейского музыканта, добившегося колоссального успеха и признания, — уникальна. Жизнь и творчество Шора вобрали в себя гуманистические идеалы русской, еврейской и европейской культур. Не раз публично заявляя о своем еврействе и активно участвуя в российском сионистском движении (и временами даже играя в нем ведущую роль), а также позже, живя в Палестине, Шор всегда подчеркивал, что культура еврейского народа немыслима без интеграции в ней других культур. “Духовное собирательство” было его кредо и символом его веры; именно такое поведение представлялось ему в наибольшей степени отвечающим высокой миссии артиста, педагога и сионистского деятеля. Его стремление сочетать в исполнительском искусстве еврейскую, русскую и европейскую музыкальную традицию было обусловлено его особым музыкальным восприятием мира — для него как музыканта достижение гармонии было важнейшим моментом творчества. На этом пути Шору приходилось как сталкиваться с предрассудками российской музыкальной элиты, очень неохотно принимавшей в свою среду евреев и пренебрегавшей еврейской музыкой, так и преодолевать непонимание части еврейской интеллигенции, считавшей, что с еврейской культурой можно обождать и что на данном этапе сионистское движение должно иметь ясную и “сравнительно легко достижимую цель”[14] — создание для евреев обеспеченного законом убежища в Палестине.
Этим проблемам, центральным для биографии Шора, ставшим неким стержнем, вокруг которого сконцентрировались основные события его жизни, посвящена данная статья, охватывающая три периода жизни Шора: российский, разделенный Октябрьской революцией 1917 года на дореволюционный (I) и послеоктябрьский (И), и палестинский (III). Каждый период рассматривается с различной степенью подробности. Основное внимание уделено первому периоду, освещающему то время, к которому относятся публикуемые в данной книге дневниковые записи, воспоминания, эссе и письма Шора. Данная работа — одна из первых попыток опубликовать[15] и проанализировать его рукописное наследие, которое является в некотором смысле духовным завещанием музыканта, где он касается главных вопросов, волновавших тогда деятелей еврейской культуры, и которые, как мы увидим, но сей день не утратили своей актуальности.
I
Давид Шор родился в Симферополе 15 января 1867 г. в многодетной семье (пять братьев и одна сестра). Глава семейства, Соломон Шор ([годы рождения и смерти устанавливаются приблизительно]: 1836–1921), бухгалтер по профессии, был пианистом — самоучкой. Трое его детей, унаследовав музыкальные способности отца, связали свою судьбу с музыкой[16]. Осмысливая роль отца в своей жизни, не только определившего его профессию, но и сформировавшего его характер и мировоззрение, Давид Шор пишет в своих воспоминаниях:
“Какие побуждения заставляли отца избрать для своего любимца (старшего брата) карьеру музыканта, я не знаю, но полагаю, что здесь значительную роль сыграли побуждения идеального свойства. Сам он, натура в высшей степени одаренная, полный стремлений к чему — то возвышенному, но в силу житейских обстоятельств принужденный работать в атмосфере глубоко прозаической, всеми фибрами души тянулся к тем неопределенным сладким ощущениям, которые уносили его в другой мир[17].
Это, в чем — то романтическое, отношение к музыке отца позднее сказалось на музыкальном вкусе и исполнительских принципах Давида Шора. Выступая против голой виртуозности, в своих концертах он отдает предпочтение таким крупнейшим композиторам — романтикам XIX века, как Людвиг ван Бетховен, Феликс Мендельсон — Бартольди, Роберт Шуман и Фридерик Шопен.
На Шора как музыканта оказало влияние и его еврейское воспитание. Нельзя сказать, что его семья была чересчур религиозной, несмотря на то что Шоры соблюдали еврейские праздники и регулярно посещали синагогу. Родители не требовали от детей неукоснительного соблюдения религиозных обрядов (например, чтение молитв или строгое следование правилам проведения праздничных ритуалов). Однако по традиции мальчики посещали хедер; и хотя, по словам Шора, он сам не очень много из него вынес, все же влияние его наставников предопределило его двоякое отношение к музыке.
“Уважение к ремеслу составляло существенную часть поучений отцов синагоги. “Мыслителю — философу”, проповеднику, учителю и другим деятелям в духовной области рекомендовалось ремесло, как средство к существованию. Вся духовная деятельность слишком высоко чтилась, и она не должна была быть доходной статьей”[18].
Как свидетельствуют его воспоминания, Шор весьма серьезно и ответственно относился к выбранной им профессии музыканта. Музыка не стала для него исключительно ремеслом, но понималась и как духовная миссия.
Давид Шор — самый младший из пяти братьев и самый одаренный из них — стал заниматься музыкой с семи лет. В возрасте восьми лет он уже играл 19‑ю сонату Бетховена, которая стала впоследствии его “коньком”. Первым его учителем был отец, затем обучение продолжил пианист Масалов[19], тогда один из лучших учителей музыки в Симферополе, как считал Шор. В 1877 г. Соломон Шор увозит сына в столицу для поступления в Петербургскую консерваторию. Поступление было сопряжено с массой трудностей для еврейского мальчика.
“Прежде всего надо было обладать выдающимся талантом, а кроме того, талантом ухитриться поступить в столичную консерваторию, не имея права жительства в столице”[20].
Но благодаря петербургским знакомствам отца ему удалось временно закрепиться в столице и участвовать в прослушивании, в результате чего десятилетний мальчик был принят.
Описывая годы своего ученичества, Шор с большой теплотой отзывается о консерватории. Окончившим ее присуждалось звание “свободного художника” и диплом высшего образования, дававшие евреям право селиться во всех городах России, включая Москву и Петербург. Это обстоятельство было особенно значимым для тех, кто, как Шор, окончил консерваторию в конце 80‑х годов, когда в России ужесточилось антиеврейское законодательство[21].
В первые годы учебы Шор сменил многих учителей по классу фортепиано, ища необходимое ему взаимопонимание между учителем и учеником, а также общность взглядов на музыку и призвание артиста. Директор консерватории, композитор и основоположник русской виолончельной школы Карл Давыдов (1838–1889), разрешил ему самому выбрать себе преподавателя, которым с января 1885 г. стал Василий Сафонов (1852–1918), пианист и педагог, создавший одну из ведущих дореволюционных русских пианистических школ, учениками которого были такие всемирно известные пианисты, как Николай Метнер (1879/1880 — 1951) и Александр Скрябин (1871/1872 — 1915). Много лет спустя Шор напишет о своем учителе:
“Сафонов не ограничивался обучением игры на фортепиано. Он обнаруживал огромное понимание значения искусства, глубоко и искренно любил его, умел ценить красоту всех эпох и времен, и благодаря своей образованности раскрывал перед нами новые горизонты. […] Это был добрый, заботливый учитель, внимательный к духовным и житейским нуждам своих учеников. […] половина музыкальных деятелей Москвы так или иначе причастна к Сафоновской школе. Большинство профессоров консерватории, а также и филармонии если не прямые ученики Сафонова, то так или иначе находились под его влиянием”[22].
Не только профессиональное единомыслие связывало Шора с Сафоновым, но и обоюдная симпатия, переросшая в многолетнюю дружбу[23], на которую не повлияло даже определенное юдофобство последнего. Шор настолько привязался к любимому учителю, что осенью 1885 г. перевелся в Московскую консерваторию, куда перешел преподавать Сафонов. С этого времени и до 1925 г. артистическая и музыкально — общественная деятельность Шора тесно связана с Москвой.
Закончив Московскую консерваторию (1889 г.), Шор впервые столкнулся с проблемой крещения, бывшего тогда необходимым условием для интеграции еврея в русской музыкальной среде. Шор вспоминает, как Сафонов, став с 1889 г. директором консерватории, предложил ему место адъюнкта при “известном условии” — перемены вероисповедания. Шор отклоняет заманчивое предложение, несмотря на предупреждение Сафо нова, что второго подобного предложения от него уже больше не поступит.
В связи с вышесказанным следует упомянуть, что в марте 1887 г., за два года до предложения Сафонова, Шор женился на своей ученице Раисе Михайловне Муллер (? — 1920), 24 марта 1889 г. родилась его старшая дочь — Мири. Вслед за ней с разницей в год родились дочь Евгения и сын Евсей. Очевидно, что отказ от предложения Сафонова ставил Шора в весьма затруднительное положение. И тем не менее Шор предпочел свою верность еврейству академической карьере. И это на фоне того, что “к концу XIX в. участились случаи крещения […] среди интеллигенции, индифферентной к религии”[24] (например, выкрестом был Крейн[25], партнер Шора по Московскому трио). Отказ креститься говорит о рано сложившемся национальном самосознании Шора, ведь большинство людей его круга были выходцами из чисто русской среды. С той же ответственностью, с которой он подходил к профессии музыканта, он относился и к своему еврейству. Позже, уже в более зрелом возрасте, пройдя школу сионистского движения, он определит свой отказ от крещения как идею личной ответственности в общем национальном деле. Тогда же им руководили соображения скорее идеального свойства, чем идеологического: Шор не желал быть “калекой”, имя которому еврей — выкрест, и потому не желал скрывать свое лал скрывать свое еврейство подобно многим выдающимся евреям поколения Рубинштейна[26], Давыдова и Ауэра. Об этом красноречиво говорят воспоминания Шора:
“Рано покинув родной дом и живя постоянно вне еврейского круга, я был равнодушен или, вернее, просто не интересовался религиозными и национальными вопросами. Но где — то в глубине души прочно засели глубокие воспоминания детства, связанные со всем пережитым в доме родителей. И все эти воспоминания, трогательные, поэтичные, неразрывно связанные со всем обиходом текущей еврейской действительности, насквозь проникнутой духом закона, духом религиозности, явились могучим оплотом против всяких посягательств…
Да, посягательств, т. к. трудно иначе назвать то, с чем мне впервые пришлось столкнуться. Любимый учитель, имевший на меня исключительное влияние, человек, которому я был предан всей душой, умный, развитой, образованный Сафонов — вырос в атмосфере старообрядческих верований и на всю жизнь сохранил какой — то особенный настойчивый фанатизм и религиозную узость, которых ни образование, ни просвещение, ни искусство не вытравили в нем. Он был убежденный антисемит и юдофоб, в то же время постоянно имел дело с евреями, среди которых у него было немало друзей. Желание обратить всех в свою веру доходило у него до какой — то болезненной мании. И, будучи директором консерватории, он окрестил немало народа; я знаю также случай перехода в старую веру! Во мне все это возбуждало горячий [прямой — приписано от руки сверху, Ю. М.] протест и негодование. Религиозные споры эти меня сильно волновали, и старушка Сафонова любила слушать мою горячую защиту еврейства и негодование по поводу нападок на него. Я упорно и настойчиво доказывал, что нет более свободного и широкого вероисповедания как иудейское, и что положительно ничто не может помешать, признав христианские истины прекрасными, следовать им, оставаясь евреем, и что случайно или по расчету взятая [ванна крещения], в сущности ничто не изменяет. Не знаю […] не очень верил мне Сафонов, или надеялся на то, что вся моя философия и горячая приверженность еврейству не устоит перед лестным и выгодным предложением, но вот разговор, который происходил между нами в 1889 г. в конце мая, после окончания мною консерватории […]”[27].
Следующий отрывок процитирую с сокращениями.
“[…] Он: Я предлагаю вам занять место моего адъюнкта […].
Я: […] Не знаю, как вас и благодарить, дорогой учитель […].
Он: Да, но есть одно условие. Евреев не принимают на службу в консерваторию. Надо перейти рубикон.
Я: […] Как вы, зная меня, мои убеждения, делаете мне такое предложение и полагаете, что я могу так поступить?
Он: Но ведь это донкихотство, ведь вы не правоверный, глубоко верующий еврей. Что же вас заставляет упорствовать?
Я: Но разве вы не понимаете, какое ужасное предложение вы мне делаете, и как я должен пасть в Ваших глазах, если бы я крестился.
Он: Итак, вы не хотите мне помочь[…]. А теперь я для вас ничего больше сделать не могу”[28].
Твердость Шора в вопросе крещения еще дважды подвергалась испытаниям. Оба этих факта подробно описаны в его воспоминаниях. В кратком переложении они выглядят следующим образом.
Вопреки всем обещаниям Сафонова не помогать больше Шору, несколько лет спустя он предложил ему место профессора в Петербургской консерватории. Шор был польщен и считал, что поскольку его нежелание креститься было известно Сафонову, то нынешнее предложение на этот раз не будет сопровождаться “известным условием”. Шор уже принимал поздравления от коллег и инспектора консерватории, составлял списки учеников, когда художественный совет консерватории проявил малодушие и побоялся принять в свою среду некрещеного еврея.
В 1901 г. Шор еще раз получил заманчивое предложение по рекомендации известного пианиста и дирижера Александра Зилоти (1863–1945), с которым познакомился в Московской консерватории. Теперь Шору предлагался пост директора Музыкально — драматического училища Московского филармонического общества. Члены дирекции филармонического общества одобрили кандидатуру Шора, посчитав его крестившимся евреем и приняв его жену за чистокровную русскую. Убедительным доводом против еврейства Шора для них послужило то обстоятельство, что тот, преподавая после окончания консерватории в Елизаветинском институте, был представлен к награде и получил большую золотую медаль на Владимирской ленте. “Когда я […] все разъяснил, — пишет Шор, — то он [один из членов дирекции филармонического общества. — Ю. М.], глубоко разочарованный ушел от меня. Этим кончились все предложения, сделанные мне, и которые я не мог принять”[29]. Лишь много лет спустя, после Октябрьской революции 1917 г., Шор получил наконец место профессора Московской консерватории безо всяких условий.
Печальный опыт несостоявшихся назначений не восстановил Шора против русского общества. Преодолевать общественные предрассудки Шору приходилось и ранее. Еще мальчиком, живя в Симферополе и готовя себя к музыкальной карьере, он сталкивался с пренебрежительным отношением к музыкантам, поскольку эта профессия была, по мнению местной провинциальной интеллигенции, одной из малоуважаемых и не пользовалась популярностью.
“[…] в семидесятых и восьмидесятых годах в маленьком провинциальном городе на карьеру музыканта весьма и весьма косились. Наезжих настоящих музыкантов было очень мало, и все представление о музыкантах сводилось или к играющим на свадьбах клейзмерам, или к тем учителям музыки, которые влачили действительно жалкое существование”[30].
Тем не менее, имея перед глазами пример отца, который не останавливался ни перед какими затруднениями, чтобы дать детям тщательное музыкальное образование, Шор научился “плыть против течения”. Это определило его позицию и в вопросе крещения. Более того, став знаменитым и обретя авторитет среди московского бомонда, Шор не раз предпринимал попытки через воспитание музыкального вкуса публики повлиять на ее общий культурный уровень, что привело бы, как он считал, к прогрессу и в еврейском вопросе, в частности к тому, чтобы заслуги личности не ставились в зависимость от “известного условия”. Идеей воспитания музыкального вкуса публики проникнуто создание в 1892 г. Московского трио. Шор писал впоследствии, что, исполняя на своих концертах произведения прославленных композиторов XIX в. Мейербера и Мендельсона (евреев по происхождению), хотя и воспитанных в иной культурной традиции, но сохранивших в своей музыке еврейский колорит, он стремился соединить понятия “прекрасное” и “еврейская музыка”, развивая идею, что российская публика, игнорируя еврейское наследие, тем самым лишает себя одного из сокровищ музыкального мира, а игнорируя евреев — музыкантов, обедняет в первую очередь свою музыкальную культуру. Эти концерты Шора часто предварялись докладами, в которых он пытался приобщить слушателей к высшим духовным сферам, где национальные и религиозные различия между еврейской, русской и европейской музыкой теряли свою остроту.
Посвятив себя артистической деятельности, Шор должен был самостоятельно создавать себе положение в музыкальном мире, не рассчитывая ни на чью помощь, но опираясь исключительно на свое исполнительское дарование и умение отобрать и творчески освоить все ценное в музыке, все то, что способно привлечь внимание публики. Взыскательным музыкальным вкусом, способствовавшим артистическому успеху, Шор обязан не только влиянию Сафонова. В Московской консерватории его дарование развивалось в окружении прославленных профессоров музыки Сергея Танеева[31] и Николая Зверева и под влиянием его гениальных современников — русских композиторов — классиков, таких, как Петр Чайковский и Николай Римский — Корсаков. В консерватории Шор близко общался и с молодыми начинающими композиторами Сергеем Рахманиновым (1873–1943) и Антоном Аренским (1861–1906). Начав концертировать, Шор живо откликался на выходящие из — под их пера произведения, стимулируя их появление. Из эссе Шора, посвященных Рахманинову и Аренскому, известно о двух концертах, где Московское трио выступило с их композициями. Один был дан в 1901 г. в Ялте; на нем ансамбль Шора исполнил трио D-moll Аренского, посвященное Давыдову. Второй состоялся в Синодальном училище церковного пения в Москве весной 1903 г. и был посвящен памяти Чайковского (десятилетию со дня его смерти в 1893 г.); Шор, Крейн и Эрлих исполнили элегическое трио соль минор Рахманинова, написанное на смерть великого композитора.
Совершенствованию таланта Шора способствовало и знакомство с Антоном Рубинштейном, которого можно назвать вторым учителем — единомышленником Шора, так как музыка в глазах Рубинштейна не была лишь профессией, но призванием, “для осуществления которого, — приводит его слова Шор, — каждый музыкант должен стать всесторонне образованным человеком и цельной этической личностью”[32].
Знакомство с Рубинштейном состоялось на первом международном рубинштейновском конкурсе (названном по имени его организатора А. Рубинштейна) пианистов и композиторов в Петербурге 15 августа 1890 г., в котором Шор, по совету Сафонова, принял участие. После конкурса Шор решил обратиться к Рубинштейну с просьбой взять несколько уроков у великого мастера. В течение сезона 1890–1891 гг. Шор несколько раз приезжал к нему.
“Это был самый большой авторитет, и удостоиться его одобрения или послушать, как он понимал произведение, т. е. слушать Рубинштейна с глазу на глаз — было верхом счастья. […] Встретив после нескольких свиданий со мною Сафонова, он сказал ему: ‘Был у меня Шор несколько раз и играл мне очень хорошо’[…]”[33].
В музыке Рубинштейн был для Шора идеалом артиста. Два эссе Шора содержат подробный анализ его творчества. Но личная драма крещеного еврея, ассимилировавшегося еврейского музыканта, декларировавшего, но не воплотившего в своей жизни “цельность личности”, была для Шора примером того, как сковано творчество художника, “приспосабливающегося” к чужой культуре.
“Приспосабливаясь] к ней [культуре. — Ю. М.] и проникаясь ею, они перестают быть самим[и] собою и теряют ту непосредственность и самобытность, которые составляют сущность всякого оригинального дарования. Подобно растению теплых стран, пересаженному в чуждую ему почву, на которой оно не в состоянии достигнуть полного расцвета своего, еврейские гении в атмосфере чуждой национальной культуры не в состоянии развернуть всех своих сил. Гению необходима своя национальная почва. Врастая глубокими корнями в нее и черпая из нее необходимое питание, гений поднимается на такую высоту, [на] которой, оставаясь сыном своего народа, он тем не менее принадлежит всему человечеству”.
По свидетельству Шора, о конфликте между происхождением художника и окружающей его культурной средой, мешающем ему “познать самого себя и выявить все духовное наследие нации, к которой он принадлежат] по крови”[34], ярче и решительнее сказал Рубинштейн в знаменитом афоризме: “Для евреев я христианин; для христиан я — еврей; для русских я — немец; для немцев я — русский. Вобщем ни рыба, ни мясо. Существо, достойное сожаления”. Пессимизм Рубинштейна, считал Шор, был обусловлен внутренним разладом композитора. Внешне порвав с еврейством, он “широкой рукой черпал свои мелодии в еврейских национальных мотивах”[35] (достаточно вспомнить его оперы “Вавилонское столпотворение” 1870 г., “Маккавеи” 1875 г. и “Демон” 1871–1875 гг.); стремясь быть русским, он не нашел прочной опоры в российском обществе; получив европейское музыкальное образование, проведя за границей молодые годы, он оставался для Европы иностранцем. Рубинштейн терял ориентацию, когда пытался целостно определить свою личность и свое положение в современной ему музыке, и поэтому “лишь очень немногие из [его] произведений, — по оценке Шора, — […] обладают законченностью, свидетельствующей о полном внутреннем единстве между композитором и стихией его искусства. Вместо того чтобы поставить в центр своего творчества близкую ему восточную мелодическую стихию и подчинить ей, как основной духовно — музыкальной силе все остальные элементы своего искусства — гармонию, ритмику, форму, и таким образом найти органический синтез национального духа и западноевропейской музыкальной культуры,[…] Рубинштейн, всем своим воспитанием отлученный от своего народа, не только не взялся за осуществление этой задачи, но и отрицал необходимость и возможность разрешения ее”[36].
Проблема органического синтеза волновала Шора не чисто теоретически, ибо себя он тоже считал человеком, приобщенным к трем культурным традициям. Музыкальное образование, полученное им в обеих консерваториях, было ориентировано на европейский стандарт и вкус; общее образование, полученное им в симферопольской гимназии, и русская культурная среда привили любовь к русской культуре, которая стала частью его мировоззрения; сам же Шор считал себя евреем по духу. Без соединения этих трех ипостасей в единое целое Шор не мыслил себя ни как личность, ни как музыкант.
Современная еврейская музыка еще только создавалась усилиями целого ряда молодых композиторов, еще только заявляла свое право на существование, тяготея к фольклорному примитиву и религиозным песнопениям, в которых видела свои истоки, и не могла по — настоящему заинтересовать ни Шора, ни искушенную российскую публику, без которой он не мог существовать. Еврейской публики, способной поддержать своего национального музыканта, практически не существовало, поскольку она еще стеснялась открыто заявлять о своем интересе к еврейской культуре.
Поиск решения данной проблемы вылился для Шора в попытки посредством исполнительского мастерства выразить синтез, отрицаемый Рубинштейном, в котором сольются национальный дух и западноевропейская музыкальная культура. Идеей “духовного объединения” пронизана вся артистическая деятельность Шора, смотревшего на эту задачу как на свою миссию в музыке, где свой личный вклад он рассматривал как вклад национальный. Дошедшие до нас черновики лекций Шора, предположительно написанные в первых годах XX в. — в период его интенсивной концертной деятельности, — отражают его поиск в исполнительском искусстве приемлемого сочетания традиционно еврейского, национально — характерного, исполнения и музыкального интонирования с близкой ему русской и европейской музыкой. Эта проблема занимала тогда умы и композитора Михаила Гнесина (1883–1957), и фольклориста Ивана Липаева (1865–1942), и дирижера и музыковеда Лазаря Саминского (1882–1959), писавших о еврейской мелизматике[37] (искусстве интонирования), отражающей “гибкую и богатую логическими и эмоциональными поворотами речь евреев” и способной “перерабатывать все чужеземное в глубоко национальное одной силой исполнительского творчества — превращения”[38]. Даже Рубинштейн “в области […] исполнения, где непосредственно проявлялись его темперамент, мать, душа, тут он становился неподражаемым, гениальным, […] самим собой”.
К проблеме творчества еврейского художника Шор вновь возвращается спустя несколько лет, после посещения им в апреле — мае 1907 г. Палестины[39]. Поездке предшествовал творческий кризис. Получив признание как музыкант у себя на родине и познав артистический успех за границей (Париж — Лондон — Берлин), куда Московское трио выезжало в сезон 1903 г., Шор начал задаваться вопросом “что дальше?". В записях 1904 года он пишет о некоем “духовном перевороте” в жизни, “переоценке ценностей”, о неудовлетворенности концертной деятельностью[40]. Кризис привел к трем важным вехам в его жизни: идее Бетховенской академии (об этом немного позже), поездке в Бонн на родину Бетховена (1906 г.) и поездке в Палестину.
Впечатлениями от пятинедельной поездки по Эрец — Исраэль Шор поделился в докладе, сделанном в 1908 г. и частично опубликованном на страницах сионистского еженедельника “Рассвет”, выходившего в Петербурге. В докладе он сравнивает “свободный еврейский народ” Эрец — Исраэль, “где учатся свободные дети” и “нашей запуганности и следа нет”[41], с лишенными этой национальной почвы, а следовательно, и смелости самовыражения еврейскими художниками России.
“А если вспомнить нашу гордость — Антокольского[42], который так чудно начал свое художественное поприще народными сюжетами, создавшими ему имя, и который надламывал затем свою душу художника в желании творить из чуждой ему жизни. Стасов[43] — чисто русский человек, не раз заклинал его не отворачиваться от национальных сюжетов. К сожалению, Антокольский это несколько поздно понял и лишь незадолго перед смертью принялся за заканчивание своего старого труда ‘Инквизиция’[44]. Смерть не дала ему вернуться на настоящий путь”.
Шор упоминает в своем докладе и сходную судьбу художника Исаака Левитана (1860–1900), как бы отозвавшуюся на его полотнах грустью среднерусского пейзажа. Левитан, как рассказал Шор, лишь однажды обратился в своем творчестве к еврейской тематике. Узнав о проблесках еврейского культурного возрождения, он посвятил этой теме эскиз — аллегорию: “свет, подымающийся из — за руин Иерусалима и радостно освещающий дорогу возвращающимся из голуса [галута, т. е. стран рассеяния (букв, изгнания) евреев. — Ю. М.] измученным, изнуренным сынам народа — изгнанника”[45].
В Палестине Шор стал свидетелем зарождающейся национальной культурной жизни, увидел, как создаются и множатся еврейские школы, налаживается выпуск еврейских периодических изданий на языке иврит. Дав в начале мая 1907 г. в Иерусалиме лекцию — концерт, Шор обнаружил для себя заинтересованную в еврейской музыке публику. Заметив разницу между духовной и эмоциональной атмосферой в еврейских общинах России и Палестины, Шор в своем докладе горячо выступает за поощрение искусства на исторической родине еврейства, где “национальный склад” еврейского художника сформируется в условиях свободы, не подавляемый, как в России, атмосферой политического и бытового антисемитизма. Лишь свободно развиваясь, национальное станет не частью, но основой творчества; и тогда еврейское искусство не будет носить характер преодоления чужой культуры и “надламываться” ею, но, наоборот, обогащаться, постепенно сливаясь с современной мировой культурой (сохраняя самобытность еврейского духа) и одновременно внося свой вклад в ее дальнейшее развитие.
“Когда — то нас считали народом ‘учителей и священников’. Направим же все наши способности на то, чтобы и теперь оправдать эти старые эпитеты. Побольше веры, энергии, желания и… цель будет достигнута. Пусть — если это окажется возможным — свет действительно исходит из Сиона. Вот в этом смысле я готов считать себя сионистом. Но это сионизм универсальный, касающийся всех людей. Расширим наши рамки, и пусть совершенство еврейского народа послужит на пользу всему человечеству”[46].
Поднимая вопрос о слиянии национальной культуры с мировой, Шор тем самым увидел и сумел сформулировать проблему, превратившуюся в дальнейшем, после провозглашения государства Израиль, в центральную и жизненно важную, — в проблему взаимосвязи и взаимопроникновения еврейской, русской и западной культур в современном Израиле; проблему, породившую две спорные концепции о характере израильской культуры — плавильный котел и киббуц галуйот (параллельное сосуществование в израильском государстве культур из стран рассеяния). Почти столетие тому назад Шор предвидел, что будущее еврейской культуры — в незамкнутости на самое себя, в открытости чужим культурным ценностям и традициям. В дневниковых записях 1924 г. Шор почти слово в слово повторит свои слова из доклада:
“Раскрепощение национальных рамок и приобщение к человечеству, слияние с ним. Внести всюду эту настойчивость, энергию, интенсивность, остроту ума, и этим обогатить другие культуры, обогатить себя достоинствами других наций. Мне эта идея не то чтобы понравилась, но стала частью моего существа”.
Следует коснуться еще одного момента в докладе Шора. В то время в сионизме различалось два течения: сионизм “духовный” (к которому примкнул Шор) и сионизм “политический”.
Последний в определенной мере был вызван энтузиазмом, охватившим часть еврейской общественности после первого сионистского конгресса. Отношение представителей “политического” направления, вложивших свою энергию в налаживание социальной и политической жизни евреев, к “духовным” сионистам было явно скептическим; их считали далекими от реальности и от решения насущных проблем. В этом контексте очень характерно звучит одна из ремарок С. Быховского[47], прокомментировавшего для читателей “Рассвета” доклад Шора о Палестине.
“Как я упомянул выше, г. докладчик не обогатил нас никакими статистическими данными или сравнительными таблицами […]“[48].
Кроме того, Быховский всюду по тексту называет Шора “несионистом”. Однако, в то время как “политические” сионисты видели лишь ближайшее будущее — заселение Эрец — Исраэль и создание там жизнеспособного еврейского общества, их оппоненты считали, что основной целью сионизма должно являться создание духовного центра в Палестине для всего еврейского народа и развитие еврейской культуры в России (такую позицию занимал автор концепции “духовного” сионизма Ахад — ха- Ам, 1856–1927). Эта концепция соответствовала взглядам Шора, признававшего первенство духовной жизни над внешними формами общественного устройства. В его глазах действительную ценность для национального дела имела сознательная и плодотворная культурная работа, “соучастником” которой он хотел себя видеть. На этой почве и произошло его сближение с сионистами Москвы, положившее начало его многолетней деятельности на этом поприще.
Пользуясь своей известностью, вызывавшей благоволение высших чиновников Москвы к устраиваемым им мероприятиям, Шор брал на себя устройство концертов в пользу студен — тов — евреев. Эти концерты проходили в рамках культурных мероприятий, проводимых крупнейшей еврейской культурно — просветительской организацией — Обществом для распространения просвещения между евреями в России.
“Я помню первый такой вечер в Немецком клубе. Впервые еврейский артист получил в Москве разрешение на такой вечер. Настроение приподнятое. На программах красуется виньетка художника Леонида Осиповича Пастернака (‘Три музыканта’, картинка которую я подарил Бецалелю), с которым мы очень подружились […]. Зал переполнен. Концертная программа прошла успешно”.
Один из подобных концертов, посвященный памяти бывшего председателя московского отделения Общества, юриста Владимира Гаркави (1844–1911), описан в отчете Общества за 1911 г.: “Благодаря участию в концерте “Московского трио” художественный и материальный успех концерта превзошли все ожидания”.
Стремление поощрять еврейское национальное музыкальное творчество приводит Шора к участию в учреждении Общества еврейской народной музыки 64 (зарегистрированного в Петербурге 4 марта 1908 г.), наряду с композитором и музыковедом Шломо Розовским (1878–1962), председателем Общества Давидом Черномордиковым (1869–1947), основоположниками еврейской музыкальной фольклористики Зиновием Кисельгофом (1876–1939) и Йоэлем Энгелем (1868–1927). Учредители Общества “задумали объединить деятелей музыкального искусства для собирания, исследования и разработки образцов еврейского музыкального творчества, чтобы несомненно обогатить мировую сокровищницу звуков”. Шор становится членом правления Общества, при его московском отделении (возникшем год спустя) он создает смешанный хор и выступает в дискуссиях о характере национальной музыки. В 1916 г. в третьем январском выпуске сионистской газеты “Еврейская жизнь” (Москва), заменившей закрытый в 1915 г. петроградский “Рассвет”, упоминается доклад Шора “Евреи в музыке и музыка у евреев”, зачитанный им на закрытом собрании Общества еврейской музыки 29 декабря 1916 г. и вызвавший оживленные прения.
И все же, несмотря на активное участие в еврейских культурных начинаниях, Шор предпочитает более широкое отношение к культуре, рамки национального кажутся ему слишком узкими: “сионизм универсальный” так определил Шор свое кредо в докладе 1908 г.; “идея ‘человечества’ — вот что меня всегда привлекало”[49] — продолжит он в дневниках 1924 г.
В 1905 и 1906 гг. Шор обдумывает создание Бетховенской академии (позже он предпочел более скромное определение — Бетховенская студия), музыкально — просветительского учреждения, которое будет пропагандировать идею “духовного всечеловеческого братства”, воплощенную в музыке Бетховена, которого Шор боготворил не только как композитора, чьи произведения составляли основную часть репертуара Московского трио, но и как величайшего гуманиста своего времени.
“Революция 1905 года, грандиозная всеобщая забастовка и волна общего братства, едва успевшая прокатиться по нашей необъятной стране, так грубо [и] жестоко подавленная карательными отрядами, оставили неизгладимый след в душе. Идея всеобщего братства, высший идеал Бетховена был попран насильниками, и с этим мириться не хотелось”[50].
Вера Шора в заразительность личного примера, которым был для него Бетховен, не изменявший своим идеалам под давлением обстоятельств, определит в дальнейшем цели Бетховенской студии — “в наше время, когда колеблются устои, поддерживающие человека”, опорой ему может послужить чужой индивидуальный духовный опыт.
“[…] Дух Бетховена точно веет надо мною и помогает мне разбираться в себе самом, в своих силах и средствах”[51].
Год спустя, побывав на родине Бетховена, Шор укрепляется в мысли, что изучение бетховенского опыта и наследия поможет найти ключ к пониманию пережитых и переживаемых бурных событий и способствовать выходу из духовного кризиса общества, разочарованного — после кратковременного опьянения “освободительным движением” 1905 г. — в том, что в его силах изменить жизнь страны.
Одним из первых прообразов Бетховенской студии был проект Общества “Музея музыки”. Цель Общества — демонстрация музыкальных произведений, “сопровождаемая философскими, научными и историческими толкованиями”[52], а также проведение концертов, лекций и музыкальных выставок. К сожалению, архив Шора не располагает сведениями (кроме проекта устава Общества) о реальной деятельности “Музея музыки”, и можно предположить, что этот проект Шора остался нереализованным.
В 1911 г. Шор осуществляет наконец свою давнюю мечту, создает Бетховенскую студию (Москва, Крестовоздвиженский пер., 7), получив материальную поддержку богатого филантропа Давида Высоцкого (1860 — после 1925).
Сравнительно за короткий срок музыкальное учреждение Шора завоевало всеобщее признание, и не в последнюю очередь благодаря творческому, неформальному подходу к музыке. Эта особенность студии рельефно выступала на фоне господства техницизма и формализма в музыке. В своей студии Шор устраивал циклы исторических концертов (первый состоялся в октябре 1912), концерты — лекции и музыкальные вечера; при ней существовало издательство, выпустившее в 1914 г. “Музыкальный справочник” и “Музыкальный альманах — справочник” (под ред. Евсея Шора[53]). В студии Шор намеревался сочетать занятия музыкой с музыкальным образованием и воспитанием посредством музыки, в основе которых лежала идея, что “ученье дает человеку знания, а воспитание приводит к [его] духовному развитию или даже перерождает его”. Шор предлагал не ждать “прогресса” общей культуры и нравственности общества, а способствовать ему и начать процесс совершенствования каждой личности, “углуби[вшись] в духовную жизнь Бетховена”, которая, как записано в программе студии, “глубоко поучительна, как соединение нравственного и художественного совершенства”[54].
Отзывы современников Шора свидетельствуют об исключительной силе и впечатляемости его бетховенских концертов. Проиллюстрирую это письмом одного московского учителя, А. Ермолова, к его знакомому И. Пустовалову, которое сохранилось в архиве Шора.
“[…] Третьего дня вечером затащен был одним из моих кол лег на лекцию — концерт Шора на тему: ‘Бетховен и его творчество’. Слыхал я не раз Бетховена в исполнении Зилоти, других пианистов разных, многих знакомых мужчин и дам, слывших хорошими пианистами, и… Бетховена прямо невзлюбил. А третьего дня вернулся домой, как ошалелый, положительно не был в состоянии приняться за срочную работу над тетрадями, и часа через два после прихода — заметь: через два часа и дальше все росло это состояние — очнулся, как ото сна, от наплыва дум и чувств, переполнивших душу. Лицо было мокро от слез, и так стало жаль всего погибшего хорошего, так куда — то потянуло вверх от показавшейся смрадным гноищем земли, так захотелось отдать за кого — то, за что — то прекрасное, жизнь…”[55]
Понимая основную художественную идею бетховенской музыки как стремление к прекрасному и возвышенному, Шор, как видно из приведенного письма, сумел увлечь ею даже среднего, “немузыкального” слушателя. В нем жил подлинный популяризатор.
Бетховенская студия как бы продолжила уже начатую воспитательную работу Шора с целью поднять культурный уровень широких слоев российского общества, предрассудки которого помешали когда — то его академической карьере. На целях и задачах студии сказалось и увлечение Шора просветительскими идеями “духовного” сионизма, призывавшего к еврейскому национальному возрождению и настаивавшего на том, что только в этом случае можно быть уверенным в будущем нации. Студия явилась первой серьезной попыткой Шора создать “школу воспитания души”, собрав воедино ранее разрозненный опыт лекций — концертов и опираясь на идеологию, почерпнутую в сионизме. Однако достижения студии не оправдали крупномасштабных замыслов Шора, и он впоследствии признал утопичность ее целей, что остудило его идеалистический энтузиазм на длительное время, а именно до 1927 г., когда, переехав в “молодую и подающую надежды”[56] Палестину, он принялся за создание Института музыкального образования и воспитания (1936–1942) в Тель — Авиве. Вспоминая студию, он пишет:
“Я хотел видеть тотчас же результаты своей работы, т. е. чтобы под влиянием искусства мы сами и с нами наши ученики и слушатели стали бы лучше. […] мечтатель часто верно определяет будущее, но он не хочет дождаться его. Он хочет, чтобы будущее тотчас же наступило, будучи им ускорено. То, на что природе нужны тысячи лет, он хочет свершенным во время своей жизни”.
В 1917 г. студия прекратила свою работу. На этом завершился дореволюционный этап музыкально — общественной деятельности Шора. После Октябрьской революции для него и для всего российского еврейства началась новая эпоха.
II
Революцию и последовавшую за ней коммунистическую диктатуру Шор воспринял противоречиво. С одной стороны, его привлекала коммунистическая идея всеобщего братства народов. К тому же новая национальная политика сделала возможным для него преподавание в консерватории. С 1918 г. Шор ведет классы фортепиано и камерного ансамбля в Московской консерватории. В 1919 г. ему присваивают звание профессора. С другой стороны, его угнетало насилие, сопровождавшее приход и пребывание у власти большевиков. Однако он считал, что террор — “недоразумение”, которое можно исправить, если открыть глаза правительству на творящийся произвол. В письме своему другу, пианисту и композитору Эмилию Розенову (1861–1935), Шор описывает одно из таких “недоразумений”:
“В Москве был фабрикант красок, Файвел Маркович Шапиро. Он был в числе арестованных в [19]21 году в Москве членов сионистской конференции. Вот когда я начал особенно усиленно хлопотать. Я доказывал Курскому абсурдность обвинений. Говорили, что у сионистов нашли пироксилиновые шашки и т. п. Во время концерта, посвященного памяти Герцля, на устройство которого я получил разрешение от Каменева, я публично с эстрады заявил 2000-ной публике, что правительство введено в заблуждение, что все обвинения ложны и что я приглашаю присутствующих выразить сочувствие заключенным. Вся аудитория поднялась как один человек […]. Запели Атикву[57]. До сих пор не понимаю, как это мне даром прошло”[58].
Как известному музыканту, лояльно относившемуся к новому режиму, Шору подобные акции действительно “сходили с рук”. Более того, он и руководимое им “Московское трио” были постоянными гостями на культурных мероприятиях в Кремле.
“[…] засевшие в недалеком Кремле большевики […] приглашают в Кремль трио ‘Шор, Крейн и Эрлих 821 и слушают музыку чуть ли не со слезами на глазах”[59].
Одно из подобных мероприятий, 23 апреля 1920 г., описано в воспоминаниях Шора.
“[…] был день рождения Ленина[60]. Ему минуло 50 лет, и ‘партия решила торжественно отпраздновать этот день, тем более, что сам Ленин говорил: ‘Стыдно жить после 50 лет.‘ […] была собрана вся головка партии. На эстраде — все комиссары с Троцким[61] во главе, за столом президиума — генеральный секретарь Сталин[62]. Рядом с ним Ольга Дав[ыдовна] Каменева, Каменев и др. — само собой разумеется, что без музыки не могло обойтись такое собрание. Остановились главным образом на инструментальной музыке. Исай Добровейн как пианист, квартет “Страдивариус" и я с Д[авидом] Крейном [исполнили] Крейцерову сонату Бетховена”.
Близость к кремлевскому руководству неоднократно использовалась Шором для подачи просьб и прошений за сионистов и несионистов, преследовавшихся за инакомыслие и деятельность, не отвечавшую генеральной линии правительства. Дневники Шора 1923 г. пестрят пометками следующего содержания:
4 ноября 1923 г.: “[…] А тут еще приговор по Морскому Ведомству, где к смертной казни приговорены 10–12 человек. Надо хлопотать. Я написал Каменеву и молю о смягчении. Есть некоторая надежда, так как 7‑го празднование 6‑й годовщины революции”.
8 ноября 1923 г.: “[…] Опять смертные приговоры в Петропавловске. Дело у Петра Гермогеновича. Надо что — нибудь сделать. […] Я дал письмо Смидовичу[63], в котором пишу, что пора отменить смертные приговоры. Как он отнесется, не знаю. 1„.] Смидович отнесся как всегда хорошо. Надеюсь что, быть может, удастся спасти 4‑х, напрасно приговоренных к смертной казни.”[64]
12 ноября 1923 г.: “[…] До 12 час[ов] ночи я все порывался в Кремль. Тяжело и трудно просить, а необходимо”.
3 декабря 1923 г.: “[…] Каменев был немного утомлен и расстроен. Меня выслушал со вниманием и обещал принять во вторник. Просил его также […] и за право свободного преподавания еврейского языка. […] Я поиграл Шопена и после ужина удалился”[65].
В 1924 г. Шор обратился во ВЦИК и лично к Каменеву с просьбой заменить ссылку арестованным членам центрального бюро хе-Халуца[66] высылкой в Палестину. По рекомендации Каменева, как пишет Шор в дневниках 1924 г., советское правительство заменило ссылку в Сибирь высылкой (без права возврата) в Палестину[67]. В 1925 г. лидер московских сионистов Ицхак Рабинович (1887–1971) и Шор ведут переговоры с правительством Советской России о прекращении гонений на сионистов и легализации алии[68]. Акциями защиты сопровождалось и участие Шора в работе открывшегося с 1918 г. театра- студии на иврите “Габима”, под руководством актера и режиссера Нахума Цемаха (1887–1939), где некоторое время он читает лекции по музыке; для тех артистов театра, которые желали ознакомиться с теоретическими основами музыкальной дикции и музыкальной интонации. В 1924 г. вместе с группой деятелей культуры и ученых Шор участвует в акции протеста против преследования языка иврит. В небольшом эссе о “Габиме”, написанном в 30‑е годы, Шор вспоминает:
“[…] нами были предприняты всевозможные хлопоты за язык. Решили подать меморандум правительству. К участию в его составлении были привлечены самые разнообразные общественные деятели: Каменецкий[69] и Тубянский из Петрограда, Ген /учитель/ из Киева, д-р Л. Быховский, Садин Гольберг, поэт Гофштейн[70], Гнесин и я. Решили подать меморандум власть имущим и объяснить, что только “недоразумение" могло создать запрещение языка”[71].
Отношение Шора к коммунистическому террору как к “недоразумению” не претерпело значительных изменений за период 1919–1925. Поразительно упорство, с которым он верил в силу убеждения словом; на протяжении шести лет он ходил в Кремль, доказывал, убеждал и просил. “Последние пять — шесть лет целиком отданы общественности”, — писал Шор Розенову[72].
Этот период сам Шор определил как духовный кризис. Музыкально — преподавательская деятельность его практически ограничена стенами Московской консерватории, концертная — из служения искусству превратилась в обязанность “придворного” музыканта, пользующегося ’’сентиментальными слезами ‘великих мира сего, чтобы выхлопотать помилование для невинно осужденных”[73]. В это время значительно ухудшилось и материальное положение Шора. Сбережения, накопленные им за 40 лет концертной деятельности, пропали во время революции. Консерватория платила мизерное жалованье, которого едва хватало на жизнь.“[…] если мне приходилось из — за погоды или боли в ноге брать извощика, — продолжает Шор в письме к Розенову, — то мне приходилось уплачивать ему столько, сколько я получал за несколько часов работы”[74]. Привыкший к не роскошной, но достаточно обеспеченной жизни, Шор столкнулся с проблемой физического выживания, когда “2 пуда муки и полпуда сахару […] было целое богатство”. В короткий срок “от ужасных условий […] тогдашней действительности”[75] Шор теряет одного за другим родных и близких ему людей. 4 марта 1920 г. от воспаления легких умерла его жена. В один день с ней умирает брат Шора Иосиф, заразавшись сыпным тифом от своих пациентов. Год спустя умирают в Симферополе отец и мать, “пережив все ужасы Крымской эпопеи, когда там свирепствовал Бела Кун”[76]. Старший брат, Лев, проработав 40 лет преподавателем музыки в Пензе, вернувшись с семьей в 1923 г. в Москву, через три месяца заболевает и умирает от паралича сердца. Давид Шор содержит в клинике его душевнобольную жену. В его доме нашла приют и шестнадцатилетняя дочь брата, оставшаяся практически сиротой. Третий брат умирает в это же время в Симферополе, оставив вдову с тремя детьми, заботу о которых принял на себя Давид Шор. “[…] я никогда не брал, а всегда только давал […] события последних лет вынудили меня подумать о себе”. Шор всерьез засобирался в Палестину, надеясь обрести там удовлетворение от достойного применения своих опыта и знаний музыканта и педагога, В это тяжелое время в Москве он образовал союз музыкантов, в который вошли кроме самого Шора Энгель, Крейн, Гнесин и Мильнер, “для создания будущей музыкальной акаде мии в Палестине.”
“Не легко оторваться от тех глубоких корней, которые пущены в течение 40 лет, сознавая, что ты так нужен там, что много осталось людей которым разлука тяжела, что покидаешь много близких, дорогих, с которыми так много пережито. С другой стороны, я сознаю, что так надо, что необходимо остаток своих дней, свои знания и способности отдать на создание учреждения, деятельность которого явилась бы объединяющим элементом всего побережья Средиземного моря”[77].
III
20 октября 1925 г. Шор прибыл в Палестину. В Яффском порту его встречали друзья и единомышленники: известные сионистские деятели, бывшие москвичи, Лев Шенкарь, Исаак Гольдберг 110111, Лев Быховский, а также Энгель 112, прибывший в Эрец — Исраэль годом раньше.
1925 г. — второе посещение Шором Палестины, предшествовавшее его окончательному переселению в Эрец — Исраэль в 1927 г. вместе с дочерью Евгенией и внучкой Ириной. Прибытие такого видного музыкального и общественного деятеля в Палестину в 1925 г. было крупным событием для маленькой страны; Шор окружен вниманием, дни его наполнены встречами со знаменитым пионером возрождения языка иврит Элиэзером Бен — Йегудой, который освещал в газете “Хашкафа” еще первый приезд Шора в Палестину 113, с бывшим московским, а теперь палестинским композитором Шломо Розовским 114, с семьей сионистского деятеля Виктора Якобсона 115, с Моше Хопенко[78], бывшим петербуржцем, а в двадцатые годы преподавателем по классу скрипки в музыкальной школе консерватории “Шуламит”[79].
Приезд Шора в Палестину связан с культурной миссией и состоялся с благословения Каменева, оформившего этот приезд как командировку от Наркомпроса профессора Московской государственной консерватории, в задачи которого входило расширение культурных связей между Россией и Палестиной. Шор, приехав в октябре 1925 г., развернул активную деятельность, знакомясь с музыкантами и музыкальной жизнью Палестины.
В декабре 1925 г. Шор посещает киббуц Эйн — Харод, где Гистадрут[80] устраивает концерт, празднуя пятилетие своего существования. В программе концерта: произведения Бетховена в исполнении квартета Егуды Чертока. Музыкальная жизнь того времени имела специфические черты: так, члены квартета Чертока были не только музыкантами, но и рядовыми членами киббуца, не освобождавшимися от тяжелой работы. Шора удивила коммунистическая практика совмещения служения искусству и работы в киббуце:
“На следующий день я имел беседу с Егудой Чертоком. Мне хотелось выяснить, нельзя ли закрепить артистов за музыкальной работой, освободить их от тяжелых работ, которые вредно отражались на их игре, и поручить им обслуживать квартетными исполнениями весь Эмек. “Кто же будет исполнять за них тяжелую работу? ” — ответил мне с непередаваемым раздражением Черток — “А Эмек [Изреэльскую долину, где располагается киббуц. — Ю. М.] мы и так обслуживаем музыкой.” В этом ответе отразилась психология истинного халуца, стремящегося, в отличии от буржуазного человечества, соединить культурную деятельность с самой тяжелой работой”".
Сам Шор, как музыкант — профессионал, всегда был далек от мысли, что настоящее искусство (особенно такое специфическое, как музыка, требующее ежедневных многочасовых занятий) можно без ущерба совмещать с тяжелым трудом, который не только истощает тело, но и губительно сказывается на творчестве. Но знаменательно, что многие высказывания Шора, разбросанные в письмах того периода, свидетельствуют о том, что он с энтузиазмом приветствует подобную жертвенность музыкантов, как и они, увлеченный идеей молниеносного возрождения на земле предков и полноценной культурной жизни, и хозяйства.
Таковы взгляды Шора 1925–1926 гг., полные надежд “музыкой завоевать все побережье Средиземного моря” и халуцианских иллюзий, которым впоследствии суждено претерпеть коренные изменения. Восторги того времени сменятся разочарованиями, но это произойдет позже, после ряда попыток создать профессиональную основу музыкальной культуры в Палестине.
Стремление Шора объединить музыкальное искусство и науку о музыке в одном музыкальном учреждении было его “жизненной идеей”. Идея музыкального института имела множество воплощений как в Палестине, так и в России. Достаточно вспомнить историю создания Бетховенской студии или идею “Музея музыки". Основные направления музыкально — просветительской работы в этих заведениях связаны с вопросом внедрения музыкальной культуры, под которой Шор понимал не только обучение музыке как специальности, но и просветительскую деятельность в широких слоях населения, которая создаст основу музыкальной культуры общества. Мечта создать институт, подобный Бетховенской студии, не изменив своего основного смысла, переместилась в иную область приложения и осуществления ее; теперь Шор стал связывать ее с возрождением Эрец — Исраэль, ибо в то время земля предков видится ему самой благоприятной почвой для реализации его замысла.
В письме к Габриловичу Шор пишет:
“В Палестине, особенно в Тель — Авиве существует ряд музыкальных школ, где для занятий музыкой выделяется очень много часов. Все эти заведения, пусть бы их и называли консерваториями, не могут делать ничего другого, как только плодить все больше и больше новых музыкантов, которые увеличивают ряды профессионалов в иллюзорной надежде сделать мировую карьеру. Но нет ни одного заведения, которое бы подготовило основу для истинной музыкальной культуры. Таким заведением должен явиться мой институт”. [Перевод с немецкого мой. — Ю. М.]
И именно второй приезд Шора в Палестину стал не только более подробным знакомством с ее возможностями, но и подготовкой почвы для осуществления идеи создания института. В
1926 г. возникает Институт для распространения музыки в на роде (по адресу: ул. Пинскер, 10 — домашний адрес Шора), при котором Шор организовывает ряд концертов — лекций с просветительскими целями. Вскоре подобные мероприятия проводятся все реже и реже, пока в 1929 г. не исчезают совсем. Первый неудачный опыт создания музыкального института развеял иллюзии Шора как в отношении музыкальных запросов палестинской публики, так и в отношении его планов быстрого создания базы для музыкального института.
“Я не знал тогда условий жизни и работы того “побережья Средиземного моря”. Вместо того, чтобы начать осуществлять большое дело, пришлось начать музыкальную работу как бы с самого начала”[81].
В записках Шора того времени сквозит горечь разочарования, он пишет о равнодушии публики к серьезным музыкальным мероприятиям (“Большая тель — авивская публика занята по вечерам. Она может наполнить синема, концерты Вертинского и т. п. Ей не до концертов серьезной музыки, ей не до искусства вообще”.), о предпочтении ею зарубежных артистов отечественным: “Артистический ‘тоцерет ха — арец’ [отечественное производство. — Ю. М.] не признается и не пропагандируется. Публика предпочитает импортных артистов”[82]. Наряду с равнодушием публики еще одно обстоятельство способствовало неуспеху лекций — концертов Шора того периода — это арабские вооруженные восстания в 1929 г., создавшие атмосферу страха и растерянности, которая не располагала к посещению концертов или лекций о музыке.
Параллельно с Институтом для распространения музыки в народе по инициативе Шора в 1926 г. возникает Союз музыкантов Палестины, объединивший всех музыкантов страны. Председателем Союза становится сам Шор, а почетными членами дирижер Мордехай Голинкин[83] и Габрилович, поддерживающие его своим авторитетом. 11 и 12 июня того же года проходит первый съезд, на котором было решено, что всякое обращение к музыкантам помимо Союза будет считаться выражением недоверия ему и незаслуженным оскорблением. Объединив музыкантов на короткое время, Союз распался.
Провал первого созданного им в Палестине института и неудача с Союзом не охладили энтузиазма Шора. В 1927–1929 гг. он принимается за создание материальной базы для следующего проекта, основав при содействии евреев Европы Общество поддержки музыкальной жизни в Палестине (World Society for the Promotion of Jewish Music) — “Hanigun”, — филиал которого находился в Тель — Авиве по адресу: ул. Пинскер, 10, и общество “Друзей еврейской музыки”, которые были призваны материально поддержать профессиональных музыкантов Палестины, создав им условия для свободного творчества. Шор обращается за помощью и к американским организациям, вернее, лично к Габриловичу с просьбой через его связи оказать материальную поддержку Розовскому и Голинкину, “которые в долгах и без работы”. Поняв, однако, что ему не найти материальной поддержки для такого “мелкомасштабного” предприятия, Шор находит другое решение. Тогда же, получив поддержку Габриловича, обладавшего влиянием в американском Обществе для распространения музыки в Палестине (Society for the Advancement of Music in Palestine), почетным председателем которого был банкир и меценат Феликс Варбург 126127 (также член Американского еврейского комитета), Шор основывает второй институт — Институт музыкальных наук, директором которого становится Голинкин. Институт финансирует научно — исследовательскую работу Розовского, в результате которой вышла книга “Музыка Пятикнижия, тропы и их музыкальный анализ”. В начале 30‑х годов Шор испытывает разочарование от деятельности института, ибо основные ресурсы уходят на содержание оперной труппы Голинкина: “Денег нет ни на концерты, ни на махон [институт. — Ю. М.], ни на музыкальную работу”[84].
Одновременно с этим Шор работает куратором детских садов Тель — Авива, что позволяет ему в поисках талантов устраивать прослушивания музыкально одаренных детей; он преподает и в музыкальной школе Бейт — Левиим, учителями в которой работают С. Гартер (он же руководитель школьного оркестра), М. Левит и М. Рабинович (руководитель хора). К этому времени относится и лекционная работа Шора под эгидой Еврейского университета в Иерусалиме. С 1929 по 1935 г. Шор разъезжает с лекциями — концертами по всей стране, не оставляя надежды подстегнуть интерес к серьезной музыке у населения. Провинциальная публика тепло принимает Шора; в этот период изменилось отношение к его лекциям и в крупных городах: “Лекции происходили во всех городах страны: в Иерусалиме, Тель — Авиве и Хайфе, и посещались весьма усердно”[85]. В письме к Габриловичу (31.08.35) Шор описывает свои впечатления от лекционных турне:
“Сейчас моя лекционная работа имеет глубокий отклик в стране. Сотни, даже тысячи людей, переживают вместе со мною не только наслаждение от музыкальных произведений, но нечто большее: анализ музыкальных произведений позволяет нам глубже проникнуть в тайники нашего искусства, и глубже, и сосредоточеннее испытать на себе преображающее действие великих явлений музыки. Лекции становятся все популярнее: колонии по собственной инициативе начинают устраивать их”.
Оживлению культурной жизни способствовал общий хозяйственный подъем в Эрец — Исраэль во второй половине 30‑х годов, связанный с массовой репатриацией из Германии. Для немецкого еврейства после прихода к власти нацистов в 1933 году Палестина стала главным убежищем. В 1935 году, когда были провозглашены Нюрнбергские законы, лишившие гражданства немецких евреев, Палестина приняла наибольшее в те времена количество репатриантов, что имело для становления Эрец — Исраэль большое экономическое и политико — стратегическое значение; недаром ту эпоху принято называть термином “медина ба дерех” (“государство в пути”).
Лекции Шора, хотя и выступавшего от имени Еврейского университета, поддерживались американскими организациями, благодаря настойчивости Габриловича.
“Габрилович проникся сознанием необходимости распространения музыки в народе в тех формах, в каких я с первых дней своего пребывания в Палестине пытался делать это; и если вскоре затем Еврейский университет в Иерусалиме включил мою музыкально — просветительскую деятельность в план своей работы и предоставил мне возможность от имени университета давать мои лекции — концерты в городах и колониях нашей страны, то это явилось результатом настойчивой инициативы Осипа Габриловича и той материальной поддержки, которую он оказывал университету в течение нескольких лет. Забота университета о музыкальном просвещении страны оборвалась в тот момент, когда тяжелая болезнь Габриловича лишила его возможности давать университету соответствующие средства”.
Лекционная деятельность Шора в период 1929–1935 гг. велась в рамках музыкального факультета, созданного Шором в 1929 г. при Еврейском университете. Совместно с Институтом распространения музыки в народе при музыкальном факультете было создано университетское хоровое общество, давшее несколько концертов. На одном из таких концертов выступала виолончелистка Раиса Гарбузова, приглашенная Шором, хорошо знавшим ее еще в Москве.
В 1936 г. музыкальный факультет прекратил свое существование, не получив нигде поддержки. Сознавая значение и полезность такого факультета, Шор обращался с письмами к доктору Егуде Магнесу (1877–1948) (в то время президенту Еврейского университета), предлагая продолжать свои выступления и лекции бесплатно, но Магнес не счел возможным для университета принять такую жертву от профессора Шора. Тогда Шор вновь начинает переписку с Америкой и обращается к комитету, заведующему средствами для просветительской работы, оставленными по завещанию Габриловича. Чем завершилась эта переписка, не известно, но музыкальный факультет не возобновил свою работу.
Создание обществ, союза, двух институтов и музыкального факультета, успешная лекционная работа — все это шаги, приближавшие Шора к его мечте об институте музыки, окончательный вариант которого возник в 1936 г. Речь идет о появлении крупнейшего творения Шора и как бы венчающего его музыкально — педагогическую и общественную деятельность в Палестине — Института музыкального образования и воспитания в Тель — Авиве. Создание института Шор воспринимал как свой долг перед народом — способствовать возрождению еврейской культуры.
“Только на еврейской почве и среди подлинной еврейской культуры может свободно развиваться еврейское творчество и — после многовекового перерыва — вновь создаться еврейское музыкальное искусство”[86].
В 1936 г. в газетах “Ха — арец” (18.09.36) и “Давар” (19.09.36) публикуется объявление Шора о записи желающих в Институт музыкального образования и воспитания; в то же время выходит брошюра института с перечнем курсов, лекций и условий обучения. Программа обучения составлена подобно университетской: первый уровень обучения (3 года), второй уровень (диплом), третий уровень — для желающих совершенствоваться далее.
Поле деятельности института видится Шору теперь несколько иначе, чем в 20‑е годы: акцент делать не на просветительской работе среди взрослых, а на “воспитании подрастающего поколения”, но задача института неизменна: “Школы Палестины главное внимание обращают на изучение игры на разных инструментах, а между тем центр тяжести должен быть в изучении музыки. […] Такая академия музыки является насущной потребностью”[87].
При институте были созданы общеобразовательные музыкальные курсы: по истории и теории музыки, по изучению музыкальной литературы. Институт ставил перед собой не только чисто практические задачи; в его планы входило создать одно общее учреждение, авторитетное в глазах всех музыкальных деятелей, контролирующее музыкальную жизнь страны и способное объединить разрозненные силы всех музыкальных школ, дабы восполнить пробелы в отдельных музыкальных образовательных программах. За время существования института Шору пришлось решить и ряд практических задач: создать нотный фонд, заказать книги для музыкальной библиотеки, выписать музыкальные инструменты. К деятельности института можно причислить и попытки Шора создать фонд стипендий для поддержки молодых талантливых музыкантов по типу того, который был при Бетховенской студии.
Появилась возможность занять музыкантов, обеспечив их жалованьем. При институте была создана и музыкальная школа. Известны имена некоторых учеников Шора: талантливая пианистка Шуламит Шафир, Рут Каценельсон, Захава Идельзак, Софи Кремер, Това Бородецки. Занятия с учениками велись на частных квартирах. У института не было своего помещения, почтовым адресом института был домашний адрес Шора (ул. Пинскер, 8); запись в институт и музыкальную школу проводилась на его квартире.
Институт, задуманный как научно — просветительское учреждение, функционировал до 1942 г. (года смерти Шора), то сворачивая, то активизируя свою работу. Основной причиной нерегулярной деятельности института была его слабая материальная база. Не имея государственной поддержки, он не смог существовать на средства, поступающие от работы музыкальной школы, равно как и на деньги, добытые хлопотами одного Шора. Трудности института в конце 30‑х начале 40‑х годов усугубили напряженные предвоенные и военные годы, а также почтенный возраст и болезнь его руководителя.
Музыкальная школа оказалась более жизнестойкой, чем институт. В 1943 г., продолжая дело отца, ею руководил Евсей Шор, по его инициативе ей было присвоено имя Д. С. Шора. Но, несмотря на титанические усилия, 1943 г. явился последним, когда была объявлена запись в музыкальную школу (опять же по адресу: ул. Пинскер, 8). С 1949 г. Е. Шор начинает хлопотать о возрождении института в том виде, в котором его оставил отец. Он ведет переписку с “Керен ха-Ясод” и Львом Шенкарем, к тому времени занимавшим высокий пост в Гистадруте, в надежде получить финансовую помощь для строительства Института музыкального образования и воспитания в Холоне. Институт, обосновавшись на ул. Соколов, начинает работать в начале 50‑х годов, представляя собой учреждение с довольно твердой материальной базой, с более или менее постоянным преподавательским составом, организующее ученические концерты, симпозиумы, фестивали, отмечающее свои юбилеи. Во главе института вплоть до 1974 г. стоит Евсей Шор 136. После его смерти и до 1980 г. временным директором становиться его жена Надежда Рафаиловна. В эти же годы институт теряет свой прежний статус, постепенно превращаясь в обычную музыкальную школу, которая существует и по сей день по прежнему адресу института: Холон, ул. Соколов, 85.
В истории музыкального развития Эрец — Исраэль вклад Давида Шора оставил неизгладимый след. Именно здесь, в стране, которой он посвятил вторую половину своей жизни, наиболее полно реализовалось присущее ему культурное “миссионерство”, лежавшее в основе идеи музыкального воспитания. В своей жизни он во многом осуществил искомый им синтез родной и чужой культур, и не только как талантливый музыкант и педагог, но и как гуманист, последовательно воплощавший на практике свои человеколюбивые идеи.
Глава 1. Что случилось в ноябре 1917‑го, когда большевики только заняли Москву
I
Неожиданно для себя самого, для близких родных и знакомых, я тяжко заболел. Болезнь приняла столь серьезный характер, что смерть казалась неизбежной, но благодаря искусству прекрасных врачей, тщательному заботливому уходу и здоровому организму я был возвращен к жизни цел и невредим, не подозревая о грозящей мне опасности. Я был спокоен с первых же дней болезни, вокруг меня воцарилась какая — то тишина. Душевный покой ничем не нарушался. Мысль и чувства витали на какой — то высоте, откуда все казалось далеким, сказалось ли в этом влияние наркоза, или это было результатом душевных переживаний перед болезнью, но все получило какое — то особенное значение. Житейское отступило перед чем — то более важным, и сама болезнь казалась благодатной и нужной. С какой- то необычайной легкостью душа возносилась точно на крыльях в высшие сферы. Все существо мое преисполнено было признательности и любовной благодарностью ко всем, окружающим меня. Я употреблял огромные усилия, чтобы скрыть причиняемые мне страдания или перевязках, не желая огорчать врачей и близких. Я старался по возможности быть кротким и нетребовательным, поскольку это было возможным. Бессознательно перед лицом смерти весь внутренний мир мой повышался. Я в полном смысле слова переживал очищающее действие страдания. Самое опасное и грозное время болезни было для меня временем исключительных переживаний. Я жил в каком — то особом мире. Если это потусторонний мир, то как же он прекрасен! Мысль о смерти не приходила мне в голову, и я только думал о том, как бы сохранить то душевное состояние, которое меня охватило.
Задолго до болезни какое — то внутреннее недовольство меня постоянно грызло, но особенно обострилось оно за последнее время, когда всеобщее благоволение друг к другу мартовских [февр.][88] [89]' дней сменилось усиленной классовой рознью и, наконец, ужасами октябрьских дней. Политический вихрь, способный с такой легкостью, точно пыль, смести веками накопленные [культурные] богатства, обнаруживший столько жестокости и злобы в человеческом сердце, сводил как бы на нет всю деятельность искусств и наук. Вывод напрашивался сам собой: вина не в науках и искусствах, а в нас, их представителях, недостаточно сеявших блага в широкие массы, [и в тех условиях, кот. этому мешали]. Отсюда, возможно, и то внутреннее недовольство, не дававшее покоя. Ни артистическая, ни педагогическая деятельность не удовлетворяли, хотелось чего — то иного и большего. А между тем как безгранично] [прекрасна] и, я сказал бы, свята деятельность артиста, что может быть выше и прекраснее проповеди красоты? Какое высокое удовлетворение испытываешь, когда через тебя раскрываются слушателю дивные красоты произведений лучших творцов музыки. Не менее прекрасна и скромная педагогическая деятельность, когда при более близком общении юные сердца чутко воспринимают тонкости и красоты искусства, раскрываются для всего доброго и прекрасного. Тысячу раз благословляю я провидение, направившее меня на этот путь, и как он ни тернист и ни труден, я никогда не променял бы его ни на какой другой.
Внутреннее недовольство мое и было отражением сознания несоответствия высоты нашего призвания с тем, как оно осуществляется в действительности. “Артист”, “учитель” в эти слова вкладывают так много содержания, и как редко они бывают заслуженными. Ни в одной области человеческой деятельности дух [его] не поднимается на такую высоту, как в области искусства. Здесь, в своем творчестве, человек запечатлевает лучшие стремления и чувства, из всех искусств музыка выделяется своим особенным воздействием на человеческую душу[90]. Более всех других обладает она силой глубоко трогать и владеет такими тонкими оттенками чувства, которые не поддаются никакому другому способу выражения. И так как музыкальное настроение имеет свойство передаваться слушателю, то, воспринимая “лучшие образцы”, изображающие высокие стремления человеческой души, мы этим самым развиваем и укрепляем наш дух. Но в то время, как художники — творцы всех других искусств обращаются непосредственно к душе человека, композитор нуждается в посреднике. Артист — исполнитель — вот кто является посредником между творцом музыки и слушателем. Музыкальное произведение только тогда достигает цели, когда художник — артист раскрывает перед слушателем все его красоты. Если музыкальная одаренность исполнителя должна быть равноценной композиторской, то не менее богатым должен быть и внутренний мир артиста. Музыкальное искусство является своего рода религией в самом широком и глубоком смысле этого слова. Как и всякое искусство, музыка отражает жизнь. Все чувства находят себе в ней отражение, от первого звука, выражавшего ощущения первобытного человека, до Девятой симфонии Бетховена, являющейся продуктом высшего развития душевной жизни. Мы видим одну непрерывную эволюцию музыкального искусства. Сопровождая богослужение всех народов древности, музыка совершенствовалась по мере возвышения самого культа. Много веков понадобилось, однако, для появления настоящих художников — творцов музыки. Но достаточно упомянуть имена Палестрины, Баха и Генделя, чтобы убедиться, какую глубину, силу и смелость приобрела душа человека и как высоко вознесла ее простая чистая глубокая вера. Богатая духовная жизнь Европы нашла себе могучее отражение в музыке. Новое время принесло и новые требования искусству. Особенно европейская цивилизация к этому времени выразилась в необычайном развитии наук. Начиная с 14‑го, 15‑го веков происходит постоянное столкновение между установленными религиозными догматами и открытиями человеческого ума. По мере распространения знаний и просвещения наука все более и более освобождается от оков церкви. И к 18‑му веку мы видим ее пышный расцвет. Изучение природы человека расширяло ум и обогащало душевный мир. Музыка, отражая мир человека, шла навстречу новому течению. Ее средства выражения обогащались и утончались. Сначала робко, а затем все смелее, глубже и шире отражается в ней жизнь человеческая. Одновременно у разных народов появляются выдающиеся композиторы, которые двигают искусство вперед. Инструментальная музыка является на смену вокальной, средства ее гораздо шире, она не стеснена объемом живого голоса. В ее распоряжении громадное количество звуков. Оркестр, соединив разные инструменты, создает небывалое богатство звуковых красок. Фортепиано заменяет клавесин. Сын старого Баха, Ф. Э. Бах, Иосиф Гайдн, Вольфганг Моцарт дают дивные образцы во всех областях инструментальной музыки и являются великими предшественниками величайшего композитора Людвига ван Бетховена. Если могучие волны общественного движения выносили на поверхность то или иное замечательное явление в области искусства и каждая эпоха исключительных и сильных переживаний находила себе отражение в музыке, то в свою очередь гений нередко опережал свое время и надолго влиял на последующее поколение, являясь одновременно и результатом и причиной прогресса. Изучая жизнь этих героев — гениев, мы убеждаемся в том, что великие творения их являются результатом душевных переживаний. Почва, на которой процветает музыка, это душа композитора. И какие это души! Если подумать о Бахе, Генделе, Моцарте, Бетховене, Шуберте и др.
Изучить внутренний мир этих замечательных людей и через их творения возвестить его человечеству, вот задача артиста.
Недаром артиста называют жрецом искусства. Он и должен быть жрецом, а не скоморохом. Как среди артистов, так и среди общества живет сознание великого значения искусства и высокого призвания его жрецов. Такие артисты, правда, представляют исключение, но значение их огромно.
При беглом обзоре истории музыки наше внимание своей артистической деятельностью привлекают виртуозы — композиторы. Так, знаменитым органистом являются композиторы Фрескобальди, Фробергер, Букстехуде, Кунау, Рейнекеидр., а также Бах и Гендель одновременно замечательные клавесинисты. Во Франции знаменит Куперен, в Италии — Скарлатти и т. д. Это все превосходные композиторы и замечательные исполнители своих произведений, а Италия рядом с несравненными кремонскими мастерами знаменитых скрипок — Страдивариусом, Гварнери, Амати и др. дала также ряд замечательных скрипачей от Корелли и Тартини до знаменитого Паганини. [Однако] и они все являлись исполнителями главным образом своих сочинений. Только в бетховенское время исполнитель отделяется от композитора, и ему предстоит высокая задача служить посредником между творцом и слушателем. До сорока лет Бетховен сам исполнял свои произведения, но по мере усиления глухоты он все реже и реже появлялся на эстраде. Миссия не- редач великих творений всецело переходила к артисту — исполнителю. Старые мастера давно покоились в могилах, и предохранить от забвения ценные произведения искусства могли одаренные музыканты — исполнители. Я говорю здесь исключительно об инструментальной музыке, так как вокальную и особенно оперу давно обслуживали исполнители, среди которых многие достигали всемирной известности. К концу 18‑го столетия на музыкальное поприще выступает целая плеяда замечательных пианистов, скрипачей, виолончелистов и виртуозов на других инструментах (валторнист Пунто, контрабасист Драгонетти, флейтист Кванц /начало 18‑го века/). Вена, Лондон, Париж, Берлин кишели артистами — исполнителями. Даже Бетховену приходилось соперничать с такими пианистами, как Вольфель, Крамер, Клементи, Штейбельт и др. Можно назвать сотни имен замечательных виртуозов, как, напр[имер], Гуммель, Мошелес, Калькбреннер, Дюссек, Черни, Фоглер, Штеркель, Рис и т. д.
Нет возможности всех перечислить: это заняло бы целые страницы имен, и чем ближе к нашему времени, число исполнителей возрастает. История, однако, сохраняет только несколько имен артистов, имеющих историческое значение. Здесь совершается тот же отбор, как и в творческой деятельности. Если Рубинштейн из всех композиторов в своем пантеоне поместил только пять гениев: Баха, Бетховена, Шуберта, Шопена и Глинку, то это только указывает на высокую требовательность артиста. Прекрасное общество этих гениев не пострадало бы от соседства Генделя, Моцарта, Шумана и др. Рубинштейн всячески отстаивает свой выбор, отдавая должное и вышеназванным композиторам. Если стать на его строгую точку зрения в отношении исполнителей, то нам придется сделать такой же отбор среди артистов. Сделать придется не по тому виртуозному совершенству, которо[го] достиг тот или иной исполнитель, а по всей совокупности артистической деятельности и ее результатам. И вот, несмотря на тысячу артистических имен, наше внимание пока привлекают только пять: Лист, Мендельсон, Иоахим и братья Рубинштейн.
Оставив в стороне их творческую деятельность, которая имеет огромное значение для нашего искусства, остановимся только на артистической. Царь пианистов — Антон Рубинштейн — говорит: “Кто не слыхал Листа, тот не может представить себе, что такое фортепианная игра. Этот исключительный виртуоз (Лист) на протяжении всей своей артистической деятельности служил искусству верой и правдой. Лучшие произведения классических композиторов нашли в нем гениального толкователя. Под его руками невозможное становилось возможным. Не только фортепианная литература, но произведения вокальной и оркестровой музыки становились благодаря ему общим достоянием. Симфонии Бетховена, песни Шуберта, органные сочинения Баха и многое другое стало благодаря его переложению популярным. Некоторые переложения прямо гениальны. В них чувствуется самое внимательное и тщательное отношение к композитору и его творению. Достаточно упомянуть органные прелюдии и фуги Баха, 9‑ю симфонию Бетховена, изумительно переложенную на два рояля, ‘Erlkónig’[91], ‘Баркарола’ и десятки других песен Шуберта. Словом, вся артистическая деятельность Листа — пианиста была благородной пропагандой лучшего в искусстве. Его деятельность в Веймаре сделала этот город таким же центром в музыкальном отношении, каким он был для поэзии и литературы при Гете. Всякое новое течение в искусстве находило в нем горячее сочувствие. Прочтите письма Бородина и Грига о Листе, и образ этого замечательного артиста вырастет перед вами во весь свой исполинский рост. Нечто совсем иное представляет собой Феликс Мендельсон — Бартольди. Внук знаменитого философа Моисея Мендельсона, который послужил Лессингу прообразом для его Натана Мудрого[92], Феликс получил самое утонченное воспитание и тщательное образование в доме своих просвещенных родителей. Лучшие учителя Берлина, Бергер и Цельтер, руководили его музыкальным образованием. Рано выступил он на композиторское поприще. И к семнадцати годам создал свою гениальную увертюру ‘Сон в летнюю ночь’. Полная противоположность демонической природе Листа, мягкий, женственный Мендельсон в артистическом отношении является равной ему величиной. Бывают такие моменты в истории искусства, когда даже само творчество является артистической пропагандой лучшего. Такой представляется творческая деятельность Мендельсона. Он явился тогда, когда музыкальному искусству грозила опасность. Вслед за эпохой гениев — Моцарта, Бетховена — на музыкальнее поприще выступила посредственность, в самом разгаре ее успеха раздается благородный голос Мендельсона, напоминающий о традициях классической эпохи и, одновременно указывающий новые пути в искусстве. Все рода искусства, за исключением оперы, имели в нем одного из благороднейших представителей. И все его создания — образцы по совершенству форм, по технике и по благозвучию. Кроме того, он в ином самостоятельный творец. Его ‘Сон в летнюю ночь’ есть музыкальное откровение; тут все ново и гениально по изобретению, по оркестровой звучности, по юмору, лирике, романтике и типично по воспроизведению мира эльфов. Его ‘Песни без слов’ сокровище по лирике и по фортепианной звучности. Его ‘Прелюдии и фуги’ для фортепиано (в особенности первая, E-moll) — чудесные произведения по новому веянию этой старинной формы. Его ‘Концерт для скрипки’ единствен[93] по свежести, красоте и благородной виртуозности; его увертюра ‘Фингалова пещера’ перл в музыкальной литературе. Эти произведения его я считаю самыми гениальными — но его симфонии, оратории, псалмы, песни, камерные сочинения и пр. ставят его наравне о высшими представителями музыкального искусства — а вообще я назвал бы его творчество лебединою песней классицизма”. (Рубинштейн. “Разговоры о музыке”[94])
18-ти лет он [Мендельсон] решается на то, на что не отваживался старый Цельтер — возродить “Matthaus Passion”[95] Баха. Сто лет это изумительное по грандиозности и красоте произведение ждало, чтобы сделаться достоянием широкой публики. Его [Мендельсона] деятельность в Дюссельдорфе вызвала к жизни образцовое оперное представление. Неутомимая композиторская, дирижерская и педагогическая лейпцигская деятельность сделала город музыкальным центром не только Германии, а, пожалуй, и всей Европы. Исторические концерты Gewandhaus‘a*** под управлением Мендельсона получили действительно историческое значение. При этом обаятельная личность композитора привлекала к нему все сердца. За последнее время творчество Мендельсона подвергается особенным нападкам. Возможно, что необычайная слава композитора при жизни вызвала критическое отношение к нему после смерти. Правда, он породил массу последователей, опошливших его направление. Однако беспристрастный обзор жизни и деятельности Мендельсона дает нам пленительный образ истинного артиста божьей милостью, всю свою короткую жизнь отдавшего на служение любимому искусству. Около него воспитался [?] Иосиф Иоахим, который на протяжении всей своей жизни отличался непоколебимой верностью идеалам искусства. О нем в 1852 году Отто Гумпрехт писал: “В первый раз в моей жизни игра артиста произвела на меня впечатление абсолютной законченности. Ничего не было лишнего, ни одного пустого виртуозного украшения, но все: каждое сфорцато, крещендо, стаккато имело значение в связи с целым. Только после концерта я сообразил, что предо мной пронеслись величайшие чудеса игры. Но во время игры я это мало замечал, потому что художник преобладает над виртуозом. Последний совершенно стушевывается перед первым”[96]. И как скрипач, и как камерный музыкант, и как мыслящий художник и педагог. Иоахим представляет собой явление феноменальное. То время было богато именами знаменитых виртуозов, как, напр[имер], Никколо Паганини, Фердинанд Давид, Шпор и др., и все же личность и деятельность Иоахима — артиста стоит особняком. До последнего дня своей жизни он служит лучшему в искусстве. Характерно для него отношение к скрипичному концерту Бетховена, который он как молитву исполнял ежедневно. Если он не может претендовать на такое же артистическое значение, как Лист и Мендельсон, то во всяком случае среди скрипачей не было более близкого им по духу, чем Иоахим.
Что же сказать о братьях Рубинштейн! О них нельзя говорить без душевного трепета. Ведь это артисты наших дней: Николай умер в 81‑м, а Антон в 94‑м. Мы их видели, слышали и находились под обаянием их несравненной игры. Младший, Николай, отдал себя всецело служению Москве. Основателг Московской консерватории, замечательный пианист, дирижер и профессор, он все силы отдал любимому детищу, консерватории. Ему мы обязаны благотворной атмосферой сердечной дружбы, которою он окружил первые шаги молодого Чайковского. В этих благоприятных условиях молодой талант свободно развивался. Он был учителем и руководителем С. И. Танеева, который до конца жизни сохранял самое трогательное воспоминание о незабвенном учителе. Особенная самоотверженность, с какой он отдавал свои силы консерватории, стяжала ему исключительную любовь не только друзей, профессоров, учеников и музыкантов. Вся Москва в полном смысле слова обожала Николая Рубинштейна. Он мог бы подобно брату стать всемирной знаменитостью, но сам предпочел быть только московской и отчасти петербургской[97] российской.
Зато старший брат, Антон, прославил имя Рубинштейна на весь мир. Глядя на эту могучую фигуру, лицом напоминающую Бетховена, казалось, что провидение сжалилось над человечеством и после смерти великого творца музыки послало в утешение гениального исполнителя его творений. И если Рубинштейн находил, что кто не слыхал Листа, Шопена, Гензельта и Тальберта, тому не понять, что такое фортепианная игра, то в этом сказывается великая скромность его, ибо кто слыхал игру Рубинштейна, тот не может при самом пылком воображении представить себе что — либо более совершенное. Видеть и слышать Антона Рубинштейна было великим счастьем. Огромная аудитория в несколько тысяч человек как один подпадали под обаяние его игры. Что — то титаническое было и в нем, и в его исполнении. Положительно, вся фортепианная литература всех времен и народов была ему подвластна. Трепет охватывал слушателя и от Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Шопена, и всех других композиторов. Трудно было решить, кого он лучше всех исполняет. Его семь исторических концертов[98] от Баха до современных композиторов, исполненные по всей Европе, были историческим событием в музыкальной жизни. Тридцать две лекции, на которых он исполнил 875 произведений[99]. в Петербурге оставили неизгладимое впечатление на слушателей. Все это показывает, какой колоссальный труд затрачен был артистом Рубинштейном на усвоение всего этого материала. Если прибавить сюда огромную композиторскую деятельность, создание музыкального общества[100], а затем и консерватории в Петербурге, директором которой он был в первый год ее возникновения и в последний год своей жизни, то ясно станет, как много и упорно работал Рубинштейн. Всегда прямой до резкости, правдивый и честный в жизни, он был таковым же и в искусстве. Его смело можно было назвать музыкальной совестью. Строгий к себе, он и от других требовал честного отношения к искусству. Даже в молодые годы он не позволял себе никаких отступлений от этих строгих принципов. Подводя итог этой исключительной артистической деятельности, можно смело сказать: вот идеал артиста. Составив себе еще в молодые годы небольшое состояние американскими концертами, он на протяжении всей остальной жизни не старался извлекать выгоды из искусства. Ежегодно он давал обыкновенно один — два концерта в Москве и в Петербурге, всегда глубоко содержательные по программе. Если сосчитать сумму, пожертвованную Рубинштейном на всевозможные цели, то это выразится в сумме сотен тысяч рублей. После исторических концертов он основал конкурс для пианистов, для чего пожертвовал двадцать тысяч рублей. Исполняя обязанности директора, он никогда не пользовался директорским жалованьем. Подобно Листу, Рубинштейн- профессор давал уроки бесплатно. Говоря обо всем этом, я и сам чувствую, что не это характерно для Рубинштейна. Такие гиганты не меряются обыкновенным аршином. Для нас всего ценнее та удивительная музыкальная артистическая деятельность Рубинштейна, которая ставит его в первые ряды среди самых замечательных мировых знаменитостей.
Неумышленно сделан мной этот отбор, и никаких тенденций в нем видеть не следует, но невольно мне приходят на память те нападки, которые с легкой руки Вагнера[101] нашли себе место в печати в отношении артистов еврейского происхождения. Совсем недавно у нас в Москве молодой философ Вольфинг (Метнер) в своей статье “Эстрада”[102] считал нужным повторить все обвинения против артистов — евреев. Приведенные мною примеры мировых артистов исторически опровергают философские или просто антисемитские выпады… Антиномия, что эстрада портит артиста и совершенствует его, совершенно верна. Я могу Ее можно расширить и сказать: “Эстрада портит вкус публики и совершенствует его”. И это тоже будет верно. Отсюда и суждение об артистах, истинных представителях искусства, смотрящих на него, как на дойную корову. Когда — то на музыкальное поприще вступали исключительно люди, одаренные и призванные, и такие могли служить искусству по — настоящему. Когда же с распространением консерваторий и школ на музыку стали смотреть как на ремесло, как на занятие, дающее доход, то, разумеется, отношение к искусству принизилось. Появилось масса исполнителей, учителей. артистов, мало подходящих, не знакомых ни с литературой самого искусства, ни с литературой о нем. Часто невежественных. грубых и более далеких от искусства, чем те, которые никогда к нему не прикасались. Эта масса несомненно вредила искусству. На эстраде, за уроком ли, где бы то ни было, она не только не служит искусству, но скорей даже вредит ему. С этим можно бороться, только повышая требования к артистической среде. Этим я вовсе не хочу сказать, что артистическая среда плоха. Тысячу честных тружеников работают на пользу искусства, и среди этих скромных работников немало встречается любящих и преданных искусству людей. Подобно тому, как рядом с гениями, творцами, расчищая и подготовляя им почву, работают сотни просто одаренных людей, деятельность которых в высокой степени полезна искусству, так и в области исполнения не одни гениальные исполнители распространяют музыку. И здесь нужны сотни и даже тысячи честных работников с более скромным талантом, но с любовью к искусству и с верой в него. Необходимо сознательное отношение к своему делу, представление о сущности музыки и о высоком звании артиста — исполнителя. Не следует скрывать того, что есть на самом деле. Ни в одной среде, быть может, не встречается так много зависти, мелкого тщеславия, обидчивости и даже грубости, как в артистической. А мы ведь твердим о высоком значении искусства и о высоком призвании артиста. Вот когда смело можно сказать врачу — ’’исцелись сам!”.
Если столь благородное занятие, как область тончайшего искусства — музыки, — не может нас, его представителей, сделать лучше, как же мы желаем, чтобы оно благотворно действовало на вас [других]! Здесь кроется какое — то недоразумение. Или мы готовы вместе с Пушкиным сказать “пока не требует поэта”[103], или мы станем на другую точку зрения. Не знаю, как в сфере других искусств, хотя, конечно, мы не вправе требовать от всякого художника известного соответствия между его внутренним миром и тем, что он творит, но в области музыки я положительно протестую против пушкинского стихотворения. Искусство, для которого почвой служит душа композитора, его внутренний мир, не может процветать при условиях пушкинского стихотворения. “Я отлично понимаю, что нельзя быть гениальным и возвышенным 24 часа в сутки, — говорит Шуман, — что у всякого гения имеются и самые прозаические моменты, но мелочность, душевная узость и ничтожество характера несовместим! ы] с деятельностью творца музыки”[104]. Если к исполнителю это применимо и не в такой мере, то во всяком случае и здесь душевное благородство имеет огромное значение. Рубинштейн как — то выразился: “Игра на фортепиано — движение пальцев, исполнение на фортепиано — движение души”. Этим все сказано. На тысячу играющих — десяток исполняющих.
Здесь уместно перейти к одной из важнейших областей распространения музыки, к ее преподаванию. Я, вероятно, буду близок к истине, если скажу, что нигде нет такой неподготовленности, как в области преподавания музыки. Ни один педагог на свете не знает так мало педагогических приемов и правил, как преподаватели музыки. Ни одно занятие не опирается на такую массу механических и бессознательных приемов, как изучение игры. А между тем ни одно занятие не требует такого всестороннего душевного развития, как музыка, и ни [к] одному учителю не приходится, быть может, предъявлять таких высоких требований, как к учителю музыки. Музыка, эта религия души, предполагает самое тонкое понимание человеческой природы, знание тончайших изгибов души человека, умение психологически верно толковать то или иное проявление чувства, наметить отношение между чувством и его проявлением, определить] искренность], глубин[у], правдивост[ь] и тонкость] чувства. Любить все положительное и ненавидеть отрицательное, заразить своим энтузиазмом ученика и сколько возможно всей жизнью подтвердить свое отношение к искусству.
Конечно, для обучения простой “игре” незачем предъявлять таких требований к учителю музыки. Он может обладать теми же качествами, как и танцмейстер, и учителя гимнастики. Но другое дело толкователь Моцарта, Бетховена, Шумана и др. Такому учителю, отвечающему всем вышеуказанным требованиям, можно смело доверить ученика. Переведите его из класса на сцену и эстраду, он и там останется тем же настоящим артистом. Он не только не станет потакать вкусам толпы, но употребит все усилия, чтобы распространить лучшее в своем искусстве и привить вкус к этому лучшему. Таковым приблизительно должен быть учитель музыки. Но как мы далеки от этого идеала. И в этом сказывается наше внешнее, формальное отношение к искусству. Все изучение музыки сводится просто к игре на каком — нибудь инструменте. С появлением фортепиано, этого почти повсюду имеющегося инструмента, все стали учиться игре. Известен результат этого всеобщего обучения игре. Оно не прибавило ценителей настоящего искусства. (Нужны люди, действительно любящие музыку, а главное, не ждать тех результатов, которых мы ждем от этого искусства.) Можно смело утверждать противное. Бренчание на фортепиано принято считать занятием музыкой. После нескольких лет такого занятия, положительно ничего не дающего душе учащегося, он едва может исполнить что либо из настоящих произведений искусства, а между тем у самого учащегося и всех окружающих имеется сознание занятия музыкой. Ведь все почти учатся играть, а посмотрите, как мало слушают хорошую музыку, как мало интереса проявляет большинство к лучшему в нашем искусстве. Положительно, игра мешает человеку. Играющий воображает, что он близок к искусству, а между тем он часто дальше того, кто никогда в жизни не касался клавиш. Следовало бы положить предел этому всеобщему обучению игре. К вам, родители, обращаюсь я и говорю: “Пожалейте детей и пожалейте искусство. Вы должны своим деятельным протестом заставить нас изменить преподавание музыки”. Пока игра будет цениться, пока тщеславие будет впереди разумного сознания, до тех пор не переменится отношение к музыке, до тех пор полуграмотный неподготовленный учитель будет находиться в привилегированном положении, и уроки его оплачиваться во многих случаях на вес золота. До тех пор консерватории и музыкальные школы будут переполнены ремеслениками — музыкантами.
Итак, обновление необходимо. Оно будет исходить с двух сторон. Мы, музыканты, сами понимаем необходимость этого обновления. Мы сами чувствуем, что в нашем звании жреца искусства скрывается глубокая ирония. Нам необходимо проникнуться глубже сознанием действительного значения музыки в жизни человечества и быть верными апостолами нашего божественного искусства. Мы чувствуем, что нет соответствия между нашей жизнью и нашим занятием. К нам все вправе предъявлять иные требования, и это справедливо. Должно же быть соответствие между занятием и внутренним миром человека. С другой стороны, если и общество станет на эту точку зрения, если и оно предъявит свои высокие требования, то сама необходимость вызовет ту революцию, в которой мы все так нуждаемся и которая подобно грозе совершенно очистит атмосферу и наполнит все благоуханном.
II
Все эти мысли беспредельно владели мной до болезни. Ясное сознание глубокого контраста “идеала с действительностью” причиняло острое страдание. И, как это ни наивно, мне все казалось, что разразится какая — то катастрофа, которая рассеет мой душевный разлад, будто суть была вне меня, а не во мне. Так или иначе, но еще за две недели до болезни я точно предчувствовал что — то [ее] и говорил нет. приближающейся болезни об этом, А Затем как вихрь налетела она и погрузила меня в какое — то совершенно особенное душевное состояние, которого никак не передать. Когда же опасность миновала и наступили дни, недели и месяны медленного выздоровления, то у меня оказалось масса досуга обо многом подумать и поразмыслить. Весь жизненный путь предстал передо мной от отдаленного детства и до сегодняшнего дня [настоящего времени]. Мне казалось, что как он ни незначителен, но известный интерес представляет, как всякая жизнь, а тем более как жизнь музыканта — артиста, со всеми стремлениями, переживаниями, встречами, упованиями, надеждами, увлечениями, разочарованиями и т. д. и т. д. Я возымел смелую мысль постараться возможно полно изложить свою жизнь. Но задача эта далеко не из легких, особенно для человека, впервые взявшегося за такую работу. Попробую.
Чем дольше живешь и уходишь от начала жизни, тем яснее встает в памяти пора детства. Ведь это та пора, воспоминания о которой играют немаловажную роль во всей остальной жизни. Детство, отрочество, юность — периоды, которые дают направление всей остальной жизни. В ту пору создается характер, выясняются наклонности, стремления, вырабатывается миросозерцание т. д. и т. п. (Поэтому мне хочется несколько подробнее остановиться на этом времени.)
Я не думаю, чтобы мои воспоминания заходили дальше третьего года моей жизни. Мне вспоминается большой двор, заросший бурьяном, лестница со двора, ведущая прямо во второй этаж, в нашу квартиру, около которой сбоку была металлическая довольно острая чистилка от грязи. Она меня очень интриговала. Лестница была крутая, и так как старшие братья не раз скатывались с нее, иногда сильно поранившись об эту чистилку, отчего у н[их] оставались довольно заметные шрамы, то я, во — первых, был уверен, что участь неизбежная, миновать ее невозможно, а во — вторых, все ждал, когда это случится со мной. И то, надо сказать, шалуны мы были большие. Всех нас было пять братьев и одна сестра. Росли мы на свободе, усмотреть за нами не было никакой возможности: ни нянек, ни бонн, ни гувернанток мы не знали. И теперь с удивлением думаешь, как наша кроткая, нежно любящая нас мать справлялась с такой оравой. Мы всегда были и вовремя сыты, и чисто одеты. Зато я совершенно не помню ее без дела. Сидя, иногда и засыпая от усталости, она продолжала вязать нескончаемые детские чулки. Есть люди, стремящиеся постоянно к совершенству и жизнь которых проходит часто в одних усилиях, но есть и такие, у которых все в ежедневном поведении. Наша мать принадлежала к последним. И, Боже, как мы ее любили! Для меня самого уже в чине дедушки составляло огромную радость побыть около матери, почувствовать себя на время ребенком под ее нежным и кротким взглядом. И это чувство к ней жило не только в нас, ее детях, но и во всех тех, которые когда — либо жили у нас. Да благословит тебя Господь, родная! И сейчас, при воспоминании о тебе, слезы благодарности наворачиваются на глаза за все то доброе и прекрасное, что неразрывно связано с твоим кротким образом. Ты сумела создать тот семейный очаг, который на всю жизнь связывает всех его членов в одну любящую семью и воспоминания о котором являются самым[и] светлым[и] и радужным[и]. И все это не мудрствуя лукаво, а только следуя велениям любящего сердца. Отец наш был, несомненно, явлением незаурядным. Старший в своей семье, он 15-ти лет, получив тщательное по- тогдашнему еврейское образование, покинул родной город Павлоград, чтобы пробить себе самостоятельно путь в жизни. Симферополь, куда он попал, в сравнении с Павлоградом казался столицей. Здесь, благодаря неустанному прилежанию, настойчивой энергии и недюжинным способностям, он достиг через несколько лет положения бухгалтера при откупе. За это время он отлично усвоил русский язык, развил свой ум чтением, изучил — и очень недурно — французский.
Ни по своему общественному положению, ни по своему имущественному цензу он не представлял завидной партии для красивой дочери всеми в городе уважаемого ювелира — художника Д. Отец с юмором рассказывал, как дед, эстет, шокированный рваными калошами его, старался скрыть их от своих дочерей, покрывая их чем — либо. Очевидно, мать руководилась иными соображениями. Ее не пугала тяжелая трудовая жизнь, разделенная с любимым человеком. И действительно, жизнь сложилась тяжелая. Семья росла, расходы увеличивались, отец не покладая рук работал, а матери приходилось экономить до скупости. Брать ли у водовоза лишнюю пару ведер воды, что составляло расход в копейку или две, было предметом особого размышления. Нас, з- детей, это, впрочем, мало касалось. Мы были, как я уже сказал, обуты, одеты, сыты и жили своей особой жизнью. У нас были свои радости и печали, впрочем тесно связанные со всем укладом общей жизни. Отец не останавливался ни перед какими затруднениями, чтобы дать своим детям тщательное образование. Было у нас и старенькое фортепиано никому не известной фирмы Гринель, и старший брат недурно уже играл, руководимый отцом, который сам очень мало учился. Только благодаря настойчивости отца и особенному чутью его, двое из нас, самый старший и самый младший, были направлены по этому пути. Стоит вспомнить семидесятые годы, небольшой провинциальный город, необычность музыкальной карьеры вообще, и в частности в нашей семье, чтобы представить себе, какую железную энергию должен был проявить отец, чтобы отстоять свое намерение перед вмешательством родственников, особенно женской половины. Дело в том, что в середине прошлого столетия, взгляд на музыкантов был определенно отрицательный. […][105] в семидесятых и восьмидесятых годах в маленьком провинциальном городе на карьеру музыканта весьма и весьма косились. Наезжих настоящих музыкантов было очень мало, и все представление с музыкантах сводилось или к играющим на свадьбах клейзмерам, или к тем учителям музыки, которые влачили действительно жалкое существование. У одного из таких учителей, старика Люмбе, напоминавшего Лемма из “Дворянского гнезда”[106], учился мой отец. Двух других учителей я помню хорошо: один был швейцарец Имс, который занимался также с моим старшим братом; другой — итальянский еврей Михалини, великолепный артист на семиструнной гитаре.
Какие побуждения заставляли отца избрать для своего любимца (старшего брата) карьеру музыканта, я не знаю, но полагаю, что здесь значительную роль сыграли побуждения идеального свойства. Сам он, натура в высшей степени одаренная, полная[ый] стремлений к чему — то возвышенному, но в силу житейских обстоятельств принужденный работать в атмосфере глубоко прозаической, всеми фибрами души тянулся к тем неопределенным сладким ощущениям, которые уносили его в другой мир. “Музыка, женщины и цветы — вот наиболее прекрасные создания природы”, — говорил он. Возможно и то, что, угадав несомненное дарование брата и наслышавшись о триумфальном путешествии Рубинштейна, он надеялся и в своем сыне видеть выдающегося артиста. Так или иначе, но он не щадил ни сил, ни средств, чтобы подготовить брата в консерваторию. И если мы кому обязаны тем, что были сразу направлены на верный путь, то это только отцу.
К каким только средствам не прибегал он, чтобы заставить нас работать. Никогда не забуду я о тех зимних ранних утренних часах, которые он урывал от своего отдыха, чтобы до начала своей работы успеть позаняться с нами. На дворе еще темно, в комнатах холодно, а отец, хотя ему и жаль нас будить, делает это довольно настойчиво. Наконец встаешь, нехотя, лениво одеваешься, умываешься (умываться приходилось очень холодной водой, и руки делались совсем ледяными). Отец дышит на них и, растирая, отогревает немного. Клавиши тоже ледяные, пальцы стынут так, что во время игры отцу несколько раз приходится отогревать их. Сначала играешь неохотно, но потом разыгрываешься, и даже является чувство некоторого довольства исполненной работой. Не получив систематического музыкального образования, отец каким — то чутьем угадывал, что надо делать. Он следил за тем, чтобы аккуратно играли гаммы и упражнения. В ходу были этюды Черни, пьесы, правда, большей частью оперные фантазии Бейера, а также сонаты Бетховена. Особенно он любил 19‑ю, Г-молльную, ор. 49. Заставлял также читать с листа и учить наизусть. Ни о какой постановке рук не могло быть и речи. По пятницам шло повторение всего, что знал, наизусть. А в субботу давался полный отдых. Как же мы ждали этот день! И вообще время с пятницы, часов с шести[107], до конца субботы, было одним из счастливейших в нашей детской жизни. С пятницы недельный порядок жизни нарушался. В этот день мы не обедали, а только завтракали. Еще накануне горячо и серьезно обсуждался вопрос о печении хлеба, и наша кухарка, старушка Мириам, заранее волновалась. Для нее этот вопрос был существенно важным. Удача означала хорошее настроение духа, неудача — мрачное отчаяние. Чаще, впрочем, бывала удача, и тогда она торжествующе приносила показывать матери хлеб. Мать и сама зорко следила за тестом и за тем, когда посадить хлеб и когда его вынуть. Весь день пятницы уходил на хлопотливую работу. Хлеб пекли на всю неделю. Кроме него в печи сидело также сладкое печенье “лейках”, которое нас ожидало в субботу, вечерний ужин и субботний обед. Зато, начиная часов с четырех — пяти, шли уже непосредственные приготовления к празднику[108]. Мать умывалась дома или чаще отправлялась в баню[109], затем наступал чай. И она, чистая, разрумяненная, уставшая, но довольная окончанием работ, садилась к столу, чтобы нас всех напоить. Потом, как только начинало темнеть, все принимало праздничный вид: стол покрывался чистой скатертью и накрывался к ужину. Устанавливались свечи, которые зажигались для встречи субботы, и мать, шепотом молясь и делая таинственные движения руками, благословляла наступающий праздник[110]. Я любил этот момент и старался его не пропускать. Что — то мистическое и вместе с тем наивное было во всем этом. Детскую душу охватывало какое — то жуткое и вместе с тем приятное чувство. (Казалось, действительно спускается на землю принцесса суббота. И теперь, бывая дома, я также люблю смотреть на нашу дорогую сгорбившуюся старушку, которая молится над свечами. Свечи значительно увеличились в числе, по мере прибавления внуков, но уменьшились в величине. Зажженные свечи означали наступившую субботу.) Вечером за торжественно убранным столом усаживалась вся семья, и прислуга тоже. Отец произносил благословение над вином и хлебом, разламывал последний и всем разда вал. Радостно начинали мы праздновать субботу. Ведь завтра еще целый день свободы от всяких занятий. Какая — то нежность прокрадывается в душу, и чувствуешь как сердце бьется любовью к окружающему… Благословляю тебя, принцесса Шабат[111]! Ты осеняла наши детские души прикосновением своей святости, наполняла их радостью и счастьем. Ты даруешь отдых и покой истомленному тяжкой жизненной борьбой и озаряешь весь мир лучезарным праздничным светом. Ты навеваешь сладкие грезы в души обездоленных, и жизнь кажется им благодаря тебе светлой и прекрасной. Благословенна будь, святая суббота. Велика была мудрость законодателя, сказавшего: “Шесть дней работать, а седьмой предаваться отдыху”. В этот день мы подымались позже, и кофе с топленым молоком казался особенно вкусным. Затем до обеда мы отправлялись в синагогу. У отца и особенно у деда были почетные места, т. е. ближе к амвону. Я же предпочитал те ряды, где ютилась беднота. Находясь около отца, я должен был читать вслух все молитвы, а так как многое было мне непонятно, то это было в тягость и совершенно не вызывало благоговейного настроения. Напротив, окруженный измученными страдальческими лицами, я испытывал какое — то особенное настроение. Сдержанные вздохи, а иногда и рыдания в голосах молящихся производили на меня сильное впечатление. Где — то внутри накипали слезы, и глубокое сострадание охватывало все мое существо. В эти моменты я был наиболее близок к Богу, когда детски — наивно по — своему молил его помочь всем угнетенным… Кто еще может так сильно чувствовать, что такое угнетение? Тысячелетние гонения наложили на народ печать особого страдания. Я инстинктивно, не сознавая, чувствовал это страдание, и в детской душе зарождалось глубокое сострадание и сочувствие. Но вот богослужение закончено, и все, сияющие и довольные, идут домой обедать. Дома нас ждет праздничный обед с неизменным пудингом — кугелем в заключение. Затем старшие отдыхают, а мы на несколько часов предоставлены сами себе. И как отлично умели мы использовать нашу свободу. Тут и загородные прогулки, и купанье летом в знаменитом Салгире, и игра в каре (в мяч) и т. д. Вечером гулянье на бульваре, куда сходился весь город. Отчего в аллеях, главной и других, […][112] двигалась публика. Иногда перед вечером отец заставлял читать поучения отцов синагоги. В этих поучениях так много жизненного и трогательного, что это чтение доставляло удовольствие. День окончен, наступал вечер. Принцесса улетала, оставляя в душе смутное сожаление о прошедшем. Утомленные впечатлениями за день, мы как мертвые засыпали, чтобы на другой день снова начать трудовую неделю.
Но особенно в детской душе […][113] день праздника Пасхи. Десятки прожитых лет вдалеке от дома не стирают этих ярких светлых воспоминаний. Пасха на юге совпадала с весенним расцветом, и это соединение придавало обоим особую прелесть. Задолго до праздников в доме начиналась чистка[114], но какая: белили стены, мыли полы, выколачивали всю мебель, одежды, ковры, все выносилось наружу, и мы с книжками тоже высылались во двор, или как называлась неширокая балюстрада нашего дома. На дворе хорошо, весеннее [солнце] ласково греет, все начинает распускаться, весело и празднично на душе. В одном из углов нашего двора была огромная кухня, которую сдавали за месяц до праздника для приготовления мацы. Там работало человек 20–30, и оттуда доносился стук скалок, раскатывающих тесто, и оживленные разговоры. Запасливые хозяйки заранее заказывали мацу[115], и всякий считал своим долгом присутствовать во время ее приготовления. Особенное внимание обращалось на то, чтобы соблюдалась строжайшая чистота. Маца получалась тонкая и необыкновенно вкусная. Несколько таких “подряд” удовлетворяли весь город. Главное сделано — маца готова. Затем идут уже и всякие другие приготовления до самого праздника. Вся кухонная посуда подвергается особой чистке, а вся стеклянная заменяется специальной пасхальной, которая целый год хранится для этой недели. У всякого из нас имеется любимая чашка, стакан и бокал. Наконец чистка закончена, но в самый последний момент еще обметают все углы, [собирают] оставшиеся крошки хлеба[116]; эта процедура производит сильное впечатление: точно после этого что — то особенное должно случиться. И вот наступает пасхальная неделя. Все приготовления закончены, и мы с нетерпением ждем наступления вечера. А вот и самый вечер. Как передать переживаемые впечатления? Что — то святое спустилось на землю. Боже, кому и когда могл[о] прийти преступное и гнусное обвинение евреев в употреблении крови для опресноков? Что это была за извра щенная душа, которая бросила подобное обвинение. Если суббота действовала магически, озаряя все праздничным светом, то Пасха на все это накладывала еще печать святости. Ведь что такое Пасха? Праздник освобождения целого народа, целой нации из — под египетского ига. Освобождение, в которое вмешалась Божественная воля. Что кроме глубокой признательности могла испытывать человеческая душа в годину этого события в жизни нации? И действительно, это праздник исключительный. Все кругом преображается, на землю точно спускается та Божественная сила, которая когда — то рассекла море, чтобы народ безопасно мог пройти, и каждый чувствует близость божества. Все обычаи этого вечера полны прелести. Так почти каждый домохозяин считает своим долгом пригласить на оба вечера бездомных лиц, большей частью солдат, которые службой оторваны от своей семьи. Кроме того, существует поверье, что Ильяпророк в этот вечер спускается на землю. И вот, в каждом доме его ждет прибор и бокал вина. Дверь открыта, и всякий может войти. Кто бы ни вошел, становится гостем в этот вечер. Этим обычаем пользовалась инквизиция в Испании, чтобы арестовывать маранов[117], справлявших Пасху. Но оставим все это. При одном воспоминании об этом празднике на душе становится тепло и светло. Все кругом приняло нарядный праздничный вид, стол накрыт так, как никогда в течение года, особенный вид придает ему то, что все предметы, покрывающие его, носят печать необычности и новизны. Новая посуда, особенно бокалы, специально хранящиеся для этого вечера, графины, наполненные вином, опресноки и, наконец, исключительно торжественное убранство стола — производят особенное впечатление. В этот вечер каждый хозяин дома чувствует себя царем своего маленького царства. Он восседает рядом со своей царицей на возвышении и торжественно отвечает на четыре вопроса[118], обычно предлагаемые младшим из детей. Затем все читают вслух всю историю исхода, а мы, дети, с нетерпением ждем начала трапезы. В воспоминание пережитых страданий нам дают сначала по возможности горький хрен, затем получаем яйца с соленой водой, тоже, очевидно, эмблема чего то [119], и, наконец, появляется бульон с знаменитыми большими круглыми клецками, называемые “кнейдлех”. Во время ужина бокалы неоднократно наполняются легким вином, и мы их весело осушаем. Торжественный характер вечера ни на минуту не прерывается. Все чувствуют значительность и важность его. Каждое блюдо не просто блюдо, а эмблема чего — то исторического; трапеза не есть просто насыщение, а является воспроизведением исторического события, и на всем лежит печать какой — то святости. Душа переполнена впечатлениями, и глаза с любовью останавливаются на дорогих сердцу лицах. Понемногу одолевает усталость, да и вино оказывает свое действие. Но не хочется уходить, наконец вечер окончен, и мы, счастливые и довольные, идем спать, чтобы завтра повторить то же самое. Я не помню, чтобы какой — либо другой праздник давал столько впечатлений. Если представить себе восприимчивое детское сердечко, то понятно станет, как глубоко в душу врезались эти впечатления. Они были связаны с чем — то бесконечно чистым, святым и прекрасным. Распускающаяся и благоухающая весенняя пора особенно подчеркивала их прелесть.
Я не могу сказать, чтобы в молодые годы отец был религиозен. Он и нам не навязывал соблюдение тех или иных обрядов. Праздники же все исполнялись по традиции. И весь их ритуал лежал больше на матери, которая соблюдала все обряды, отличаясь при этом чрезвычайной терпимостью. Вся религия ее заключалась в прекрасной любящей душе, снисходительности к другим и в бесконечной доброте. Она никогда ни с кем не ссорилась, и за ее готовность всех мирить ее прозвали “мировой судья”. Нас всех она любила одинаково, и никто не мог бы сказать о каком- либо предпочтении. В этой атмосфере семейного уюта, любви, труда и нередко лишений проходило наше детство. Я не могу не остановиться с благодарностью на тех, которые в буквальном смысле слова отдали себя детям. Отец не соблазнялся никакими выгодными предложениями, если только они были связаны с необходимостью расставаться с нами. Он готов был переносить лишения, трудиться с[верх] сил, но быть около нас и следить за нашими занятиями. После посещения традиционного “хедера”[120], из которого мы не очень много вынесли, некоторые из братьев приготовились и поступили в гимназию. Старший брат готовился в консерваторию, а средний, не очень склонный к музыке, решил стать механиком. Отец отнесся и к этому желанию сочувственно. Не могу забыть, как я нетерпеливо дожидался возвращения брата с работы в первые дни, чтобы подать ему воды, умыть испачканные сажей лицо и руки. Какое — то особое уважение чувствовали мы к этому необыкновенному решению. И к тому, кто проводил его в жизнь. Уважение к ремеслу составляло существенную часть поучений отцов синагоги. “Мыслителю — философу”, проповеднику, учителю и другим деятелям в духовной области рекомендовалось ремесло, как средство к существованию. Вся духовная деятельность слишком высоко чтилась, и она не должна была быть доходной статьей. Не было и платы за ученье, а учителя получали все натурой. В 16‑м столетии Спиноза зарабатывал себе средства к существованию не своими философскими трактатами, а гранением оптических стекол… Наш чумазый герой пользовался авторитетом и уважением среди нас не в силу вышеприведенных соображений. Нам, представителям науки и искусства, его выбор казался тяжким, непосильным, и это вызывало чувство жалости. Но бодрость, с какой он шел по избранному пути, окончательно нас покорила. Мы ценили его труд так же, как свой, и разные пути наши точно еще больше скрепляли нашу братскую дружбу. Впоследствии сын его проявил большое музыкальное дарование. Опять — таки благодаря настойчивости отца, которому на этот раз пришлось проявить особую энергию, поступил в консерваторию. Из него вырабатывается настоящий музыкант.
Когда начались мои занятия музыкой, я сказать не могу, но думаю, что лет с семи. Я помню продолговатую нотную тетрадь с детскими пьесами, из которых я играл оперные попурри из “Нормы”, “Сомнамбулы”, “Дочери полка”, “Пуритан” и др[121]. В это время все внимание было уделено старшему брату, который играл уже очень недурно довольно трудные вещи. С ним изредка занимался Имс, так как отец не мог всецело на себя полагаться. Брату было лет 15–16, когда отец решил отправиться с ним в Петербург. Последний был избран, во — первых, потому, что Петербургская консерватория пользовалась большей известностью (в середине 70‑х годов), и, во — вторых, и потому, что там жил кое — кто из знакомых отца. Во всяком случае в этом решении было нечто героическое. Предстояло далекое путешествие за 2000 верст в совершенно чужой город, никогда не отлучавшемуся из дома отцу, и это, конечно, было нелегко. Если прибавить сюда неуверенность в том, как отнесутся к сыну на экзамене, неизвестность, как прожить без права жительства в чужом городе, и, наконец, отсутствие средств, которыми можно было бы поддержать сына в случае поступления в консерваторию, то понятн[ы] стан[у]т волнение, тревоги и беспокойства, какие переживала вся наша семья. Для отца риск был особенно велик. Он отверг все проторенные пути для своего любимца и, уверенный в его музыкальных способностях, избрал для него нечто необычайное по тогдашнему времени. Неудача была бы крушением всех его надежд. Она разбила бы все его мечты и нанесла бы ему глубокую [рану]. Невозможно] себе представить теперь, какие трудности предстояло преодолеть, сколько пережить душевных потрясений, чтобы осуществить такой план, и, конечно, мы с братом всецело обязаны отцу, который ни перед чем не останавливался для достижения цели. В августе 1875 г. путешественники отправились, и мы все с этого момента жили известиями из Петербурга. Много тяжелого, но зато и много радостного пережил отец. Так, например, известный писатель Богров (“Записки еврея”)[122], который когда — то жил в Симферополе, очень нуждался, а теперь занимал важное место в Петербургском банке и на которого отец рассчитывал, встретил его резко и грубо, обругав и упрекая за то, что он (капцан) т. е. бедняк, осмеливается мечтать о консерватории для своего сына. Можно себе представить душевное состояние отца, который меньше всего мог ждать такой душевной грубости от талантливого писателя. Но зато в своем другом знакомом, М. И. Ярославском. отец встретил такое радушие и такую сердечность, что и 30 лет спустя он со слезами умиления вспоминал о нем. Но главная радость и удача заключались в том, что брат не только выдержал экзамен, но был принят стипендиатом в класс превосходного профессора Беггрова. Кроме того, отцу удалось устроить брата в семье Ярославских и добыть ему небольшую стипендию (10 рублей) от барона Гинцбурга[123].
Трудно представить себе нашу радость. Действительность превзошла все ожидания. Но больше всех торжествовал отец. Его мечты осуществлялись, и отныне он мог действовать с большей уверенностью. В течение целого года только и было речи у нас, что о всех подробностях поступления. Малейшие детали были нам известны. Мы узнали и про швейцара Ивана, которого я впоследствии полюбил за его доброе отношение к ученикам, и про то, как родителей не пускают в экзаменационный зал, и про волнение, пережитое отцом во время экзамена, и т. д. Словом, чувствовалось, что великое событие произошло в жизни отца, и ему необходимо о нем высказываться. Итак, дорога была проложена. И для меня путь значительно облегчен. Но прежде, чем я поступил в консерваторию, пришлось немало пережить. Отныне все внимание отца сосредоточилось на мне. Тогда то и начались и ранние зимние вставания, и настойчивые требования играть определенное количество часов. Не могу сказать, чтобы я в восемь лет отличался особым прилежанием. Но [нужно] отдать справедливость] [отц]у, он умел заставить работать, не прибегая к строгости и суровым мерам. В ход пускал[и]сь и ласка, и обещание награды, и только в крайнем случае угроза наказанием. В течение дня он неоднократно отрывался от дела, забегая домой, чтобы убедиться, так ли все делается, как надо. Благодаря всему этому, я делал успехи, и меня часто заставляли играть при посторонних, якобы для того, чтобы приучить играть при публике, но на самом деле в этом проявилось некоторое честолюбие. Меня захваливали, и отец бывал доволен. В этом была его гордость — ведь он не был настоящим учителем музыки, а между тем добивался недурных результатов. Все это не только не вредило моим занятиям, но, напротив, пришпоривало мое прилежание, и я двигался вперед. Наконец я был в состоянии сыграть 19‑ю сонату Бетховена, она сделалась моим коньком, и ею я стяжал немало лавров. Эта маленькая соната стала моей любимой пьесой. И возможно, что тогда — то бессознательно зародилась во мне та горячая любовь к Бетховену, которая через 55 лет проявилась созданием Бетховенской студии[124].
На горизонте нашего города появилась новая артистическая звезда, некто Масалов, жгучий красивый брюнет и очень хороший пианист. Игра его, насколько я тогда мог понимать, отличалось женственностью, мягкостью и нежностью. Дав 2–3 концерта, он сделался знаменитостью города, и особенно восхищались им дамы. Повсюду только и были разговоры, что о Масалове. Впрочем, меньше всего касались его игры, а больше останавливались на его внешности. Довольный своим успехом, он решил поселиться окончательно в Симферополе. Сняв хороший номер в петербургской гостинице, он стал давать уроки, по тогдашнему за очень высокую плату — три рубля в час. Вскоре он был завален уроками, и слава его все больше и больше распространялась. Не знаю, кто и как устроил, чтобы он меня выслушал и принял бесплатным учеником. Должно быть, ему понравилась моя игра, так как он согласился со мной заниматься. Отец был рад, что передал меня в удовлетворительные руки, а для меня наступили дни горьких испытаний. У меня не было никакой привычки готовить уроки. Отец со мной разыгрывал ежедневно этюды, пьесы, а технические упражнения предоставлял мне самому, если у него не было времени. Самостоятельно приготовлять уроки было для меня новостью. Этого Масалов не знал и не понимал. При этом он несколько переоценил меня в первое время и задавал мне довольно трудные этюды и пьесы. Я, как ни старался, не мог добиться его одобрения, и он причинял мне жесточайшие огорчения. Сейчас, в перспективе 40 лет, я многое могу объяснить и даже оправдать его, но тогда мое маленькое сердце трепетало от негодования и досады на него. Я чувствовал, что ему не до меня, что, обещав кому — то бесплатно заниматься со мной, он не мог отказаться, хотя и тяготился этими занятиями. Уроки доставляли мне мучение, а его выводили из себя. Кончилось тем, что я в отчаянии махнул на все рукой и перестал стараться. Вскоре наступила катастрофа. Как сейчас помню, в зимний декабрьский или январский день часов в 10 я пришел к Масалову, но не успел я ему проиграть свои вещи, как он гневно бросил мне ноты и заявил, что больше заниматься со мной не станет. Такого конца я почему — то совсем не ожидал, совершенно растерялся. Мне представилось, какое горе я причиню отцу таким известием, и слезы невольно навернулись на глаза. Я подобрал ноты и не уходил, прося его простить меня, обещая стараться. Я указывал ему на то, каким ударом это будет для отца, но все было тщетно. Он ушел за ширму и стал одеваться, чтобы выехать на урок. Убедившись, что его решение непоколебимо, я медленно вышел на улицу, положительно не зная, что делать. Я переживал самое настоящее горе и совершенно не представлял себе, как сообщить все отцу. К этому присоединилась опасность наказания, так как я все же чувствовал свою вину. Стояло прелестное зимнее утро, солнышко пригревало, хотя был маленький мороз. Что — то бодрое и радостное чувствовалось в природе, и этот контраст еще более усиливал мое горе. Всю дорогу я не переставая плакал и обдумывал безвыходность моего положения. Моментами мне казалось, что это точно сон, что если я через два — три дня пойду на урок, то Масалов меня встретит, как будто ничего не произошло. Я даже решил так и поступить, т. е. ничего не сказать отцу, а через три дня, отлично приготовив все, пойти на урок. Остановившись на этом решении, я несколько успокоился и бодро пошел домой. Во дворе у нас в это время набивали ледник, и всюду лежали большие куски льда. Около него стоял мой второй брат Иосиф, гимназист, который почему — то в этот день или не пошел в гимназию, или рано вернулся. Не успел он меня спросить про урок, как я расплакавшись все рассказал ему. Он был озадачен не менее моего, так как все дома верили в мои способности. В это время к нам подошел отец, и брат ему все рассказал, а я стоял около и проливал горькие слезы. Отец, очевидно, ничего подобного не ожидал. На его лице попеременно выражались горе, досада, гнев, отчаяние, и, не будучи в силах сдержать себя, он резко взял меня за руку и повел в дом. Я ожидал строгого наказания, но отец только заставил меня подробно рассказать, как все произошло. Выслушав, он задумался, затем, видя мое отчаяние, погладил меня по голове, решительно объявил, что обойдется без Масалова. “По только помни, — прибавил он строго, — работать!” Так разрешилось мое первое глубокое горе, я сказал бы словами Грига, мой первый успех на музыкальном поприще. Сорок лет прошло о тех пор, и я до сих пор с горячей благодарностью вспоминаю поведение отца. Оно было мудрым и тонким в одно и то же время. Он меня с тех пор всецело завоевал, и я изо всех сил старался ему угодить, т. е. усердно работать и делать успехи.
Вспоминается мне еще один случай, относящийся к этому времени. Когда вместо ожидаемого наказания, вполне заслуживаемого, мы с братом Александром получили только легкий выговор. Это подействовало на нас необычайно сильно. Развозившись, мы разбили фаянсовую лампу, многолетнее украшение нашей гостиной. Мы и сами чрезвычайно огорчились и испугались, это была драгоценность дома, которая тщательно охранялась и зажигалась только в торжественных случаях. Мы почувствовали себя настоящими преступниками и ждали сурового наказания. Но каково было наше удивление и какую мы испытали радость и благодарность к отцу, не придавшему этому случаю особенного значения. Он только посоветовал заниматься своим делом и больше ничего. В такие моменты особенно скрепляются узы любви между родителями и детьми. Эти два факта глубоко врезались мне в душу и сильно привязали меня к отцу. Очевидно, что даже в этих естественных — в смысле любви — отношениях между отцом и детьми необходим постоянно приток свежей пищи для чувства, иначе оно или иссякнет, или становится равнодушно — теплым.
Прежде чем окончательно перейти к моей музыкальной карьере, мне хотелось бы сказать несколько слов о всех близких, которые исключительными чертами характера влияли на наше воображение. Так, вспоминаю я маленькую, худенькую старушку, мать отца. Чтобы нас повидать, она совершила далекое путешествие на лошадях, верст 400, в неудобном татарском фургоне. Мне было не больше 3–4 лет, но образ бабушки отчетливо запечатлелся в моей памяти. Я ясно помню ее кроткие глаза и милую улыбку. Она походила на монашенку, всегда повязанная черным платочком. Трудно было поверить, что эта маленькая хрупкая старушка выкормила таких славных и рослых детей. Еще трудней было подумать, что в ее маленьком теле и под ее скромной наружностью таится болыная — большая душа. Неудивительно поэтому, что ее взрослые сыновья, давно покинувшие родной дом, перенесенные в совершенно новую среду полученным образованием, свято хранили в душе образ любимой матери. Никогда не забуду, какое впечатление произвела на них ее смерть.
Один из них, талантливый врач, человек редких душевных качеств, был ей всецело обязан своей судьбой. В то время существовал отвратительный институт “ловчих”. Только злоба и человеконенавистничество могли его выдумать. Ловчий не знал жалости, его не останавливали ни горе, ни отчаяние, ни даже смерть родителей намеченных жертв. Ловчие забирали маленьких детей от 4‑х до 12-ти лет, отдавали их в кантонистские школы[125], а оттуда в вечные солдаты. В школе детей подвергали всевозможным истязаниям при нежелании креститься. Дети постарше иногда выдерживали все испытания, а многие, крещеные 4–6 лет, впоследствии немало терзались этим. “ Пойман — ник”, как называли такого ребенка, для родителей все равно что умирал. И если иметь в виду вышесказанное, то это было хуже смерти. Каждый третий мальчик в семье мог стать пойманником. Таковым был дядя Семен. Однажды под вечер в Павлоград приехали ловчие. Совершенно неожиданно нагрянули они в дом деда. Дядя Семен, тогда семилетний мальчик, находился в школе. Дома была бабушка, которая сразу догадалась, кто эти неожиданные гости. Она сделала вид, что ничего не понимает, радушно приняла гостей и на их вопрос, где ее мальчик, ответила, что сейчас его приведет. Это было в конце января или в начале февраля, самое неприятное время в том краю. Она вышла из дому налегке, чтобы не вызвать никакого подозрения, поспешно прошла в школу и там, опять — таки осторожно, чтобы не поднимать тревоги, вызвала мальчика и, ни слова не говоря, повела его за город, где верстах в шести — восьми жил ее знакомый. Ни леденящий холод, ни пронизывающий ветер не остановили ее решения. Дорогой она только заботилась о своем любимце, всячески охраняя его от холода и лишая себя даже той легкой одежды, в какой вышла из дому Мальчика она спасла, но сама получила воспаление легких, от которого долго не могла оправиться. Слабое здоровье не мешало ей в течение многих лет считать своим долгом хоть несколько смягчать участь заключенных в тюрьме и печь для них хлеб, который она по пятницам, независимо от погоды и несмотря на далекое расстояние, сама относила в тюрьму. И это делалось не от избытка, а часто в самых стесненных обстоятельствах.
Совсем иное представлял наш дед. Это был суровый, сильной воли человек, твердого характера и несколько суровый на вид. Непримиримый фанатик в религиозном отношении и суровый деспот в семье, он создал тяжелую атмосферу для подрастающей молодежи, и если отец мой с его согласия покинул рано отчий дом, то остальные братья покидали его вопреки желанию деда. Но жизнь — могучий художник, способный превратить “кремень в воск”. Так для нас, внуков, дед был добрым, умным, величественным патриархом с длинной седой бородой и острым проницательным взглядом. Мы его горячо любили и преклонялись перед силой, глубиной и величием его чувств, какие он проявил по отношению [к] младше[му] сын[у]. Случилось так, что этот любимец семьи, будучи в университете, полюбил христианку и, чтобы жениться, должен был креститься. Невозможно описать, какое впечатление это произвело в Павлограде. Дед, вне себя от горя, отчаяния и гнева, публично в синагоге проклял любимого сына. Рана эта долго не могла зажить. Но вот ирония судьбы: дядя, будучи в университете стипендиатом, должен был впоследствии отслужить врачом. По окончании он получил назначение ехать на эпидемию как раз в Павлоград. Изменить этого нельзя было, и можно представить себе, с каким чувством он отправлялся в родной город с женой и детьми. Но изумительна и трогательна была встреча, какую старик оказал сыну и его семье. Он встретил их всех с распростертыми объятиями, и ни слова упрека не сорвалось с его уст. Что произошло в этой сильной и страстной натуре, какая эволюция чувства понадобилась для такого превращения? Обо всем только можно было догадываться. Дед ни с кем не говорил об этом. Для нас же с тех пор он был окружен каким — то ореолом, [как человек, любовью победивший страдания]. Часто перед нами молчаливо совершается великий подвиг или огромная жертва, а мы едва замечаем это.
Вспоминается мне другой дед, отец матери, живший с нами в Симферополе, полный контраст павлоградского деда, как внешностью, так и внутренним содержанием своим, он, несомненно, всей своей жизнью и деятельностью проявил то истинное душевное величие, которое целомудренно скрывают от людских глаз. В его гигантском теле таилась детски — наивная душа. Кроткий, деликатный, он с замечательным самоотвержением выполнял тяжелую задачу воспитания восьми дочерей. Рано овдовев, он не считал возможным жениться вторично, чтобы не вводить мачехи в дом к любимым детям. Вся тяжесть забот о них легла на его, правда, могучие плечи. И надо отдать ему полную справедливость, он был на высоте своей задачи. Лучший ювелир города Симферополя, он работал, не покладая рук. Обладая тонким вкусом и развитым эстетическим чувством, он любил все действительно прекрасное в своем искусстве. Лучшие дома в городе принадлежали к его клиентуре. Он пользовался редким доверием, и было за что. Драгоценности, о которых клиенты часто забывали, свято хранились им годами и возвращались собственникам. Честный до щепетильности, он был наивен как дитя; как при покупке, так и при продаже вещей. Ему неоднократно доставалось от дочерей за то, что он откровенно высказывал свой восторг, когда ему приносили продавать какую — нибудь старинную вещь прекрасной работы. И продавец при этом, естественно, удваивал предполагаемую цену. Или наоборот, когда он продавал грубо сработанную ювелирную вещь, не мог удержаться от критики и, хотя он на жаргоне определял одним непереводимым словом “шмате”[126], но покупатель по его лицу видел, в чем дело, и усиленно выторговывал понравившееся или совсем не покупал. На наших глазах он, обладатель лучшего ювелирного магазина и неутомимый труженик, постепенно беднел, так как не мог конкурировать с коллегами, не брезговавшими никакими средствами. В городе он пользовался огромным уважением и почетом. В его отношениях к внукам большую роль играло эстетическое чувство. Он любил все изящное, красивое, нарядное, а потому часто старался отделаться от нас копейкой или двумя на фрукты, если мы приходили к нему недостаточно чисто и нарядно одетые. Зато он особенно выделял старшего брата, красивого юношу, который любил принарядиться. Осмотрев его внимательно, он предлагал ему двугривенный на извозчика. В детстве эта черта деда нас сердила и вызывала критическое отношение к нему, но чем старше мы становились и начинали понимать истинную сущность его натуры, тем более привязывались к нему. Особенно любил его отец, и наш дом был для него наиболее близким. Натерпевшись немало горя от разнообразных характеров и судеб свои> дочерей, он в последние годы особенно мог оценить отношение матери, которая до последнего часа его жизни была около него и, со свойственной ей мягкостью и нежностью, старалась облегчить его страдания. Подводя итог этой полной труда, самоотверженной жизни, чувствуешь, что что — то большое и величавое прошло около нас. И если в многочисленных потомках его то тут, то там встречаются черты душевной красоты, то невольно вспоминается дорогой образ деда Д.
Я совершенно не помню всех подробностей моего поступления в консерваторию. Ко мне отнеслись очень хорошо, и я был принят к тому же профессору Беггрову, у которого учился брат Лев. В Петербургской консерватории профессор мог иметь старший и младший классы. Можно сказать, мне повезло: Беггров, по натуре мягкий и деликатный, был превосходным учителем. Он, видимо, любил педагогическую деятельность и занимался охотно и подолгу. Принадлежа к художественной семье, он тонко чувствовал искусство, и заниматься с ним было для меня счастьем. Совершенно не подготовленный предыдущими занятиями к систематической работе, я тем не менее старался изо всех сил угодить ему, и мы очень скоро как — то поняли друг друга. И я у него действительно успевал. Помню, что к концу второго года ученья он дал мне уже концерт Бетховена, ор. 15‑й с каденцией Рейнеке, и я очень недурно играл первую часть. Одновременно я посещал научные классы, и класс сольфеджио, и теории, в которых преподавателем был знаменитый А. И. Рубец. Комичная фигура типичного малоросса, человек ангельской доброты, Александр Иванович был нами всеми любим. Сколько он нашел талантов в своем Стародубе, откуда он был родом! Всех он на свой счет определял в консерваторию и заботился о них как о родных детях. О нем существует очень доброе воспоминание. Не могу сказать, чтобы мы очень слушались и чтобы теория усваивалась.
В научных классах я впервые попал в общество сверстников, мальчиков и девочек. Это совместное обучение развивало в нас рыцарские чувства. Все увлечения этого времени носили детский и невинный характер. Из всех учителей по научным предметах самое глубокое и теплое воспоминание осталось у меня об учителе словесности Петрове. Это был типичный представитель честного педагога, который даже в консерватории добивался отличных результатов. Суровый и добрый в одно и то же время, он был до щепетильности справедлив. У него не было любимцев, и он с одинаковой легкостью ставил пять последнему ученику и ноль первому, если они этого заслуживали. Своим предметом он нас чрезвычайно заинтересовывал, и многие из нас читали то, что он указывал. Домашние и классные сочинения должны были быть выполнены. За неподачу домашнего сочинения без уважительной причины получался ноль. За отсутствие на классном — то же самое. Редко кто пропускал у него: сначала потому, что боялись, потом потому, что уважали его. Он начал преподавать нам с третьего класса и сразу оказался полной противоположностью русскому учителю Григорьеву, который вследствие болезни был весьма раздражителен и часто весьма несправедлив. Я считаю, что многим в своем развитии обязан Петрову. Он возбуждал интерес к русской литературе. осторожно и бережно развивая вкус к лучшему в ней. Помню я однажды такой урок: он предложил всему классу выбрать какое угодно стихотворение и, выучив его наизусть, показать как его понимаешь, т. е. музыкально и со смыслом его продекламировать. Меня это очень занимало, и я очень усердно готовился к уроку. Выбрав не более не менее как монолог Бориса Годунова “Шестой уж год я царствую спокойно”[127], много волнений перенес я в тот день. Петров начал вызывать сначала девочек и тут же каждой ставил отметку. Долго чтение оценивалось единицей и двойкой, очень мало тройкой, и только одна удостоилась четверки. С мальчиками дело обстояло не лучше. Я по алфавиту был последним. До меня оценка все была невысокой, только передо мной товарищ и приятель мой Пешкау получил четверку. Очередь дошла до меня. Страшно волнуясь, я начал прерывающимся голосом свой монолог. Постепенно воодушевляясь, я в том месте, где Годунов говорит, что “молва лукаво нарекает виновником дочернего вдовства меня, меня, несчастного отца”, стал ударять себя в грудь и закончил монолог с большим подъемом. Наступила томительная пауза, после которой послышался голос Петрова: “Что же, поставим пять”. Какое — то совершенно особенное чувство глубокого удовлетворения охватило меня. Тут дело было не в пятерке, а в признании за мной способности понять и исполнить поэтическое произведение, да еще такого поэта, как Пушкин. Я долго не мог успокоиться. И мне все казалось, что какие — то новые горизонты раскрылись передо мной, тем более что в это время в моей душе происходил перелом: литература и поэзия привлекали мое вни мание не менее, а даже более музыки. Причина заключалась в том, что я попал в другие руки по музыке, и она постепенно теряла для меня свое обаяние, а окружающая жизнь, с которой мне пришлось близко познакомиться, громко кричала о бесполезности искусства и ненужности его и т. д. Нигилизм был тогда в полной силе. Мне казалось, что так как деятельность, приносящая осязательную пользу, лучше музыкальной, и я стоял на перепутье, не зная, что предпринять. Но об этом необходимо подробно рассказать. А пока я кончу о Петрове.
Сама идея, заставить класс от времени до времени осмысленно произносить выученное стихотворение, кажется мне в высшей степени удачной. Особенно — скажу — в музыкальном учреждении, где необходимо научиться владеть всеми тонкостями оттенков, ценить паузы, знаки препинания, интонации голоса и т. д. Если всему этому научиться до тонкости на стихотворениях или даже на красивой прозе, то это несомненно может иметь большое значение для выразительного исполнения музыкальных произведений. Таким образом устанавливается глубокая связь между поэзией и музыкой, и одно помогает другому. Если из сотни читателей едва десяток добирается до настоящего смысла стихотворения и только единицы умеют его правильно и красиво произносить, то ясно, насколько дело обстоит хуже с музыкой. Анализируя стихотворения, разбираясь во всех их тонкостях, мы несомненно помогаем и музыке.
В этом смысле попытки Петрова имели огромное значение. Правда, он исходил не из музыкальных соображений, а из чисто литературных, но этим можно иначе воспользоваться для специально — музыкальных целей. Помню я также и сравнение двух одинаковых по теме стихотворений: подробный анализ “Пророков” Пушкина и Лермонтова. Помню, как поразил меня окончательный вывод. Стихотворение Лермонтова сильнее и лучше. В музыке мы найдем сотни таких примеров, особенно в песнях и романсах, где музыка на один и тот же текст чрезвычайно разнообразна. И не всегда самый гениальный композитор бывает прав (“Миньона” Гете — музыка Бетховена, Шуберта, Шумана, Гуго Вольфа, Чайковского, Метнера). Все эти попытки Петрова показывают, какой это был вдумчивый и славный педагог и как мы многим ему обязаны. Он так себя поставил в классе, что малейшее внимание с его стороны необычайно ценилось. Поэтому понятно, как я был счастлив, когда по окончании научных классов получил от него в подарок его хрестоматию, которую долго берег. Он, вероятно, давно умер, так как уже в начале 80‑х годов был немолодым. Пусть мои запоздалые воспоминания и сердечная благодарность явятся венком на могилу славного, честного, благородного старого учителя, воспоминание о котором и сейчас живо в моей душе.
К моему глубокому сожалению, я учился у Беггрова только два сезона. За это время я выступал уже на вечерах и успел зарекомендовать себя с хорошей стороны. Помогало мне много и то, что брат мой Лев был одним из лучших учеников Беггрова и действительно хорошо играл, так что имя Шор было уже в некотором роде рекомендацией. Я ему вообще многим обязан.
В Петербурге мы поселились вместе, заняв небольшую комнату в четвертом этаже с небольшим окном во двор в Эртелевом переулке[128]. Наш хозяин — швед относился к нам хорошо. Хозяин был портным, и мне чрезвычайно нравилась трудовая атмосфера нашей квартиры. По — русски он говорил очень курьезно, и мне стоило большого труда удержаться от смеха, слушая его. Первое время пребывания в Петербурге я очень тосковал по дому. Комната в четвертом этаже казалась тюремной клеткой. Грязный вонючий двор нисколько не привлекал к прогулкам. Пока брат бывал дома и занимался, я не чувствовал такой тоски, но когда он уходил на уроки, и я оставался один, то не находил себе места. И в такие моменты зайдешь, бывало, к Августу Васильевичу Дальквист (имя нашего хозяина) в мастерскую. Он сидит на возвышении, поджав под себя ноги, и аккуратно шьет мундир с золотыми пуговицами. “Август Васильевич, кому вы шьете мундир?” — спрашиваю я. ”На датский посланник своя секретарь”, — отвечает старик. Я неугомонно продолжаю свои расспросы, пока он, раздосадованный, не скажет: “Какой вы любопучечный, Тафит Соломонович!” И я ухожу к себе работать.
Трудно было мне, десятилетнему южанину, выросшему больше на дворе, сразу очутиться в условиях петербургской студенческий жизни. Брат сколько мог старался облегчить мне тяжелое первое время. Но ему необходимо было отлучаться и на уроки, которые являлись единственным источником нашего скромного существования, и в консерваторию на занятия. Я старался забываться за работой, но тоска так грызла, что часто, не выдержав, я горько рыдал, отлично понимая, что этим не помочь. Но все же мне становилось легче после этого. Постепенно я втягивался в трудовую студенческую жизнь и все реже тосковал, утешая себя предстоящими в далеком будущем каникулами, когда поеду домой. Брат подавал мне прекрасный при мер упорной систематической работы. Он делал большие успехи и играл превосходные вещи. Мне оставалось следовать его примеру, что я и старался делать.
Общей радостью нашей было возвращение домой на каникулах. Для всех это было праздником, о родителях и говорить нечего. Лето также проходило в работе. Беггров много задавал, и надо было все приготовить. Отец, довольный и счастливый, восхищался нашим репертуаром. Помню, какое впечатление производил на него А-мольный концерт Гуммеля, который брат отлично играл. Кажется, мы его даже публично исполняли на двух роялях. В первые годы каждое возвращение обратно в Петербург было довольно тяжким, и вот однажды, вернувшись после каникул, мы узнали, что Беггров душевною болезнью заболел и в консерваторию больше не вернется. Горе всего класса было безгранично. Все его горячо любили, и не только как прекрасного учителя, но ценили в нем человека редких качеств. Мы точно осиротели, особенно остро было горе брата. Он уже находился на пути к окончанию и считался одним из лучших учеников в классе. Я помню, говорили также об отличной пианистке Бертенсон Воронец; и вот приходилось переходить к другому профессору, привыкать к новым требованиям и подвергнуться некоторой ломке. Наступили для нас трудные дни. Брат остановился на молодом профессоре Климове, который потом был директором музыкального отделения в Одессе. Через два года он кончил консерваторию с большой серебряной медалью, а затем, к сожалению, принял приглашение в Пензу, где сделался любимцем всего города и работал 40 лет. Говорю “к сожалению”, так как несомненно, если б он продолжал работать, то добился бы большой артистической известности. Для этого у него были все данные. Принял он место, желая скорей стать самостоятельным и помочь отцу, которому нелегко жилось. Провинция, как всегда, засасывает, и надо иметь огромнее мужество и большое внутреннее содержание, чтобы с нею бороться.
Для меня наступил период музыкальных мытарств. Меня назначили в класс профессора Аменда, воспитанника Лейпцигской консерватории времен Мендельсона. По — русски он мало понимал и еще меньше мог объясняться. Это был человек сухой немецкой выправки, и после Беггрова учиться у него мне было крайне тяжело. Вместо благородного облика любимого учителя. которому длинные зачесанные волосы с проседью и борода придавали что — то мягкое и величавое в одно и то же время, на меня глядели большие, круглые, как у совы, глаза. Совершенно голый череп и какая — то неповоротливость всей фигуры производили странное и неприятное впечатление. Он меня не понимал и не хотел понимать, а я никак не мог постигнуть, что мне делать. Не могу сказать, чтобы он был плохой учитель. Мой товарищ Пешкау очень хорошо успевал у него, но все это не выходило за пределы какой — то ремесленности. Самый репер туар. музыкально — бессодержательный, не удовлетворял меня. У меня явились уже известные запросы. Наступил период перехода к юношескому возрасту. Я много читал, думал и переживал. В музыке я благодаря Беггрову научился любить содержательное, и творения гениальных композиторов привлекали все мое внимание. Я жаждал играть Бетховена, Шопена, Моцарта. Возможно, что мои технические средства были недостаточны и требовали еще большого развития, но играл ведь я у Беггрова концерт Бетховена, и недурно, а гут меня сразу засадили за репертуар Лютша. за скучнейшие этюды. Я изнывал от тоски и не знал, что делать, как примирить требования профессора со своими стремлениями. Пробовал иногда приносить что — либо самостоятельно выученное, но это только вызывало гнев учителя. Так промучился я года два, мало двигаясь вперед, а в это время мой товарищ Пешкау и другие отлично успевали. Причина моего неуспеха, очевидно, была во мне, а не в моем учителе. Я был недостаточно послушным и безответственным учеником, которым каким желал меня видеть Аменда. Стипендиат, я позволял себе иметь свое мнение. Для 14 — 15-летнего юноши это было слишком. Отсюда все наши недоразумения.
Когда я много лет спустя прочитал очаровательную маленькую автобиографию Грига (“Мой первый успех”)[129], я вполне понял Аменда. Он был двойником Плэди. Ведь они были одной школы и одного направления.
Через два года Аменда покинул Петербург, и я попал в класс профессора фан-Арк. Это был несомненно хороший учитель и благородный человек, как я имел случай убедиться в этом впоследствии. Ученик Лешетицкого, он даже несколько напоминал его лицом, как мне тогда казалось. Лешетицкий незадолго до моего приезда покинул Петербург, чтобы основаться в Вене. Его портрет висел в том классе, где занимался фан-Арк. Если Аменда, благодаря незнанию языка, говорил сравнительно мало, то в этом упрекнуть фан-Арка нельзя было. По поводу какой- либо ошибки он начинал такую окольную речь, что трудно было добраться до настоящего смысла ее. Так, например, сделаешь ошибку в этюде или в пьесе. Вместо того, чтобы просто указать на нее, фан-Арк спрашивает, знаю ли я, где находится мини стерство просвещения. Я с удивлением смотрю на него во все глаза и отвечаю утвердительно. “А как вы туда пройдете?” Я отвечаю, указывая ему на ближайший путь. “А не пойдете ли вы так или так?” — продолжает он, называя самые отдаленные от цели улицы. “Нет”, — отвечаю я. “Ну вот и в нотах следует делать то же самое, т. е. избрать ближайший путь от ноты к ноте, а не фальшивить через фальшивые”. Несколько минут ушло на разговоры, а я все же нахожусь остаюсь в каком — то недоумении относительно самой ошибки. Это было бы все ничего. Вся беда и здесь была в репертуаре. До сих пор не могу понять, что заставляло таких дельных учителей держаться таких композиторов, как Велле, и не в виде этюдов, как, например], “Les arpeges“ Велле, а в виде пьесы, и довольно трудной, “Baube“ Велле. Не знаю, почему я не мог одолеть этой пьесы, но она мне положительно не удавалась. Если бы профессор хоть объяснил, для каких целей эта пьеса, то это разъяснение несомненно помогло бы, но тогда считалось невозможным входить в подробные разговоры с учениками, а мое поведение казалось преднамеренным упрямством, и, таким образом, отношения с учителем портились. Но теперь я был не один. У меня в это время был друг и товарищ, с которым мы много беседовали, многое вместе обдумывали, и он подобно мне тяготился такими занятиями. Мы подвергали строгой критике и репертуар, и самые занятия. В конце концов мы пришли, нам тогда казалось, к очень разумному заключению совсем перестать ходить в класс и заниматься самостоятельно.
Николай Иванович Шванвич, производивший на первых порах странное впечатление, был в высшей степени чистым и благородным юношей. Вследствие катаракты на обоих глазах, он носил с детства какие — то особенные очки. Отсутствие полного зрения приучило его вдумываться во все окружающее, и на все у него выработался своеобразный и интересный взгляд. Я любил с ним беседовать, меня привлекали к нему и его чистота, и какая — то цельность мысли и чувства, и строго определенное мировоззрение. Мы сделались закадычными друзьями. Он был одновременно и в классе специальной теории, и в классе фортепианном. Как случилось, что из несомненно талантливого, и по композиции, и по фортепиано, юноши ничего не вышло, для меня совершенно непонятно. Возможно, что и здесь замешана славянская лень, хотя это мало на него было похоже. Или еще какие — либо причины. Судьба его вообще была очень сложна. С раннего детства он был лишен родительского надзора и влияния. В Петербурге он жил у дяди. С ранних лет он был вполне самостоятелен.
Наше решение должно было, конечно, привести к катастрофе, что и произошло на так называемом проверочном экзамене, который заключался в том, что несколько профессоров во главе с директором являлись в класс и заставляли играть без подготовки, причем “лучшие” назначались играть на публичном экзамене. У нас со Шванвичем были самостоятельно приготовленные вещи. Мы надеялись так или иначе выяснить наше положение, но прежде, чем нас заставить играть, директор просмотрел журнал и увидел, что мы чуть не полгода отсутствовали. “Шор, отчего вы отсутствовали?” — спросил он. У меня в то время немного болела рука, и я ответил, что отчасти из — за руки. “А вы, Шванвич, отчего?” — не дал он мне кончить. “Мне не хотелось”, — был его ответ. “И мне не хотелось”, — прибавил я. Эти слова произвели впечатление разорвавшейся бомбы. Профессора веко чили со своих мест и громко заговорили. “Er ist dumm”[130], — произнес Лютш, указывая на Шванвича. Только два человека сохранили спокойствие: фан-Арк и директор. Последний строго обратился ко мне и строго сказал: “Зайдите ко мне потом в кабинет, а теперь можете оба уйти”. Мы вышли глубоко смущенные, но с чувством некоторого облегчения.
Так или иначе, а судьба наша должна была решиться. Впрочем, Шванвич был в лучших условиях. Он посещал две специальности и был платным учеником. Я же был стипендиатом и легко мог лишиться стипендии. К этому времени я жил вполне самостоятельно, т. е. имел уроки, к которым относился очень внимательно и добросовестно. Начал я их давать лет с 14-ти. Первый урок мой был за Московской заставой. Езды на конке туда было час, час с четвертью. Получал я рубль с четвертью за урок. Часто я делал это расстояние пешком и приблизительно в то же количество времени. Успех моей маленькой девятилетней ученицы побудил ее тетушек обратиться ко мне. Сначала я не мог себе представить, как я буду заниматься со взрослыми дамами, но потом и тут дело пошло довольно успешно. Педагогический багаж мой был невелик, но опыт приобретался на практике, а желание быть полезным и добросовестное отношение к делу явились являлись главными двигателями. Вскоре я даже приобрел некоторую известность и в уроках не нуждался.
Старший брат давно уехал в Пензу, и вместо него приехал в Петербург другой брат мой, Иосиф, который поступил на естественный факультет. Через него я попал в новую среду, студенческую. Я видел увлечение естественными науками, восторг и преклонение перед их представителями. И наоборот, пренебрежительно — снисходительное отношение к искусству. Переживая в это же время и свою музыкальную неудачу, я, разумеется, задумывался не раз над тем, отдать ли всю жизнь, энергию и все силы на занятие, которое не приносит человечеству настоящей пользы? Политическая жизнь кипела в тогдашнем Петербурге. Народовольческое движение было в разгаре. Литература призывала к служению народу, а тут приходилось учить и играть вальс Велле. Положение поистине было трагическое, и я не видел выхода из него. Вот в каком настроении я находился, когда директор позвал меня к себе для разговора.
Никогда не забуду я этого замечательного человека, одна внешность которого внушала любовь и уважение. Карл Юльевич Давидов[131], знаменитый виолончелист, замечательный музыкант и талантливый композитор, принадлежал к тем людям, которые всюду с собой вносят элемент доброты, благородства и тонкой гуманности. Когда я мальчиком в первый раз встретился с ним лицом к лицу на лестнице в консерватории, то остановился как вкопанный, пока он проходил. Мне казалось, что я вижу любимое лицо отца, и я до сих пор не уверен, было ли на самом деле это сходство, или я сразу к нему почувствовал то же чувство, как что чувствовал к отцу. Сын немецкого доктора из Прибалтийского края и матери — еврейки, воспитанный в Москве, он, скажу словами Гейне о Шопене, наследовал лучшие качества всех трех наций. В нем была немецкая глубина и серьезность, духовный аристократизм и всеобъемлющая любовь к человеку старой нации, давшей миру так много аристократов духа, и душевное благородство лучших представителей русской нации. Как артист, он смело мог бы занять место рядом с теми мировыми знаменитостями, про которых я упоминал, но, занятый директорством, он сравнительно мало времени уделял этой деятельности. Петербургский квартет Ауэр — Пиккель — Вейкман-Давидов был на большой высоте, и я скажу, благодаря Давидову, хотя и все остальные артисты тоже содействовали совершенству ансамбля. Говорю так, оттого что несколько лет спустя мне пришлось присутствовать на репетициях камерного ансамбля с участием Давидова и я убедился, какой это был тонкий музыкант, глубоко проникавший в самую сущность музыкального произведения и при этом руководивший ансамблем с редкой деликатностью. Но об этом после. Давыдов — солист являлся примером благородного виртуоза, для которого техника — средство для более высокой цели — верной и тонкой передачи самого произведения. Он владел в совершенстве своим инструментом, и в его исполнении была какая — то целомудренная сдержанность, которая не всегда могла захватить большую аудиторию, но музыкантам доставляла большое наслаждение. В этом отношении его ученик Вержибилович, обладая сильным чувственным тоном и темпераментом, мог захватить большую публику. Давидов к этому и не стремился. Математик по образованию, высоко развитый, он обладал какой — то особенно гармоничной натурой. Достигнув артистического признания всей Европой, он понимал призвание артиста так: […][132]
Что сказать о Давыдове директоре? Положительно, трудно изобразить словами ту атмосферу любви, которая образовалась вокруг любимого директора. Консерватория со всем разнообразным своим составом, от маленьких детей 6 — 9-ти лет до зрелых людей 30–33 лет, представляла точно одну семью, отцом — радетелем которой был директор. Он входил во все нужды учащихся. Нужны сапоги, а денег нет, идешь к директору. Не хватает на самую скромную жизнь, опять директор выручает, и все с особенной деликатностью, без излишних расспросов и все с полным доверием. Я глубоко уверен, что если и были кое — какие злоупотребления доверием директора, то весьма незначительные. Мы его слишком любили, уважали и ценили, чтобы грубо эксплуатировать его доверие. Помню, как однажды, встретившись со мной на лестнице и ответив на мой привет, он остановился, посмотрел внимательно мне вслед и затем, подозвав, велел в приемный час зайти к нему. Я, признаться, смутился и стал припоминать, нет ли каких грехов за мной. Робко вошел я в кабинет директора, ожидая какого — нибудь выговора. Вместо этого он ласково спросил, почему я хожу в таких поношенных брюках. Я смутился и заявил, что не успел купить новых. “Это А когда же, Шор, вы их заведете?” — “Когда получу деньги с уроков”, — “Ну так позвольте мне из ученических сумм выдать Вам 10 рублей”. И дал мне уже приготовленный ордер в кассу на получение денег из его собственных сумм. Он, несомненно, часто свое жалованье раздавал ученикам… Учащиеся платили ему горячей любовью. День рожденья директора был всеобщим праздником. Задолго собирались и обсуждали все подробности чествования, и собирали деньги на цветы. В этот день кабинет директора представлял собой сад живых цветов. В течение дня мы все приветствовали и поздравляли Карла Юльевича, а он, растроганный, ласково принимал наши поздравления. Помню я, как однажды разнеслась весть, что директор по болезни уезжает лечиться, а потом и совсем покидает консерваторию[133]. Поднялся настоящий стон. Повсюду заплаканные лица учениц и мрачные физиономии учеников. Появились адреса с сотнями подписей, умоляющие директора остаться. Депутация от учениц и учеников уговаривала его не покидать консерваторию. Кругом плач, просьбы, мольбы, и Карл Юльевич, тронутый до слез и действительно больной, дал слово вернуться. Проводы его за границу носили совершенно исключительный характер. На Варшавском вокзале собралось человек 500–600 учащихся. У всех в руках цветы. Время в политическом отношении было тревожное (80‑е годы)[134], и я помню, как полиция, не зная о проводах директора, была обеспокоена таким собранием молодежи с цветами в руках. Ко многим из нас подходили и справлялись, в чем дело. Поезд после третьего звонка еще минут пять простоял на вокзале. Невозможно было пускать его, так он был облеплен молодежью. Наконец он медленно — медленно трогается, Карл Юльевич у окна, бледный, измученный и, видимо, расстроенный, посылает нам поцелуи, а мы идем до конца платформы за его вагоном. Часть учащихся ушла вперед, чтобы еще и еще раз забросать его цветами.
Несмотря на свою доброту и мягкий характер, он был очень требователен там, где дело касалось искусства. Оркестровый класс при нем находился на большой высоте, а о камерном и говорить нечего. При нем была введена эстетика, преподавание которой взял на себя его бывший ученик, а затем преподаватель и профессор консерватории, Л[иверий] Антонович Саккети. тогда молодой человек. Саккети вносил много энтузиазма в свои лекции, и если не было полной самостоятельности в этих беседах, то зато было много юношеского увлечения с обеих сторон и стремления постичь прекрасное. На экзаменах директор строго преследовал лень и нерадение, и вот к нему я должен был явиться, чтобы объяснить свое более чем странное поведение. Я глубоко убежден до сих пор, что если бы на месте Карла Юльевича был другой человек, то моя судьба иначе решилась бы. Положение было в высшей степени серьезное. Публично на экзамене, в присутствии других профессоров нами был оскорблен мальчишеским ответом почтенный профессор.
“Как же теперь быть?” — спрашивал директор и затем пожелал узнать, в чем дело. Я, волнуясь до слез, открыл ему свою душу и рассказал о всех своих переживаниях. Рассказ мой, видимо, произвел на директора впечатление. Он задумался, затем с упреком сказал: “Отчего же вы мне ничего не сказали прежде? Ведь я все уладил бы”. Я ответил, что не считал возможным беспокоить его своими личными делами, и извинился за свое волнение. “Ничего, Шор, мы это все как — нибудь уладим. А теперь пойдите и успокойтесь”. И действительно, дело уладилось, хотя и не надолго.
Несомненно, однако, что фан-Арк проявил здесь немало благородства, отнесясь снисходительно к нам, и вообще, когда я с ним расстался, у меня осталась о нем только самая лучшая память. И когда много лет спустя мы встретились на похоронах Антона Рубинштейна, то встреча была дружеской. Я ни минуты не сомневаюсь, что фан-Арк был прекрасным учителем и хорошим человеком. Но что — то мешало нам понять друг друга, и это служило препятствием в наших занятиях. К сожалению, это часто бывает, и особенно при занятиях музыкой. Такая пианистка, как покойная Нарбут — Грышкевич, может служить прекрасной рекомендацией профессору. Она не только ценила профессора фан-Арка, но глубоко уважала его как человека. Во всяком случае, я с благодарностью вспоминаю о нем и уверен, что вина наших отношений лежала также и на мне. Так или иначе, но я стремился вырваться из тех музыкальных тисков, в какие я попал. Я много разучивал самостоятельно, и довольно крупные произведения Мендельсона, Шопена, Бетховена и Чайковского, фортепианные сочинения которого тогда только появлялись. Мне хотелось попасть в старший класс, куда фан-Арк меня не пускал. Я решил действовать смелее и надумал следующее.
После Лешетицкого в консерваторию профессором был приглашен Брассен. Был ли для него сделан особенный отбор, или по какой другой причине, но класс его отличался выдающимися пианистами. Незадолго кончил у него В. И. Сафонов, в классе учился Бенш, отличный пианист, живший потом в Харькове, пианистка Генко и много других. Я пошел к нему на дом, чтобы поиграть и попросить принять к нему в класс. Это было ранней весной. Он жил на Конногвардейском бульваре[135]. Часов в одиннадцать утра я позвонил к нему, но мне ответили, что профессор спит и раньше часа дня его видеть нельзя. Другой раз я явился к часу, и все же мне пришлось подождать его. Меня это необычайно поразило. Я не представлял себе, что можно спать так поздно, и в первый раз в жизни натолкнулся на это. Брассен ни слова не говорил по — русски. Ему очень помогала его ученица, потом жена, Валлеронт. Она знала меня и брата по консерватории. Профессор меня внимательно выслушал и остался доволен сыгранными пьесами. Потом заставил меня играть гаммы и всякие другие технические упражнения. И решил так: чтобы я за лето главным образом приналег на технику; осенью он меня примет в свой класс. Я был совершенно счастлив, так это решение разборчивого профессора убеждало меня в том, что мне работать стоит и толк будет. Кроме того, теперь мне уже было 17 лет и надлежало решить свою дальнейшую судьбу.
К этому времени взгляд на искусство вообще и на музыку в частности у меня окончательно установился. Класс эстетики, знакомство с художниками, писателями и любителями музыки все более и более убеждал[и] меня в огромном значении искусства в жизни. К писателям я относился с особенным пиететом. И вот вспоминается мне молодой начинающий литератор Чудновский, брат товарища по консерватории. Он дебютировал, и очень удачно, рассказом “Степняк Соломон”, напечатанном в журнале “Восход”. Я увлекался этим рассказом и относился с большим уважением к молодому писателю, который всегда был необычайно молчалив и меланхолически настроен. Он приходил ко мне, становился в угол и просил играть Бетховена (особенно он любил сонату “Quasi una fantasia”[136]). Он простаивал иногда очень долго, до тех пор пока я не переставал играть, и затем молча уходил. Я был очень расположен к нему, и мне его было глубоко жаль. Окончательно выяснить причину его меланхолии мне не удалось, но кое — что я все же узнал. Не знаю, по какой причине ему пришлось креститься, и это его постоянно грызло. Дальнейшую судьбу его не знаю, но кажется, что он скоро умер. На нем я видел, какое действие и какое значение может иметь музыка. Он всегда говорил о ней с каким — то особенным чувством и подъемом.
Познакомился я также с известным петербургским художником Микешиным. Однажды я ему сыграл балладу Ф-дур Шопена, и он по поводу ее нарисовал словами целую картину, пожалуй, очень подходящую к содержанию баллады. 1‑я часть — рассказ верного старого панского слуги о былой жизни старого польского замка. Жизнь мирно и покойно текла, как и самая музыка. Ничто не предвещало катастрофы. Но вот пан воевода вызван на ратное дело. Он неохотно покидает замок и наказывает слугам беречь молодую панну. Победно возвращается он через некоторое время, радостный и довольный. Он приближается к замку и удивлен, что его никто не встречает. Наконец он вступает в самый дом и всюду встречает растерянных слуг. “Где панна?” — спрашивает он. Все молчат. “Где панна?” — со скрытым беспокойством повторяет он, и получает в ответ — “исчезла скрылась!”. 2‑я часть. Нет пределов его ярости. Он рвет и мечет, бросается в покои, где они провели столько счастливых часов, и их пустота действует на него ошеломляюще. Все кипит внутри. Сдерживаемые рыдания готовы вырваться наружу, на время он затихает. Рассказ продолжается уже не так покойно. Снова проходит былая жизнь, но в ней уже чувствуется отступление, которое приводит к 3‑й части. Полный страдания, гнева и ярости, он бросается вон из замка и на лучшем скакуне несется в погоню. Вот — вот, казалось, он настигнет беглецов. Наконец настиг. Но панна была мертва. Это заключение напоминает конец баллады “Лесной царь” — “Das Kind war tot”[137]. Удивительно, что музыка Шопена и Шуберта почти аналогична в этом заключении. Оба после фермато** заканчивают речитативом, полным какой — то безнадежности и безвыходности.
Меня поразила быстрота, с какой воображение художника создало целый рассказ в течение 8–10 минут исполнения баллады. Некоторою новостью явилась для меня самая возмож ность такого толкования музыки, т. е. вкладывания в нее программы. Должен сознаться, что все это произвело на меня сильное впечатление и заставило о многом подумать.
В это время я много учил самостоятельно и должен был исключительно полагаться на музыкальный инстинкт. Я старался проверить себя, играя перед товарищами, мнением которых дорожил. Это были большей частью теоретики, т. е. будущие композиторы. По окончании обязательной теории мне захотелось пройти и специальную. Для этого я поступил в класс инспектора консерватории Юлия Ивановича Иогансена. который был профессором гармонии, контрапункта и т. д. Тут я и познакомился со специалистами — теоретиками и часто до начала класса или по окончании занятий играл любимые сочинения Чайковского, нередко удостаиваясь одобрения товарищей, которое было для меня весьма ценно. Возможно, что я по неопытности утрировал в исполнении. Так мне главным образом хотелось быть выразительным, но это как раз и вызывало одобрение слушателей. Впоследствии я убедился в том, что чувство — необходимое условие художественного исполнения, является ахиллесовой пятой исполнителя.
Я упомянул имя Юлия Ивановича Иогансена и не могу не сказать несколько слов о нем. Должность ли инспектора заключает в себе нечто административно — полицейское, или Юлий Иванович своеобразно понимал свои обязанности, но он был всегда как — то мало доступен, суров, требователен и суховат. Учащиеся его не любили, и рядом с директором Давидовым инспектор Иогансен представлял как бы полный контраст. Но вот я попадаю в класс профессора Иогансена, и передо мной совершенно другой человек. Необычайно добросовестный внимательный учитель, он любил свой предмет и с любовью относился к своим ученикам. Холодный на вид, Юлий Иванович увлекался в классе, объясняя что — либо интересное, заражал нас своим увлечением. Передо мной был совсем другой человек. Добрый, мягкий, отзывчивый и чуткий к душевным запросам учеников, Юлий Иванович вызывал горячую симпатию к себе со стороны тех, кто его знал с этой стороны. Вот почему мне не хотелось пропустить случай помянуть теплым задушевным словом того, кого мало ценили как человека, благодаря инспекторской должности. Это наводит невольно на размышления о том, что часто люди гораздо лучше на самом деле, чем кажутся, но редко кто находит свою настоящую дорогу на жизненном пути и, попадая в иные, неподходящие, условия, искажают свой истинный характер или, вернее, те же черты характера, которые в одном случае дают положительное, в других, напротив, дают отрицательное. Учитель Иогансен у меня оставил самое лучшее воспоминание. Как я был рад, когда открыл в нем редкого человека.
Музыкальные впечатления мои к этому времени чрезвычайно обогащались. Посещая квартетные собрания, я имел возможность слушать лучшие классические произведения, также сочинения новых композиторов в превосходном исполнении Петербургского квартета[138]. Помню, как однажды днем, в зале Квартетного о[бщест]ва мне пришлось в первый раз услышать своего будущего учителя, тогда еще совсем молодого В. И. Сафонова. Он, кроме трио Шуберта, исполнял вместе со своим учителем Брассеном вариации Шуберта Х-молль в четыре руки. Они их играли на двух роялях. Впоследствии Сафонов объяснял это тем, что в педализации у них было некоторое разногласие, но мне кажется, что истинная причина лежала в том, что, оба очень полные, они не могли свободно поместиться за одним инструментом. Но дело не в этом, а в том, что как я, так и мой друг Шванвич были восхищены великолепным, тонким и в высокой степени художественным исполнением. Брассен принадлежал к тем пианистам, кот[орые] не обладают большим темпераментом и стараются главным образом музыкально и совершенно передать самое произведение. Он не захватывал своим исполнением, но давал немало прекрасных моментов. На этот раз вариации были исполнены с большим подъемом, и мы невольно отнесли это на долю молодого Сафонова. Он произвел на нас обоих тогда очень сильное впечатление.
Вспоминается мне и выступление д’ Альбера. тогда юноши 18— 19-ти лет[139]. Он всех поразил виртуозной законченностью и, главным образом, горячим темпераментом, не нарушавшим нигде художественности. Его тотчас же стали сравнивать с Рубинштейном. Публика восторженно принимала юного артиста, и он дал несколько концертов в зале Квартетного о[бщест]ва. Меня особенно поразил в его исполнении этюд C-dur Рубинштейна. Впоследствии в Москве мне приходилось слышать более законченное исполнение д’Альбера, когда он в Большом театре исполнял два концерта — Шопена и Листа. Но никогда больше в его игре не чувствовалась та юношеская непосредственность и искренность, которые так пленили и захватили в первый приезд его. Говорили, что немецкие критики осуждали богатство темперамента д’Альбера, и он потом стал сдержанно играть. Не знаю настоящей причины, но зрелый д’Альбер много уступал юному. Не могу представить себе, как играл юный Антон Рубинштейн. Но когда я наконец получил возможность услышать того, о котором я всегда мечтал, то в полном смысле слова я был счастлив. Это было на репетиции симфонического концерта. Рубинштейн исполнял 4‑й концерт Бетховена G-dur. Как передать впечатление от его игры? Это был верх совершенства. Прежде всего, рубинштейновский тон! С чем его можно сравнить! Полный, сочный и одновременно мягкий, гибкий, он проникал в душу как дивный голос превосходного певца. Законченность исполнения, полная глубокая продуманность, необычайная рельефность всего важного, надлежащая выразительность и какая — то особенная картинность, как будто артист все время что — то изображает. И при всем том поразительная ритмическая свобода, в которой проявлялся художественный темперамент, — все это давало слушателю не только глубокое наслаждение, не только было поучительно для музыкантов, но давало то, что называется счастьем. Как иначе могу я назвать то состояние, какое я тогда переживал? Все кругом приняло праздничный вид. Какой — то восторг охватил душу. Казалось, что приобщился к чему — то новому, великому. Мы окружили эстраду, и на наши настойчивые просьбы Рубинштейн сыграл экспромт C-moll ор. 90 Шуберта. Никогда я не предполагал такой дивной красоты в этой вещи. С первой ноты мы как зачарованные стояли около рояля, а звуки лились, росли и наполняли весь зал. Казалось, что всюду одна красота и нет ничего выше гениального творения гениально исполненного. Да, повторяю, Рубинштейн — иснолнитель разливал вокруг счастье. В самом радужном настроении вернулся я домой в свою убогую комнатку, которая показалась мне большой, светлой и нарядной. Я сел к своему плохенькому пианино и, с умилением вспоминаю свою милую наивность, старался извлечь из него хоть сколько — нибудь похожий звук на тот, какой звучал в моих ушах. Целый час я бился над первой фразой шубертовского экспромта, пока не успокоился. Праздничное настроение меня во весь день не покидало. С того дня я узнал, что такое гениальный артист. Сравнивать кого — нибудь с Рубинштейном это кощунство. Такие артисты… но ведь я об артисте Рубинштейне уже говорил.
На тех же репетициях симфонических концертов[140] я познакомился с симфонической литературой старого и нового времени. Один сезон этими концертами управлял Ганс фон Бюлов. Превосходный дирижер, он часто замечательно проводил программу, но странное и неприятное впечатление производила его манера дирижировать: юркий и гибкий, он при пианиссимо[141] чуть не приседал на корточки, при фортиссимо[142] — вырастал и поднимался на носках, словом, был очень неспокоен за дирижерским пультом. То вдруг обернется к публике, продолжая дирижировать, а то и совсем перестанет управлять оркестром и как бы сам слушает, что последний играет. Все это производило впечатление “манеры”, а не вытекало из каких — либо внутренних потребностей. Возможно, что такое отношение к исполнению было вообще свойственно Бюлову, а может быть, тогда смотрели еще на нас как на музыкальных варваров, перед которыми можно себе все позволить. Решаюсь так предполагать вот почему: как — то в разговоре с доктором Ремергом, военно — медицинским инспектором сначала Кавказа, а потом и всей России и большим любителем музыки, в доме которого я тогда давал уроки, я высказался против манеры Бюлова дирижировать. Ремерт со мною согласился и при этом сказал, что он присутствовал за границей на придворном концерте, когда Бюлов дирижировал, держа себя очень покойно и сдержанно. Неоднократно с тех пор я возвращался к мысли: нужно ли дирижеру проявлять свой темперамент в усиленных движениях, не мешает ли это, в сущности, и музыкантам, и публике. Рубинштейн сидел за инструментом как гигантская бронзовая статуя, с маленьким на клоном вперед. И когда, бывало, статуя шелохнется, предательский клок волос упадет на лоб и руки подымаются несколько выше, тогда в зале проносился могучий звуковой подъем, от которого волосы на голове шевелились. Достаточно вспомнить конец А[пассионаты] или последний этюд ор. 25 Шопена. И чем скромнее движения, тем сильнее впечатление от подъема. Это следовало бы помнить и дирижерам. Когда Чайковский увлекся дирижированием Никита, то он главным образом указывал на его незаметные, какие — то магические движения, под обаянием которых оркестр становился неузнаваемым. Со временем, избалованный любимец, дирижер стал прибегать к более сложным движениям, но нужно ли это. Когда человек уверен в своей правоте, то он не суетясь, спокойно настаивает на своем. Излишняя суетливость — признак некоторой слабости.
Пушкин так просто и хорошо сказал об этом: “Служение муз не терпит суеты, — прекрасное должно быть величаво”[143].
О чудачествах Бюлова существует много рассказов, и некоторые из них достойны внимания. Так, например, когда он старался пропагандировать Брамса, то не останавливался перед неуспехом у публики. И когда однажды ему стали шикать после исполнения симфонии Брамса, то он, не задумавшись, обратился к публике с речью, в которой объяснял значение Брамса. В заключение он прибавил, что так как нового композитора трудно понять сразу, то он считает долгом повторить симфонию. После повторения шиканье усилилось.
Останавливаюсь так долго на Бюлове, потому что это был замечательный музыкант. Обладая небольшой рукой, он тем не менее достиг поразительных [технических] результатов. Для этого ему часто приходилось создавать для себя особое “дуагтэ”[144], не для всех рук удобное. Его издание крамеровских этюдов стало в полном смысле слова “классическим”. Нельзя того же сказать о сонатах Скарлатти, где некоторые добавления лишают сочинения особого аромата времени, который часто составляет прелесть произведения. Иногда, впрочем, небольшие изменения служат к несомненному улучшению или, лучше сказать, остроумно раскрывают таящиеся в произведении возможности. Это, например, можно сказать о capriccio[145] I-moll op. 5 Мендельсона, пьесе, изумительной по мастерству, тонкости и зрелости работы молодого композитора.
Когда юный Мендельсон, будучи в Париже, играл эту пьесу знаменитому тогда маэстро Россини, то тот все время сквозь зубы шептал “ca. Scarlatti”[146]. Мендельсон жаловался на это другу своему, Фердинанду Гиллеру, и заявил, что больше не станет играть Россини.
Бюлов небольшими изменениями или правильнее добавлениями сделал из этой пьесы произведение большого виртуозного стиля, нисколько не нарушая его характера. Сонаты Бетховена, изданные под редакцией Бюлова, мало, в сущности, дают учащимся, и единственно ценными являются остроумные замечания, аналогии, сравнения и т. п. Прав Рубинштейн, на душе которого нет греха переделок чьих — либо произведений: “Я играю по Баху, — говорил он, — а не по Черни или Кролю”. Впрочем, он все играл по — рубинштейновски… Бюлов же, напротив, во многом грешен в смысле переделок, с которыми часто нельзя согласиться. Обладая гениальной памятью, он совершал чудеса в этой области. Вся музыкальная литература была у него в голове. Все фортепианные сочинения Бетховена он играл наизусть. Он исполнял на память целые симфонические программы. Однажды ему пришлось исполнить новый концерт Раффа, который он только мог просмотреть в поезде за день до концерта. На репетиции были кое — какие остановки, но в концерте все прошло благополучно. Впрочем, присутствовавший при исполнении автор, узнав при каких условиях был выучен концерт, пожелал, чтобы друг его в другой раз заблаговременно занялся новой вещью. Как исполнитель, Бюлов главным образом поражал необычайной обдуманностью, глубокомыслием и отделкой подробностей. Он не захватывал своей игрой, она вся была какая — то головная, без темперамента.
Его чрезвычайно ценили, и я склонен думать, что с него пошло в Германии то направление “сдержанной” игры, которое обратило в свою веру даже такого горячего артиста, как Евгений д’Альбер. Во всяком случае, Бюлов был замечательным музыкантом и крупным артистом.
Помню, как однажды, это было в 1903 г., на одной неделе мне пришлое сравнить трех дирижеров. В Берлине, в концерте филармонии дирижировал Никиш, знаменитый артист в апогее славы, чувствовал свою силу. Оркестр повиновался малейшему его желанию, мастерски выполняя все его требования. Застывшая, полная внимания публика следила за всеми движениями дирижера и наслаждалась тонкими оттенками. Чувствовалось, что все внимание сосредоточено не на том, что играют, а на том как исполняют. Понимал это дирижер, чувствовал [это] оркестр, изо всех сил стараясь быть на высоте требований дирижера, чувствовала это и публика, чутко прислушиваясь к тонкостям. Очевидно, и я находился под обаянием “исполнения”, так как никак не могу вспомнить, что исполняли. Через два дня в Лондоне в “Куинс Hall” я слушал молодого английского дирижера Генри Вуда[147]. Ни темпераментом, ни внешностью Вуд не напоминал англичанина. Тогда еще молодой человек, полный надежд и стремлений, он уже пользовался любовью английской публики. Известная поклонница русской музыки миссис Роза Ньюмарч написала о нем целую книжку и усердно его пропагандировала[148]. Вуд, также поклонник русской музыки, настойчиво и охотно исполнял ее. Особенно удавался ему Чайковский. И на этот раз была исполнена 4‑я его симфония. Ни оркестр, ни дирижер не могли сравниться с тем, что давала филармония, и, однако, все же исполнение Вуда оставляло впечатление наивной непосредственности увлекающейся молодости. Чувствовалось, что дирижер любит то, что исполняет, и сам рад, когда все намерения удаются. Не может быть и речи о сравнении, ведь Никиш, в сущности, “единственный”. Еще через два дня в том же Лондоне я слушал оркестр под управлением Ганса Рихтера. За дирижерским пультом стоял настоящий патриарх с длинной седой бородой. Исполнялась симфония Моцарта Es — clur. Никогда не испытывал я большого наслаждения от самого композитора. На этот раз дирижер был исключительно занят тем, чтобы достойно представить Моцарта. Все ценное и важное в музыке оттенялось просто, естественно, без излишнего пафоса и без подчеркивания. В спокойных и уверенных движениях патриарха чувствовалось сознание своих сил. Он не думал о публике, так как был занят Моцартом. Он не старался показывать свое умение, не обнаруживал своих огромных дирижерских дарований, считал все только средством для передачи более важного — творения Моцарта. Он подошел к той высшей артистической ступени, когда артист во всеоружии всех средств стушевывается перед значением самого творения и говорит нам: “Слушайте Моцарта, а не Ганса Рихтера или Никита”. Много лет прошло с тех пор, и Рихтер уже умер. Но и сейчас в моей душе живы воспоминания об этой замечательной, скромной и глубокой передаче Моцарта.
В это время в Петербурге выдвигалась молодая русская школа композиторов[149], поклонников программной музыки или, вернее, музыки с программой. Горячие споры за и против не умолкали в музыкальной среде. Появлялись сочинения Бородина, Римского — Корсакова, на музыкальное поприще вступал юный Саша Глазунов, как все его звали. Я помню его в мундирчике реального училища, на репетициях симфонических концертов Музыкального общества, окруженного заботливым вниманием Бородина, Римского — Корсакова и других “кучкистов”. Возможно, что тогда исполняли его сочинения, даже наверное.
Помню Римского — Корсакова в морской форме. Он мне чрезвычайно нравился своей прямотой и правдивостью, которые чувствовались во всем его существе. Мальчиком я старгшся отвесить ему глубокийншй поклон при встречах в консерватории. Ученики много о нем рассказывали. Большинство очень его любило, но были и критикующие. Некоторые говорили, что он отрицает классиков и считает Бетховена устарелым и очень критикует его сонаты. Последнее мнение меня несколько восстановило против него. Но впоследствии я узнал, что это совсем не так. Юный задор молодой школы, сначала все отрицавшей, постепенно с приобретением опыта и знаний уступил место более зрелым суждениям, особенно у Римского — Корсакова, который больше своих товарищей понимал значение знания. Я был свидетелем, как на экзамене формы, разбирая сонаты Бетховена, он восхищался многими из них. Помню, что мне попался ор. 79-д, небольшая соната № 25. Она меня измучила при разборе: я затруднялся определить вторую тему, побочную партию. Можно было за таковую считать такты от 24–32, но это во всяком случае не настоящая побочная партия. С этим я и подошел к экзаменационному столу. Моим экзаменатором был Римский- Корсаков. Когда я рассказал ему о своем затруднении, то он сначала усомнился в отсутствии побочной партии, но, просмотрев внимательно сонату, согласился со мной и после этого очень снисходительно экзаменовал меня.
Инструментовку преподавал Анатолий Лядов, который, очевидно, тяготился преподавательской деятельностью, или ему очень не по душе была обязательная инструментовка, то есть занятия не со специалистами.
Он редко приходил в класс, и когда приходил, то задавал сразу писать квартет или другой ансамбль, тогда как мы понятия не имели о самих инструментах. Мы его ценили как музыканта, но ничему у него не научились. Я говорю о первой половине 80‑х годов, возможно, что позже, становясь зрелее, он к делу относился иначе и знаний приобретал больше. За это говорят и те воспоминания о нем, какие вышли тотчас после его смерти. От всей души присоединяюсь к мнению, что в лице Лядова русская музыка имела аристократа духа, предъявлявшего самые высокие требования к искусству. Многие из его прелюдий тонкостью чувств, изяществом и благородством подтверждают это мнение. Воспоминания эти, написанные Вальтером Городецким и Витолем, производят самое лучшее впечатление. В душе остается светлый образ тонкого, изящного и требовательного музыканта, для которого “красота” и “истина” были нераздельны. Тем непонятнее нападки на эту книгу со стороны “Музыкального современника”[150]. Ее, наоборот, следует настойчиво рекомендовать.
Перехожу к личной жизни. К этому времени я был уже совершенно самостоятелен. У меня были уроки, доходы от которых вполне окупали скромную студенческую жизнь. Неоднократно являлось желание помочь отцу, и, кажется, это удавалось, особенно во время каникул летом. У меня всегда по приезде в Симферополь бывали уроки, и я не только охотно, но с особенной радостью делился с отцом. Да и как же иначе. Несмотря на различие характеров, стремлений, наклонностей, братья и сестра жили между собой очень дружно. Нас объединяла любовь к родителям и друг к другу. Эти любовно — дружеские отношения, сложившиеся в раннем детстве, остаются и сейчас такими же через 40 лет, несмотря на то, что у каждого своя семья и разнохарактерное потомство. Я приписываю это той атмосфере любви и нежности, заботливости, какими мы были окружены в детстве. Ни время, ни расстояние не влияли на наши отношения. С отцом я всегда находился в частой переписке и посвящал его до поры до времени во все мелочи переживаемого. Но вот в моей жизни наступила пора увлечений, о которых я не особенно распространялся. Впрочем, многие из них носили совершенно детский характер и продолжались в промежутке между концом мая и серединой августа, когда я вновь уезжал в Петербург. Увлечения эти действовали на меня благотворно в том смысле, что возбуждали энергию совершенствоваться, чтобы заслужить внимание и предпочтение. И я действительно энергично работал, играл, читал и учился. Особенной любовью моей пользовалась семья Якобсон в Симферополе. Отец, Исаак Яковлевич, имел совершенно артистическую внешность. Это был талантливый юрист и в свое время единственный, кажется, мировой судья из евреев. Он был вдовцом, и у него было четверо детей: три сына и одна дочь. Музыка была его страстью, и играть с ним в четыре руки было наслаждением. Большую часть свободного каникулярного времени я проводил у них. Семья была в высокой степени просвещенная, и старший сын Виктор, мой ровесник или несколько моложе меня, отлично учился в гимназии, был очень начитанный и развитой юноша. Ничего не предвещало в нем будущего крупного сионистского деятеля. Все — воспитание, знакомство, уклад жизни — шло как бы вразрез с патриархальным еврейством, а между тем именно эти дети от первого брака Исаака Яковлевича — все сделались убежденными еврейскими общественными деятелями. Кроме Виктора, крупной работницей была сестра его — Лида. Голубоглазая, тонкая, нежного сложения, она не походила на дочь своего народа. Девушкой — гимназисткой она была далека от его интересов. А между тем по окончании гимназии и Высших курсов она всей душой отдалась народному делу. Что бы она ни делала, она всюду вносила глубокую сердечность и мягкое благородство.
В 1907 г. я нарочно два дня посвятил на то, чтобы с ней повидаться. Это было в Палестине. Она была замужем за доктором Малкиным и жила в колонии Рош — Пина, продолжая с мужем служение народному делу.
Я выехал из Тивериады в Табху на лодке по озеру. Там переночевал, и на другой день за мной из колонии приехал арабпроводник с лошадью для меня — только верхом можно было туда проехать. С этой стороны другой дороги нет. Через несколько часов пути мы приехали в большую колонию Рош — Пина. Сердечна и тепла была наша встреча. До глубокой ночи мы никак не могли наговориться. Для нас обоих так странна и необычна была встреча именно в Палестине, какая которая, однако, чрезвычайно напоминала нашу родину, то есть юг России — Крым. Я должен был в пять часов утра тронуться в путь, и мы дружески простились. Она скоро должна была стать матерью, и муж чрезвычайно внимательно и бережно относился к ее положению. Не подозревал я тогда, что она скоро покинет этот мир. Об этом я узнал впоследствии. Вспоминая сейчас ее детство, отрочество, юность и последующий период, я могу только сказать, что тихо и скромно прошла благородная жизнь, полная глубокого содержания. Была ли она когда счастлива? Не знаю. Но думаю, что такие натуры своеобразно понимают счастье. Она шла по избранному пути, спокойно и безропотно, хотя на этом пути встречалось немало препятствий. Она была любящей дочерью, преданной сестрой, верным другом и все свои способности и силы отдала народному делу. Спи спокойно, дорогой друг. Ты вернулась в лоно ветхозаветной матери любимой и достойной дочерью. Я никогда при жизни не решался сказать тебе, как ты мне была дорога, но теперь не могу не сознаться, что много прекрасных юношеских побуждений было вызвано твоим кротким образом. И сейчас при воспоминании о тебе слезы накипают в душе, как от прекрасной, глубокой, печальной музыки.
Перебирая в памяти все события моей жизни в Петербурге до 16-ти лет, я не могу вспомнить ни одного увлечения. Петербургский ли климат, или время с сентября до мая, или суровые условия жизни не располагали к этому, но я не припомню ни одного случая. А между тем и в научных классах мы [вместе] учились с очень милыми подростками, и на уроках мне приходилось иметь дело с очень милыми и интересными ученицами. Особенно вспоминается мне семья Ремерт. с которой я был очень дружен. Старший сын, окончивший морское училище, был очень дружен со мной и братом Львом. Он недурно играл, кажется самоучкой, и страстно любил музыку. Это был в высокой степени интересный человек с особенными запросами жизни. Где — то он теперь? Жив ли? Через него я познакомился со всей семьей. Отец жил на Кавказе, а мать с детьми в Петербурге, и только летом они ездили к отцу в Абастуман. Благоразумная и душевно развитая мать старалась дать детям самое лучшее воспитание. Каждый из членов семьи представлял особый интересный мир. Я занимался с дочерью Ниночкой, которой было тогда лет 12–14. Умненькая, развитая и чрезвычайно своеобразная, она необычайно сознательно относилась к занятиям. Приходилось все до последнею ноты ей объяснять, чтобы ни в чем не было сомнения. Тогда она отлично приготовляла свой урок. Эти уроки были и мне полезны. Надо было подтягиваться и быть готовым ответить на самые неожиданные вопросы. Урок проходил у нас очень оживленно, и каждая пьеса и этюд приобретали особое название соответственно их характеру. Мать была довольна успехами дочери и вообще благоволила ко мне. Я в это время упрямо проводил в жизнь демократизацию, носил косоворотку и галоши считал роскошью. Умная и тонкая госпожа Ремерт отлично понимала, что во мне происходит, и избегала споров на эту тему. Но вот однажды зимой, придя [на урок] как всегда в косоворотке и без галош, я в свою очередь получил следующий урок. Как я ни вытирал ноги в передней, но снег сильно приставал к подошвам и, оттаявши во время урока, образовал на паркетном полу лужу, которая меня чрезвычайно смущала. По окончании урока госпожа Ремерт, у которой были гости, вошла в зал, внимательно взглянула на лужицу и, позвонив, приказала вытереть пол. Затем, как ни в чем не бывало, пригласила меня в гостиную, чтобы познакомить с каким — то высокопоставленным лицом. Смущенный всем предыдущим, я, ссылаясь на то, что в косоворотке мне неудобно знакомиться, старался отклонить ее предложение. Тогда она совершенно серьезно сказала мне: “Если вы считаете возможным приходить к нам в косоворотке, против чего я ничего не имею, то почему же это может служить помехой к знакомству с другими, а что касается лужицы у рояля, то против этого главным образом будет моя горничная”. После этого мне ничего не оставалось, как пойти в гостиную. Косоворотка и пренебрежение к галошам не выдержали такого искуса. С Ниной я продолжал заниматься, а с семьей Ремерт поддерживал самые дружеские отношения. Добрая госпожа Ремерт относилась ко мне как мать и, не стесняясь, откровенно высказывала мне то, что считала нужным. А я принимал это с благодарностью. Сам Ремерт, когда бывал в Петербурге, благосклонно относился ко мне и был доволен занятиями детей. В музыке он считал себя знатоком. Может быть, он и был таковым. Как — то я обращался к нему за советом, как к врачу: от октав у меня выступила шишка около кисти, затвердевшая жидкость около сухожилия, что часто случается с пианистами. Сначала он шутя рассказал мне о том, что студентом он страдал тем же, и однажды, возвращаясь несколько навеселе домой, он вступил в борьбу с городовым, который хотел его задержать, и во время схватки шишка исчезла. Но когда я не согласился прибегнуть к такому средству, он дал мне хороший совет — смазать йодом и приложить некоторую тяжесть, которая постоянно давила бы на шишку (два серебряных рубля, положенных на шишку, дали хорошие результаты).
Общественное положение Ремерта все время повышалось, но это нисколько не влияло на наши отношения. Когда через несколько лет я навестил Ремертов, которые жили на Караванной, занимая министерскую квартиру с огромными комнатами, то встретил ту же простоту отношений и то же радушие. Ниночка вышла замуж и однажды, проезжая Москву, вместе с детьми навестила меня, чем доставила огромную радость. Сама она казалась старшей сестрой, а не матерью, до того она была миниатюрна и нежна. Через несколько лет она умерла. Не знаю, что стало с остальными членами этой семьи. Жизнь как — то разъединила нас.
В памяти осталась у меня поездка в Кронштадт по приглашению Саши Ремерта. Зимой верст 7 приходилось ехать по морю, на лошадях, чтобы попасть в крепость. Концерт происходил в офицерском собрании, в зале которого стоял хороший инструмент. Слушали очень хорошо и принимали артистов прекрасно. Моряки это умеют. Вспоминаю скромное помещение Саши Ремерта, где я ночевал, разговоры на разные темы, отъезд мой часов в 7 утра обратно в Петербург. И от всех этих воспоминаний веет какой — то грустью. Что — то было, прошло, и нет его.
Однажды я был приглашен аккомпанировать молодой певице. Это занятие мне нравилось. В консерватории существует прекрасный обычай: учеников старших классов заставляют аккомпанировать в классах пения. Я не имел тогда опыта, но все же от времени до времени охотно услуживал товарищам — певцам. В то время в классе профессора Эверарди было немало замечательных певцов. Учились тогда Тартаков, Лодий, госпожа Тиме и много других. Я помню прекрасно постановку “Дон Жуана” Моцарта. Лепорелло отлично исполнял Габель, впоследствии инспектор и профессор консерватории. Тартаков поражал не только красивым голосом, но и врожденным инстинктом быстро находить соответственное выражение для совершенно новых романсов Чайковского. Тогда мало развитой, мало образованный и очень грубый по натуре, он был для меня загадкой. Откуда берет он эту тонкость исполнения, откуда это проникновение ii сущность произведения? Неужели достаточно обладать только голосом и музыкальностью? Но нет. Вероятно, Тартаков потом много работал над своим развитием. Он прекрасно создавал некоторые роли и до последнего времени не переставал отлично петь.
Вернусь к своему новому занятию. Это была молодая девушка очень красивой и интересной наружности. Она жила с матерью. Они, видно, были гречанки. У обоих был какой — то испуганный вид, или, вернее, что — то глубокое и серьезное они пережили. В глазах у дочери я всегда читал застывшую печаль. Совершенно не знаю подробностей их жизни, но что — то трагическое чувствовалось и в окружающей обстановке, и в обоих женщинах… Это невольно возбуждало мою симпатию к ним, и я старался по возможности быть полезным ученице своими советами. Однажды мать после занятий попросила меня поиграть. Я охотно исполнил целый ряд вещей и, окончив, был поражен впечатлением, какое моя игра на нее произвела. Она была тронута до слез. “Ваша игра, — сказала она, — напоминает мне игру моего сына”. Фамилия этих дам мне не была известна, так как я был приглашен от имени лица, которое я редко там встречал. На мой вопрос, кто ее сын, она ответила: “Известный на юге пианист Масалов”. Я был поражен в первый момент и готовился уже рассказать историю наших занятий, но, тотчас же сообразив, что это может огорчить почтенную даму, ничего не сказал. Внутренне же почувствовал какое — то удовлетворение.
Однажды большой любитель музыки, присяжный поверенный Михайлов, пригласил меня играть с ним в четыре руки, и я убедился, что просвещенные дилетанты в высокой степени полезны искусству. Он обладал прекрасной нотной библиотекой, и чего — чего мы с ним не переиграли. Он заражал меня своей бескорыстной любовью к музыке, и я никогда не считался со временем, которое проводил у него. А как это было полезно! Он знакомил меня с музыкальной литературой и особенно останавливался на любимых вещах своих, которые готов был повторять без конца. Таким образом, вкус мой развивался, и я не могу не вспомнить с благодарностью этого просвещенного любителя.
Вспоминаю еще один несколько странный урок, рекомендованный мне знаменитым петербургским врачом Зеленским. Занятия происходили в комнате рядом с ссудной кассой. Проходить приходилось через самую кассу. Дочь содержательницы кассы, милая развитая девушка, прекрасно занималась. Несоответствие наших занятий с тем, что происходило в соседней комнате, так бросалось в глаза, что невозможно было обойти его молчанием. Нередко приходилось беседовать на эту тему, и я убедился, что она и старший брат ее, реалист, не дождутся, когда станут самостоятельными, чтобы развязаться с тяготившей их кассой. Я, конечно, всячески их в этом поддерживал, и вот интересно мне теперь, через 35 лет встретиться с ними. Что они поделывают?
К этому времени относится событие, взволновавшее всю консерваторию и послужившее темой для рассказа Потапенко (тогда ученика консерватории по классу драматического искусства) [“Проклятая слава’’][151]. Это было самоубийство 14-летнего скрипача Каминского. Как сейчас помню его маленькую изящную фигурку, тонкие черты лица, белокурые волосы и совсем детское личико. Необычайно живой, гибкий и шаловливый, он положительно ничем не давал повода предчувствовать возможность такого трагического поступка. Замечательный скрипач, он являлся украшением класса профессора Ауэра, поражая [недетской] зрелостью своего исполнения и удивительной для его лет техникой. Он был общим любимцем и баловнем, консерваторской гордостью. Что могло произойти в этой маленькой душе? Что должен был пережил бедный ребенок, чтобы повеситься на струне (кажется, так окончил он жизнь)? Все это осталось тайной. Я помню и отца его, который часто приходил за сыном в консерваторию. Он, кажется, тоже был скрипачом. Можно себе представить, какой это был удар для родителей. Рассказ Потапенко написан прекрасно, но вряд ли все происходило так на самом деле. Впрочем, мне было тогда 15 лет, и я мог многого не знать, тогда как Потапенко, заинтересованный, мог, наоборот, все разузнать.
В то время не было такого количества юных талантов, как теперь, и смерть Каминского произвела потрясающее впечатление. Совсем незаметно прошло пребывание [в консерватории] будущей гордости России, Рахманинова. Я помню его маль — [чи]ком лет 9-ти. Букв “л” и “р” он совсем не произносил, и мы часто спрашивали у него какой у него завтрак, зная, что ответ будет: “Буйка с ябиновым вайеньем.” Он очень недолго пробыл в Петербурге. Впоследствии мы уже встретились в Москве. Помню я начинающего скрипача Эмиля Млынарского. со старшим братом которого — виолончелистом Францем — я был знаком через виолончелиста Константина Хоста, моего приятеля. Франц был несомненно очень одарен и мог бы быть хорошим виолончелистом, но поздно как — то начал и не вполне отдавался музыке. Зато Эмиль быстро успевал и к моему отъезду из Петербурга был уже недурным скрипачом. Впоследствии он отдался дирижерской деятельности и сделался очень популярным в Англии. Он проявил дарование и как композитор. Его скрипичный концерт часто исполняется. Эмиль оправдал возложенные на него надежды.
В мое время консерваторию кончил[и] М. М. Ипполитов — Иванов, А. Э.фон-Глен, скрипач Горский, пианисты: Домашевский, Раигоф, Лавров, Бенш, Косовский, Л. Шор, Ф. Блуменфельд и мн. др. Певцы: Тартаков, Лодий, Габель; певицы: Тиме, Салима, Зарудная и др. Всех не упомню, но многие заняли видное место на музыкальном поприще, а некоторые приобрели большую известность… Я упоминал имя виолончелиста Хоста [через него произошло знакомство], с которым тесно связывается все направление моей следующей жизни. Через него произошло знакомство.
Когда и как я с ним познакомился — не помню. Знаю только, что сойтись с ним было легко. Добродушный, наивный и чрезвычайно обязательный, он был дружен чуть ли не со всей консерваторией. Тромбонист по специальности, он вынужден был перейти на виолончель из — за болезни груди. Однажды, ветретив меня в консерватории, он говорит, что имеет для меня недурной урок, и если я согласен его взять, то он готов сейчас же со мною туда пойти, тем более что это недалеко от консерватории. Театральный переулок был недалеко от Разъезжей улицы, надо было пройти только Чернышевский переулок[152]. Я охотно согласился, и мы отправились. Дорогой он несколько раз, добродушно усмехаясь, говорил мне, что заниматься придется с очень маленькой ученицей. Я совершенно серьезно отвечал, что у меня уже была маленькая ученица и я знаю, как вести начальное преподавание. Вскоре мы подошли к воротам одного дома, вошли во двор и в глубине у вторых ворот поднялись в третий этаж. Нам отворила дверь добродушная прислуга и просила обождать в гостиной. Из большой и светлой передней одна дверь — против парадной — шла в кухню, тоже светлую и очень чистую, другая — против окна передней — была закрыта, а третья, с левой стороны, вела в гостиную. Я останавливаюсь на всех подробностях, так как с этого момента в моей жизни наступила новая эра. Пока хозяйка дома не появлялась, я внимательно осматривал все кругом, и от всего получалось впечатление чистоты и порядка. В небольшой гостиной не было ничего лишнего. Большое место занимал рояль фабрики Шредера, очень хорошо поставленный к свету. Между двумя окнами стояло трюмо. Диван, два кресла, стол, покрытый ковровой скатертью, на котором стояла лампа, несколько стульев — вот приблизительно вся обстановка. Вот и все. Ничего лишнего. Не успел — я еще разобраться [На полу простенький ковер, а в углу две тумбочки с канделябрами] и этажерка. Вот и все. Ничего лишнего. Не успел я еще разобраться в своих впечатлениях, как дверь отворилась и вошла молодая хозяйка[153]. На всей ее фигуре, изящно и просто одетой, лежала печать энергии и силы. Все: движения, походка, взгляд — выражало смелость и уверенность. Передо мной стояла чрезвычайно красивая особа. Все в ней было прекрасно. Высокая, стройная, она держалась прямо. Красивые пушистые волосы спускались длинной косой, открывая прекрасный лоб. Она смотрела на меня ласково и слегка смущенно, пока приятель мой рекомендовал меня. Очевидно, она не ожидала увидеть такого юного учителя и не была уверена в том, что я гожусь для такой роли. Мне шел шестнадцатый год, но я уже три года давал уроки. Успехи моих учениц давали мне некоторую уверенность, но тут я почувствовал робость, и, чтобы скрыть смущение, я подошел к роялю, попробовал его. Инструмент мне очень понравился, и я охотно поиграл на нем. Моя игра, очевидно, произвела впечатление, и мы очень быстро решили вопрос о времени занятий и об условиях. Но так как приятель всю дорогу уверял меня, что ученица будет очень маленькая, то я с некоторым недоумением ожидал, что мне ее покажут. Наконец я спросил: “Где же ученица? Я желал бы ее видеть и с нею познакомиться”. На мой вопрос раздался гомерический хохот моего приятеля, а хозяйка, густо покраснев, заявила, что, очевидно, кузен ее пошутил, так как она и есть та ученица, о которой он говорил. Мне стало очень неловко, и я не на шутку рассердился на товарища. Ведь этим вопросом я точно подчеркивал, что ей поздно учиться, а между тем, в ее желании учиться и в стремлении к искусству было так много трогательного, что к этому надо было особенно бережно отнестись. Я извинился как мог за свой неловкий вопрос и поспешил проститься с новой ученицей. На обратном пути я всю дорогу пробирал товарища, дал ему понять, что это была неудачная шутка. Но он так добродушно смеялся и уверял меня, что это пустяки, что кузина отнеслась очень добродушно к его шутке и что — пока я одевался в передней — она поблагодарила его за рекомендацию, и он полагает, что я произвел хорошее впечатление. Все это меня несколько успокоило, и я стал с нетерпением дожидаться дня, назначенного для урока.
От приятеля я узнал, что кузина его живет самостоятельно, работая и управляя типографией брата, помещавшейся тут же, этажом ниже. Что прежде она работала наборщицей для изучения всего дела и вообще никакой работы не боится и никакой работой не гнушается. Что ее заветное желание заняться музыкой только теперь могло осуществиться, и что если она за что берется, то всей душой отдается делу. Все это вместе с впечатлением, вынесенным мною от первого посещения, как — то особенно заинтересовало меня новой ученицей, и мне хотелось оказаться на высоте своей новой задачи. Я уходил после каждого урока взволнованный и разгоряченный упорным желанием дать возможно больше за уроком. Ученица была старательна, внимательна и аккуратна, но руки не отличались необходимой гибкостью, и она не отличалась быстротой соображенья, зато все, что становилось понятным, прочно усваивалось, и я могу сказать, что успехи были недурные, даже весьма недурные. Для меня урок перестал быть уроком. Я ждал дня наших занятий как праздника и никогда не замечал времени. Оно почему — то в эти дни двигалось необычайно быстро. Мое состояние не могло, конечно, укрыться от моей ученицы, которая, однако, ничем не обнаружила, что замечает его. Раз только, во время игры в четыре руки, она как- то ошиблась, и я сгоряча схватил ее за руку и сжал крепко, отчего точно электрический ток прошел по всему телу у меня; когда же при повторении она сыграла верно, то я — сам не знаю, как это случилось, — взял и поцеловал ее руку. Она быстро сбоку взглянула на меня, но ничего не сказала. Я боялся, что она может посмотреть на это как на дерзость, а между тем я был переполон уважения и благоговения. Я все ценил в ней: и ее самостоятельность, и ее прямой, открытый характер, который давал ей силу и смелость ничего не скрывать, и ее правдивость, и энергию, и какую — то ши[роту] натуры, которой чужда была всякая мелочность. Я находил в ней качества, которыми сам не обладал, и поэтому особенно горячо ценил ее \их 1… В мою жизнь врывалось что — то новое, большое и прекрасное, от чего она получила особенный смысл и значение. Все невзгоды как — то меркли перед внутренним светом, который еще только теплился где — то далеко в глубине. На лето я уехал домой и гам, среди новой обстановки и среди новых знакомств, я не то что забыл свою ученицу, нет, я вспоминал ее довольно часто и даже рассказал о ней своему брату Александру, с которым мы были особенно дружны, но на этом как — то успокоился. Лето всегда вносило массу новых впечатлений. Время быстро пролетало. Несмотря на жару, приходилось много играть, давать уроки, читать, а вместе с тем совершались и прогулки, иногда даже экскурсии, довольно отдаленные. И вот в вихре летней жизни мое чувство к новой ученице ушло куда — то вглубь. Наступала осень, а с нею вместе и поездка в Петербург. Подъезжая к Петербургу, я испытывал точно угрызения совести и все думал о том, как мы встретимся. Устроившись с братом Иосифом где — то на Мойке, чтобы ему было ближе к университету, я немедленно отправился на Разъезжую. За лето ученица моя поправилась, похорошела еще больше и посвежела. Встреча была дружеская, но какой — то холодок чувствовался в ее шутливых вопросах о проведенном времени. Дело в том, что я обещал писать и. кажется, ни разу не написал. Меня же с первого момента свидания охватило такое волнение, что я едва мог говорить. Я смотрел на нее во все глаза и чувствовал себя точно виноватым. Постепенно, однако, лед таял, и между нами снова установились прежние дружеские отношения. Нет, не прежние. С каждым днем мое чувство росло и крепло. Чем больше я узнавал ее, тем больше ценил. Она ничего от меня не скрывала, и ее прямота и правдивость, а также доверие, которым она меня удостаивала, привязывали меня к ней все больше и больше. Рано захватило меня искреннее горячее чувство, и для меня наступила пора сложных переживаний. Я совершенно не представлял себе, как в этом признаться, как об этом сказать. Не знал я, как она к этому отнесется. Я несомненно чувствовал дружеское расположение с ее стороны, но это могло относиться и к моей юной педагогической добросовестности или могло быть серьезным ответом на то исключительное внимание и видимое предпочтение, какое я ей оказывал. В ее присутствии я всегда охотно играл, горячо рассказывал о прочитанном, какой — то подъем духа помогал мне все это делать довольно удачно. Не избалованная жизнью, пережив очень много, она могла чувствовать естественное расположение к юноше, на которого она производила такое впечатление. Но как она отнеслась бы, если бы этот юноша вздумал бы ей, окруженной поклонниками, говорить о своих чувствах… Вот что меня волновало и мучило. И действительно, что я, в сущности, из себя тогда представлял? Ученик консерватории, который вследствие недоразумения с учителями не мог по — настоящему идти вперед. Правда, я работал самостоятельно и много, был полон надежд, делал успехи, но ничем особенно не выделялся. На что же я мог рассчитывать? Много мучительных сомнений и душевных страданий пережил я в это время. И наконец — сам не знаю как и когда — набрался я смелости, чтобы признаться в своих чувствах. И, Боже, как я был счастлив, встретив] сочувствие. Какою гордостью наполнялось мое сердце, какие новые силы влились в мою душу. Я готов был обнять весь мир. У меня точно крылья выросли. Она — недоступная, сдержанная — меня любит. Она, которая могла бы легко сделать, как говорят, “выгодную партию”, остановила свое внимание на самом скромном из своих поклонников, на бедном ученике консерватории. Можно представить себе, как бесконечно дорога сделалась для меня та, о которой я едва смел мечтать. Я ничего не приписал себе, а все отнес на ее счет. Я проникся глубокой благодарностью к ней и дал себе слово быть достойным ее. Отныне вся энергия должна быть направлена на совершенствование и на самоусовершенствование. Только теперь я понял, что значит работать по — настоящему. Все мои мысли, желания, стремления сосредоточились на ней. Мне хотелось сделать все возможное, чтобы она была счастлива. Казалось, нет такой жертвы, которой я не желал бы принести ради нее. Она стала для меня тем солн цем, вокруг которого двигался весь мой внутренний мир. Тщательно скрывал я от всех все, что переживал. Я боялся быть непонятым, боялся какого — либо неосторожного прикосновения к тому, что считал своею “святая святых”. Так, лелея в себе свое чувство, я переживал его серьезно и глубоко, чувствуя, как под его влиянием расширяется мой внутренний мир. Я жаждал подвигов, и мечты далеко уносили меня от действительности. Мое личное чувство не ограничивало, а расширяло чувство любви вообще. Под его обаянием все становились мне дороги и близки. Моя любовь к искусству, к людям, к жизни расширялась, и я чувствовал, что расту духовно. И всем этим я был обязан моей милой и дорогой ученице. Самое желание ее учиться музыке, желание, которое не вытекало ни из обстановки, среди которой она выросла [жила, ни] из среды, из которой она вышла, ни из воспитания, ни из условий жизни, получало в моих глазах какое- то особое значение. Ведь “музыка”, которую я к тому времени окончательно полюбил и которой себя всецело посвятил, являлась, таким образом, связующим звеном, которое сплетало наши сердца. В моей душе слились воедино “музыка” и “она”.
В таком состоянии постоянных душевных переживаний протекли последние два года моего пребывание в Петербурге. Возле меня был преданный друг, с которым я мог делить радости и печали. Когда она, разрумяненная морозом, свежая и прекрасная, появлялась неожиданно в моей крохотной комнатушке на Мойке, где мы жили с братом, то мне казалось, что все озаряется каким — то волшебным светом. Я был преисполнен любви, благодарности и благоговения к той, которая внушила мне так много прекрасного. А она? Что происходило в ее душе? Что переживала она? Подобно солнечным лучам, под благотворным влиянием которых все расцветает, так расцветала она под обаянием охватившего ее чувства. Жизненная энергия удвоилась. Чувство ее ко мне обрекало ее на борьбу с близкими, которые не были довольны ее выбором. И если мне явно не выказывали нерасположения, то я все же это чувствовал. Возможно, что против меня лично ничего не имели, но были недовольны нашим взаимным расположением, которого скрыть мы никак не могли. Предстояла длительная и упорная борьба. Она спокойно и сознательно шла на это. Вспоминая здесь этот период времени, я не могу не признать, что мне приходилось смотреть на нее [нее] снизу вверх. И сейчас — через много лет — снова переживая былое, я с грустью думаю о себе и с гордой радостью о ней. Все великое и прекрасное в жизни свершается верой и любовью. И вот на склоне дней я утверждаю, что, как истинно верующий и благоверный еврей говорит “пусть отсохнет десница моя, если я забуду тебя, Иерусалим”[154], так каждый из нас должен сказать своей избраннице: “Ты одна на всю жизнь, и пусть отсохнет десница моя, если я забуду Тебя”. Пусть проза жизни ядовитым жалом отравляет красоту, поэзию и прелесть ее. Вот тут — то и надо находить в себе силы и внутреннее содержание, чтобы противостоять этой отраве. Такое противоядие раз и навсегда парализует действие яда… Сейчас не место обо всем этом распространяться. Мне придется к этому вернуться после, а теперь буду продолжать. Мы, южане, мало чувствуем весну. Она как — то незаметно на юге переходит в лето. Зато на севере весна особенно прелестна. После туманной, серой, снежной зимы она вносит какую — то бодрость и радость в серую петербургскую жизнь. Задолго ее начинаешь чувствовать. Зимняя суровость сменяется весенней мягкостью. Под живительными лучами весеннего солнышка снег тает и разливается ручейками. Всюду возникает жизнь. Появляются чирикающие птички. Подснежники высовывают свои голубые головки из — под снега. И человеческая душа начинает выпрямляться под влиянием волшебницы — весны. Все это я перечувствовал и пережил, когда однажды весною очутился далеко от Петербурга и провел несколько часов один. Моя ученица уехала в Киев по каким — то делам и в этот день должна была вернуться. Я рассчитал время, и чтобы встретить ее часа за два от Петербурга на станции Любань, должен был выехать с утра, а ее поезд приходил часов в б — 7 вечера. У меня в распоряжении было несколько часов, в течение которых я был предоставлен себе самому. Была та весенняя пора, о которой я говорил выше. На душе у меня было тяжело. Неясное и неопределенное будущее пугало меня. Я был собою недоволен. Музыкальные занятия мои с фан-Арком хотя и наладились, но отношений настоящих не было. А между тем я внутренне был готов к каким угодно музыкальным подвигам. Никакая работа меня не пугала. Я был в положении мечтательной девушки, душа которой жаждет любви и готова к ней, но ждет героя, который принял бы ее любовную жертву. Фан — Арку не было дела до моих переживаний. Даже наоборот, зная, что я даю уроки и живу ими, он, конечно без злого умысла, находил возможным издеваться надо мною, говоря, что никому не рекомендовал бы заниматься у такого ученика. И все оттого, что я так и не мог выучить вальс […]*. Помню, что он как — то задал мне сонату ф-моль Гуммеля 1 ч. и остался доволен тем, как я ее приготовил. Когда же я при этом позволил себе сказать, что всегда охотно учу то, что мне по душе и в чем чувствую содержание, то он, рассердившись, не стал больше разговаривать. Итак, очевидно, мы не подходили друг другу. Надо было что- либо предпринять. Ведь будущее зависело от этого. В таком настроении я находился в памятный для меня весенний день в ожидании той, которая становилась для меня дороже жизни… Я ушел далеко от станции и всякого жилья и очутился лицом к лицу с весенней распускающейся природой, первый раз в жизни я почувствовал весну. Незаметно для себя самого я точно весь обновился под живительными теплыми лучами яркого весеннего солнца. Душа выпрямлялась и наполнялась бодростью. Тяжелые мысли таяли как снег, и на сердце становилось хорошо и легко. Так вот она, весна, думал я, вот она волшебница, усыпающая свой путь распускающимися цветами, воспетая поэтами и создающая поэтов. Я себя не узнавал. Куда девалось мое малодушие. С необычайной силой почувствовал я, что люб лю и любим. Весна, весна в моей груди. И слезы благодарности теклиу — меня из [из моих] глаз. Тому Великому Художнику, который создал мир, красоту и те прекрасные чувства, без которых жизнь была бы только страданием.
Вера, Надежда, Любовь — вот чем наполнилось все мое существо, и я воспрял духом. Тогда — то я и решил пойти к Брассену, и как я уже сказал, мое посещение увенчалось успехом, и с осени я должен был поступить в его класс. Меня потянуло к людям, и я вернулся на станцию. Напившись чаю, я пошел бродить по платформе и там подружился с прекрасным токарем, который перед приходом каждого поезда открывает свой ларь, наполненный милыми деревянными изделиями. Я любил эти изделия и редко потом проезжал Любань, чтобы не купить что- либо у моего приятеля. В радужном настроении дождался я прихода дальнего поезда. Было уже темно. В вагонах из “экономии” свечей не зажигали еще, и мне предстояло в сумерках разыскивать своего друга. Я знал наверное, что она едет этим поездом. Она же не подозревала сюрприза, какой я ей готовил.
Пока поезд стоял на станции, я пошел по вагонам 2‑го класса и вот в одном из них еще издалека увидал ее. Я подошел почти вплотную к тому месту, где она сидела, и пока не окликнул ее, не был ею узнан. В глазах у нее блеснула такая радость, что я был вознагражден за все время ожидания со времени ее отъезда. Это была наша первая разлука. Дорога до Петербурга на этот раз оказалась необычайно короткой. Мы едва успели наглядеться и поговорить, как поезд уже подходил к станции. Там ее встретила масса родных и знакомых. Она была общей любимицей. Ее ценили и уважали за прямоту, правдивость и искренность. Охотно приходила она на помощь, где в ней нуждались. Даже подчиненные, несмотря на требовательность и строгость, были расположены к ней за ее справедливость. Поэтому неудивительно, что многие обрадовались ее приезду и пришли на вокзал. Я постарался стушеваться и оказался тоже в числе встречающих. Таким образом, исключительный весенний день в природе и в моей душе остался нашей тайной… Приближалась Пасха. В течение нескольких лет я особенно тосковал в дни светлого праздника, вспоминая, как торжественно и радостно встречали этот праздник дома. Многие у нас отсутствовали, но все присылали телеграммы, которые рядом с нашими фотографиями красовались за столом, убранные цветами. На этот раз я был приглашен братом моей ученицы, который жил с семьей там же, где и она. Их квартиры соединялись. Савелий Михайлович Муллер был на редкость красивый мужчина. Глядя на него, всегда изящно одетого, с мягкими движениями, барскими замашками, можно было подумать, что он вырос по крайней мере в княжеской обстановке. А между тем он прошел весь тернистый путь типографской службы, постепенно повышаясь до положения управляющего типографией и, наконец, собственника типографии. И на всем этом трудном пути он всегда проявлял глубокую порядочность. Я попал в теплую уютную семейную обстановку. Жена его, добрая, приветливая, ласково относилась ко всем. У них было четверо детей — две девочки и два мальчика. Оба младшие — мальчик и девочка — двойня — были тогда еще грудными. С мальчиком Шурой 3–4 лет я чрезвычайно подружился, и он любил ездить верхом на моей спине. Праздник справлялся у них по всем правилами, и я себя особенно хорошо чувствовал в этот вечер — ведь “она” была рядом со мною. Но к концу вечера хозяин меня глубоко огорчил. Несмотря на то, что я вырос в довольно патриархальной семье и обстановке, я, уехав мальчиком из дома, многого не знал касательно молитвенного ритуала, и когда я — по поводу непонятного мне акта — обратился к хозяину за разъяснением, то он, очевидно, счел это за глупую рисовку с моей стороны и с запальчивостью напал на меня. Я был одновременно и оскорблен и огорчен, тем более что вопрос мой был вполне искренен, но тут же понял, что вопрос мой был только предлогом и что в его непонятной запальчивости сквозит скрытое недоброжелательство ко мне из — за сестры. Ее “герой” не был их героем. И мне это показали. Но странное дело, не знаю, какие это сдерживающие центры в моем мозгу, которые не в таких случаях не дают проявиться гневным чувствам, а наоборот, во мне начинается усиленная работа мысли. Так и на этот раз, и во многих таких случаях, чем запальчивее на меня нападают, тем спокойнее и спокойнее я к этому отношусь. Я понял, что в нем говорит любовь к сестре, и потому, нисколько не рассердившись, даже не особенно старался оправдываться. Впрочем, я не помню повторения чего — либо подобного, и в будущем мы сделались друзьями. То же самое было и с моим братом. Он боялся за мою будущность и всячески нападал на мое раннее увлечение. Меня это очень сердило, но я чувствовал, что в нем говорит любовь ко мне и беспокойство за меня, и мы, несмотря на полное разногласие в этом вопросе, оставались не только друзьями, но самая дружба становилась теснее.
Наступало лето, а с ним и тяга на юг. Но на этот раз не так тянуло уезжать. Впервые я заметил особенную прелесть петербургских белых ночей. Они утончают нервную восприимчивость и точно усиливают жизнедеятельность. Не спать в “белую ночь” ничего не стоит. Я помню, как однажды — недели две спустя — я поджидал “ее”, обещавшую приехать на дачу из Петербурга. Был конец мая. Я поджидал с книжкой в руках на берегу Невы до полного восхода солнца и только тогда отправился домой. И сейчас был май в природе и май на душе. Если природа действует на “чувство”, то в свою очередь “чувство” усиливает восприимчивость красот природы. Петербург, так чудно воспетый Пушкиным, приобретал в это время особенную красоту, если о чем вспоминаешь с особенным чувством, то это о “белых ночах” петербургских, о Неве, не знающей преград в своем царственном течении, и о всей той таинственности, в какую “белые ночи” облекают весь город. Еще прелестнее “белая ночь” вне города. Я до тех пор никогда не был в деревне. Помню, как в очень раннем детстве я с братом Александром прожил несколько дней в деревне на берегу Черного моря. И хотя, вспоминая сейчас всю деревенскую обстановку, уборку и молотьбу хлеба, огород, сад и т. п., мне все представляется захватывающе интересным, но тогда, должен сказать, я страшно скучал и рвался в наш пыльный город, обратно домой. Но вот теперь мне предстояло на короткое время испытать всю прелесть деревни. Оттягивая свой отъезд на юг, я ко второй половине мая еще находился в городе. Петербуржцы разъезжались по дачам. Уехали все родные моей ученицы, уехала и она, не простившись окончательно и пригласив меня на денек в деревню. В этом году они жили все в Ново — Саратовской колонии, это немецкое село на берегу Невы, большое, чистое и зажиточное. Разительный контраст представляли два села, находившиеся друг против друга на берегу Невы. Село Рыбацкое — ветхое, грязное, бедное, с несколькими кабаками, вечно с пьяным людом, и Ново — Саратовская колония, вытянувшаяся версты на четыре, с деревянным тротуаром на всем протяжении, с великолепными избамидомами, которые колонисты на лето отдавали под дачи. Всюду чистота, порядок, довольство и неустанное трудолюбие. Прекрасное кладбище, где можно было гулять как в парке. Словом, прекрасное место для летнего отдыха и для спокойной работы. В этой поездке по Неве все было для [меня] ново. Я никогда до этих пор не ездил на пароходе, кроме маленьких переездов по Фонтанке и другим] каналам Петербурга или переправы через Неву. Здесь пришлось проехать по крайней мере верст 15–20 вверх по Неве. Пристань была у Летнего сада и кишела народом, живущим в разных местах по Неве. Все спешили вернуться на отдых, хотя бы на несколько часов. Пароходы Финляндского о[бщест]ва, много лет совершавшие эти рейсы, отлично работали. Вся команда была знакома пассажирам, а последние знали, кто куда направляется. Петербургский обыватель не любит перемен. Облюбует какое — нибудь место и от добра добра не ищет. Я был захвачен картиной, расстилавшейся передо мной. Любуясь берегами, заселенными с обеих сторон, полноводной и быстротечной рекой, на которой то там то сям расположились рыбацкие тони, рыбаками, заносящими сети до самой середины реки, встречными пароходами, лодками, перевозящими с берега на берег желающих, — всей жизнью, кипевшей на реке, я и не заметил, как мы подъехали к Саратовской колонии. А там меня ждала радость — свидание с “нею”. А вот и она на пристани. Сердце сильно забилось, и я едва мог выразить, как я счастлив ее видеть. Я пробыл до следующего дня. И вот в первый раз наслаждался “белой ночью” на Неве. Река точно затихла и совершенно бесшумно неслась к морю. Широкой стальной лентой, красиво извиваясь, она вполне заслуживала название красавицы. Но в этой красоте была и мощь. Чувствовалась огромная скрытая сила. Ведь это та самая река, которая, несмотря на гранитные оковы, разбушевавшись, заливает Петербург. Сейчас она точно не движется и царственно спокойна. Каждый звук, отраженный водой, далеко разносится, слышны голоса с противоположного берега. А Нева там почти в полверсты шириной. Вдали, как зачарованный, стоит многоверстный лес, а прямо на берегу реки раскинулись белые домики колонии. Так и веяло от всего этого северной сказкой. Именно в таком лесу, на берегу большой реки “спит царевна мертвым сном”[155]. Я не в состоянии передать всего пережитого за эти мгновения. Силе впечатления содействовала моя нетронутость в этом отношении и “ее” присутствие. До мельчайших подробностей запечатлелись в душе все события этого дня. Я долго не мог уснуть и рано встал, чтобы взглянуть на все при солнечном свете. Как южанин, я очень люблю солнце, и его лучи наполняют меня радостью. Но в этот раз я должен сказать, сила оказалась на стороне “белой ночи”. Куда девалась особенная таинственность окружающей природы, налет тонкой, всепроникающей поэтичности, неуловимая прелесть неясных очертаний и вся поэзия звуковой гармонии. Все кругом было необычайно просто и даже прозаично, как и самое население, и только река ничего не теряла в своей царственной красоте… В этот день я должен был уехать, чтобы вернуться только после лета, через три месяца. Предстояла долгая разлука, и мне было очень грустно. Но, уезжая, я увозил запечатлевшееся в моем сердце теплое чувство к этому [милому] уголку и новые сильные переживания, которыми я был обязан “ей”. До отъезда мы совершили прогулку, и довольно большую. Было не особенно тепло, а я был довольно легко одет. Она вся была завернута в теплый платок. И когда она заметила, что руки у меня застыли, то взяла их под платок, чтобы отогреть на своей груди. В этом было столько нежной ласки и — я сказал бы — материнского чувства, что я весь проникся благоговением к ней. На глазах у меня стояли слезы, и я ничего не мог сказать. Так, с этим чувством благодарности и любви, покидал я своего друга до осени. Долго стоял я на пароходе, следя за тем, как она медленно, задумчиво направлялась к себе. Во всех движениях ее чувствовалась глубокая грусть. О чем думала она? Была ли уверена во мне? Впереди предстояло немало пережить. Я забился в дальний угол парохода и дал волю слезам. О чем они были — сам не знаю, но они были полны тоски, грусти первой продолжительной разлуки. Я дал себе слово, повторяя его сотни раз, завоевать свое счастье и для этого неустанно работать и работать. Совершенно бодрым покинул я пароход…
Лето на юге, в пыльном городе при сильной жаре, не представляло особенных удобств для усиленных занятий. Тем не менее и брат, и я летом усердно работали. Приходилось делить наш старый, отказывающийся служить рояль. Я уступал брату, а сам искал, где только была возможность, инструмента для занятий. Предстояла серьезная большая работа. Надо было осенью удовлетворить Брассена, и я старался изо всех сил. По утрам я получил возможность играть на бульваре. Наш городской сад, который мы называли бульваром, был в мое время густым — прегустым парком с сиреневыми аллеями, любимым местом прогулки горожан — особенно по субботам и воскресеньям, когда там играла музыка. Запущенный и заросший, он был великолепен. Мы его очень любили. По будням он пустовал, и по утрам там совсем никого не было. В центре на площадке стояло здание ресторана — довольно просторный зал с террасой, на которой обыкновенно пили чай, кофе и ели мороженное. В зале стоял недурной инструмент, которым мне разрешили пользоваться все утро, пока никого нет. Вспоминаю с удовольствием эти утренники. Кругом тихо, редко — редко кто забредет в сад, и я без помех мог работать. Иногда отец забежит, послушает немного, а главное, проведет рукой по голове, скажет “молодец” и пойдет по своим делам. Поиграешь так часа два, а там пойдешь по урокам. И какие странные уроки попадались. То у начальника станции на вокзале, то у жандармского полковника, то у каких — то мещан на горке за губернаторским домом. Как и откуда узнавали они про меня — не знаю, но уроков летом набиралось у меня порядочно. После обеда опять за работу, и только вечером делали мы прогулки за город, на Султанский луг, где теперь “новый город”. При таких условиях лето пролетело быстро, наступило время ехать в Петербург. Там ждал меня неожиданный удар, снова опрокинувший мои планы. Умер Брассен, и я опять должен был продолжать занятия с фан-Арком. Устроившись, в смысле помещения, стола — словом всего житейского — на этот раз особенно хорошо, я решил подумать и о музыкальной судьбе своей. Дело в том, что к этому времени я окончил научные классы, все обязательные предметы за исключением инструментовки, посещал специальную гармонию, увлекался эстетикой и много читал, так что с этой стороны все обстояло более или менее благополучно. Все дело заключалось теперь в главном — в самой музыке. Умер Брассен, на которого я возлагал такие надежды. Но вот в консерваторию уже года два вступил преподавателем молодой Сафонов. Я уже говорил, как он очаровал Шубертом меня и моего друга Шванвича. Ученики были им чрезвычайно довольны как учителем, и вот мы с Шванвичем решили перейти к Сафонову. Ему это было легко сделать — он был платным учеником. Мне предстояло немало затруднений. Во — первых, я был стипендиатом, во — вторых, фан-Арк был профессор, а Сафонов пока только преподаватель. Переход от профессора к преподавателю яв лялся беспримерным в консерваторской жизни. И, несмотря на это, я решил употребить все усилия, чтобы добиться успеха. Мне казалось, что молодой Сафонов еще лучше меня поймет, чем “старый” Брассен, и я, не зная его, рвался к нему всей душой. Однако прошло все первое полугодие, прежде чем я достиг желанных результатов. И на этот раз совершенно отеческую помощь оказал мне К. Ю. Давидов, директор консерватории, который взял на себя улаживание всего этого дела. Он, очевидно, был расположен к Сафонову, но не желал обидеть фан-Арка, который и теперь оказался на высоте как человек. Не знаю, было ли ему безразлично, к кому я перейду, или надоело ему со мной возиться, или он просто был выше мелкого честолюбия, но он согласился на мой переход, за который я был ему бесконечно благодарен. Итак, я сделался учеником Сафонова. Об этом объявил мне сам директор. С этих пор начинается новая эра моей музыкальной жизни…
Василий Ильич Сафонов — мой дорогой и незабвенный учитель — умер недавно на Кавказе, который он так любил, и смерть его не произвела надлежащего впечатления в Москве[156]. А между тем умер в полном смысле слова “большой человек”, человеке твердой воли, сильного характера, огромного развития и очень большого таланта. Образованный, остроумный, находчивый, Сафонов был обаятелен, когда этого желал. Он обладал всеми качествами, которые должны были сделать его всеобщим любимцем, а между тем этого не случилось, и даже наоборот.
Москва относилась к нему отрицательно и по — своему была права. Но если ближе во все вникнуть, если ближе знать внутренний мир Сафонова, то все должно показаться сплошным недоразумением. Москва в огромном долгу перед Сафоновым. Он сделал очень много для музыкальной жизни города, и без преувеличения можно сказать — делает и до сих пор, так как большинство настоящих музыкальных деятелей Москвы или ученики Сафонова, или так или иначе не избегли его влияния. Я был тяжко болен, когда он умер, и от меня тщательно скрывали его смерть, опасаясь сильного впечатления на больной организм, а между тем последние 10 лет мы почти не встречались. Наши дороги давно разошлись, но в душе моей всегда жил образ незабвенного учителя и прекрасного человека, каким я его знал с первого дня нашего знакомства. Говорю так, несмотря на все сафоновские “истории”, в которых он был больше чем не прав. Ни на ком, быть может, так ярко не оправдывается высказанная мною мысль, что люди гораздо лучше, чем кажутся, если бы только каждый мог найти соответственную характеру деятельность. Та же энергия и те же черты характера, которые, скажем, в искусстве могут создать крупное явление, в области торговли создадут кулака. Нетерпимые в жизни черты характера — подозрительность, вечное недовольство в т. п., в искусстве исполнения создают требовательность и постоянное желание лучшего, т. е. создают часто превосходного артиста. И наоборот — добродушная снисходительность, излишняя деликатность, так ценные в жизни, создадут весьма посредственного исполнителя. Выше я говорил о Ю. И. Йогансене, нелюбимом инспекторе и любимом учителе. Можно было бы много примеров привести, когда человек в одной области дает отрицательные результаты, а в других — положительные. Сафонов — профессор, учитель — не оставлял желать ничего лучшего. Сафонов — исполнитель (особенно камерной музыки) был явлением замечательным и выдающимся, и при этой деятельности Сафонов — человек — добрый, великодушный, обаятельный, тонкий психолог, он умел с первого взгляда разбираться в людях; прекрасный семьянин и любящий сын, он был во всем прямо поучителен. Сафонов же, облеченный властью директора, которую он как — то своеобразно понимал; Сафонов, пожелавший во что бы то ни стало сделаться дирижером; Сафонов — строитель миллионного здания консерватории — являлся совсем иным человеком. Он стал грубым, резким, властным, отдалился от всех, кого прежде ценил, окружил себя льстецами и посредственностью и совершенно не терпел противоречия…
В первом случае его благом было благо[157] других, учеников, слушателей его музыки, близких, друзей и знакомых, и это совпадение давало прекрасные результаты. Во втором — благо директора, строителя, дирижера шло вразрез с благом большинства, и отсюда отрицательное отношение к Сафонову. Я лично глубоко убежден, что подобно тому, как дирижер Сафонов благодаря своему таланту и сильной воле сделался всемирной известностью, и Москва не только простила ему то, от чего он нас всегда предостерегал — учиться на глазах у публики, т. е. никогда не выступать неподготовленным, — но вполне признала и оценила его как дирижера, так со временем Сафонов, как умный и хороший человек, понял бы несколько иначе власть директора, и у него наладились бы отношения со всеми. Но два обстоятельства послужили помехой: 1905 год, заставивший Сафонова покинуть пост директора[158], и обострившийся диабет, вызвавший в припадке раздражения недостойно грубое обращение — и с кем, с Сергеем Ивановичем Танеевым, всеобщим любимцем и глубоко уважаемым учителем. Танеев тогда тоже вышел из консерватории, и, как я слыхал, не столько изза грубости Сафонова, сколько из — за того, что никого не нашлось в художественном совете, где все происходило, чтобы остановить директора. Было, однако, что — то такое в Сафоновечеловеке, что заставило меня — незадолго до его смерти, — не подозревая даже о его болезни, говорить окружающим: “Москва не знает настоящего Сафонова и потому относится к нему отрицательно, и на моей совести лежит восстановить его истинный образ”. Это я говорил в разгаре своей болезни, перебирая в памяти былые годы… Перейду к подробностям этого времени.
Итак, я у Сафонова. Это еще ничего не говорило мне, так как я его совершенно не знал. Я был только рад перемене, выходу из тупика. Впрочем, я предчувствовал, что меня ждет что — то иное, хорошее. И я не ошибся. Уроки он назначил мне и моему товарищу Шванвичу, который тоже к нему поступил, у себя на дому по утрам. В первый же раз со мною случилось следующее: волнуясь в ожидании предстоящего урока, я в то январское утро [встал], когда было еще темно, чтобы только не опоздать. Сафо нов жил на Шпалерной, № 33 — это последняя улица на Литейной перед мостом через Неву. Рано утром я пустился в путь и за час до назначенного времени был у Шпалерной улицы. На беду, я шел по левой стороне Литейной и, увидев надпись “Шпалерная”, завернул налево. Прошел улицу с одной стороны — не нашел 33‑го номера, прошел с другой — там четные номера. Время проходило, и я боялся, что опоздаю. Снова обошел я все дома, звоня во все ворота и спрашивая, не живет ли здесь Сафонов. Иззябший и в полном отчаянии от неудачи, я снова очутился на углу Литейной, и тут только блеснула у меня мысль перебежать улицу и посмотреть, не продолжается ли Шпалерная по другой стороне. Конечно, это так и было, и через три минуты я уже подымался по лестнице, кажется на 4‑й этаж. Я уже опоздал и был в сильном волнении. Сафонов, очевидно, составил понятие обо мне как о строптивом и неуживчивом ученике, вследствие моих “историй” в консерватории, и потому к моему опозданию отнесся очень сурово. Он не дал мне оправдаться и сейчас же заставил играть. Пальцы у меня были совсем ледяные, и, как ни трудно было, я сел играть. Разыгравшись на гаммах, арпеджиях, октавах и др[угих] упражнениях, я к этюдам и пьесам овладел уже своими пальцами настолько, что мог показать себя новому учителю. Постепенно суровость его исчезала, и вместо строгого взгляда я встречал по временам ласковый и мягкий. Сам я был как натянутая струна. Я чувствовал, что от первого свидания нашего зависит многое, а начало было такое неблагоприятное. Я горел как в лихорадке, и Сафонов, должно быть, понял, что во мне происходит, так как, кончая урок, он отнесся совсем по — иному. Он задал мне 3‑голосную инвенцию Баха и этюды Крамера № 3 и № 8 для правой и левой руки и так их сыграл мне, что я восхитился ими, а пьесу дал мне сразу довольно трудную, интересную и полезную — анданте дес — дур Тальберта. Во всем, положительно во всем, сказался тонкий психолог. Он не стал меня “осаживать”, как это любят делать иные профессора, задавая в первое время вещи, из которых ученик уже вырос. Наоборот, каждая новая пьеса предъявляла все большие и большие требования, а с ними вместе возрастало и мое усердие. Мы расстались хорошо, и я уже с первого урока совершенно отдался новому руководителю. Да и не я один. Мой друг Шван- вич, менее экспансивный, так же, как и я отнесся к новому учителю. Мы с ним вместе приходили на уроки, слушали друг друга и ловили каждое замечание Сафонова. Новая Для нас началась новая музыкальная жизнь. Мы работали не то что усердно, а с энтузиазмом. Каждый урок являлся ступенью, по которой мы подымались в богатый мир музыки. В объяснениях и толкованиях для нас зазвучала новая речь, полная содержания, тонких сравнений и образных представлений. Каждая вещь при этом приобретала особенное значение. Я не запомню ни одной пьесы, данной мне Сафоновым, которой не оценил бы, не полюбил, не выучил бы. Уроки проходили чрезвычайно оживленно и с большим подъемом с обеих сторон. Энергичный, бодрый Сафонов не шалил ни времени ни сил, чтобы добиться хороших результатов. Ни с его стороны, ни с нашей не было пропусков. Эти утренние уроки в его кабинете, прекрасно обставленном, с нотной и книжной библиотеками, с чудным видом из окон — заключали в себе особую прелесть. Часто я приходил, когда он еще спал, и тогда его старшая двухлетняя дочка Настенька — моя большая приятельница — подходила ко мне и сообщала, что папа — и при этом она тянула воздух в носик, что означало — спит. Он вставал бодрый и лу[чшее] утреннее время отдавал нам. Занятия шли столь успешно, что он нашел возможным до экзамена два раза выпустить меня играть на консерваторских вечерах. В первый раз играл Тальберга анданте, во второй — превосходные вариации Рейнеке на тему Генделя, интересные и в музыкальном, и в виртуозном отношении. Последняя пьеса удостоилась похвалы К. Ю. Давидова. Я чувствовал, что Сафонов мною доволен, а я был совершенно счастлив. Время быстро проходило, и наступила пора экзаменов. Я несомненно много сделал, и теперь предстоял отчет — публичный экзамен. Только тогда на репетициях познакомился я с классом Сафонова. Тут я впервые убедился, как он умеет сердиться и возвышать голос, как настойчиво и неутомимо добивается того, что считает важным, и как сравнительно мало, кто его понимал и удовлетворял. С удивлением заметил я, что другие ученики меня как — то выделяли, считая почему — то, что я непременно должен хорошо сыграть свои вещи. А пьесы у меня были превосходные: I часть концерта д-молль Баха (с аккомпанементом второго рояля) и I часть фантазии фис — моль ор.28 Мендельсона, которую я сам приготовил. Должен сказать, что Сафонов умел ценить и самостоятельно выученные вещи. После нескольких репетиций, которые стоили Сафонову неимоверного труда, наступил день экзамена. Я был взволнован и возбужден в этот день. Сафонов как — то был во мне уверен, и это чрезвычайно подымало настроение. Надо было оправдать это доверие. Он меня назначил играть последним, и это еще более усиливало ответственность. За столом, покрытым зеленым сукном, сидела комиссия профессоров с директором во главе. Среди них был и фан-Арк. Дальше за ними сидела “публика”: ученики и ученицы, преподаватели и часть посторонних слушателей. Сафонов был в комиссии. Экзамен проходил недурно. Когда очередь дошла до меня и я вышел на эстраду, то Сафонов встал со своего места и с другой стороны тоже поднялся на эстраду. Я сел за первый инструмент, он — за второй. Взглянув на меня ободряющим взглядом, он начал небольшое вступление концерта. С первых же нот своего вступления я почувствовал необычайную бодрость. Меня захватила и красота концерта, и присутствие рядом любимого учителя, и его уверенность в том, что все должно быть хорошо, и я играл лучше, чем на всех репетициях. По окончании Сафонов гордо пришел к своему месту, а я должен был сыграть еще Мендельсона. Эта пьеса сделалась для меня любимой с тех пор. Она мне удавалась, и я охотно ее всегда играл. И на этот раз я сделал все, что мог, и когда кончил, раздался одобрительный шепот в комиссии и в публике. Но самое лестное было то благородство, какое и на этот раз проявил фан-Арк. С последней нотой моей он встал, подошел к Сафонову, пожал ему руку и сказал: “Если бы я сам не слыхал, то не поверил бы, что в такое короткое время можно сделать такие успехи”. Я не помню, как встал [и] вышел к товарищам. Меня со всех сторон обступили и поздравляли, а я был точно невменяем. На душе легко и радостно. Мысль о “ней” меня не покидала, и сознание, что мой триумф разделяется и ею, усиливало мою радость до бесконечности. Подошел к нам и Сафонов и всех, хорошо игравших, ласково похвалил. Меня он пригласил на следующий день пообедать с ним и назначил ресторан на Невском около Морской — кажется “Донона”. Я останавливаюсь на всех этих подробное-' тях, потому что они являются заключительным аккордом нашего пребывания в Петербурге…
Осенью этого же года мы оба были уже в Москве. Чтобы понять мое решение ехать за своим учителем в совершенно чужой для меня город, надо было дать хоть некоторое представление о тех отношениях, которые установились между нами. Я не скрывал от него, как я высоко ценю, чту его как учителя, и в свою очередь чувствовал его исключительное расположение к себе. Я нашел в нем то, о чем много лет мечтал, и это, только это, содействовало моему музыкальному росту. Это дало мне энергию неутомимо работать и двигаться вперед. Я настаиваю на этом оттого, что часто бывают случаи, когда хороший профессор и талантливый ученик не понимают друг друга, и это служит огромной помехой успехам. В таких случаях, имея в виду интересы учащихся, профессору надо оставить в стороне всякие чувства — самолюбие, честолюбие и т. д. — и дать ученику полную свободу выбора. Впрочем, это очень щекотливый вопрос, и к нему надо в каждом случае подходить осторожно, иначе и ученики при первом неудовольствии начнут переходить от одного профессора к другому, что тоже недопустимо. Чтобы этого не случилось, или случалось бы возможно реже, профессору надо обладать таким широким кругозором, психологическим чутьем и думать исключительно об интересах учащегося. Всем этим Сафонов обладал вдоволь, а потому с ним у[жи]вались самые разнообразные и своеобразные характеры. Но об этом после. В назначенные час я был в ресторане, и меня смущало обедать с глазу на глаз с учителем, к которому у меня было самое благоговейное отношение. Я чувствовал себя в высшей степени неловко и глотал обед, не разбираясь в кушаньях. Сафонов все подаваемое делил по — братски и был необычайно любезным хозяином. Все время он вел самый непринужденный разговор, иногда только улыбаясь некоторым неловкостям моим. Расстались мы необычайно тепло и дружески. Я должен был еще зайти к нему за летней работой, и кроме того, мне хотелось проводить его, он уезжал с женою и двумя маленькими девочками за границу. Я же на лето оставался под Петербургом, в той самой Саратовской колонии, о которой уже упоминал, и Сафонов передал мне кое — какие занятия с его учениками. Доверие его с этой стороны было для меня очень дорого. Казалось, все устраивается как нельзя лучше. И действительно, что мог я еще желать. Занятия мои прекрасно наладились. Экзамен подтвердил результаты. Отношения с учителем установились самые задушевные. Еще с осени я с братом поселился на Пушкинской у матери моей ученицы, где мы заняли прекрасную комнату и где я почувствовал себя как дома. На лето я ехал к ним же на дачу. И с этой стороны все шло отлично. Но судьба одновременно послала мне два тяжелых испытания, которые легли непосильным бременем на мо[и] юные неокрепшие плечи. Давно уже внутри меня зрело какое — то недовольство, какое — то чувство неудовлетворения, которое как раз теперь, когда, казалось, не~ для него никаких оснований, особенно подняло голову. В душ евозникали грозные вопросы о смысле и цели существования, и чем больше я вдумывался в них, тем труднее было найти ответ. Жизнь казалась каким — то бесцельным perpetuum mobile[159], и страшно становилось, когда воображению рисовалась бесконечная цепь таких жизней, неизвестно откуда появляющихся и неизвестно куда исчезающих. Эти мысли впивались в мозг, не давали покоя, и все при них рисовалось в самом мрачном свете, жизнь теряла всякую ценность, и — страшно сказать — являлась мысль о самоубийстве. Удивительно, до чего юность щедра в этом отношении. Чуть что — сейчас и готов руки на себя наложить. Правда, я недолго останавливался на этой мысли. Воля к жизни была во мне очень сильна, и к тому же я любил… И это чувство, которое является источником жизни, было для меня одновременно источником тяжелых переживаний. Мне приходилось завоевывать свое счастье через страдания, и в этом я никого винить не могу. Так должно было быть. И это было непосильным бременем для меня. Мне было 18 лет. Не могу наверное утверждать, но полагаю, что музыка сыграла в этот период моей жизни огромную роль. В упорной и настойчивой работе я находил полное удовлетворение. Сафонов мне много задал, и я за лето должен был все приготовить. Были такие крупные вещи, как концерты А-моль Гуммеля, весь, и Х-моль I часть, соната Д-моль Вебера, каприччио фис — моль ор.5 и финал фантазии ор.18 Мендельсона, 2 и 3 ч[асти] концерта Баха с отличной каденцией Рейнеке, прелюдии и фуги Баха № 2, 5, 10 из первой тетради, соната Шуберта А-моль и много этюдов из 3 и 4 тетради Крамера и Клементи “Градус ад парнассум”[160]. Программа почтенная. Все надо было знать наизусть. От себя я в эго время учил “Квази уна фантазию” Бетховена и помню, как однажды набожный хозяин мой — вотчим моей ученицы — за[йдя] ко мне в одну из суббот утром, когда я кончал I часть, пригласил пойти с ним помолиться Богу так как вряд ли меня. Я, весь еще под обаянием дивной музыки, отвечал ему, что я только что помолился Богу так, как вряд ли это возможно лучше сделать словами. Он на меня серьезно обиделся, считая такой ответ кощунством, а я почувствовал, что случайно сказанная фраза заточает в себе глубокую истину. Позже, изучая историю музыки и других искусств, я убедился, что не только музыка — искусство души, — но и все др[у]гие искусства опирались на религию. Бесчувственный камень складывался в могущественные храмы, полные мистического содержания. В зависимости от географических и климатических условий, расовых особенностей и религиозных верований, они принимали ту или иную форму, имели то или иное назначение. Таким образом, возникали огромные индусские храмы, исполненные величия, действующие на воображение. В древней Индии, старом Египте, особенно в Элладе сонмы божеств населяли землю. Камень ожил в дивных творениях Фидия, Праксителя и др., опираясь на религию. Поэзия, живопись и музыка следовали этими же путями. Все древние поэтические сказания и гимны полны религиозного пафоса. В еврейских Все поэтические псалмы, евангельские притчи и молитвы опираются на глубочайшие религиозные верования. Подобно грекам, населившим землю мраморными изображениями богов, итальянцы, особенно в 13, 14, 15 и 16 вв., дали миру бесчисленное количество живописных мадонн, изображений Христа, апостолов и святых. Музыка — быть может — больше всех других искусств находится в теснейшей связи с религи ей. И вот случайно сказанная фраза, которая явилась результатом еще не вполне осознанной мысли, навела меня на самые разнообразные размышления. Для меня стало несомненным, что никакими словами не выразить глубины истинного чувства, и если прав поэт, когда говорит, что “мысль изреченная есть ложь”, т. е. слова не в состоянии передать того, что чувствуешь, они всегда слабее передают чувства, то в свою очередь прав и музыкант, когда говорит, что музыка выше всякой поэзии, науки и философии. Она отражает своим дивным языком самые глубокие и тонкие переживания, не только не умаляя их, но как бы даже подчеркивая. И в этой правдивости, непосредственности, искренности и красоте заключается могучая власть музыки на человеческую душу. Много позже — через 20 лет — я изложил свои мысли о жизни и значении музыки так: […] Вдумываясь теперь через много — много лет в свое тогдашнее душевное состояние, я все более убеждался в том, что именно это не вполне осознанное значение и понимание музыки помогло мне в борьбе с этими испытаниями, о которых я говорил выше. Что другое могло меня заставить так упорно работать в это время, как не любовь к искусству. С другой стороны, быть в течение нескольких часов ежедневно в обществе Баха, Бетховена, Шуберта и др. много, очень много значит. Весь уклад жизни, среда, в которой я жил, насущные требования, которые надо было удовлетворять, тянули к практическому, житейскому, преходящему, и только музыка, только она одна говорила о вечно прекрасном, будила лучшие стремления и наполняла душу надеждой и бодростью… Благословенно будь, святое искусство. Ты избавительница, ты утешительница, ты и хранительница людских душ…
В середине лета, в самый разгар работы я получил письмо от Сафонова из Дрездена (он жил в Пильнице около Дрездена) в котором он меня спрашивал, что я буду делать и как я поступлю, если его пригласят в Москву. Это письмо[161] переворотило вверх дном все мои планы. Вся жизнь к этому времени как — то очень хорошо устроилась в Петербурге. У меня были уже постоянные уроки, много друзей, знакомых, а главное “она” ведь оставалась там, мой дорогой и любимый друг. И в то же время Москва была мне до крайности чужда, я никого, положительно никого не знал там, а проезжая ее много раз, переезжая с вокзала на вокзал и даже однажды несколько часов осматривая ее, я как истинный петербуржец, вынес самое невыгодное впечатление от нее. Она казалась мне грязной, беспорядочной, некрасивой провинцией в сравнении с вылощенным, вытянувшимся в струнку столичным Петербургом. Обычное, поверхностное суждение о Москве, в котором стыдно потом сознаться, когда ближе узнаешь все ее красоты. Иногда Тогда я с ужасом думал о ней. И вот надо было ответить на письмо. Всего 4–5 месяцев прошло со времени моего знакомства с Сафоновым, а между тем я чувствовал, что с ним расстаться мне невозможно. Я полюбил и оценил в нем не только превосходного учителя и музыканта, но и чуткого, прекрасного человека. За короткое время я у него сделал то, что у других не делал годами. И наконец, благодаря ему, я как бы нашел себя, почувствовал уверенность в своих силах. Да, с ним расставаться нельзя, а потому придется принести немало жертв: оставить ее, друзей, некоторые удобства жизни и ехать на полную неизвестность. Я так и ответил Сафонову, что поеду с ним в Москву, но что мне там будет очень трудно устроиться на первых порах.
В ответ я получил следующее письмо:
“Любезный Давид Соломонович,
письмо Ваше я получил и отчасти предвидел ваше решение, которое вполне одобряю и вовсе не из личных только моих чувств. Так как вопрос мой решу не раньше половины сентября, то Вам остается только работать это время по — прежнему, не теряя времени и не падая духом. Бог даст, все устроится к лучшему. Приеду в Петербург, и там выяснятся все обстоятельства. Во всяком случае напишите мне еще раз в начале сентября о консерваторских делах, но сами не разглашайте моего сообщения, если К. Ю.[162] сам не будет говорить об этом. Ваш В. Сафонов”.
Итак, жребий брошен, с осени я в Москве. Я должен отдать полную справедливость моему любимому другу; она не только не мешала моему решению, но всячески старалась облегчить мне эту жертву, укрепляя меня в сознании ее необходимости и успокаивая относительно разлуки, которая отнюдь не должна и не может повлиять на наши отношения. Осенью состоялось окончательное решение Сафонова переехать а Москву, и с этих пор я становлюсь москвичом.
Глава 2 Москва
Трудно передать то чувство сиротливости и одиночества, которое охватывает при въезде в большой и незнакомый город. Много времени надо, чтобы войти в общую колею окружающей жизни, понять ее пульс, слиться с ее ритмом и почувствовать себя частицей огромного целого. Особенно это сложно, когда позади оставляешь так много ценного и дорогого, в смысле человеческих отношений, а впереди ничего и никого. Один в огромном лабиринте, называемом Москвой, и не с кем поделиться переживаемым. По счастью, я недолго был одинок. Брат мой, Иосиф, окончил естественный факультет в Петербурге, перешел на 3‑й Медицинский и попал в Москву. Мы устроились опять вместе, поселившись на Неглинной, против тогдашних клиник, находившихся там, где сейчас Государственный Банк[163]. Большая часть номеров была занята студентами — медиками, и жизнь протекала трудовая, работящая. Брат мой всегда отличался добросовестностью и прилежанием, и для меня было большим счастьем сожительство с ним как раз в это время. На пороге самостоятельной жизни, 15-летним юношей, одни в таком городе как Москва Петербург, где столичная изнанка, со всем арсеналом своих трущоб, так легко может искалечить и оставить неизгладимый след на всю жизнь в душе юноши, незакаленного и еще не способного к борьбе с темными силами, провидение послало мне настоящего воспитателя. Он был старше меня на пять лет. Болезненный и слабый с детства, он таил в слабом теле огромный запас духовных сил. Гимназический курс он проходил при самых тяжких условиях толстовского режима[164], когда греческий и латынь буквально душили учащуюся молодежь. Состав преподавателей и особенно директор оставлял желать лучшего. И при таких трудных условиях, взяв еще во внимание и тяжкое положение учащегося еврея, брат прошел гимназический курс, был всегда первым в классе и окончил гимназию с золотой медалью. Живя все время дома, он был свидетелем тяжелой трудовой жизни родителей, и, особенно ценя те жертвы, какие они принесли ради образования и воспитания детей, он выработал в себе особую трудоспособность и сознание долга. С этими качествами он приехал в Петербург и, поселившись со мною, служил мне всегда примером чистой, честной, красивой и трудовой жизни. Все недоразумения, столкновения и размолвки, столь обычные в совместной жизни близких, но разнородных по характеру людей, не помешали нам на всю жизнь проникнуться друг ко другу исключительной горячей любовью…
Вернусь к прерванному рассказу. В эту трудовую студенческую атмосферу я вносил и свою лепту музыкального труда, стараясь по возможности не очень мешать соседям.
Так началась моя жизнь в Москве. Вся она сосредоточилась в более чем скромных номерах Андреевой на Неглинной, где ютилась студенческая беднота, где протекала своеобразная, полная борьбы, волнений, надежд, упований, трудовая жизнь. А там, за стенами номеров, била ключом жизнь большого города, чуждая и непонятная. Постепенно, впрочем, захватывала она и нас, хотя медленно и туго. Все на первых порах было мне не по душе. Даже милое здание старой консерватории показалось мне жалким после громадного казенного здания Петербургской консерватории. Во всех этих впечатлениях чувствовалась какая — то предвзятость, которая происходила от чувства сиротливости в новом огромном городе и тоски по всему дорогому, оставленному в Петербурге. Но вот недели через две в Москву наконец приехал Сафонов, и началась новая жизнь. Он приехал один и остановился в Лоскутной гостинице[165]. Для меня наступило время, полное новых впечатлений, отношений, занятий, которые все больше и больше роднили меня с Москвой. С приездом Сафонова я почувствовал себя уверенным и бодрым. Ко мне он отнесся как к близкому и родному. Все его интересовало в моей новой жизни. Он посетил наши номера, и ему, избалованному удобствами жизни, как — то особенно понравилась наша скромная обстановка. В нем чувствовалось теплое и сердечное отпо шение к настоящей трудовой жизни. Он сам любил работать и ценил это качество в других.
Вскоре начались занятия в консерватории, и я познакомился с новыми товарищами. Как всегда в таких случаях, к новому и незнакомому профессору класс набирают, как говорится, с бор} по сосенке, так как определившиеся уже в своих способностях ученики и ученицы выбирают профессоров, которых они знают и к которым направляют их преподаватели, а к новому профессору идут те, кто не рассчитывает попасть к известным профессорам или предпочитает что — либо новое уже известному.
В то время в Московской и Петербургской консерваториях заметны были два течения: одно рутинное, немецкое, представителями которого были в Петербурге — Лютш, Аменда, Вельфл, отчасти фан-Арк и др., другое течение, более молодое и прогрессивное, — Толстой, Сафонов, Брасси, Климов, Штейн, Брассен и др. Все это вполне понятно. Основателями консерваторий в Петербурге и Москве приходилось в силу обстоятельств искать педагогических [сил] там, где имелись уже готовые учителя, т. е… за границей, которых замечательно охарактеризовал Григ в лице Плэди [в своем рассказе “Мой первый успех”]. Приглашенные в новые учреждения, они образовывали “партию”, которая упорно проводила свои тенденции. Среди них бывали в высокой степени достойные люди, и я отнюдь не желаю критиковать это положение вещей, а только хотел бы на него указать.
В Москве эго особенно резко бросалось в глаза. Выдающийся профессор был покойный Пабст, большой виртуоз и музыкант, с виду несколько горделиво — надменный, но на самом деле — кажется — очень хороший человек. К нашему приезду у него в классе был ряд выдающихся учеников и учениц: Высоцкая, Миллер, Кипп, Конюс, Вилыпау, Мошковский, Ярошевский и др. За год или два до приезда Сафонова в Москве профессором был К. Клиндворт, и очевидно, что только после его отъезда общее внимание привлек Пабст. Другим профессором был С. И. Танеев, молодой директор и профессор теории. У него был небольшой класс, однако очень интересный: Корещенко, тогда еще совсем мальчик, Маурина — прекрасная пианистка, Боголюбов, Воскресенская и др.
Класс же Сафонова образовался из перешедших на старший курс учеников и учениц разных преподавателей, которые не попали ни к Пабсгу, ни к Танееву. Среди 20 человек, составивших класс, не было — быть может — ни одного со специальными пианистическими данными, и большинство рассчитывало на окончание 7–8 курсов.
Сафонова никто не знал как профессора, и встретили его недоверчиво. Кроме С. И. Танеева, упорно добивавшегося приглашения Сафонова и дружески к нему расположенного, вся консерватория отнеслась к новому профессору если не враждебно, то крайне неприветливо. Одна партия в лице Э. Л. Лангера и его бывших учеников относилась прямо враждебно, а другие: Кашкин, Зверев и др. — приняли выжидательное положение к новому профессору. Впрочем, Н. Д. Кашкин, почтенный и уважаемый ветеран Московской консерватории, личный друг Н. Рубинштейна и Чайковского, скоро оценил Сафонова и всячески облегчал молодому профессору и виртуозу первые шаги его музыкальной деятельности. Н. С. Зверев тоже скоро подружился с Сафоновым, и ряд выдающихся учеников от него впоследствии перешли к новому профессору. Но разбивать лед недоверия Сафонову приходилось настойчиво и упорно, и не только со стороны сотоварищей, но и учащихся.
Молодому профессору пришлось на первых порах идти против течения, т. е. надо было разрушать установившиеся традиции, специфически московские, и внедрять более разумные и правильные взгляды в вопросах как чисто фортепианной игры, так и отношения к художественному творчеству. Перешедшим на 6‑й курс казалось странным и обидным играть легкие этюды или сочинения Моцарта и т. д. И так как у разнородного и разнокалиберного класса не было ни настоящей, удобной и естественной постановки руки, ни правильного взгляда на задачи художественного исполнения, то Сафонову пришлось на первых порах проделать немало черной работы и положить много труда и энергии, чтобы получить какие — либо результаты.
В это время я почти ежедневно бывал в классе, и часто после утомительного дня работы Сафонов звал меня с собой в Лоскутную, где он обедал. Там он часто жаловался, что ему достался трудный класс, а я, уже познакомившись со своими новыми товарищами и убедившись, что это все народ серьезный и готовый работать, утешал его. И действительно! В самом скором времени класс проникся любовью и доверием к новому профессору, и он мог требовать все, что угодно. На 6‑м и 7‑м курсах охотно играли 2- и 3‑голосные инвенции Баха, этюды Черни ор. 299, Крамера и т. п. (Гуммель, Моцарт, Фильд, Мендельсон, Шольберг). Учащиеся проникались сознанием, что легких вещей нет и исполнить в совершенстве сонату Моцарта составляет почтенную и художественную задачу. Создавалась постепенно дружественная, музыкальная семья, объединенная любовью к своему учителю и горячим стремлением совершенствоваться в искусстве. Класс улучшался не по дням, а по ча сам. Сафонов не щадил ни времени, ни труда. Не связанный материальной необходимостью набирать частные уроки или переполнять свой класс в консерватории, он не ограничивался казенным, получасовым пайком для ученика, а часто — почти ежедневно, — не закончив занятий в консерватории в положенное время, он продолжал работать с нами у себя дома до поздней ночи. Чувствовалось, что “благо” учащихся составляло и “благо” учителя, и это взаимное благожелательство давало исключительно благотворные результаты.
Сафонов не ограничивался обучением, играя на фортепиано. Он обнаруживал огромное понимание значения искусства, глубоко и искренно любил его, умел ценить красоту всех эпох и времен и, благодаря своей образованности, раскрывал перед нами новые горизонты. Кроме того, он отлично разбирался в людях, характерах, правильно оценивал дарования, умел каждого направить, считался с индивидуальностью и при всем том был требователен и строг. Направив всю свою энергию на педагогическую деятельность, Сафонов раскрывал перед нами все лучшие стороны своей души. Это был добрый, заботливый учитель, внимательный к духовным и житейским нуждам своих учеников. И не только учеников. Сафонов, избалованный благоприятными условиями жизни, необычайно чутко относился к нуждающимся. Мне приходилось исполнять такого рода поручения его, особенно перед Пасхой, которые глубоко трогали меня и сильнее привязывали к любимому учителю. Словом — Сафонов этого периода — превосходный учитель, превосходный художник и чудный человек.
Соответственно этому вокруг него создалась совершенно исключительная атмосфера. Дома — теплый, сердечный, здоровый семейный уют; в классе — взаимно — любовное трудовое отношение к делу; в обществе — ряд благожелательных и расположенных друзей; в консерватории — постепенное признание товарищами достоинств нового коллеги и увеличение его сторонников, среди которых сердечной простотой и искренностью особенно отличался молодой директор С. И. Танеев. Не раз заходил он к нам в класс во время занятий и со свойственной ему прямотой, не стесняясь присутствием учащихся, обращался за советами к своему новому товарищу относительно разных приемов игры на фортепиано. Все это поднимало в наших глазах престиж и авторитет учителя, и каждый из нас старался изо всех сил ему угодить.
Мне приходилось много работать, т. к. и на вечерах, и в ученических концертах я являлся пока единственным представителем класса.
Осенью первого года нашего пребывания в Москве консерваторию должен был посетить А. Рубинштейн. Ему готовили музыкальную встречу. Я должен был играть capriccio op.5 Мендельсона в редакции Бюлова. Или я переусердствовал, или — мне помнится — Сафонов заставил меня сыграть его подряд несколько раз, но я натрудил правую руку. С болью в руке играл я перед Рубинштейном и не сознавал всей важности начинающегося воспаления сухожилья, продолжая работать. Рука раздулась, и мне пришлось обратиться к знаменитому хирургу Склифосовскому, который совсем запретил играть правой рукой и прописал ходить ежедневно в клинику для массажа и электризации. Не желая терять времени, я стал усердно заниматься левой рукой: инвенции и чакону[166] Баха, переделанные Брамсом для одной левой руки. Играл все трудное для левой руки, в этюдах Клементи, и концертах Гуммеля, и в других вещах. Кончилось тем, что у меня заболела и левая рука.
Все это совпало со временем, когда желание работать достигло своего высшего напряжения. С одной стороны, частые выступления, с другой — серьезная, сознательная и трудолюбивая атмосфера класса, в которой не было ленивых; все работа ли. Сафонов сумел быстро достичь таких результатов. К тому же в сезоне 85–86 гг. А. Рубинштейн осуществлял свою заветную мечту: представить в ряде концертов в главнейших центрах Европы наглядную историю постепенного развития фортепианной музыки. Таким образом создались знаменитые 7 исторических концертов, осуществляемых по — рубинштейновски. Каждый из 7 концертов он на другой день повторял бесплатно для музыкантов и учащихся музыки. Все желающие имели возможность слушать самое совершенное исполнение фортепианной музыки, от первых английских клавесинистов XVI века до новейшего времени. Рубинштейн возбуждал лучшие артистические стремления. Захватывая слушателей своим дивным исполнением, он внушал любовь к искусству и горячее стремление совершенствоваться. Мечтать о приближении к этому идеальному исполнению никому не приходило в голову, но в душе каждого оставалось сознание великого значения “такого” искусства, и это вызывало благородное побуждение работать и совершенствоваться на пользу того искусства, идеальным представителем которого [был] являлся А. Рубинштейн.
Трудно представить описать то мучительное душевное состояние, какое испытывает музыкант, находящийся на пути к осуществлению своих заветных стремлений, когда вдруг перед ним вырастает такое препятствие, как болезнь рук. Мучительное состояние растет и усиливается еще оттого, что неизвестно, вернется ли способность владеть руками, или уже никогда не будешь в состоянии играть В жизни Бетховена были такие мучительные шесть лет (от 1796–1802), когда великий композитор, в расцвете сил и творческой деятельности, начал глохнуть, и эго состояние привело его к знаменитому Гейлигеншедскому завещанию[167], из которого видно, что мысль о смерти его не покидала, и от самоубийства спасла его горячая любовь к искусству. Я не мог привыкнуть к мысли, что не должен играть и должен дать полный отдых рукам. С компрессами на обеих руках я все же понемногу играл, и оттого, быть может, моя болезнь затянулась почти на целый год.
За это время я выступил в ученическом концерте, на котором исполнил концерт Д-моль Баха с оркестром. Эти концерты были настоящим консерваторским праздником. Молодой и тогда уже любимый директор С. И. Танеев объединял в эти моменты всю консерваторию в дружескую семью. Глубокий и сердечный музыкант, он стремился возродить или, вернее сказать, впервые ознакомить учащихся, музыкантов и общество с про изведениями Баха и Генделя. Таким образом, учащиеся исполняли концерты Баха и оратории Генделя. Никогда не забыть тех исключительных переживаний, какие мы испытывали на репетициях, когда энтузиазм и любовь молодого директора к великим произведениям искусства передавались нам, и мы, исполненные восторга от прекрасной музыки, старались из всех сил выполнить все требования нашего руководителя. Так проходили оркестровые и хоровые репетиции. Не забуду и того особенного чувства, которое охватывает при первом исполнении с оркестром. На первой репетиции я совершенно растерялся и только слушал оркестр, механически исполняя свою партию. Но постепенно красота общего ансамбля так меня захватывал^], что каждая репетиция была высоким наслаждением. Я искренно удивляюсь тому, как редко исполняют эти дивные концерты Баха.
В Москве за 30 лет я в симфонических концертах ни разу не вспомню, чтобы кто — либо исполнял их, а между тем я помню, какой восторг вызвал в Петербурге пианист Чези исполнением Д-мольного концерта Баха. В Москве Игумнов исполнял Ф-мольный концерт Баха, но только не в симфоническом концерте; это сочинение оставило самое отрадное впечатление. Еще кое — кто в филармоническом концерте исполнял тройной концерт Баха, но мне не пришлось его слышать. Вот и все. А между тем какое огромное музыкальное богатство таится в этих произведениях. Заветной мечтой покойного С. И. Танеева было создание Баховского общества в Москве для пропаганды его творчества. Начало этому было положено в музыкально — теоретической библиотеке[168] исполнением органных сочинений Баха Танеевым и Богословским на два рояля и Баховскими циклами Симфонической капеллы Булычева[169] . Со смертью Танеева и отъездом Булычева эти прекрасные начинания заглохли, но надо надеяться, что союз артистических сил Москвы возродит и осуществит все эти прекрасные намерения. Нельзя не приветствовать отдельные попытки в этом роде, как, например, — исполнение Орловым и Сибором всех скрипичных сонат Баха, или концерты певицы Полины Доберт, в программы которых входили постоянно сочинения Баха, Генделя и др. Большое внимание старинным композиторам уделяет Оленина-Д’Альгейм, заслуги которой в развитии музыкального вкуса Москвы к серьезным вокальным концертам огромн[ы][170].
Я помню замечательную певицу Барби, которая вместе о пианистом Чези давала камерные концерты вокальной музыки. Эти концерты доставляли огромное наслаждение и приносили большую пользу. Но они были случайны, не носили постоянного характера. Оленина-Д’Альгейм в течение многих лет упрочила значение “песни”, и благодаря ей последняя получила широкое распространение. Если прибавить к этому серьезную продуманность каждой программы и нередко высокохудожественное исполнение ее, то понятно станет значение этой прекрасной артистки в музыкальной жизни Москвы.
Я уклонился в сторону. Вернусь к ученическому концерту. Кроме концерта Баха исполнялась также и кантата его, в которой была великолепная ария для контральто, сопровождаемая английским рожком. Пела ученица Попова, у которой был прекрасный голос, а на английском рожке играл гобоист Гуревич, впоследствии артист Императорских театров и дирижер. На концерте присутствовал великий князь Константин Николаевич, стипендиатом которого я состоял. В антракте он подходил ко всем участвовавшим и каждому говорил что — либо ласковое, меня он спросил, правда ли что Сафонов меня с собою из Петербурга привез? Не успел я собраться с духом ответить, как Сафонов сказал: “Нет, Ваше Высочество, он сам за мною поехал.” Константин Николаевич улыбнулся и ласково похвалил меня. Но самую большую радость мне доставило то, что и Сафонов, и Танеев были мною довольны. Тогда в концерте участвовал совсем юный Арсений Корещенко, ученик Танеева. Он превосходно играл прелестную фантазию с хором Бетховена, а другая ученица Танеева — Маурина исполняла с большим виртуозным блеском “Пляску смерти” Листа. Не помню, кто играл из учеников Пабста, кажется, Миллер (впоследствии Хорошевский-Миллер) и, кажется, Шопена. Помнятся мне хорошо этюд С-дур Рубинштейна на два рояля, исполненный очень хорошо Конюсом и Вильшау, но, кажется, это было в концерте следующего года. Из скрипачей выделялись Ю. Конюс и Д. Крейн. После концерта учащие и учащиеся собирались вместе, и вечер заканчивался веселой, дружной пирушкой.
Несмотря на болезнь рук, я усердно посещал класс Сафонова. И не только в свои дни, но почти ежедневно. Я внимательно прислушивался ко всем его замечаниям, знакомился со всевозможными приемами в зависимости от рук, обогащался знакомством с массой интересных педагогических и музыкально — содержательных пьес, причем наиболее ценным являлись замечания Сафонова и вообще все, что он говорил об искусстве.
Среди товарищей у меня уже были друзья, с которыми вот уже 35 лет как сохраняются самые теплые и сердечные отношения. Общие интересы нас сблизили и закрепляли нашу дружбу. Первым и самым близким другом моим сделался Э. К. Розенов. Он воспитывался в семье К. Ю. Давидова, брата знаменитого виолончелиста и известного математика. Окончив физико — математический факультет, он поступил в консерваторию. Образованный, развитой, музыкально одаренный Э. К.[171] привлекал благородством своей натуры, чуждый всякой мелочности, с широким пониманием значения искусства. Среди учениц выделялась серьезностью и какой — то глубокой интеллигентностью Е. Ф. Гнесина, которая скоро сделалась нашим близким другом. Впоследствии к нам примкнул и М. М. Курбатов. Должен оказать, что весь класс оказался в конце концов на большой высоте.
Если в первый московский выпуск Сафонова не было виртуозных звезд, как в следующих, то все же все учащиеся этого времени сделались впоследствии серьезными музыкальными деятелями. Одна из исключительных заслуг Сафонова заключалась в том, что он умел возбудить такой интерес к искусству, который не остывал и во всей последующей жизни. Таким образом, Москва постепенно покрывалась сетью музыкальных школ, и целый ряд серьезных, полезных и преданных делу музыкальных деятелей продолжал дорогое Сафонову музыкальное просвещение. Можно смело утверждать, что Сафонов дал направление всей музыкальной жизни Москвы. И это не будет преувеличением. Его влияние продолжается до сих пор. Не будучи предназначен воспитанием и образованием к специально музыкальной карьере, он имел, однако, счастье работать под руководством таких профессоров фортепианной игры, как Лешетицкий и Брассен. Объединив в своем лице два совершенно противоположных направления, он сумел разумным и тонким отбором усвоить все лучшее и ценное и создать свою сафоновскую школу, давшую таких виртуозов, как Левин, Скрябин, Мейчик, Щербина — Бекман, Пресман, Самуэльсон, Николай Метнер, Иссерлис, Беклемишев, Демьянова, Гедике и мн. др., имен которых не помню. А главное, из его класса вышел ряд превосходных музыкальных деятелей, не говоря уж о таких звездах, как Скрябин и Метнер, упомяну композиторов: Гречанинова, Николаева, Гедике и т. д.
С какою совершенно трогательною сердечностью приветствовал он распустившееся дарование Скрябина. Как упорно и настойчиво пропагандировал он его произведения; как дружески старался всячески облегчить тернистый путь начинающего композитора.
Рядом с творцами музыки я могу назвать целую плеяду полезных работников. Первая музыкальная школа в Москве основана ученицей Сафонова — Линберг, совместно с Масловой. Одна из старейших школ, вот уже больше 30 лет, ведется сестрами Гнесиными, которым дороги сафоновские традиции. Популярная школа Зограф — Плаксиной основана ученицей Сафонова Зограф, моего выпуска. Назову школы Воскресенского, покойного И. Н. Протопопова, Демьяновой, [172], Щербиной — Бекман[173], Бетховенской студии; таких педагогов, как Розенов, Курбатов, Самуэльсон, А. Ф. Морозов, Исаева — Семашко, Кетхудова и мн. др. Я чувствую себя виноватым перед теми, имена которых не упоминаю по забывчивости. Короче сказать, половина музыкальных деятелей Москвы так или иначе причастна к сафоновской школе. Большинство профессоров консерватории, а также филармонии если не прямые ученики Сафонова, то, как один из очень серьезных профессоров консерватории мне говорил — “в камерном классе Сафонова я научился больше, чем где — либо”, — прямо или косвенно, его благотворное влияние на музыкальную жизнь Москвы огромно. Чтобы этого всего достичь, недостаточно было быть образованным, развитым, одаренным музыкантом, обладать тонким педагогическим чутьем и отдать всю энергию на любимое дело; нужны были широкие умственный и душевный кругозоры. И всем этим Сафонов обладал в изобилии. Это была натура чрезвычайно сложная и, как впоследствии оказалось, таившая в себе зародыши самых крайних противоположностей.
В эпоху, которой я касаюсь, вся деятельность Сафонова была направлена на общее благо. “Благо” окружающих было его “благом”, и отсюда вытекают все положительные результаты его деятельности. Все мы, его ученики, с умилением вспоминаем весеннее предэкзаменационное время, когда утренние занятия наши затягивались далеко за полночь, и мы часто возвращались, встречая восход солнца. Меньше всех высказывал утомление наш учитель. Перед самым экзаменом Сафонов совершал с классом загородную прогулку, и тогда из требовательного и строгого учителя он становился добрым и милым товарищем. Эти прогулки сближали нас, освящали и наполняли [бод]ростью. Майская распускающаяся природа, весеннее яркое солнце, озаряющее веселую группу юных художников, переживающих весенний расцвет своей музыкальной жизни, все это оставляло глубокий след в наших душах, сердцах, объединяя нас в чувстве любви и благодарности к нашему учителю — руководителю.
Подведя итог первому году пребывания в Москве, я должен сказать, что результаты оказались огромные. С внешней стороны, благодаря содействию Сафонова, все устроилось для меня как нельзя лучше. 2–3 урока, по его рекомендации, давали мне возможность проявить свои педагогические способности, вскоре с этой стороны я был постоянно обеспечен работой. Скромная жизнь наша не требовала многого, и я мог всецело отдаваться личной работе. Помимо занятий у Сафонова, я записался в класс специального контрапункта Лароша. К сожалению, Ларош этого времени уже был отяжелевшим и разбитым физически. Он очень много манкировал, а когда приходил, то не в состоянии был проверить все задачи. Класс был небольшой. Кажется, человек 6–8. Была в классе ученица Козлова. Из — за маленьких рук ее из пианисток перевели на арфу. Она же очень интересовалась теорией музыки. Всех нас она подводила тем, что к каждому уроку приносила целую тетрадь великолепно, каллиграфически написанных контрапунктов (от 40–60), тогда как каждый из нас приносил таковых не больше 10–12. Ларош всегда ставил нам ее в пример перед началом занятий, когда спрашивал, сколько кто чего принес. Но затем если начинал поправлять ее задачи, то чаще всего занятия обрывались. Он не выдерживал бездарной сухости ее задач, соединенной со строгим соблюдением всех правил. На глазах у него появлялись слезы, и он, расстроенный, уходил из класса. Приходилось многого добиваться самому. Странно, что Ларош, имевший такое влияние своими статьями и беседами на такого человека, как С. И. Танеев, из которого выработался замечательный педагог, сам не умел на практике проводить свои намерения и, на мой взгляд, не обнаруживал в своей педагогической деятельности той удивительной прозорливости и того глубокого понимания значения исторического метода преподавания музыки, какими проникнуты его статьи. (Возможно и то, что в 1885 г. он устал, или здоровье его было подорвано, но занятия контрапунктом он вел в высшей степени небрежно.) Помню, как он меня преследовал за то, что я осмелился ему ответить на его вопрос — отчего я пишу так мало контрапунктов? Что я, собственно, по специальности пианист, но интересуюсь настолько музыкальной наукой, что, пройдя обязательный курс теории музыки, пожелал пройти и специальный. Он никогда не пропускал случая язвить за этот ответ, а умел он это делать отлично. Но все это не мешало нам ценить в Лароше замечательного критика, глубокого знатока старинной полифонической музыки, умного, развитого, образованного и остроумного человека…
Много давал нам молодой директор. Хоровой класс, в котором мы изучали оратории Генделя, самые постановки их на ученических концертах, оперы Моцарта, исключительно горячим поклонником их был Танеев, и все его молодое беззаветное отношение к искусству и к своим обязанностям были в высокой степени поучительны и заражали искренним энтузиазмом и любовью к молодому директору и любимому делу.
К концу 2‑го года пребывания в Москве в жизни моей наступила важная перемена. Я женился. Мне было 20 лет. Я был еще учеником консерватории. Совершенно необеспеченный, я решился на столь серьезный шаг, побуждаемый сложным и тяжелым положением моей невесты в семье, вследствие ее отношения ко мне. Этим шагом я разрубил гордиев узел, тяготивший моего дорогого друга, и жалеть об этом мне не пришлось. С первого же дня нашей совместной жизни я нашел в ней не только верного товарища и друга, но также и неутомимого, энергичного и горячего помощника. С особенным чувством вспоминаю я это время, когда комната наша в номерах [Фальцера?] на Тверской служила нам одновременно и рабочей комнатой, и гостиной, и спальней, и кухней. Под звуки изучаемых мною тогда произведений Баха, Шопена, Чайковского и др. готовился вкусный и питательный обед на керосинке, не только для нас, но и для братьев. К этому времени в Москву приехал и мой 2‑й брат Александр.
[…][174] легкомысленный мой шаг, однако, и он скоро оценил прямую и честную натуру своей золовки и впоследствии чрезвычайно тепло и сердечно относился к ней. Но что меня особенно глубоко тронуло — это мудрое поведение моего отца. Зная, что ранняя женитьба моя не должна встретить особенного сочувствия, я до последнего момента скрывал от родителей свое решение. И только накануне венчания, вынужденный представить разрешение родителей, телеграфно из Петербурга просил телеграфно же дать мне таковое. В ответ получилась такая телеграмма: (она у меня имеется)[175].
Итак, началась новая жизнь. Нелегкое дело — сожительство двух лиц. Быть может, самой трудной задачей совместной жизни — разрешить неразрешимое — дать друг другу полную свободу развивать свою индивидуальность. Всегда страдает одна из сторон, обычно слабейшая или более любящая. А между тем вся красота совместной жизни в создании гармонии, при полной самостоятельности каждого в отдельности. Сколько надо такта, внимания, деликатности и тонкости с обеих сторон, чтобы создать эту гармонию, сохраняя свою индивидуальность, не поступаясь ею. Как жаль, что это так редко наблюдается. Обычно чья — либо индивидуальность приносится в жертву, и, таким образом, нарушается естественное развитие характера. А как, в сущности, важно не мешать жизни разнообразно выражать себя во всевозможных человеческих проявлениях. Всякое подавление личности есть преступление против Духа Святого. Эти рассуждения возникли у меня много — много лет спустя, а тогда, в 1887 г. для меня началась жизнь, полная самых разнообразных переживаний.
Лето этого года, чтобы не прерывать занятий с Сафоновым, который жил в Кисловодске, мы провели на Кавказе. Трудно передать, сколько новых впечатлений и от красот природы, и от особенной близости к учителю, с которым почти ежедневно мы совершали горные прогулки, восхищаясь красотой таких мест, какие мало кто знает и по которым мог водить только такой кисловодский старожил, как Сафонов. После 4–5 часов прогулки по горам мы, утомленные, приходили к источнику нарзана и утоляли жажду чудным напитком, бодрящим и освежающим. Так заканчивался день, первая половина которого посвящена была работе. Раза два в неделю шли занятия, на которых надо было дать отчет строгому и требовательному учителю. Все это, вместе взятое, оставило надолго яркое и светлое воспоминание…
Родители Сафонова постоянно прежде жили на Кавказе. Отец его из простых казаков дослужился до “генерала”. Мать — кабардинка — была очень интересной старушкой. Ко мне она относилась особенно хорошо, чувствуя, вероятно, мою преданность ее сыну, и часто втягивала меня в религиозные беседы, которые она очень любила. Здесь впервые проснулось во мне религиозно — национальное чувство.
Рано покинув родной дом и живя постоянно вне еврейского круга, я был равнодушен или, вернее, просто не интересовался религиозными и национальными вопросами. Но где — то в глубине души прочно засели глубокие воспоминания детства, связанные со всем пережитым в доме родителей. И все эти воспоминания, трогательные, поэтичные, неразрывно связанные со всем обиходом текущей еврейской действительности, насквозь проникнутой духом закона, духом религиозности, явились могучим оплотом против всяких посягательств…
Да, посягательств, т. к. трудно иначе назвать то, с чем мне впервые пришлось столкнуться. Любимый учитель, имевший на меня исключительное влияние, человек, которому я был предан всей душой, умный, развитой, образованный Сафонов — вырос в атмосфере старообрядческих верований и на всю жизнь сохранил какой — то особенный настойчивый фанатизм и религиозную узость, которых ни образование, ни просвещение, ни искусство не вытравили в нем. Он был убежденный антисемит и юдофоб, в то же время постоянно имел дело с евреями, среди которых у него было немало друзей. Желание обратить всех в свою веру доходило у него до какой — то болезненной мании. И, будучи директором консерватории, он крестил немало народа; я знаю также случай перехода в старую веру! Во мне все это возбуждало горячий [прямой] протест и негодование. Религиозные споры эти меня сильно волновали, и старушка Сафонова любила слушать мою горячую защиту еврейства и негодование по поводу нападок на него. Я упорно и настойчиво доказывал, что нет более свободного и широкого вероисповедания, как иудейское, и что положительно ничто не может помешать мне, признав христианские церкви истины прекрасными, следовать им, оставаясь евреем, и что случайно или по расчету [взятая ванна крещения], в сущности ничто не изменяет. Думаю Не знаю, [то ли что] не очень верил мне Сафонов или надеялся на то, что вся моя философия и горячая приверженность еврейству не устоит перед лестным и выгодным предложением, но вот разговор, который происходил между нами в 1889 г. в конце мая, после окончания мною консерватории.
Сафонов: Я имею предложить вам нечто, очень для вас лестное, и уверен, что вы мне не откажете в моей просьбе.
Я: Весь к вашим услугам, Василий Ильич, готов служить вам, чем только могу.
Он: Я предлагаю вам занять место моего адъюнкта. Вы будете мне готовить учеников, т. к. директорские обязанности отнимают у меня много времени (он только что был избран директором).
Я (вне себя от радости, так как это было моей мечтой попасть в консерваторию): Не знаю, как вас и благодарить, дорогой учитель. Вы для меня так много сделали и делаете.
Он: Да, но есть одно условие. Евреев не принимают на службу в консерваторию. Надо перейти рубикон.
Я (вне себя от негодования и горя): Как, вы, зная меня, мои убеждения, делаете мне такое предложение и [полагаете], что я могу так поступить.
Он: Но ведь это донкихотство [с вашей стороны], ведь вы не правоверный, глубоко верующий еврей. Что же вас заставляет упорствовать?
Я: Но разве вы не понимаете, какое ужасное предложение вы мне делаете, и как я должен пасть в ваших глазах, если бы я крестился.
Он: Итак, вы не хотите мне помочь; я ожидал, что чувство благодарности вас на это подвинет. А теперь я для вас ничего больше сделать не могу.
Я: Мне ничего от вас не надо. Я желал бы только сохранить те сердечные и дружеские отношения, какие между нами были.
Он: Я счастлив, что у меня в классе был такой ученик. Но, повторяю, больше для вас ничего сделать не могу.
И он сдержал свое слово. В течение 15 последующих лет Сафонов никогда[176] ничего для меня не сделал. Впрочем, было бы несправедливо не упомянуть, как однажды, через несколько лет, когда я был на уроке у него (я занимался с его старшими девочками, прелестной кроткой Настенькой и исключительно одаренной, но строптивой Сашенькой. Обе они умерли в одну неделю[177]), он вдруг предложил мне занять место (и без всяких условий) профессора, который [т. к. проф. Деминский] только что телеграфно отказался, приглашенный профессором в [из] Петербургской] консерватории], что вызвало невероятный гнев Сафонова. Еще более польщенный, я согласился и проводил Сафонова на Поварскую, где жила Александра] Ив[ановна] Губерт, инспектор консерватории, с котор[ой] он должен был переговорить. Через день — два меня в консерватории поздравляли, и помощник инспектора уверял, что у него были уже списки моих учениц и учеников. В консерваторию я не попал. Что произошло, мне не известно, но думаю, что на этот раз художественный совет консерватории проявил малодушие, боясь принять в свою среду некрещеного еврея. Еще через несколько лет, летом, в Севастополе, придя в купальню, я встретился с Сафоновым, который, отправляясь на пароходе в Новороссийск, имел в Севастополе два — три часа стоянки. После первых дружеских приветствий он опять предложил мне профессуру на место умершего Шлецера. Время было самое реакционное, и опять предложение сопровождалось “известным условием”. Он меня всячески убеждал согласиться, и трудно курьезно было смотреть видеть, как трогался пароход и Сафонов с верхней палубы все спрашивал: “да?”, а я отвечал: “нет!” Наконец пароход тронулся, и он продолжал сверху утвердительно кивать головой, а я снизу, с пристани, отвечал отрицательно. Этим кончаются все предложения Сафонова. Еще однажды мне было предложено место директора филармонии. Я должен был заместить покойного Сем[ена] Николаевича] Кругликова[178], которым были не особенно довольны. По указанию Зилоти, Гутхейль[179], член дирекции Филармонического общества, заехал ко мне, и в течение целого часа мы с ним обсуждали все детали предложения, выяснили все права и обязанности. Поговорили о жаловании, об оркестровке и хоровых классах. Не раз во время переговоров я спрашивал о Сем[ене] Николаевиче], знает ли он о выборе нового директора, не совершаю ли я неловкости в отношении человека, которого любил и уважал. Гутхейль меня всячески успокаивал и уверял, что так или иначе им необходим новый директор. Довольный моим согласием и удачно выполненной миссией, обычно сдержанный и сухой в обращении, Гутхейль на этот раз был особенно любезен. Но все было разрушено моей заключительной фразой, с какой я обратился к уходящему гостю: “А что, мое еврейство не помешает вам провести меня в директора?” Гутхейль как вкопанный остановился и недоверчиво спросил: “Да разве этот вопрос у вас не решенный? А ваша супруга, а орден, который вы недавно получили?” Дело в том, что жена моя, природная петербурженка, превосходно владела русской речью и всей своей наружностью не напоминала еврейку. Гутхейль, который по поводу наших концертов часто видал ее [в книжном магазине] у себя, принимал ее за чистокровную русскую. Что же касается ордена, о котором вспомнил Гутхейль, то я, не числясь на службе в Елизаветинском институте, где преподавал больше 12 лет, был представлен к награде и получил большую золотую медаль на Владимирской ленте. Вот эти два обстоятельства служили, очевидно, убедительными доводами против моего еврейства, и это заставило Гутхейля взять на себя переговоры. Когда я все ему разъяснил, то он, глубоко разочарованный, ушел от меня.
Этим кончились все предложения, сделанные мне и которые я не мог принять. И только 30 лет спустя благодаря двум революциям мне без всяких условий было предложено место профессора консерватории[180]. Но я далеко забежал вперед.
С окончанием консерватории я точно потерял почву под ногами или, вернее, сразу очутился лицом к лицу с настоящей действительностью. Надо было самостоятельно устраиваться, твердо стать на ноги, окунуться в борьбу за существование и, не рассчитывая ни на чью помощь, создать себе положение в музыкальном мире и, главное, сохранить возможность дальнейшего усовершенствования в искусстве. На Сафонова я больше рассчитывать не мог, а ведь он был до тех пор главной опорой для меня. Положение мое было весьма затруднительное. Тем более что самый близкий друг мой — моя жена — только что перенесла тяжелую операцию (грудную) и на руках у нее была двухмесячная девочка[181]. Когда я в марте 1887 г. женился, Сафонов пугал меня, что когда буду кончать консерваторию, мне придется думать о “няньках и мамках”. Его слова пророчески сбылись. 24 марта 89 г. у меня родилась первая девочка… Через месяц после ее рождения жена заболела грудницей и не могла сама кормить. Самое заботливое искусственное кормление не давало желанных результатов, и в день выпускного экзамена[182] мне пришлось ехать за кормилицей. В И ч. утра я ее привез, а в 1 был экзамен. Правда, все эти волнения как — то особенно возбуждали меня, и на экзамене я играл с большим подъемом, но все же время было трудное и тяжелое.
Лето мы провели в Орловской губернии, в 30 верстах от Ельца в имении Рахмановых Гудаловка. Я занимался тогда с Лешей Рахмановым, впоследствии профессором Саратовской консерватории, который был также учеником Сафонова.
Несмотря на то, что Сафонов был замечательный педагог, несмотря на все усилия беззаветно преданного искусству С. И. Танеева, кончившего консерваторию нельзя было назвать образованным музыкантом. И я на первых же порах почувствовал, как много придется поработать, чтобы ознакомиться с музыкальной литературой и составить себе приличный репертуар. Работы я не боялся. Труд меня бодрил, и я усердно поработал в это первое лето.
Осенью я получил приглашение в Елизаветинский институт, где начальницей была княжна Елена Александровна Ливен. Прямая, честная, правдивая, всегда занятая заботами о воспитании вверенных ей детей, княгиняжна Елена Александровна была человеком незаурядным. Впоследствии начальница Смольного института, она, глубоко религиозная и монархически настроенная, дружила и с священником Гр. Петровым, и с Анатолием Федоровичем Кони. С первых же дней нашего знакомства между нами установились исключительно дружеские отношения, которые не прерывались до смерти княжны.
В институте мне предстояла трудная задача — пробить брешь в китайской стене рутинного музыкального институтского преподавания, для чего я, собственно, и был приглашен княжной. Не желая ломать налаженный аппарат и в то же время сознавая необходимость обновления и освежения всего институтского педагогического дела, она старалась вводить новых полезных людей, которые постепенно изменили бы затхлую институтскую атмосферу. Во главе педагогического дела она постепенно выдвинула С. А. Зенченко, горячего поборника обновления школьного преподавания. Она беспощадно воевала с институтскими традициями, заменяя все искусственное простым и естественным. К концу ее пребывания начальницей Елизаветинского института последний совершенно преобразился, став вполне демократическим учреждением и выпуская не “кисейных барышень”, а полезных людей.
Я наткнулся на тупую враждебную среду, и только долгим настойчивым трудом удалось сломить упорство противников. В институте был хороший преподаватель старой школы — Вениг, ставленник Гензельта, [который являлся в свое время главным инспектором всех институтов]. Я являлся как бы его соперником. Расположенные и до некоторой степени от него зависимые учительницы без его ведома подняли против меня поход. Особенно усердствовала заведующая всей музыкальной жизнью института, Ермолова. Маленькая, энергичная, вездесущая, она жила интересами института и была несомненно очень полезным работником. Она вела хоровой класс и следила за тем, чтобы воспитанницы аккуратно и вовремя играли. Как оказалось впоследствии, она была оскорблена моим недостаточным вниманием к ее расположению, с каким вначале она ко мне отнеслась. Я ко всем относился одинаково, не делая исключений. И это ее восстановило против меня. Во всем этом сквозило что — то институтское. Это было последней вспышкой умирающих институтских традиций.
В институте закипела новая музыкальная жизнь. Были введены класс теории музыки, для которого пригласили А. Гречанинова, класс ф[орте]п[ианного] ансамбля (знакомства с музыкальной литературой), который вел я. Все как — то подтянулись, и институт прославился своими музыкальными актами.
Помню, как однажды Сафонов, одно время инспектор музыки института, заявил начальнице О. А. Давыдовой, сестре княжны, что больших результатов и достигнуть, и требовать нельзя. Это было сказано после игры Линочки [Фумагали], впоследствии Дациаро, с 8 лет учившейся у меня. Ей было 16, когда она кончила институт. Она играла С-дурный концерт Бетховена 1 ч., Шопена ноктюрн Ф-моль и вальс Цис — моль. Игра ее отличалась чрезвычайной простотой и естественностью.
Больше 12 лет прослужил я в Елизаветинском институте, одновременно работая и в Александровском, а также в гимназиях: “Манебах” и “Пуссель”, впоследствии “Мансбах”. Постепенно, втянувшись в сложную артистическую работу “Исторических камерных концертов”[183], я сокращал педагогическую деятельность в учреждениях, занимаясь только частными уроками.
По окончании консерватории, дав в Синодальном училище[184] концерт, я убедился, что концерты можно давать или представляя собою крупную артистическую силу, способную захватить и поразить любую аудиторию, или пропагандируя “лучшее” в искусстве. Еще будучи учеником консерватории, я получил приглашение через скрипача Д. Крейна, тоже тогда ученика консерватории, играть раз в неделю сонаты и трио в доме Сабашниковых на Арбате. Предложение исходило от воспитателя двух юношей М. и С. Сабашниковых — Николая Васильевича Сперанского. Сознавая огромное значение музыки в развитии человеческой личности, Н. В., помимо занятий мальчиков по фортепиано у Н. Д. Кашкина, считал необходимым приучить их слушать и вникать в хорошую музыку. Нам было предложено играть одну сонату или одно трио, и за это каждому платили 5 рублей. Несмотря на то, что материальная сторона имела большое значение для нас — я уже был женат и жил уроками, — мы отнеслись к этому предложению с особенным вниманием и большою щепетильностью. Старательно репетируя, мы готовились к этим вечерам как к концертам. Третьим партнером нашим был на первых порах виолончелист [Семашко]. Так начались незабвенные вторники в большом сабашниковском доме на Арбате, в зале, где концертировал иногда Антон Рубинштейн. Нас было трое, и слушателей — трое. Постепенно аудитория возрастала[185].
Слушатели своим исключительным вниманием вдохновляли нас, и мы повторяли иногда одну и ту же вещь несколько раз.
Помимо сестер Сабашниковых, Нины Васильевны Евреиновой, прекрасной музыкантши, Екатерины Васильевны Барановской и их близких, бывали братья [Чупровы]. Особенно восторгался и горячо приветствовал нас незабвенный Александр Иванович [Чупров], умевший простыми словами выразить легко и красиво свое впечатление. Вечер заканчивался скромным ужином, и мы расставались довольные друг другом. Так возникла, развивалась и крепла любовь моя к камерной музыке, вскоре приведшая к созданию “Исторических камерных концертов”.
В Москве в это время лучшим виолончелистом был А. Брандуков[186]. Я обратился к нему с предложением принять участие в создании постоянного трио, причем указывал, что начать придется скромно, в небольшом помещении. Брандуков, с успехом уже выступавший в Париже и пользующийся артистической известностью, нашел для себя неудобным начать скромно. Ему хотелось сразу поставить дело широко, и вместо Крейна он предлагал скрипача Конюса, с которым он был дружен. Я же инстинктивно чувствовал, что только постепенно, создавая себе аудиторию, можно будет обеспечить успех этой серьезной затее. К тому же у меня не было средств начинать дело широко. Я снова переговорил с Крейном, и он указал мне на ученика консерватории Альтшуллера. Выбор оказался более чем удачным, юный Модест Альтшуллер как нельзя более подошел нам. Прекрасный музыкант, он, несмотря на юные годы, был отлично знаком с камерной литературой. Не обладая особенно красивым тоном, он тем не менее прекрасно владел инструментом. А главное, что было особенно ценно, все трое относились к делу с горячей любовью и энтузиазмом. И если вначале, не желая рисковать, товарищи предоставили мне всю хозяйственную сторону дела, довольствуясь скромным вознаграждением, то уже вскоре, глубоко заинтересованные им, они пожелали стать такими же участниками, как и я.
Концерты начались в зале I Института гимназии на Волхонке, против Храма Спасителя. Зал нам был бесплатно предоставлен попечителем Московского округа, графом Капнистом. Концерты происходили по воскресениям, в 1 час дня и главным образом для учащихся. Слушателей было человек 50–60. Цены были самые доступные.
Несмотря на то, что никакой рекламы не было, зал Строгановского училища[187], куда концерты были перенесены на следующий сезон, оказался тесным. Этот зал был нам предоставлен директором училища Львовым, родственником знаменитого Львова [музыканта, автора русского гимна] и горячего любителя музыки. Концерты происходили по воскресениям вечером. Пришлось перекочевать сперва в зал Кредитного общества на Петровке и оттуда, наконец, в Синодальный зал, где мы играли в течение многих лет и где в лице директоров училища — С. В. Смоленского, А. И. Орлова, С. И. Кругликова, А. А.К[асталъского][188]мы имели расположенных к нам друзей.
Если я выше рассуждал о том, какое великое дело — сожительство двух лиц, то не могу не сказать, как сложно и трудно создание постоянного ансамбля, при различных характерах участников. Сколько такта, дипломатии, уступок, а иногда, наоборот, настойчивости необходимо соблюдать, чтобы только не дать распасться налаживаемому прекрасному делу. Много мучительных минут пришлось пережить, и никогда, за все 30 лет работы, не было уверенности в прочности трио. Рядом с самым тонким проникновением духом и содержанием [произведения], когда все трое охвачены искренним увлечением красотой художественного творчества, вдруг выступали на сцену свойства характеров участников; проявляется мелкое самолюбие, обидчивость, нежелание подчиниться и т. д. Изумленно стоишь перед таким странным явлением, и кажется действительно, что от великого до смешного — один шаг. Не раз возникал вопрос: стоит ли приносить так много жертв ради совершенного ансамбля, и ответом служило то серьезное значение, какое приобрели наши “Исторические камерные утра”…
Виолончелиста Альтшуллера, уехавшего в Америку, заменил хороший виолончелист Дубинский (ныне тоже живущий в Америке), а затем уже постоянным нашим неизменным товарищем стал Р. И. Эрлих. В 1907 году я уехал за границу, где предполагал оставаться продолжительное время. Тогда меня заменяли в трио А. Б. Гольденвейзер и хорошая пианистка [Нарбут — Грышкевич]. Но к нашим именам — Шор, Крейн и Эрлих — так привыкли, что перемена не прививалась…
С первого же года своего существования трио наше начало путешествовать. Хотелось дать провинции возможность послушать хорошую камерную музыку в хорошем исполнении. При этом была тайная надежда и на удачу в смысле сбора, т. к.
Москва — в первые годы — мало нас удовлетворяла в этом отношении. Наиболее удобное время для нас была весна. Не забуду никогда нашей поездки на родину Альтшуллера в Могилев. Он был уже там, чтобы все подготовить, а я с Крейном ранней весной выехали в дорогу. Мы выехали на лошадях в Могилев, предполагая к ночи туда приехать. Но дорога оказалась ужасной. Полдороги мы ехали на колесах, а половину на санях. Два раза в течение ночи мы останавливались в настоящих корчмах и только часам к 12 утра приехали в Могилев. Разговоров в городе о нашем концерте было много. Но театр, где происходил концерт, — был пуст. Когда немногочисленная публика, устроив нам овацию после концерта, в театре и на улице, уговорила дать 2‑й концерт, уверяя, что город был мало оповещен, то мы имели неосторожность согласиться на это. Второй концерт собрал ту же публику и дал те же результаты: 16 р. чистых. Так блестяще начались финансовые успехи наших концертов в провинции.
На следующий день нам пришлось часов 12 на перекладных спешить в город Бобруйск, чтобы попасть на поезд, едущий на юг. Эту поездку я долго не мог забыть. К концу дня я думал, что не доеду; так сердце болело от тряски. Вагон 3‑го класса казался раем. Наш путь лежал [в] Крым — на мою родину. Глубокое волнение всегда охватывало мою душу, когда поезд подъезжал к Симферополю. Вот “Д[…]* роща”, вот мост через Салгир, а вот и самый вокзал, а на перроне дорогие сердцу лица… Хороший фаэтон знакомого извозчика везет нас в город, перед самым въездом в который справа и слева два высоких дома, представлявшие самый резкий контраст, какой только можно себе представить. Направо — старая тюрьма. Большое каменное здание, со множеством окон, покрытых железными решетками, кругом обнесенное высокой каменной оградой, с расхаживающими часовыми у входа. Налево — дом известного в городе врача Арндта, рассадник просвещения и свободомыслия. Там постоянно можно было встретить самых просвещенных граждан Симферополя.
София Адриановна Арндт, урожденная Солнцева, была дочерью важного сановника. В молодости она, вероятно, была очень интересна. Ею очень увлекался Лассаль. Существует переписка Лассаля с ней. Выйдя замуж за доктора Арндта, она основала первую образцовую школу для детей и сумела объединить вокруг себя всех наиболее видных представителей симферопольской интеллигенции. Я помню ее уже немолодой полной женщиной, едва сохранившей черты былой красоты. Бодрая, энергичная, она всюду вносила жизнь. Дом их похож был на гостиницу, куда каждый мог входить и уходить, когда ему вздумается. Обычно движение начиналось к вечеру, после рабочего дня, и кончалось далеко за полночь. Хозяин дома производил впечатление гостя. Это был живописный старец, с большой седой бородой. В 85 г. С. А. приезжала в Петербург хлопотать по поводу приобретения воздухоплавательной машины. Тогда — то они меня познакомили с музыкантом Славинским, о котором Сафонов справлялся в одном из своих писем[189]. Они уговорили Славинского переехать в Симферополь, распространять музыкальное просвещение в городе, в котором он родился. И действительно, Славинский много лет живший в Петербурге, переехал на юг и жил некоторое время в доме Арндт.
Митрофан Евстафьевич Славинский — личность далеко не заурядная — стоит того, чтобы на нем остановиться. Я познакомился с ним, когда ему уже было лет 50. Небольшого роста, живой, горячий энтузиаст, Славинский являл собою пример настоящего жреца искусства. Занимая долгое время место органиста, он перенес внешние приемы органной игры на ф[орте] — п[ианное] исполнение, что на первое время производило комичное впечатление. Но зато само исполнение было глубоко выразительным. Если в его игре чувствовались все недочеты отсутствия “школы”, то зато в ней были и все достоинства ничем не стесненного вдохновенного исполнения. Он был горячим поклонником Антона Рубинштейна и старался всячески приблизиться к своему идеалу. Его исполнение Баха было замечательным. Преклоняясь перед гением Глинки, он знал “Руслана”[190] наизусть и мог исполнять любое место из него. Многие переложения его из “Руслана” для ф[орте]п[иано] звучат прекрасно. Товарищ по консерватории Чайковского и Лароша, друг Серова и Балакирева, Славинский был многообещающим композитором. Что помешало ему стать таковым, мне не совсем понятно. Возможно, что в этом сказалось и влияние Балакирева, отрицавшего школьное обучение. Так или иначе, но Славинский для Симферополя был ценным явлением. Правда, воспитанием и образованием он не был предназначен к специально музыкальной карьере, хотя музыка в доме Славинских процветала и одна из его сестер была хорошей пианисткой. Возможно и то, что карьера музыканта вообще мало привлекала, а впоследствии могло сказаться и влияние Балакирева, отрицавшего “школу”. Так или иначе — но глубокий музыкант, чуткий исполнитель и горячий, искренний поклонник прекрасного в искусстве, Славинский, представляя собой крупную музыкальную величину, далеко не достиг тех результатов, какие можно было от него ожидать. Для Симферополя же он был явлением в высокой степени ценным.
Наш приезд был для него настоящим праздником. Он делился своими мыслями и чувствами, восторгался нашей музыкой, увлекался своими работами — словом — переживал несколько дней особенный душевный подъем.
Для меня поездка на юг имела совершенно особое значение. Помимо восторга от поразительной по красоте природы южного берега я получал удовлетворение от сознания, что близким моим наш успех доставлял особенную радость. Приветливо встречала нас Ялта. Там собиралось общество, способное ценить камерную музыку, и, какая ирония судьбы, те же лица, которые недавно перед тем хлопотали о запрете евреям жить в Ялте, были принуждены просить полицейскую власть снять этот запрет в отношении Альтшуллера. Дело в том, что Альтшуллер был еще учеником и потому не пользовался еще повсеместным правом жительства. Интереснее всего, что исправник, подчиненный собственно князю Кочубею, наотрез отказал княгине Кочубей дать Альтшуллеру разрешение проживать несколько дней в Ялте; на ее настойчивые просьбы он согласился только “не знать”, что не имеющий права жительства А. находится в Ялте. Поэтому на афише его имя не могло быть поставлено. Трио исполня* ли: Д. Шор и Д. Крейн. Но таковы были нравы в 90‑х годах XIX ст[олетия] в России.
Поездки эти действовали освежающим образом. Масса новых впечатлений, новые знакомства и успех — повлияли на настроение. В Ялте мы приобрели немало друзей: София Владимировна Фортунато, урожденная Стасова, верная дочь своего отца, Вл[адимира] Стасова, (тогда уже, лет 30 тому назад) была нашей горячей поклонницей и защитницей перед ялтинской полицией; Владимир Карлов[ич] Этлиман — талантливый архитектор и хороший скрипач, лицом напоминающий Иоахима, был глубоко интересным человеком. В нем были и странности, свойственные одиноко живущему человеку. Долгое пребывание в Италии, в среде художников различных национальностей, придавало особенный интерес его рассказам. Он горячо любил музыку и играл очень хорошо.
Княжна Долгорукая, полная старая женщина, юношески увлекающаяся всем прекрасным, горячая энтузиастка и большая любительница музыки, была нам преданным другом. Родовая аристократка, она, по существу, была демократкой. С нею было так легко сойтись, и через нее нам открылась вся аристократическая “горка” — так называлась гора, заселенная всей знатью.
Такова сила искусства. Оно интернационально, аполитично и не знает классовых подразделений.
[Руб. конкурс. Затем Толстой
Программа первого исторического камерного концерта «Московского трио» в составе: Д. Шор, Д. Крейн и М. А[льтшуллер].
Программа выступления «Московского трио» в Париже, 1903 г.
Программа концерта Шора, данного 13 мая 1907 г. в Иерусалиме.
Программа лекции — концерта Шора, 1911 г. В программе также еврейские народные песни и трио D-moll Мендельсона.
Программа концерта «Московского трио» в пользу Общества распространения просвещения между евреями в России, 1912 г.
.
Программа концерта Шора, организованного в пользу Общества распространения просвещения между евреями в России, 1913 г
В первом отделении оркестр С. А. Кусевицкого под управлением А. Б. Хессина исполнил симфонию A-dur и сюиту “Cephale et Procris”Мендельсона. Во втором отделении выступили скрипач Л. С. Ауэр (ор.61 Бетховена) и певица М. Оленина д’Альгейм (Lifnei Melech Malchei, сообщена Ю. Д. Энгель) Темы лекции: происхождение, воспитание и образование Мендельсона; значение Мендельсона в музыке и т. д.
Гастрольное выступление Шора в Воронеже, 1914 г.
Гастрольное выступление Шора в Астрахани, 1915 г.
Программа одного из “камерных вечеров”, 1915 г.
Д. С. Крейн, Р. И. Эрлих, Д. С. Шор
.
Евсей Шор и Иегуди Менухин
Евсей Шор
Родители Шора
Надива (Надежда Рафаиловна) Шор с ученицей
Раиса Михайловна Муллер, жена Шора
Письмо Д. Шора к жене, Р. Шор. Иерусалим, 17.05.1907 Здесь: письмо № 14 в разделе “Письма”
Глава 3. [Рубинштейновский конкурс]
15 августа 1890 г. был первый Рубинштейновский конкурс в Петербурге. После исторических концертов 85/86 годов А. Рубинштейн пожертвовал 25 тысяч рублей с тем, чтобы каждые пять лет состоялся бы конкурс для молодых пианистов и композиторов. Преми[ю] в 10 тысяч франков — проценты с капитала — разделить поровну: лучшему пианисту и за лучшее сочинение. В 1886 г[оду], | когда заговорили о конкурсе], я запомнил хорошо, что через 5 лет, [в 1890 г.], будет конкурс. Но в течение последующих лет — женитьба, окончание консерватории, заботы о семье, заботы о дальнейшей музыкальной деятельности вытеснили в из памяти время конкурса. В июле 1890 г., живя на даче под Москвой в селе KpacicoDe, я должен был поехать в Москву для найма квартиры на зиму. Устав от жары и духоты городской, я зашел освежиться в кондитерскую (Трамблэ, что на Кузнецком мосту). Там на столике я увидал газетный листок с объявлением о конкурсе. В первый момент я растерялся, т. к. оставалось меньше месяца до конкурса, а это недостаточный срок для приготовления программы из сочинений Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Шумана, Листа; да к тому же я не знал всех подробностей и условий конкурса. Тем не менее Я решил все же поехать па конкурс.
Я сейчас же написал письмо Сафонову, [своему учителю], члену жюри, с просьбой сообщить мне подробности и дать совет — ехать ли на конкурс. Он тотчас же ответил. Подробностей сообщить не мог, но указал, к кому обратиться. Нашел, что времени мало осталось до конкурса, но если я чувствую, что подготовлюсь, то ехать стоит[191]. Накануне конкурса я был в Петербурге. Программа у меня была готова. Нас было всего 5–6 конкурирующих: Феручио Бузони, тогда молодой пианист и композитор, уже получивший премию как пианист, профессор консерватории в Гельсингфорсе; американец Фербенкс; Дубасов, сын преподавателя консерватории, только весной кончивший консерваторию [у профессора Штейна, отличного учителя\, молодой композитор Чези, сын прекрасного пианиста и музыканта; и я. Премии получили — Дубасов как пианист и Бузони как композитор. Бузони никогда не мог забыть, что его обошли как пианиста. Встречаясь со мной лет через 15–17 он говорил: “Wir sind totgeschlagene Pianisten”[192]. Ходили слухи, что Рубинштейн настаивал, чтобы премию дали Дубасову. [Эти слухи неверны и мало соответствуют прямой и честной натуре Рубинштейна.] Я утверждаю, что присуждение премии Дубасову было в высшей степени справедливо. Он играл на редкость прекрасно. То, что он дальше не пошел, а Бузони же стал всесветно знаменитым, — это другое дело. В то время Бузони переживал какое — то переходное состояние, что особенно отражалось на темпах, то очень медленных, то очень быстрых. Отсюда получалось впечатление какой — то необоснованности, какого — то мудрствования без […].
Впоследствии, когда он становился зрелее и зрелее, он достиг поразительных результатов. Можно было часто не соглашаться с его толкованием, но всегда чувствовалась глубокая продуманность. Итальянец по происхождению, он точно под влиянием немецкого воспитания и жизни в Германии, а также матери — немки, в игре не проявлял итальянского темперамента.
После конкурса Сафонов сказал мне: “Как учитель ваш я не мог дать вам свой голос, а то у вас было бы одинаковое количество голосов с Дубасовым”. Оставляю это заявление на его совести. Особенного разочарования я не испытывал, т. к. ввиду краткого срока для приготовления на конкурс я не мог рассчитывать на успех. Но осадок досады на Сафонова остался у меня на душе от era заявления… К тому же огорчило меня и то, что Рубинштейн, пригласив все жюри [на обед] к себе в Петергоф на дачу, где он жил, позвал только удостоившихся премий, а о нас, и так уже судьбой обиженных, даже не подумал. Я нашел это нетонким со стороны такого большого человека…
Удовлетворение я получил через несколько дней, когда перед отъездом решил обратиться к Рубинштейну с просьбой раз — решить мне изредка приезжать из Москвы к нему, чтобы пользоваться его советами. В первый момент он развел руками, говоря: “Да стоит ли для этого ездить из Москвы?” Я настойчиво уверял, что стоит, и он согласился. В течение сезона 90/91 г. я несколько раз приезжал к нему, привозя целые программы. Трудно передать, что я переживал, играя перед ним… Это был самый большой авторитет, и удостоиться его одобрения или послушать, как он понимал произведение, т. е. слушать Рубинштейна с глазу на глаз, — было верхом счастья. От Сафонова я не то что скрывал свои поездки, но не счел нужным сказать ему об этом. Меня выдал Рубинштейн. Встретив после нескольких свиданий со мною Сафонова, он сказал ему: “Был у меня Шор несколько раз и играл мне очень хорошо”. Вариации Бетховена[193], Шопена фантазию, сонату Е-моль оп. 90 Бетховена, вариации Лонго, которых он не одобрял как сочинение и др. Сафонов как — то спросил меня — между прочим — при встрече: “Вы ездили к Рубинштейну?” — “Да”, — с удивлением ответил я, не понимая, откуда он знает. “Мне Рубинштейн сказал и хвалил вас”, — сухо прибавил он.
Через 42–43 года, в дни скорби после смерти Бялика[194], находясь в санатории “Арза”[195], я случайно услыхал о моих поездках в Петербург из Москвы в Петербург к А. Рубинштейну. В “Арзе” находился старый учитель Зута, горячий поклонник Бялика. Все дни мы проводили в чтении сочинений Бялика и в беседах о нем. Однажды Зута рассказал мне, что когда покойный Бялик объявил курс об Агаде[196] от университета, Зута, как студент, приезжал на лекции из Иерусалима. При первой встрече Бялик, увидав его среди слушателей, сказал ему: “Зута, ты с ума сошел! Ездить на мои лекции из Иерусалима!” На это Зута ответил: “Не больше того музыканта, о котором я слышал, что он из Москвы ездил в Петербург на уроки к Рубинштейну”. И как же Зута поразился, когда я сказал ему, что этот музыкант — я.
Между прочим, должен сказать, что со времени Листа мировые артисты, как Лист, Рубинштейн, Бузони, считали своим долгом давать уроки бесплатно. Рубинштейн не брал платы за уроки, которые иногда продолжались 2–3 часа, и он не виноват, что мне каждая поездка к нему обходилась в 100 рублей. Надо было ехать курьерским поездом для сохранения времени, а это стоило 27 рублей в один конец, так как был только первый класс. Жизнь в Петербурге, пропуск уроков в Москве и т. п. Я мог позволить себе это только раз в два месяца. Эти несколько свиданий с Рубинштейном оставили неизгладимый след на всю жизнь.
Камерная концертная деятельность наша обратила на себя внимание широких кругов Москвы. Однажды в середине 90‑х годов евреи — студенты обратились ко мне с просьбой участвовать в качестве пианиста в концерте какого — то певца. На мой вопрос, какое это имеет отношение к ним, они объяснили мне, что так как в их пользу концерт не разрешают, то они обращаются к артисту — христианину, который берет разрешение на концерт и за это получает половину чистого сбора. Билеты студенты сами распространяют. Сам артист никого не привлек бы, и только за то, что концерт на его имя, он — в том концерте, в котором я участвовал, получил триста рублей — половину сбора. Я упрекнул студентов за неэкономное устройство студенческих концертов, и так как я, как свободный художник, имел право давать концерты, то с того времени я взял эти вечера, объединявшие все еврейское население Москвы, в свои руки, и с течением времени доходность возросла до 12 тысяч, и устраивались эти вечера для "Общества распространения просвещения между евреями в России"[197]. Постепенно, ютясь сначала в сравнительно небольших залах московских, то Немецкого клуба, то Купеческого клуба, мы в конце концов добились почти невозможного в то время — зала Дворянского собрания на две три тысячи человек[198]. С этими вечерами было связано много переживаний. Их ждала вся еврейская Москва. Я помню первый такой вечер в Немецком клубе. Впервые еврейский артист получил в Москве разрешение на такой вечер. Настроение приподнятое. На программах красуется виньетка художника Леонида Осиповича Пастернака (“Три музыканта”, картинка которую я подарил “Бецалелю”), с которым мы очень подружились, и который был близок и дружен с председателем Общества просвещения Владимиром] Осиповичем] Гаркави. Зал переполнен. Концертная программа прошла успешно. После длинного антракта — танцы. Все чувствуют себя легко, свободно. В боковой зале представители общества и студенты устраивают угощенье. Председатель Гаркави произносит теплую речь, подчеркивая значение моего бескорыстного отношения к устройству вечера и значение его для учащейся молодежи. При этом он поднес мне серебряный венок от общества. Я должен ответить, до тех пор я никогда не говорил публично и не знал даже, могу ли я говорить. А туг точно что — то окрылило меня, и я произнес такую горячую речь, что все меня поздравляли. Както празднично было у меня на душе, и все, и все были мне дороги, с этого вечера я как — то особенно почувствовал, как близко и лорого мне все еврейское. Я сделался членом комитета общества и много лет работал вместе с Мареком, Крейниным, Идельсоном, Биркенгеймом, Брумбергом и др. Работали все не за страх, а за совесть. Помогали студентам, устраивали в провинции школы, заботились о музыкальных талантах и т. п. С одним из последующих вечеров связано трогательное знакомство мое с знаменитым Левитаном.
С этими вечерами связано у меня немало переживаний. В 1904 году начались студенческие беспорядки. На одном из исторических воскресных концертов наших, тотчас после антракта, когда мы вышли на эстраду исполнить последний номер, с хор раздался голос студента, громко заявившего: “В то время, когда вы тут слушаете музыку, ваших детей и братьев избивают на Тверской площади”. Мосле этого заявления продолжать концерт нельзя было, но и прекратить его нельзя было — по полицейским соображениям. Я обратился к публике с вопросом, желает ли она слушать дальше или нет. Публика благоразумно решила продолжать, чтобы спокойно, без демонстрации, разойтись. Последнюю часть мы играли при почти пустом зале. Это было в воскресенье, а в среду на той же неделе был назначен вечер Общества просвещения в зале Дворянского собрания, и как обычно с танцами. На другой день, после воскресенья, ко мне пришли студенты с требованием, чтобы танцев не было. Я сам был против танцев; «е отменить их я не мог официально я не мог, «в я уверял студентов, что их не будет, для чего употреблю все усилия. Они ничего слушать не желали и обещали сорвать вечер. Я был в очень затруднительном положении. С одной стороны полиция, дающая разрешение на эти вечера, столь важные для студентов. С другой — студенты, ничего не желающие слушать. Можно или совсем отменить вечер и потерять 12 тысяч, или официально дать его, как он разрешен, с танцами, которых, однако, я уверял, не будет. И знал, что не будет. Под таким тяжелым и неопределенным настроением я находился во вторник и среду. За час до вечера я получил официальную бумагу от градоначальника Трепова следующего содержания: “До моего сведения дошло, что на вечере, Вами устраиваемом, предполагается противоправительственная демонстрация. Так как Вы ответственное лицо на этом вечере, то предлагаю Вам при первом нарушении порядка и тишины призвать публику к порядку. Если это не поможет — велеть тушить свет и отменить вечер”. Под таким впечатлением я поехал на вечер. На улице, перед зданием масса молодежи. В вестибюле полно полицейских, которые не имеют права пройти в зал, кроме высших представителей полиции. Для студентов плата за вход была 50 коп., и они без конца проходили в зал. Тогда решили повысить цену, чтобы не так уж много было в зале горячих голов. Тогда они из группы в 4–5 человек выбирали одного — наиболее горячую голову, и все — таки цена в 2–3 р. их не останавливала. Я же решил затянуть концерт сколько только возможно, чтобы не оставалось времени для танцев. В антракте, который долго продолжался, студенты засыпали зал прокламациями, и высший полицейский чин с упреком подал мне таковую. Я его всячески успокаивал, что дальше этого не пойдет. Публика вела себя прекрасно. И когда я в третьем часу утра заявил, что поздно для танцев, музыка будет играть и публика может гулять но зале, то все приняли это спокойно, и вечер прошел благополучно.
Я забежал вперед. Придется вернуться к началу 90‑х годов. Преподавание в институте, где начальницей была светлейшая княжна Ливен, а опекунами граф Олсуфьев и другие высокопоставленные лица, как — то само собой вводило меня, как артиста и педагога, в т[ак] наз[ываемую] аристократическую среду Москвы. Предводитель дворянства, князь Трубецкой, и его жена относились ко мне чрезвычайно тепло, ценя мои занятия с их дочерью, которая действительно очень успевала. Надо отдать справедливость этим кругам, отношение к музыке у них было “как надо”. А отсюда и отношение к представителям искусства. Семья Трубецких дала выдающихся общественных и научных деятелей. Один из них был ректором университета в самое трудное и ответственное время и держался как истинный “джентльмен”. Трубецкой — философ пользовался большим уважением [199]. В этой семье сумели оценить дарование Скрябина, музыка которого далеко не всем была понятна. Женщины этой среды были на большой высоте. Они задавали подчас тон, и это был гон высокого благородства. Однажды княжна Ливен передала мне приглашение графини Олсуфьевой, безвыездно жившей в своем имении — верст 50–60 от Москвы [200]. Предложение было дать вечер музыки и назначить гонорар. Семья эта мне не была знакома, и я решил, что если люди желают, чтобы артист приехал к ним за 50 перст, то должны хорошо заплатить. Собственно, не эго мною руководило. Демократическим убеждениям моим казалось до некоторой степени странным ехать за 50 верст зимою, на Рождество, играть неизвестно в какой среде, и я назначил гонорар 180 р., рассчитывая, что он неприемлем. Каково же было мое удивление, когда через некоторое время княжна Ливен сообщила мне, что согласны и ждут в назначенный день.
Поезлка эта и знакомство с этой семьей Олсуфьевых оставила во мне неизгладимое впечатление. Я выехал в 20-градусный мороз по жел[езной] дороге до ст[анции] Подсолнечная. Там ждали сани, запряженные цугом. Первый раз в жизни я совершал такую зимнюю поездку. Чудный зимний день, воздух, лес, тишина, поездка почти трехчасовая подействовали на меня сказочно. Я не заметил дороги, наслаждаясь исключительным по чистоте воздухом, зимним видом леса и ездой по девственно чистому снегу. Уже смеркалось, когда мы подъехали к дому. Никто меня не встретил — это был послеобеденный отдых. Полная тишина царила в доме. Мне был оставлен обед, а затем указали комнату, где я мог отдохнуть с дороги, я моментально заснул и удивился, когда меня стали будить. Мне казалось, что я только что заснул. И когда я спросил того, кто меня так деликатно будил, который час, то оказался 9‑й час, и он, улыбаясь, сообщил, что вся публика в сборе. Будивший меня оказался старшим сыном графа Олсуфьева, Мих! аил I АдамовГич!. которого я при ближайшем знакомстве особенно оценил. Я вскочил как ужаленный, наскоро умылся, переоделся и в сопровождении Мих[аила] Адам[овича] спустился вниз. Я сразу попал в теплую атмосферу в буквальном и переносном смысле. Графиня встретила меня не как приглашенного за деньги артиста, а как гостя, который любезно согласился доставить самой разнородной аудитории наслаждение искусством. Переполненная зала состояла из самой разнородной публики — от высокородных аристократов, как графы и князья, до земского врача, народных учителей, священника и т. п.
Светлый зал, хороший рояль и заранее доброжелательная публика аудитория настраивали на хороший лад. К тому же длительный сон после грехчасовой езды чрезвычайно освежил меня, и я — как говорится — был в ударе и играл на редкость хорошо. Все как — то удавалось, и рояль на все отвечал. Создался тот контакт с аудиторией, при котором артист и слушатели составляют как бы одно целое. За ужином — после концерта — графиня посадила меня около себя и тут же заговорила о лете, предлагая провести лето у них. На мое заявление, что я женат и у меня трое детей, она сказала: “Флигель большой, и нам это нисколько не помешает”. Я был тронут и сказал, что приеду еще раз до лета, и тогда решим этот вопрос. Лето мы провели у Олсуфьевых. Тут я близко познакомился с средой, представляющей большой интерес.
Поместье Олсуфьево являлось до некоторой степени культурным очагом для всей округи. Кроме школы, библиотеки, больницы и т. п., которые обслуживали окружающие деревни, самый дом, его обитатели и особенно сама графиня, с ее благожелательным отношением к людям вообще и к окружающим в особенности, — все являлось привлекательным и влияло культурно на всех, соприкасавшихся с домом Олсуфьевых. Приятельница Л. Н. Толсто го. который не раз гащивал в Олсуфьеве, графиня как бы находилась под благодетельным влиянием проповедника общечеловечности. И хотя некоторые внешние проявления идей Толстого, как, например, самому прибирать за собой, не заставляя другого выносить утром ночную посудину, вызывали ее юмористическое замечание о том, что Толстой через весь дом шел с своей посудиной (дом старый, и не все удобства новейших приспособлений были налицо), тем не менее она понимала и то глубоко внутреннее, что заставляло великого человека так поступать. [Семья графов Олсуфьевых была Льву Ник. очень симпатична, в 1896 г. он писал Черткову: “Они такие простые, добрые люди, что различие их взглядов с моими и не различие, а не признание того, чем я живу, не тревожит меня. Я знаю, что они не могут, а что они желают быть добрыми и в этом направлении дошли докуда могли”[201].] Детей она [Олсуфьева] старалась воспитать до некоторой степени в толстовском духе, и старший сын — Михаил Адамович! больше всех детей усвоил то отношение к жизни и людям, полное простоты и естественности, которое так привлекательно. С ним всегда было легко, каких бы сложных вопросов жизни ни касаться. Чувствовалось в нем постоянное искание, а не желание себя показать. У меня долго хранилась толстая книга — Библия и Евангелие на русском языке, подаренная им мне после многих религиозных и философских разговоров. Я ее оставил в России, уезжая в Палестину. Мих[аил] Адам[ович] не стремился ни к какой карьере и тихо, скромно, без всякого шума жил, довольствуясь тем, что “чисто мел у своего порога”. Он занимал какую — то общественную должность в небольшом уездном городе Московской губернии Дмитрове (кажется, уездный предводитель дворянства), жил в небольшом домике своем, и когда после революции князь Кропоткин приехал в Россию, то последние годы жизни провел в Дмитрове в домике Мих[аила] Адам[овича][202].
Иное представлял его брат — Дм[итрий] Адам[ович]. он был как — то площе, менее глубок, довольно честолюбив и достиг, как граф Олсуфьев, положения члена Государственного совета, члена Государственной думы, был на виду, но не выказал каких — либо особых талантов, отличаясь несомненной порядочностью. Возможно, что в моих суждениях много субъективного, и, кроме того, я знал семью Олсуфьевых, когда я был очень молод и они молоды. Но такое впечатление у меня осталось. Дочь графини[203] (единственная У походила характером на старшего брата. Она работала для народа — в школе, библиотеке, больнице. Отличалась простотой обращения со всеми и не походила на графиню. Говорили, что она полюбила земского врача, готовая выйти за него замуж, но тут не выдержала мать, в ней заговорило чувство рода, и она была против брака. Граф Адам Васильевич] был тихий человек и как — то стушевывался перед графиней, которая задавала тон в доме. Добрый и кроткий, он не мешал ей устраивать жизнь по ее желанию. Трудно было сказать, насколько он соглашался со всем обиходом жизни. Блестящий придворный генерал, товарищ Александра III. с которым он играл в его домашнем духовом оркестре, он — возможно, с воцарением Николая II — удалился в деревню. Производил он впечатление доброго, хорошего человека.
Характерно то, что, проводя лето с семьей в среде, столь далекой от привычной мне, музыкальной и еврейской, мне ни разу не пришлось испытать мучительного чувства, когда касаются еврейского вопроса. И я на протяжении всей своей жизни и при многих случаях убеждался, что там, где чувствуют присутствие национального самосознания, к нему относятся с уважением.
Графиня Олсуфьева несомненно была выдающейся русской женщиной. И я через много — много лет, вспоминая о ней с чувством любви и уважения, с грустью думаю, как нам, евреям, недостает в нашей маленькой стране “женщины”. Они имеются, и не в малом количестве, в пролетарско — рабочей среде, и совершенно их нет в т[ак] наз[ываемой] буржуазно — аристократической среде. А как бесконечно много зависит от женщины. Вся жизнь складывается благодаря ей. Она дает тон жизни. К сожалению, часто среда эта напоминает ту семейную идиллию, которую писатель Успенский характеризовал: “муж грабит, а жена подбирает — и выходит семейный дом”[204].
Еще о двух русских женщинах, с которыми судьба свела меня на почве музыки и которые принадлежат к той же аристократической среде, как и Олсуфьевы: мать и дочь графини Панины[205]. Как часто в деятельности отдельных людей, обществ и даже государств мы наблюдаем движение по тому направлению, которого именно желают избегнуть. Таким парадоксом в политической жизни России 80‑х и 90‑х годов XIX века являлась ссылка “политических” в гор[од] Тверь. Тверская губерния издавна являлась очагом революции. Достаточно сказать, что знаменитое Прямухино бакунинское недалеко от Твери, что тверское земство всегда отличалось свободомыслием и что его адрес Николаю II удостоился замечания — “бессмысленные мечтания”, чтобы понять, что ссылка именно в Тверь не изменит политических воззрений людей “инакомыслящих”. Таким ссыльным в конце 80‑х годов был мой дядя, врач для “бедных” в Одессе. Он не был революционером. Он видел ту одесскую бедноту, которая возмущала до глубины души и в которой невольно обвиняешь существующий порядок вещей и надеешься, что, изменив его, уничтожишь нищету и горе. Вот за это желание дядя Семен удостаивался не раз ссылки. В Твери старожилом был д-р Мих[аил] Ильич Петрункевич, в доме которого можно было встретить всех политических, заброшенных судьбой в этот город. Браг известного общественного и политического деятеля Ив[ана] Ил[ьича] Петрункевича. Мих[аил] Ил[ьич] привлекал к себе как личность. Когда я однажды навестил дядю в Твери, то познакомился со многими интересными людьми. В первую голову с Петрункевичем, с маститыми представителями семьи Бакуниных, братьями Александром и Павлом, а также с вдовой Алексея Бакунина, знакомство перешедшее в дружбу. О ней, о Мар[ии] Николаевне] Бакуниной, речь впереди. Среди остальных был и писатель Ал. Ив. Эргель. с которым впоследствии мы близко сошлись, когда он жил в Москве.
О Прямухине и его обитателях так много написано, что ничего не прибавишь. Разве только личное впечатление от посещения этого замечательного уголка. Начиная от дома, в котором все было огромно: комнаты, коридоры, самая постройка дома, крепкая, солидная, и кончая обиходом жизни, рассчитанным на множество людей, — во всем был какой — то размах. характеризующий семью Бакуниых. давшую такого богатыря, как Михаил Александрович[206]. За стол к обеду садилось от 20 до 30 человек, из которых половина не всегда была знакома хозяевам. Все было просто, хлебосольно, и приправой являлась интересная беседа.
Об исключительной любви к музыке в семье Бакуниных немало писали. Знаменитые, незабвенные слова Михаила Бакунина, который с риском для жизни не побоялся пойти послушать 9‑ю симфонию в исполнении Вагнера в Дрездене в 1848 г., останутся навсегда свидетельством глубокого проникновения в дух художника. Пораженный содержанием музыки, он сказал Вагнеру: “Все разрушится, исчезнет, одна только вещь будет существовать вечно, это — 9‑я симфония Бетховена”[207]. Эта особенная способность бакунинская — глубоко проникать в дух и сущность вещей, заставляла с особенным вниманием относиться ко всему, что говорилось маститыми представителями этой семьи. ИвГан! Ил 1 ьич 1 Петрункевич. к голосу которого внимательно прислушивались тысячи людей, считал своим долгом во многом обращаться за советом к Бакуниным. Возможно, что “идеи”, исходящие из Тверской губ[ернии], обязаны многим семье Бакуниных. Так, напр[имер], Толстой писал Боткину 7.11.1862 г.: “Нынче я получил известие об одном из самых по моему мнению серьезных событий за последнее время; хотя событие это наверно останется незамеченным. Тверское дворянство постановило — отказаться от своих прав — выборов более не производить — и только — и посредникам по выбору дворянства и Правительства не служить. Сила!”[208] Это т[ак] наз[ываемое] Тверское дело произвело сильное впечатление на русское общество. Тринадцать тверских дворян, во главе с Алексеем Александровичем] Бакуниным, выступили с протестом против “положения 19 февраля”. Они были заключены в Петропавловскую крепость и преданы суду Сената [209]. Этого Алексея Бакунина я не знал, но зато был очень дружен с его вдовой (исключительной по правдивости и душевной глубине женщиной) Мар[ией 1 Ник[олаевной] и его детьми — дочерью Катей (моей ученицей) и сыном Мишей. Патриархом семьи в мое время был Александр Александрович (после смерти Михаила), а за ним Павел Алекс[андрович] — философ, кое — что написавший и философски тихо заканчивавший свои дни в своем небольшом поместье около
Ялты, в Щели, так оно называлось. Как — то однажды я вместе с Мишей Бакуниным прожил некоторое время в Щели. Утром рано мы шли купаться. Возвращались пешком (около 3 верст) по укороченной дороге каких — то остатков древних сооружений — виадуков. Казалось, что мы, живя в Щели, точно принадлежим какой — то далекой от конца 19‑го века эпохе. Л образ жизни философа Павла Александровича], избавленного от всех житейских забот неутомимой и трудолюбивой женой[210] , казался мне не жизнью, а каким — то медленным угасанием. Тогда я с этим никак не мог примириться. Бакунин и угасание! Да и вообще казалось мне, что жить надо полной жизнью до последне го часа. Люди имущие очевидно рассуждают иначе. А ведь какие прекрасные люди. Какая задушевность, готовность идти навстречу каждому и всякому. При этом богатый внутренний мир, открытый для каждого. Таковыми были Пав[ел] Алекс андрович] и его жена. Настоящие Филемон и Бавкида[211] … Такою была и Мар[ия] Ник[олаевна], умиравшая почти в нужде после Октябрьской революции. Большую радость доставила мне возможность во время ее болезни снабжать ее питательными продуктами (икрой, вином и фруктами). Маленькая признательность с моей стороны за все то, что она всегда готова была сделать для других… Не бесследно проходили такие люди свой жизненный путь. То тут, то там возбуждают они чувства добра в людях, стремление к правде и справедливости. Семья Бакуниных, ее отношение к жизни и стремление облегчить народное горе отразились на всей деятельности Петрункевича, граф[ини] С. Паниной и мн[огих] других.
Глава 4. [Антон Рубинштейн]
[Отрывок № 1]
Своей жизнью и деятельностью братья Рубинштейн как бы осуществляли эти высокие требования, которы[е] мы предъявляем к “учителю”. Оба — гениальные артисты, чуткие ко всему прекрасному, они вносили в свою игру ту простоту и естественность, которые являются тайной великих исполнителей и результатом их проникновения в глубину музыкального искусства. Способность с первых же звуков переселить [перенести] слушателя [в] ту особую атмосферу, которая связана с поэтическим смыслом и духом [исполняемого] произведения, способность держать слушателя под магнетическим обаянием d тече пне осей во время своей игры и надолго оставлять в его душе глубокий след — этой способностью обладали братья Рубинштейн в высшей степени. Тайну своего исполнения они стремились передать своим ученикам, в которых они видели продолжателей своих традиций. Самоотверженно и бескорыстно работали они на поприще искусства и предъявляли высокие требования тем, с кем имели дело. Музыка — в их глазах — ни в коем случае не должна была превратиться только лишь в профессию; она должна была всегда оставаться призванием, для осуществления которого каждый музыкант должен стать всесторонне образованным человеком и цельной этической личностью. Антон Рубинштейн был требовательнее своего брата. Он знал, что “искусство не выносит ничего приблизительного”, и добивался во всем стремился к совершенству. В классе, на эстраде или в домашней обстановке вокруг него создавалась атмосфера благоговейного отношения к искусству. Как художник и человек, он оказывал на всех, кто приходил с ним в соприкосновение, [углубляющее], облагораживающее и преображающее влияние. Заветы Рубинштейна, которые воплотились в его личности и художественной деятельности, должны лечь в основу нашей музыкальной работы в Палестине. Недаром во время одной из моих бесед с Губерманом, когда мы оба мечтали о создании Высшей музыкальной школы в Палестине, [заветы] Антона Рубинштейна его личность служили для нас и его уче ников нам путеводной звездой.
[Отрывок № 2]
[…][214] Его многозначительная речь, краткая, ясная и образная, его литературные опыты, блещущие искрами философского ума, наконец, его обаятельные личные качества — все носит на себе печать того, что так верно выражено словами поэта: “Прекрасное должно быть величаво…”[215]
Да, величаво прошел он свой жизненный путь, величавый лежит он перед нами в гробу, увенчанный лаврами всего мира, спокойный, нравственно удовлетворенный по отношению к своей родине, так как он мог еще при жизни видеть, что благодаря его трудам музыкальное искусство в России приобрело значение государственное. Пусть же все, кому сегодня выпало горькое счастье видеть в последний раз перед расставаньем навеки любимые черты мощного гения, подарившего человечеству много минут высоких наслаждений, воспитавшего не одно поколение артистических сил, навсегда сохранят в своем сердце этот прекрасный, величавый образ. Вечная память, вечная слава Антону Рубинштейну, недосягаемому виртуозу, великому композитору, устроителю музыкального образования русской земли!
Таким видела Россия образ создателя своей музыкальной культуры. Иначе осознавал себя сам Рубинштейн. Достигнув высших ступеней славы и почестей, пережив празднование 50‑го юбилея художественно — артистической деятельности, какого не удостаивался ни до, ни после него ни один артист в России, Рубинштейн чуветвует испытывает глубокую неудовлетворенность. Его охватывает чувство одиночества и отчужденности Он чувствует себя одиноким и чужим в той стране, которой он посвятил свою жизнь и […][216] вдохновение. “Кажется, я люблю Россию и служу ей, как только могу, — жалуется он в разговоре с одним русским писателем, — я русский дворянин, детей своих воспитываю в России, но я не свой. Я это чувствую всегда и во всем“. Это сознание отчужденности было результатом не толь ко внешних условий жизни; оно связано было также и с DiiyT репной раздвоенностью композитора, нашло свое выражение Еще ярче выразилось это чувство в [его] полном горечи афоризме: “Для евреев я христианин, для христиан я еврей; для русских я немец, для немцев — русский.”[217]
Это сознание отчужденности[Такоесостояниесознание] было результатом не только внешних условий жизни; оно было связано также и с внутренней раздвоенностью композитора. Еврей по своему происхождению[218], западник по образованию общему и музыкальному [Рубинштейн], твердый и прямой в личной и общественной жизни, терял, казалось, под собой почву, когда пытался целостно определить свою личность и свое положение в современной ему культуре. Корни этого духовного состояния надо искать в трагическом конфликте между его происхождением и окружающей его культурной средой.
Трагедия еврейских художников творцов заключается в том, что они вырастают на чужой почве, в атмосфере чуждой культуры, чуждой их духу. Приспособляясь [sic!] к ней и проникаясь ею, они перестают быть самим[и] собой и теряют ту непосредственность и самобытность, которые являются [составляют] сущность всякого оригинального дарования. Подобно растению теплых стран, пересаженному в чуждую ему почву, на которой оно не в состоянии достигнуть полного расцвета своего, еврейские гении в атмосфере чуждой национальной культуры не в состоянии развернуть всех своих сил. Гению необходима своя национальная почва. Врастая глубокими корнями в нее и черпая из нее необходимое питание, он подымается на такую высоту, [на] которой, оставаясь сыном своего народа, он тем не менее принадлежит всему человечеству. Этой почвы недоставало еврейским композиторам, и ни один из них не мог достигнуть той степени самобытности, глубины и совершенства, какие, казалось, были предназначены им ему в силу их природного дарования.
[Отрывок № 3]
Вечная память, вечная слава Антону Рубинштейну, недосягаемому виртуозу, великому композитору, устроителю музыкального образования русской земли!
Рубинштейн всегда был для меня идеалом артиста и человека. В сезоне 1890 — 91 гг. я имел счастье пользоваться его музыкальными советами, приезжая для этого из Москвы в Петербург раз в месяц. То были не уроки, а сплошные откровения. Рубинштейн раскрывал передо мной все величие Бетховена и всю красоту Шопена, тут же сидя за вторым роялем и исполняя то, что я привозил ему.
Рубинштейн ждет еще подробной биографии и характеристики. Мне же только вкратце хочется коснуться некоторых сторон характера этой замечательной личности и тех условий, которые, на мой взгляд, помешали этому орлу развернуть вовсю свои мощные крылья в области музыкального творчества.
Трагедия ассимилированных ху#ож еврейских хуложниковтворнов в том, что они вырастают на чужой почве в атмосфере культуры, чуждой их духу. Приспособляясь [sic!] к ней и проникаясь ею, они перестают быть самими собою и теряют ту непосредственность и самобытность, которые составляют сущность всякого оригинального дарования. Подобно растению теплых стран, пересаженному в чуждую ему почву, на которой оно не в состоянии достигнуть полного расцвета своего, еврейские гении в атмосфере чужой национальной культуры не в состоянии развернуть всех своих сил. Гению необходима своя национальная почва. Врастая глубокими корнями в нее и черпая из нее необходимое питание, гений поднимается на такую высоту, при которой, оставаясь сыном своего народа, он, тем не менее, принадлежит всему человечеству. Вот этому этой почвы недоставало еврейским музыкальным гениям, и ни один из них не поднялся на ту высоту, какой можно было ждать, взяв по мог бы достигнуть, если взять во внимание силу природного дарования. На это еще 75 лет тому назад указывал Рихард Вагнер в своей знаменитой статье “Еврейство в музыке”. В ней Вагнер говорит, что у просвещенного еврейского музыканта нет гвер дой почвы под ногами. Рубинштейн выразился по этому поводу решительнее и ярче в афоризме, полном горечи: “Для евреев я христианин, для христиан я — еврей, для русских я — немец, для немцев я — русский. Вобщем ни рыба, ни мясо. Существо, достойное сожаления”.
Из всех ассимилированных композиторов Антон Рубинштейн, оторванный 3‑х, 4‑х лет от еврейской среды, сохранил, одпако, на протяжении всей своей жизни какую — то особую привязанность и к еврейским темам для опер, как “Маккавеи”, “Вавилонское столпотворене”, “Шуламит”, “Песня песней”, “Моисей”, “Иисус” и др. И также к еврейским напевам. Казалось бы, что именно ему, великому Антону, надлежало подняться на высоту истинного национального еврейского композитора. Но окружающая действительность и особенные условия жизни помешали ему познать самого себя и исчерпать со дна души выявить все духовное наследие нации, к которой он принадлежал по крови.
Семит по происхождению, западник по образованию общему и музыкальному и русский по своим симпати[ям] и деятельности, Рубинштейн, твердый и прямой в жизни, терял под собою почву, когда настойчиво желал быть русским. “Кажется, я люблю Россию и служу ей, как только могу. Я — русский дворянин, детей своих воспитываю в России, но я не свой. Я это чувствую всегда и во всем”, — говорил он по поводу того, что, несмотря на свою преданность отечеству, несмотря на все свои успехи и отличия, он чувствовал, что его все — таки считают инородцем. Во всех этих чувствах и словах слышится неподдельная горечь, характеризующая отчасти тот оттенок пессимизма, который мы замечаем у Рубинштейна! на вершине его славы. Эти чувства свидетельствуют о некоторой слабости, которая кладет тень па него, как на великий характер. Еврейское происхождение Рубинштейна несомненно. Оно сказалось и в некоторых характерных чертах его творчества, и [в] той настойчивости, с какой он шел к намеченной цели, и в той поразительной неутомимости, которая дала ему возможности быть одновременно и плодовитым композитором и виртуозом, овладевшим всей музыкальной литературой, и крупным администратором, и педагогом, и писателем. Своему происхождению он обязан веками закаленной энергии, какая характеризует жизненный путь его. Он этого не понял, и в этом его ошибка.
[Отрывок № 4]
В противоположность другим ассимилированным еврейским композиторам А. Рубинштейн, с 4-летнего возраста оторванный от еврейской среды, сохранил на протяжении всей своей жизни какую — то особую привязанность к ерройск восточным напевам и библейским темам. Казалось бы, что именно ему надлежало бы надлежит подняться на высоту истинно национального [еврейского] творчества. Однако условия жизни и окружающая действительность помешали ему познать самого себя и выявить духовное наследие нации, к которой он принадлежал по крови.
Вместо того, чтобы поставить в центр своего творчества жившую в нем [близкую ему] восточную мелодическую стихию и подчинить ей, как основной духовно — музыкальной силе, все остальные элементы своего искусства — гармонию, ритмику, форму, вместо того, чтобы под знаком восточного — толоса еврейской мелодики поставить […][219] и достижения западноевропейского музыкального наследия и таким образом найти органический синтез национального духа и западноевропейской музыкальной культуры, как это сделали в области русской национальной музыки его современники — Глинка, Мусоргский, Бородин и др[угие]; Рубинштейн, всем воспитанием своим отлученный от своего народа, не только не взялся за разрешение [осуществление] этой задачи, но и отрицал необходимость и возможность осуществления [разрешения] ее. Основные элементы его тиор чес — тва, восточная мелодика и западноевропейская традиция, не слились в общий по[тек], но продолжали жить в его произволе ннях — самостоятельнон жнзныо.
Творческая деятельность Рубинштейна обнимает период в пятьдесят лет. Композитор написал около ста тридцати опусов, в которые входят симфонии, сонаты, квартеты, трио, масса пьес для пения и фортепиано, а также несколько онер и ораторий, или “духовных опер”, как называет их он сам. Почти во всех произведениях, и во всяком случае во многих из них, можно найти вдохновенные страницы, глубокие и музыкальные мысли, прекрасные мелодии; но лишь очень немногие из произведений Рубинштейна обладают законченностью, свидетельствующей о полном внутреннем единстве между композитором и стихией его искусства.
Наивысшего совершенства достигает Рубинштейн в некоторых частях своих “духовных опер” [“Потерянный рай”, “Вавилонское столпотворение”, “Суламифъ”, “Моисей”, “Христос”]. Но н Над этими произведениями довлеет [словно тяготеет] злой рок. [Лишь немногие из них увидели свет, и ни одна из них не была поставлена так, как этого требовал композитор.] “Духовная опера” по своей идее есть новая форма музыкального театрального искусства, есть новый синтез музыки и театра, осуществляемый на почве религиозной идеи. Библия. как источник вдохновения музыкального творчества и в последнем счете [религиозного обновления] художественной религиозной культуры — такова в кратких чертах основная мысль […]* духовному взору композитора идея религиозного театра, [как его понимал Рубинштейн]. Для этого театра будущего Рубинштейн не уставал писать [одну] “духовную оперу” за другой, не имея никакой надежды, что они будут поставлены исполнены при его жизни. В этой горячей и непоколебимой вере в религиозную идею и в ее обновляющее действие, в этой готовности приносить ей жертвы и служить ей, вне зависимости от возможности ее внешнего осуществления, мы узнаем религиозный пыл еврейской души. Если когда — нибудь возродится театральное искусство в высоком значении этого слова, если религиозный театр будущего снова примет под свои своды все другие нскуоетпа виды художественного творчества и создаст воистину тот синтез искусств, о котором напрасно мечтает Западная Европа со времен Вагнера, если из этого театра вырастет новая художественная культура, то создатели его будут славословить Антона Рубинштейна как одного из великих инициаторов и зачинателей этого нового театрального действа искусства.
Рубинштейн — [композитор] достигает величайшего совершенства, там, где когда он прикасается к библейскому сюжету, и когда струя восточного мелоса прорывается в его творчестве. Там же. где он ограничивается западноевропейской музыкальной традицией [“Маккавеи”, “Персидские песни”, многое в опере “Демон” и т. д.], еде он пытается оставаться старается быть “продолжателем Шуберта и Шопена”, как он [сам], определяет свое положение в западноевропейской музыке, он теряет возможность дать хотя бы и бессознательный синтез пацно нальпых и западноевропейских элементов своего творчества и довести их, эти эломепты — гдо уровня — нодлинной — закопченности. Несмотря на огромную работоспособность, которая позволяла ему продолжать спою композиторскую работу — даже в разгаре концертного сезона, своих концертных выступлений, Рубинштейн принципиально отказывался от работы над совершенство ванием своих произведений. “Ile раз при исполнении монхнзданных произведений, — нншет он, мие — нрнходнлн на ум измене пня, от которых сочинения должны были бы несомненно Dunr рать, но это не могло меня побудить снова коснуться до окон ченного сочинения”. Рубинштейн чувствовал внутренние про пятствня — на путях творческого совершенства, но не был в состо яннн ихосознать н преодолеть. Его творчество приобретало характер постоянной импровизации, которая рождается из мгно венного вдохновения и живет его огнем, по которая и подчнне на таюке — пронзволыюй смене его взлетов и падений.
Отрыв от национальной почвы лишал-Рубинштейна живых источников духовно — творческих сил. Но этот лее отрыв не был настолыс — о–мощным, чтобьькомпозитор сделался музыкальным космополитом в лучшем "Значении этого слова и дал ему вол можность понять и возродить музыку всех времен и народов. Недостатки композитора превращались в этой богатой и мощ ней натуре в достоинства музыканта исполнителя. В области исполнения Рубинштейн достигал своего апогея. Он в совер шенстве владел тайною музыкальной интерпретации; с первых звуков умел он переселять слушателя в ту особенную атмосферу, которая составляет содержание исполняемого произведения, в то особенное настроение духа, которое называется поэтическим смыслом пьесы, и держать слушателя от первого до после днего звука аудиторию под обаянием своей игры.
[Отрывок № 5]
Существенным недостатком рубинштейновского творчества является при этом его неразборчивая плодовитость, несомнсн но связанная с его “западничеством". Рядом с мыслями поразительной [красоты в его произведениях] попадаются страницы сравнительно бессодержательные, точно композитор избегал тонкой внимательной отделки своих сочинений. Возможно также, что в этих недостатках сказался [а/шшст] — исполнитель. То, что имеет такое важное значение при исполнении — порыв, минутное настроение, подъем чувства — словом, все, что дает жизнь музыкальной интерпретации и что в такой мере было присуще Рубинштейну, могло «вмешать ему в его твор честве. Зато в области исполнения Рубинштейн достигал своего апогея. Он в совершенстве владел тайною музыкальной интерпретации: с первых звуков умел он перенести слушателя в ту особенную атмосферу, которая составляет содержание исполняемого произведения, в то особенное настроение духа, которое называется поэтическим смыслом пьесы, и держать аудиторию под обаянием своей игры.
Если мы подвели бы итог художественно — артистической деятельности Рубинштейна, то мы были бы мы будем принуждены признать, что он являет собой пример артиста и художника в лучшем значении этого слова. Правдивый, прямой, горячо любящий искусство, которому он всю жизнь служил без компромиссов, Рубинштейн невольно напоминает Бетховена, на которого он походил и лицом, что дало повод Листу назвать его “Ван II” [Bern I был Бетховен]. Обаяние личности Рубинштейна, казалось, не имело границ. Сейчас еще — после 44 лет — я с особенным чувством вспоминаю ту зиму, когда я имел счастье находиться в постоянном [музыкальном] общении с Рубинштейном, приезжая для этого из Москвы в Петербург. Во время Наши свидания, [которые] происходили с глазу на глаз в его рабочей комнате у двух роялей, [во время которых] Рубинштейн раскрывал передо мною всю красоту Шопена и величие Бетховена, оставили неизгладимый след в моей душе.
В газетной статье[220] невозможно дать исчерпывающую характеристику жизни и творчества деятельности великого музыканта; не в этом заключалась моя задача. Я хотел лишь кратко коснуться некоторых сторон личности Рубинштейна и в особенности тех условий, которые, на мой взгляд, помешали ему раскрыть всю мощь своего дарования в области музыкального творчества. Трагедия Рубинштейна [как композитора] указывает нам пути, по которым должно идти музыкальное воспитание нашего народа
Глава 5. Л. Н. Толстой [фрагмент № 1]
Знакомство с Толстым было для меня событием чрезвычайной важности. Я могу смело сказать, что с раннего детства я жил под обаянием его книг. Детские рассказы его: “Кавказский пленник”, “Бог правду видит, да нескоро скажет” и др[угие] перечитывались много раз, а затем дальше: “Детство”, “Отрочество” и “Юность”, “Казаки”, “Война и мир”, “Анна Карени на” и др. составляли эпоху в жизни каждого из нас. И сейчас на 8‑м десятилетии жизни у меня со стола не сходит “Круг чтения” его, и часто — часто вспоминаю я этого исключительного человека. Лет пять тому назад — в 1934 г[оду] — в “Литературной газете” Москвы были напечатаны дневники Толстого, и в одном месте было сказано:
1893 г. 22 декабря.
“На днях был тут музыкант Шор [известный пианист Д. С. Шор][221]. Мы с ним говорили о музыке, и мне в первый раз уяснилось истинное значение искусства, даже драматического. Это будет первое из того, что я думал за это время”[222].
Я этого не помню, но если я мог силою любви моей к искусству повлиять на того, кто всю жизнь влиял и влияет на меня, то это наполняет меня некоторой гордостью. В 1901 г[оду] — весною — Толстой недолго жил в Москве, само собой разумеется, что все представители искусства готовы были все сделать для него. В свою очередь, графиня Софья Андреевна, близкая к музыкальному миру Москвы, желала показать ему и наше трио. Мы, конечно, с радостью согласились, и 2 мая 1901 года, как значится на подаренном мне Л[ьвом] Николаевичем] портрете, мы играли перед ним. Близость Толстого вдохновляла нас, и мы действительно играли хорошо с увлечением его любимых авторов: Гайдна, Моцарта, [Бетховена], Шуберта. (На то, что ему было понятно и что он чувствовал, он реагировал удачными сравнениями.) Не обошлось без спора по поводу новых явлений в искусстве. В это время Москва увлекалась замечательным композитором Скрябиным. Толстой его не чувствовал и не понимал и потому отрицательно относился к его творчеству и вообще ко всей “новой музыке”. “Представьте себе, — говорил он, — прекрасного арабского скакуна, который вместо того, чтобы скакать по ровной дороге, скачет по вспаханному полю, — так ваша “новая музыка”. — “Лев Николаевич, — возражал я, — ведь то, что теперь вам так понятно, в свое время подвергалось таким же нападкам, как “новая музыка”. Время в данном случае лучший судья, оно предает забвению посредственное и хранит для потомства гениальное”. […]* Манера говорить и слушать у Толстого была замечательная. Острый взгляд его точно проникал в душу собеседника и в то же время поощрял говорить. Несмотря на мое, можно сказать, благоговейное отношение к [нему], Толстому, я не чувствовал никакого стеснения в его присутствии. Мы спорили как два равных собеседника. Я даже удивлялся своей смелости. И с этим вместе росло чувство люб[ви] и благоговения к этому замечательному человеку.
Особенно — почувствовал я, (что такое Толстой) [Но вот] мы после музыки из зала перешли к чайному столу, вокруг которого собралась вся семья и некоторые гости. В гостиной все было “как у людей”, т. е. полный контраст тому, что можно было ожидать встретить в доме Толстого. Лакей в белых вязаных перчатках, прислуживающий за столом. Стол, накрытый разнообразными закусками. Шумливая молодежь, для которой Толстой как бы явление обыкновенное, над которым можно даже пошутить. Тут и [в номине] не было [того] преувеличенного] отношени[я] к великому человеку, какое можно было предполагать. Скорее, все в нем подвергалось критике, к которой он относился чрезвычайно благодушно. Критиковали то, что он варит себе за столом кашку на спиртовке, что спирт дорог и, следовательно, он непоследователен, [и] что на керосинке это дешевле [и т. п.]. Чувствовался тот разлад в семье, который привел через девять лег к его “уходу”, и надо было много — много внутренней работы, чтобы жить в таких условиях. Я (был дений слова и глубоких проповедей. Оба до суровости были [строги] и правдивы к себе и к искусству. Все это их роднило, и оба до конца росли в своем творчестве.
Обычно у каждого человека смерть наступает раньше, чем мы видим. Дух умирает раньше тела, даже иногда значительно раньше. Здесь же, у Толстого, [перед нами] картина иная. Тело умирало, но дух до последнего мгновения царил над всем. Вся последующая жизнь Толстого, его болезни, страдания в чуждой его идеям атмосфере близких людей, делали его одиночество мучительней и невыносимей. Апофеозом всего этого явился его “уход”, а смерть в маленьком домике на станции жел[езной] дороги подвела итог жизни великого художника и великого духоборца Льва Толстого[223].
(Все это носило характер мирового явления.) Весь мир, затаив дыхание, следил за драмой жизни Толстого…
Кто — то из больших художников сказал: если мое произведение все бранят, значит, в нем что — то есть. Если все хвалят, значит, оно плохо. А если одни очень хвалят, а другие очень бранят, тогда оно превосходно. К Толстому это не подходит. [Это отлично понимал Короленко][224]. О художнике Толстом двух мнений не существует, что же касается Толстого проповедника, мыслителя и, наконец, человека, тут существуют самые разнообразные мнения. Быть объективным при суждении о Толстом с этой стороны — задача не из легких. [Весь мир, затаив дыхание, следил за драмой жизни Толстого… Все это носило характер мирового явления]. Не Все те, кто жили около него, записывали каждое слово его, видели его в самые разнообразные моменты его жизни, проникались [не только уважением и] глубокой любовью к нему, [но и каким — то благоговением]. [Влияние и значение его выросли до такой степени, что весь мир прислушивался к голосу Т.].
Конечно, Толстому — человеку ничто человеческое не было чуждо. И на солнце имеются пятна (в которые, впрочем, Толстой не верил). И не всякий выдерживает испытание огнем и водой. Таким испытанием (своего рода искушением) с нашей, еврейской точки зрения — “еврейский вопрос” является [своего рода испытанием]. Правильно ли и справедливо ли считать отпошс ние к евреям испытанием для всякого человека вообще испытанием отношение к евреям всякого человека вообще и великого человека в частности — это другой вопрос. Но мы, евреи, так настрадались и страдаем, так остро реагируем на ласку, рав — нодушие или ненависть, что для нас “еврейский вопрос” впереди всего. Должен сказать, что не только мы, евреи, так чувствительны к тому, что называется “еврейским вопросом”, но и враги евреев не менее заражены этим. Как курьез расскажу [должен сказать], что в 1901 г[оду] Толстой получил анонимное письмо, автор [которого] пишет ему, что вся слава его основана исключительно на сочувствии евреям и что попробуй он иначе отнестись к “еврейскому вопросу”, вся слава его пропадет!!?[225] [Возможно], что, несмотря на всю бессмысленную лживость и провокационность этого письма, некоторое впечатление оно могло произвести и какой — то след оставить в душе Толстого].
Сам Толстой на вопрос американского корреспондента Бернштейна, как он относится к “еврейскому вопросу”, сказал: “С христианской точки зрения не может быть никаких, ни еврейских, ни польских вопросов. Отношение к людям не зависит от их национальности”[226]. И все — таки даже у великого Льва, очевидно, с молоком матери всосалось было некоторое бессознательное предубеждение против евреев. Конечно, глупо и несправедливо считать Толстого антисемитом, как многие готовы полагать. Таковым он, конечно, не был, [иначе он не был бы Т.], но и к юдофилам мы его не причислим. Для этого надо было бы знать не городскую коммерческую или даже интеллигентскую еврейскую среду, а ту народную бедную массу, которая при всей нищете сохраняла много положительных черт, свойственных еврейскому народу. С этой средой он никогда не соприкасался, не знал ее, не знал ее страданий, ее борьбы за существование и т. п. Зато он часто слыхал о разбогатевших банкирах, о нажившихся купцах, о докторах, адвокатах, музыкантах, зарабатывающих много денег, и т. п. — и все это, конечно, не могло его расположить к евреям, как не располагало и к людям этого сорта у других наций. Кроме того, надо сознаться, что удовлетворить национальное самолюбие нелегко. Как бы не выражаться, все кажется недостаточным. С другой стороны, характер великого человека складывается в такой же мере из его недостатков, как из достоинств. [Поэтому понятно что, когда] на Пасхе 1903 г[ода], открывая газету, я с ужасом прочитал о зверствах кишиневского погрома [227], то (вне себя от горя и отчаянья), переживая весь ужас случившегося, я прежде — всего подумал о Толстом. Кто же, как не он, должен поднять свой голос против таких ужасных событий и крикнуть на весь мир “не могу молчать”, как он это уже раз сделал [потом] по другому поводу[228]. [В 1903 г.] под свежим впечатлением тяжелых переживаний я написал ему горячее письмо, полное скорби и горя, с просьбой отозваться на это событие. Через некоторое время из Ясной Поляны приехал мой коллега пианист А. Б. Гольденвейзер и привез мне письмо, напечатанное на машинке, подписанное “Лев Толстой”. Это собственно был коллективный ответ [на мое письмо и в то же время] на много писем с разных сторон по поводу погрома, который напечатан под заглавием “Ответ еврею по поводу кишиневского погрома” (Гольденвейзер счел нужным как бы защитить Толстого, говоря, что, конечно, он не может отзываться на “всякие события”)[229]. [Легко сказать “всякие события”…]. Ответ меня глубоко разочаровал, да и не меня одного. Все евреи почувствовали в холодном этом ответе отсутствие того, что можно было ждать от Толстого. Это было “рассуждение”, а не крик души […]*, проявление чувства или сочувствия. Я-долго не мог успокоиться после этого о — т–вета;
Через много лет в 1928 г[оду] в Тель — Авиве на вечере у меня, в присутствии Х. Н. Бялика, Берковича и Кауфмана зашла речь об этом ответе Толстого. Бялик высказал интересную мысль, что большие ожидания от художника мешают подчас его вдохновению, т. е. когда со всех сторон ждут, что он должен высказаться, то у него как бы уже не хватает пороха. Бялик это понимал лучше чем кто — либо. Беркович же говорил, что когда художник постигает и желает реагировать на события, то у него для этого имеются и слова и содержание. Впрочем, несомненно, что на душе у Толстого осталось какое — то сомнение по поводу его ответа. [Так папр. почему — то он через некоторое время пишет, что не] в письме к больной дочери Мар[ии] Львовне, кот[орая] была ему особенно близка: “Ответил Шору по поводу кишиневского погрома”[230]. Почему он счел нужным сообщить об этом больной дочери — трудно сказать. Возможно, что где — то далеко в душе жило у него сознание, что что — то не так сделал.
[Вскоре] в августе 1903 года Гольденвейзер пишет: “Л.II. он написал три сказки: “Три вопроса”, “Труд, смерть и болезнь” и “Ассирийский царь Ассархадон”. Сказки эти Л. Н. посылал для сборника в пользу евреев, пострадавших от кишиневского погрома. Впрочем, вероятно, напечатать можно будет только одну — первую, так как другие две едва ли пропустит цензура[231]. 28 августа того же года было семидесятипятилетие Л[ьва] Н[иколаевич]а. Прекрасный адрес прислала московская группа социалистов — революционеров со следующим заключением: “Всегда живо следили Вы за волнениями мировой жизни и чутко отзывались на все больные вопросы человечества, был ли то голод, война, гонения за веру, рабочее движение, еврейские погромы, и голос Ваш звучал и звучит над миром колоколом правды, добра и свободы”[232]. Это было четыре месяца спустя после кишиневского погрома. Не вспомнил ли при этом Толстой свой холодный ответ по поводу кишиневского погрома и не защемило ли у него внутри при этом?
Мое отношение к Толстому не изменилось. В 1927 г. у меня записано: “Сколько мыслей и чувств возбуждает во мне всегда этот лев”. В 1857 г. Толстой пишет тетушке А. А. Толстой: “Вечная тревога, труд, борьба, лишения — это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду человек. Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называют счастьем… Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость”[233]. Он всегда оставался для меня “учителем жизни”. С трепетом следил я шаг за шагом за его постепенным духовным подъемом и по сейчас остаюсь горячим поклонником художника и человека-Толстого. Я, как и многие другие, обязан ему многим стремленном к совершенству.
Год спустя после смерти Толстого я ехал из Оренбурга в Москву. В купе я вез большой лавровый венок, который я получил на последней лекции о Чайковском. В Туле наш оренбургский “вагон” должны были прицепить к поезду, идущему с юга на Москву. Наш поезд опоздал на два часа, и потому пришлось в Туле ждать восемь часов ночного поезда. Имея в распоряжении столько времени, я решил проехать в Ясную Поляну (15 верст), чтобы положить венок на могилу Толстого. Сказано — сделано. Я нанял извозчика, и с двумя дамами, пожелавшими посетить могилу Толстого, мы отправились в Ясную. В совершенной темноте мы подъехали к воротам толстовского дома. Привратница — по выговору финка — с удивлением встретила поздних гостей. Но когда мы ей объяснили, что желаем положить венок на могилу Толстого, то она любезно указала нам дорогу туда. В темноте белелась могила без всяких украшений. Засохший венок лежал на ней. Мы положили наш венок, молча постояли перед этой скромной могилой, скрывающей прах величайшего человека нашего времени, и медленно направились к выходу. Привратница предложила зайти в дом, но мне не хотелось нарушать то особенное душевное состояние, которое привело меня сюда, и мы, поблагодарив ее, отправились обратно. Для обитателей дома осталось тайной, кто положил венок.
Ежегодно после смерти Толстого устраивались памяти его литературно — музыкальные вечера. Когда однажды, после того, как я исполнил несколько любимых вещей Льва Николаевича, устроители попросили поделиться воспоминаниями, связанными с Толстым, я рассказал историю оренбургского венка, и мой бесхитростный рассказ произвел почему — то сильное впечатление. Несколько подробнее остановился я на самой поездке. Была ранняя весна. Еще не весь снег стаял в лесу. Соловьи всю дорогу услаждали наш слух, сумерки погружали все кругом в какую — то таинственность. Мы молча ехали, каждый думал свою думу. На нас лежала известная миссия. Ведь мы везли венок на могилу Толстого, похороненного у опушки того леса, где была закопана “зеленая палочка”, назначение которой, когда ее найдут, сделать всех счастливыми. У могилы мы пережили непередаваемое душевное состояние. Не хотелось после этого никого видеть и ни с кем говорить.
Еще одно воспоминание. После смерти Толстого графиня Софья Андр[еевна] тотчас же издала его сочинения в 20 томах. Почему — то их можно было получить у Толстых в их доме, в Хамовническом переулке"[234]. Помню, как вечером — тоже в сумерки — я попал в Хамовники[235], и Сергей Львович — старший сын Л[ьва] Николаевича] — мне продал это полное собрание сочинений, хранящееся у меня и по сей час. Заплатив за книги, я понес эту далеко не легкую ношу до извозчика, прижав ее крепко к груди. Все это также носило характер какой — то таинственности.
Последняя связь с семьей Толстых — письмо старшей дочери Л[ьва] Николаевича], Татьяны Льв[овны] из Рима. В […] [19]34 г.[236].
[фрагмент № 2]
Он находил, что музыка побуждает к художественному творчеству, что она — стенография чувства [237]. Если бы вся наша цивилизация исчезла бы, говорил он, мне было бы жаль музыки. Я люблю Пушкина, Гоголя, но все — таки ни с одним искусством мне не было бы так жаль расстаться, как с музыкой. На меня она сильно действует. Что такое, задавал он себе вопрос, музыка? Почему одни звуковые сочетания радуют, волнуют, захватывают, а другие оставляют равнодушным? В других искусствах это понятнее. В живописи, в литературе всегда примешан элемент рассудочности, а тут ничего нет — сочетание звуков, а какая сила! Он полагал, что музыка — это наиболее яркое, практическое доказательство духовности нашего существа… Несомненно, что он понимал и чувствовал музыку. Отлично разбирался в ней. Любил непосредственность, простоту, наивность и юмор Гайдна, чистую красоту Моцарта. В молодости он очень увлекался Бетховеном и не пропускал случая послушать его трио. Из Парижа он писал, что французы исполняют Бетховена как боги. Особенно любил он Шопена, который на него сильно действовал. Величие его, говорил он, в том, что как бы он ни был прост, никогда он не впадает в пошлость, и самые сложные сочинения его не бывают изысканны. Понимал он и то, что искусство бывает двух родов, и оба одинаково нужны. Одно просто дает людям радость, отраду, а другое поучает их [238].
Понятно поэтому, с какою радостью Московское трио Шор — Крейн — Эрлих приняло приглашение графини Софьи Андреевны играть для Льва Николаевича. Это было 2 мая 1901 г. в Москве в доме Толстых в Хамовниках.
Он находил, что современное искусство воздействует на нас не столько своим содержанием, сколько болезненными раздражениями наших органов чувств, прибегая для этого к помощи средств неприятных и болезненных, как оглушительный шум, сильный удар, нагромождение диссонансов, сложность письма, затемняющая ясность и простоту.
Он полагал, что как “язык” достигает полного совершенства и затем портится, так можно предположить, что музыкальный язык, достигнув полного совершенства у классиков и романтиков, стал портиться. с-другой стороны он понимал (правда, в литературе), что бывают мысли общепонятные и нужные, но выраженные языком небольшого круга людей, как, например: “Я помню чудное мгновенье” или “Когда для смертного умолкнет шумный день” Пушкина. А в музыке он осуждал последние сонаты Бетховена, выраженные именно языком небольшого круга людей [239]. Люди ищущие, постоянно стремящиеся к известному идеалу, всегда в жизни будут казаться “непоследовательными”, полными противоречий. Легко идти по проторенной дороге, а ища новых путей, наткнешься на много препятствий и помех. В “Круге чтения” на 12 октября помещены следующие мысли: Общество говорит человеку: “Думай, как думаем мы; верь, как верим […][240].
Глава 6. В. И. Сафонов
Это было весной 84‑го года в Петербурге. В очередном квартетном собрании Музыкального общества выступил молодой преподаватель консерватории В. И. Сафонов. Он исполнил трио Шуберта и вариации п-моль того же автора, написанные для 4‑х рук. Играл он со своим учителем Брассеном, лучшим профессором тогда в Петербургской консерватории, заместителем уехавшего Лешетицкого. Исполнение Сафонова произвело чрезвычайно сильное впечатление.
В январе 85‑го года я сделался учеником Сафонова. В середине лета этого года я получил следующее письмо от него:
Пильниц, 4 авг. 1885.
“…меня зовут профессором в Москву, и хотя я еще не решил этого вопроса окончательно, однако весьма вероятно, что я приму этот ангажемент, как могущий представить мне большие выгоды. Я прошу Вас покамест не разглашать этого моего сообщения и оставить его совершенно между нами, а сообщите мне только, что Вы намерены предпринять в случае моего переезда в Москву”.
Прошло всего 4–3 месяца [241]со времени моего знакомства с Сафоновым, а между тем я чувствовал, что расстаться с ним невозможно. Я полюбил и оценил в нем не только превосходного учителя и музыканта, но и чуткого прекрасного человека. За короткое время я сделал у него то, что у другого не делал годами.
Нелегко было мне расстаться с Петербургом, где я был так или иначе устроен, имел уроки, знакомых, друзей и — главное — оставлял будущую подругу жизни. И, несмотря на все это, я ответил Сафонову, что поеду за ним в Москву, но что мне там будет трудно устроиться на первых порах. В ответ я получил следующее письмо:
“Любезный Давид Соломонович,
письмо Ваше я получил и отчасти предвидел Ваше решение, которое вполне одобряю, и вовсе не из личных только моих чувств. Так как вопрос мой решу не раньше половины сентября, то Вам остается только работать это время по — прежнему, не теряя времени и не падая духом. Бог даст, все устроится к лучшему. Приеду в Петербург, и там выяснятся все обстоятельства. Во всяком случае, напишите мне еще раз в начале сентября о консерваторских делах, но сами не разглашайте моего сообщения, если К. Ю.[242] сам не будет говорить об этом.
Ваш В. Сафонов”[243].
Осенью 85‑го года мы были в Москве. В то время Сафонова никто не знал, и, естественно, встреча не являла должного доверия. Кроме С. И. Танеева, упорно добивавшегося приглашения Сафонова и дружески к нему расположенного, вся консерватория отнеслась к новому профессору если не враждебно, то крайне неприветливо. Одна партия в лице Э. А. Лангера и его бывших учеников относилась прямо враждебно, а другая — (Кашкин, Зверев и др.) приняла выжидательное положение по отношению к новому профессору. Впрочем, Н. Д. Кашкин — почтенный и уважаемый ветеран Московской консерватории, личный друг Н. Рубинштейна и Чайковского — скоро оценил Сафонова и всячески облегчал молодому профессору и виртуозу первые шаги [в] его музыкальной деятельности. Н. С. Зверев тоже скоро подружился с Сафоновым, и ряд выдающихся учеников от него впоследствии перешли к новому профессору. Но Сафонову приходилось разбивать лед недоверия настойчиво и упорно не только по отношению [к] сотоварищ[ам], но и в отношении учащихся. Молодому профессору пришлось на первых порах идти против течения, т. е. надо было разрушить установившиеся традиции, специфически московские, и внедрять более разумные и правильные взгляды в вопросах, как чисто фортепианной игры, так и художественного творчества. Перешедшим на 6‑й курс казалось странным и обидным играть легкие этюды или сочинения Моцарта и т. п., и так как у разнородного и разнокалиберного класса не было ни настоящей, удобной и естественной постановки руки, ни правильного взгляда на задачи художественного исполнения, то Сафонову пришлось на первых порах проделать немало черной работы и положить много труда и энергии, чтобы получить какие — либо результаты. В это время я почти ежедневно бывал в классе, и часто — после утомительного дня работы — Сафонов звал меня с собой в Лоскутную, где он обедал. Там он часто жаловался, что ему достался трудный класс, а я, уже познакомившись со своими новыми товарищами и убедившись, что это все народ серьезный, готовый работать, утешал его. И действительно, в самом скором времени класс проникся любовью и доверием к новому профессору, и он мог требовать все, что угодно. На шестом и седьмом курсах охотно играли 2‑х и 3‑голосные инвенции Баха, этюды Черни ор. 229, Крамера и т. п., Гуммеля, Моцарта, Фильда, Мендельсона, Тальберга. Учащиеся проникались сознанием, что легких вешей нет и что исполнить в совершенстве сонату Моцарта — составляет почтенную художественную задачу. Постепенно создавалась дружеская музыкальная семья, объединенная любовью к своему учителю и горячим стремлением совершенствоваться в искусстве. Класс улучшался не по дням, а по часам. Сафонов не шадил ни времени, ни труда. Не связанный материальной необходимостью набирать частные уроки или переполнять свой класс в консерватории, он не ограничивался казенным получасовым пайком для ученика, а часто — почти ежедневно, — закончив занятия в консерватории в положенное время, он продолжал работать с нами у себя дома до поздней ночи. Чувствовалось, что “благо” учащихся составляло и “благо” учителя, и это взаимное благожелательство давало исключительно благотворные результаты. Сафонов не ограничивался обучением игры на фортепиано. Он обнаруживал огромное понимание значения искусства, глубоко и искренне любил его, умел ценить красоту всех эпох и времен и благодаря своей образованности раскрывал перед нами новые горизонты. Кроме того, он отлично разбирался в людях, характерах, правильно оценивал дарования, умел каждого направить, считаясь с индивидуальностью, и при всем том был требователен и строг. Направив всю свою энергию на педагогическую деятельность, Сафонов раскрывал перед нами все лучшие стороны своей души. Это был добрый, заботливый учитель, внимательный к духовт ным и житейским нуждам своих учеников. Сафонов, нэбаловашнлй И не только учеников. Сафонов, избалованный благоприятными условиями жизни, необычайно чутко относился к нуждающимся. Мне приходилось исполнять такого рода поручения его, особенно перед Пасхой, которые глубоко трогали меня и сильнее привязывали к любимому учителю. Словом, Сафонов этого периода — превосходный учитель, превосходный художник и чудесный человек. Соответственно этому вокруг него создалась совершенно исключительная атмосфера… Дома — теплый, сердечный, здоровый, семейный уют; в классе — взаимнолюбовное и трудовое отношение к делу, в обществе — ряд благожелательных и расположенных друзей; в консерватории — постепенное признание товарищами достоинств нового коллеги и увеличение его сторонников, среди которых сердечной простотой и искренностью особенно отличался молодой директор С. И. Танеев. Не раз заходил он к нам в класс во время занятий и со свойственной ему прямотой, не стесняясь присутствием учеников, обращался к своему новому товарищу за советами относительно разных приемов фортепианной игры. Все это поднимало в наших глазах престиж учителя, и каждый из нас старался изо всех сил ему угодить. Одна из исключительных заслуг Сафонова заключалась в том, что он умел возбудить такой интерес к искусству, который не остывал и во всей последующей жизни. Москва постепенно покрывалась сетью музыкальных школ, и целый ряд полезных и преданных делу музыкальных деятелей продолжал дорогое Сафонову музыкальное просвещение. Можно смело утверждать, что Сафонов дал направление всей музыкальной жизни Москвы, и это не будет преувеличением. Его влияние продолжается до сих пор. Не будучи предназначен воспитанием и образованием к специально музыкальной карьере, он имел, однако, счастье работать под руководством таких корифеев фортепианной игры, как Лешетипкий и Брассен. Объединив в своем лице два совершенно противоположных направления, он сумел разумным и тонким подбором усвоить все лучшее из них и создать свою, сафоновскую школу. давшую таких виртуозов, как Левин. Скрябин. Мейчик. Шербина-Бекман. Пресман. Самуэльсон. Иссерлис. Беклемишев. Николаев. Метнер. Демьянова — Шапкая. Калюжная. Кенеман. Ружиикий. Гедике. Фульда. Кашперова и многих других, имен которых не помню. А главное, из его класса вышел ряд превосходных музыкальных деятелей.
Не говоря уже о таких звездах, как Скрябин. Метнер. упомяну композиторов: Николаева. Гречанинова. Гедике и пр. С какою трогательной сердечностью приветствовал он расцветающее дарование Скрябина, как упорно и настойчиво пропагандировал он его произведения и как дружески старался всячески облегчать тернистый путь начинающего композитора.
Рядом с творцами музыки я могу назвать целую плеяду полезных работников. Первая музыкальная школа в Москве основана ученицей Сафонова Линберг совместно с Масловой. Одна из серьезнейших школ уже тридцать лет ведется сестрами Гнесиными[244]. которым дороги сафоновские традиции. Популярная школа Зограф — Плаксиной[245] основана ученицей Сафонова, моего выпуска, Зограф. Назову школы Воскресенской, покойного И. Н. Протопопова, Демьяновой — Шацкой[246] , Щербин[ой] — Бекман, Бетховенскую студию, таких педагогов, как Розенов, Курбатов, Самуэльсон, А. Ф. Морозов, Исаева — Семашко, Кетхудова и др. Я чувствую себя виноватым перед теми, имена которых не упоминаю по забывчивости.
Короче сказать — половина музыкальных деятелей Москвы так или иначе причастна к сафоновской школе. Большинство профессоров консерватории, а также и филармонии если не прямые ученики Сафонова, то так или иначе находились под его влиянием. Один из самых серьезных профессоров консерватории говорил мне: “В камерном классе Сафонова я учился больше, чем где — либо”. Прямо или косвенно, но его благотворное влияние на музыкальную жизнь Москвы огромно.
Чтобы достигнуть всего этого, недостаточно было быть образованным, развитым, одаренным музыкантом, обладать тонким педагогическим чутьем и отдать всю энергию на любимое дело, нужны были широкие умственный и душевный кругозоры. И всем этим Сафонов обладал в изобилии. Это была натура чрезвычайно сложная и, как впоследствии оказалось, таившая в себе зародыши самых крайних противоположностей. В эпоху, которой я касаюсь, вся деятельность Сафонова была направлена на общее благо. “Благо” окружающих было его “благом”, и отсюда вытекают все положительные результаты его деятельности. Все мы, его ученики, с умилением вспоминаем весеннее предэкзаменационное время, когда учащенные занятия наши затягивались далеко за полночь, и мы часто возвращались домой, встречая восход солнца… (Меньше всех выказывал утомление наш учитель.) Перед самым экзаменом Сафонов совершал с классом загородную прогулку, и тогда из требовательного и строгого учителя он становился добрым, милым товарищем. Эти прогулки сближали нас, освежали и наполняли бодростью. Майская распускающаяся природа, весеннее яркое солнце, озаряющее веселую группу юных художников, переживающих весенний расцвет своей музыкальной жизни, — все это оставляло глубокий след в наших сердцах, объединяя нас в чувстве благодарности и любви к нашему руководителю.
В мае 1889 года я кончил консерваторию. Незадолго до этого Сафонов был избран директором на место добровольно ушедшего С. И. Танеева, указавшего на Сафонова как на своего преемника.
Трудно вообразить себе больший контраст, чем далекий от жизни, кристаллически чистый, весь ушедший в искусство Танеев и жизненно сильный, обеими ногами крепко стоявший на земле Сафонов, властно и энергично добивавшийся намеченной цели. Вся сила этой сложной натуры, направленная в сторону педагогической и артистической деятельности, дала блестящие результаты. Сафонов же. облеченный властью директора, которую он как — то своеобразно понимал, Сафонов — строитель миллионного здания консерватории — являлся совсем иным человеком. Он стал резким, властным, отдалился от всех, кого прежде ценил, окружил себя льстецами и посредственностью и совершенно не терпел противоречий.
Таким образом, создались все сафоновские “истории”, в которых он был больше чем не нрав. И постепенно Москва стала отрицательно к нему относиться. Особенно содействовал этому неприятный инцидент, когда Сафонов в припадке раздражения (вызванного, быть может, обострившимся тогда диабетом) позволил себе недостойное обращение с Сергеем Ивановичем Танеевым, всеобщим любимцем и глубокоуважаемым учителем. Танеев тогда же вышел из консерватории и, как я слышал, не столько из — за резкости Сафонова, сколько из — за того, что в художественном совете, где все это происходило, не нашлось никого, кто остановил бы директора[247]. Сафонов сделал еще одну ошибку, от которой он нас всегда предостерегал. Он решился сделаться дирижером и, действительно, сделался им. Но он как ёы учился этому искусству на глазах у московской публики, которая не могла ему этого простить.
Было, однако, что — то такое в Сафонове — человеке, что заставило меня незадолго до его смерти, не подозревая о его болезни, говорить окружающим: “Москва не знает настоящего Сафонова и потому относится к нему отрицательно. На моей совести лежит восстановить его истинный образ”. Это я говорил в разгаре болезни, перебирая в памяти былые годы. И тогда же я набросал все вышесказанное…
Наступает десятилетие со дня его смерти[248]. Десять лет, из коих каждый год — целая жизненная эпоха. Мир пережил и переживает исключительное время. Выковываются новые формы жизни в гигантской борьбе за приобщение к благам культуры и цивилизации трудящихся масс, несущих на себе — подобно мифическому Атласу — всю тяжесть жизни.
Мы, музыканты, всецело на стороне “трудящихся”, и нет для нас большего удовлетворения, как нести радость искусства тем, кто с таким трудом и настойчивостью завоевывает жизненные блага для всех. Музыкальная Москва доказывает это на деле вот уже 10 лет. И мы по справедливости не можем не остановиться на том, кто в свое время так много сделал для процветания музыкального искусства в России, кто пропагандировал русское искусство по всему свету и кто был для нас, его учеников, любимым и незабвенным учителем
Глава 7. [Исай Добровейн]
В связи с музыкальной судьбой Ис[ая] Добр[овейна][249], прекрасного пианиста, талантливого композитора и выдающегося дирижера, получившего свое музык[альное] образование в Московской консерватории, я хотел бы вкратце остановить в[аше] внимание на создателях] музыкального просвещения в России, неразрывно связанного с именами братьев Рубинштейн — Антоном и Николаем. Оба они являются основателями консерваторий, Антон — Петербургской, а Николай — Московской. Вся огромная масса русских композиторов, виртуозов, педагогов, дирижеров и музыкально — общественных деятелей о6язан[а] этим двум консерваториям. Значение их для нас, евреев, было огромно. Они давали возможность еврейскому юношеству проявить свою одаренность и в то же время наряду со всесторонним музыкальным образованием давали права высшего учебного заведения. Талант открывал еврейскому юноше двери консерватории, а окончание ее давало звание “свободного художника”, т[о] е[сть] право повсеместного жительства и личное гражданство. Свободный художник становился полноправным гражданином России. Чтобы понять все значение этого для евр[ейского] артиста, надо знать те ограниче ния, каким царская Россия подвергала еврейское население [250]. Бесправие музыкантов в России вообще (дворянин, становясь артистом, терял свое дворянство), которое Ант[он] Рубинштейн] еще юношей испытал на себе, было также одним из стимулов учреждения консерваторий, окончание которых давало право гражданства музыканту. Но для евреев самое поступление в консерваторию было обставлено всякими затруднениями. Прежде всего надо было обладать выдающимся талантом, а кроме того, талантом ухитриться поступить в столичную консерваторию, не имея права жительства в столице. Особенно это касалось Москвы, когда генерал — губернатором был Сергей Александрович Романов, брат Александра] III, человек ограниченный, тупой ненавистник евреев. И именно в это время состоялось поступление Ис[ая] До 6р[овейна] в Московскую консерваторию директором которой был Сафонов. Будучи в Нижнем Новгороде, я по просьбе отца Добровейна прослушал двух мальчиков его[251]. Особенно поразил меня младший Исай, какою то исключительной, ясной ритмичностью. Зная все затруднения, связанные с поступлением в Московскую] консерваторию, где директором был Сафонов — мой любимый учитель, но не любитель евреев, я ничего не обещал определенного, но решил всячески помочь детям.
По приезде в Москву я тотчас пошел к Сафонову, чтобы сообщить ему об этих талантливых детях. “Конечно, евреи и, конечно, гениальные?” — иронически спросил он. “Что евреи — это несомненно, иначе не пришлось [бы] хлопотать о них, а гениальные ли — это вы сами решите, когда прослушаете”, — сказал я и попросил его назначить день, когда он мог бы их прослушать. По счастью, поезд из Нижнего отходил в 12 ночи и приходил в Москву утром и также ночью уходил из Москвы на Нижний. Надо отдать справедливость Сафонову, не очень долюбливавшему евреев, что когда он видел пред собою истинное дарование, то готов был сделать все возможное. Про слушав детей, он пожал руку, поздравил отца и обещал со своей стороны все сделать для них. И действительно, через 3 месяца дети числились уч[е]никами консерватории[252]. Окончив ее через несколько лет как пианист и композитор, И[сай] Добр|овсйн] поехал в Вену-к Годовскому [253]. Годы, отделяющие маленького уч[ени]ка консерватории] от зрелого художника, артиста с мировым именем, полны сложных переживаний, их разделяет мировая война, революция в России, новое поле деятельности в Германии, затем Болгарии и Норвегии, поездки в Америку и концертные выступления по всей Европе [254]. С каждым выступлением как концертного и оперного дирижера имя его получает все большую известность. Все это заманчиво и увлекает. Но есть область музыкальной деятельности, наиболее важная, требующая глубокой сосредоточенности, — это область творчества. К ней особенно применимы слова Пушкина “служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво”. И в этой области немало сделано Добровейном.
Вот перечень того, что им написано: […][255]
Сегодня в программу входит его соната для ф[орте]п[иано] и скрипки, […][256] ф[орте]п[ианные] сонаты, евр[ейские] мелоди[и]..
Глава 8. [Аренский]
Антон Степанович Аренский (1861–1906). Родился в Новгороде, отец его, доктор, играл на виолончели, мать была пианисткой. 7-л[етний] мальчик уже играл, а [в] 9 стал сочинять. Теорией музыки занимался сначала у Зикке, а затем в Петербургской] консерватории] у [257] и Римского — Корсакова. Блестяще окончив консерваторию] в [18]82 г[оду], он был приглашен преподавателем] в Москву по кл[ассу] гармонии и контрап[ункта], а потом был профессором] энциклопедии, фуги и свободного соч[инительства]. Последние годы жизни состоял директором Певческой капеллы в Петербурге][258]. Один из выдающихся русских композ[иторов], Аренский больше чем кто — либо подтверждает ту мысль, что истинное музыкальное творчество тесно связано с духовным миром творящего. Изящество изложения и благородство мыслей составляли существенное достоинство творчества Аренского. Он находился под сильным влиянием сначала Шопена, Мендельсона, а затем и Чайковского.
Многие из его романсов, некоторые] ф[орте]п[ианные] сочинения], трио d-moll принадлежат к образцовым произведениям, и все же как ни суров над ним приговор его учителя Р[имского] — Корсакова, но в нем есть доля справедливости: “По характеру таланта и композиторскому вкусу он ближе всего подходил к А. Рубинштейну], но силою сочинительского таланта уступал последнему. В молодости Аренский не изб[ег некоторого] моего влияния, впоследствии влияния Чайковского. Забыт он будет скоро…”[259]А между тем, повторяю, Аренский не только много обещал, но даже дал в своих произведениях. Я помню его оканчивающим консерваторию].
Скромный, деликатный, изящный — он производил самое благоприятное впечатление. Первые годы его преподавательской деятельности в Москве (и тогда же он создал много хорошего) сделали его любимцем учащихся. Это была лучшая пора жизни Аренского. А затем его захватила московская безалаберная жизнь с кутежами и картами. То, чего более зрелый и сознательный Чайковский остерегся, вредно повлияло на более юного Аренского. Одно время он даже психически расстроился, но потом оправился. Прожигание жизни сказалось на творчестве. Оно измельчало, потеряло первоначальное изящество и благородство, — словом, композитор выдохся. Скромный учитель первых лет превратился в задорного полного насмешливой иронии профессора]. Отсюда и столкновения даже с таким учеником, как Скрябин.
Но все же трио d-moll, посвящ[енное] памяти К. Ю. Давыдова, является одним из прекраснейших в камерной литературе, опровергая до некоторой степени суровый приговор Римского[- Корсакова]. В нем проявились лучшие стороны дарования Аренского. В первой части можно проследить горячее стремление к чему — то прекрасному. Если Аренский желал дать образ замечательного чел[овека] и музыканта К. Ю. Дав[ыдова], то он нашел отзвук лучших стремлений покойного директора Петербургской] консерватории в своей душе. Scherzo[260] — по легкости и грации, изящества и воздушности не уступает лучшим “скерцо” Мендельсона, которые, несомненно, служили прообразом для Аренского. Элегия — венец сочинения. Здесь скорбь композитора вылилась с такою искренностью, простотой и изяществом, что глубоко трогает всякого, кто его прослушает. Финал, борющийся с охватившим чувством скорби, несколько раз силится победить это чувство. Это почти удается, но вот звучит нежная и грустная тема, которая вызывает еще больший протест, приводящий, однако, к анданте, полному отзвуков пережитого и приводящему] к адажио, в котором первая тема 1‑й части вместо стремительности полно какой — то неизъяснимой размышляющей груст[и]. Но все заканчивается бурным allegro molto[261].
Молодость победила, и, несмотря на минор, чувствуется победа жизни над смертью.
Вспоминается мне сложный момент, как для нас, так и для камерного хора. Это было приблизительно в [1]901 г[оду], в мае мы объявили концерт в Ялте. В день концерта мы встретили Аренского, который для поправления здоровья жил в Ялте. В программе стояло его трио, и мы были особенно рады этой встрече. Вечером Аренский после исполнения трио сделался предметом самых горячих оваций со стороны очень чуткой и избранной публики. После этого мы провели с ним очень приятный вечер у композ[итора] Спендиаряна, у кот[орого] была чудная дача на берегу моря, но особенно хорошее впечатление произвел на меня Аренский, когда приехал к нам в гости в Гурзуф, где мы решили несколько дней передохнуть после концерта. Снова точно вернулась к нему прежняя простота, искренность и расположение к людям. Это были минуты незабвенные, проведенные на берегу моря с умирающим композитором. Тогда он чувствовал себя бодрым и был весел, остроумен и много шутил. Больше мы с ним не видались. В [1]906 г[оду] он умер от чахотки
Глава 9. [Рахманинов]
Рахманинов Сергей Васильевич род[ился] [в] 1873 г[оду] в Новгородской губ[ернии]. Помню его 9-л[етним] мальчиком в Петербургской] консерватории. Я был лет на б старше. В “сборной”, куда уч[ени]ки сходились, мы поддразнивали будущего композитора, кот[орый] совершенно не выговаривал букву Р, заставляя его много раз повторять, что у него на завтрак — “буйка с ябиновым вайеньем”. Мальчик ничем тогда не выделялся. Несколько лет спустя мы снова встретились уже в Москве, куда я переехал за Сафоновым, приглашенным профессором] в консерваторию, где Рахманинов в это время учился у Зверева. Постепенно юноша стал обращать на себя внимание своим исключительным дарованием, и когда он перешел на старший курс, то уже совершенно самостоятельно стал развиваться. Обнаруживалось что — то свое, убедительное и сильное. По композиции он занимался у С. И. Танеева и А. С. Аренского. Окончил консерваторию] по композиции в [18]92‑м с б[олыпой] зол[отой] мед[алью]. Экзаменационной работой была опера “Алеко”.
На протяжении 25 л[ет] своей композиторской и дирижерской деятельности Рахманинов проявил себя первоклассным пианистом, обладающим стальным ритмом, огромными виртуозными средствами и сильной выразительностью. Игра его, своебразная, сильная, покоряет и подчиняет; особенно, когда он исполняет свои соч[инения]. В самое короткое время он выработал из себя также прекрасного дирижера. Как композитор он представляет из себя очень крупное явление. Если он не открывал новых путей в творчестве, то, во всяком случае, с честью продолжает идти по пути так[ого] предшественника], как Чайковский, обнаруживая при этом особенный рахманиновский размах и мощь. Если нас у Чайковского привлекала задушевная мелодичность, то у Рахманинова захватывают богатая гармония и ритм. В его творчестве чувствуется Восток, не тот деланный, искусственный с увеличенной секундой, а настоящий, насквозь проникающий дух произведения. Особенно это рельефно сказалось в вариациях трио ор. 9, написанные на смерть Чайковского* и созданные по образу и подобию трио Чайковского; оно полно оригинальности, мощи и разнообразия. На мой взгляд, оно одно из лучших, если не самое лучшее сочинение] Рахманинова. Он как — то весь выразился в нем. Молодой 20-л[етний] композитор сказался в той расточительной виртуозности, каково[й] полно трио. Это большой ф[орте]п[ианный] концерт с концертирующими струнными инструментами. Одно из самых трудных камерных произведений. Очень может быть, [этим] объясняется [то], что его редко играют, и еще реже играют хорошо. Исполненное вскоре после смерти Чайковского, оно не очень понравилось, и автор его невзлюбил. Когда, лет 8 спустя, мы его облюбовали и старательно разучили, наметили в программу наших исторических утр, то Рахманинов искренне уверял, что ему неприятно. Мы пригласили его на генеральную репетицию. Это было весною 1903 г[ода].
Он пришел, внимательно слушал, делал свои указания, соглашался во многом с нашим исполнением. Тогда же говорил о переделках, сокращениях, облегчениях, какие намерен внести в это трио. А уйдя, в тот же день написал, что в концерт не пойдет, а пришлет жену[262]. Наутро в Синодальном трио имело успех. Весною [1]903 г[ода] памяти Чайковск[ого] (10 л[ет] со дня см[ерти]) мы в большой зале собрания играли трио Рахманинова] и трио Чайковского. Как раз против эстрады, на хорах, на своем любимом месте, облокотившись на барьер, сидел Рахманинов.
Присутствие автора пришпорило нас, и трио было сыграно с большим подъемом. Оно имело у публики огромный успех. “Они заставили меня полюбить свое трио, — говорил автор, пожимая нам руки в артистической, — я буду его теперь играть”. Это был для нас момент высокого артистического удовлетворения.
Глава 10. [Исаак Левитан]
К десятилетию со дня смерти Левитана[263] Общество Графического Искусства в Москве решило почтить память великого художника в небольшой аудитории Политехнического музея. Почему — то и я получил приглашение, хотя аудитория состояла из лиц, исключительно причастных к живописи. Все время до антракта я сидел с художником Леонидом Осиповичем Пастернаком. Говорили о Левитане: д-р Голоушев. кто — то из семьи Чеховых, с которой в юности Левитан был дружен. Холодком и скукой веяло от всего, что говорилось о художнике. Пастернак, не любящий говорить, все подбивал меня сказать что — либо. Я же отговаривался тем, что я случайный гость и никто меня не приглашал выступать. Но в антракте президиум обратился ко мне с просьбой высказаться по поводу Левитана. Признаться, я был порядком возбужден, т. к. за весь вечер никто не обмолвился ни словом о том, что Левитан — еврей, и, кроме того, Московская консерватория, основанная Николаем Рубинштейном, к тому времени стала недоступной для евреев. Я начал с того рассказа, который вам известен (можно привести его)[264], и горячо продолжал говорить о том, до чего доходит ирония судьбы: художник Левитан — гордость русского искусства — подвергался опасности быть высланным из Москвы как еврей[265], а в учреждение, основанное братьями Рубинштейн, евреями по крови, не принимают евреев. И указывал на то, как Левитан, оторванный в течение 10 лет от еврейской среды, в течение 3-часовой беседы обрел себя и в маленькой картинке сумел отобразить чаяние еврейского народа [266]. “Свет исходил и должен исходить из Сиона”, — сказал я, говоря о картине. Негодование мое было так велико, волнение так сильно, что все это передалось аудитории. Когда я кончил, меня благодарили, жали руки, и на другой день я получил от председателя на память об этом вечере номер журнала графического искусства.
Глава 11. Герценштейн, Петрункевич, Скирмут, Кони
[Михаил Яковлевич] Герпенштейн — один из тех, чье имя тесно связано с эпохой Государственной Думы в России. Его замечательная речь о земельном вопросе[267], участие в “Выборгском воззвании”[268] и, наконец, трагическая смерть от руки черносотенных убийц [269]— все это принадлежит истории.
Я же хочу вкратце рассказать о нашем знакомстве и о том впечатлении, какое осталось у меня от личности Мих[аила] Яковлевича].
Существуют разные “трагедии” (слово, которое Толстой не любил). Но имеются специфически еврейские, связанные с происхождением, воспитанием и тем контрастом, какой представляет окружающая действительность и ее отношение к еврейству. В этом смысле “трагедия” Мих[аила] Яковлевича] кажется мне тройной. От природы и по свойствам своего характера он был — что называется — кабинетный ученый, что и являлось его заветным стремлением. Но действительность упорно мешала ему и направляла его на деятельность, чуждую его характеру и стремлениям. Я не помню точно, при каких условиях состоялось наше знакомство. Но знаю хорошо, что как — то сразу и взаимно мы прониклись друг к другу каким — то особенным нежным дружелюбием. Внешне ничто нас не объединяло. Он был ученым в области, чуждой мне, и был весьма далек от интереса к музыке. Однако, случилось так, что мои интересы стали ему близки, а его — мне. И мы друг другу всячески помогали. Меня привлекали в нем глубина чувства и внешняя сдержанность. Мало слов и много дела. Черта, далеко не часто встречающаяся среди нас — евреев.
Я застал Мих[аила] Яковлевича] собственником небольшого домика в тихом Гранатном переулке, отцом двух прелестных девочек и мужем заботливой жены. Казалось, что в этом тихом переулке, маленьком домике тихо протекает мирная жизнь. Но на самом деле это было не так. Какая — то напряженность чувствовалась под маленькой крышей. Что — то нервное и беспокойное было в характере хозяина. Он точно все время был настороже. Это неспокойное состояние — результат непоправимого шага в жизни еврея, который является своего рода трагедией.
В молодости, увлекшись русской девушкой, он, чтобы жениться, вынужден был креститься [270]. Этот “уход из стана побежденных” в “стан победителей” никогда не проходит безнаказанно, по каким бы поводам и побуждениям он не совершался. Навсегда остается в душе глубокая царапина, которую человек всю жизнь чувствует; особенно сильно, если все предыдущее воспитание и окружающие условия быта оставили в душе свой след. Таково было положение Мих[аила] Яковлевича], которое я отлично понимал. И хотя наше знакомство, беседы и всякие дела покоились большею частью на вопросах, связанных с еврейством, но я всегда так осторожно и деликатно обходил больной вопрос, что Мих[аил] Як[овлевич] чувствовал себя свободно и как — то особенно раскрывался. Он проявлял глубочайший интерес ко всему, что делалось на еврейской улице и особенно в Москве, где реакция и гонение на евреев было особенно сильным. Чувствовалось, как все это ему близко и как он страдает, чувствуя себя только сторонним зрителем, а не участником в страданиях народа. И это вызывало [в нем] усиленное желание помочь где только можно.
Еврейская Москва переживала одну из скорбных страниц своей истории в 90‑х годах XIX столетия. После добродушного, всеми любимого генерал — губернатора Москвы кн[язя] Долгорукого, при котором право жительства в Москве было не так уж затруднительно для евреев, воцарился Сергей Романов — брат Александра III. Ограниченный, жестокий, он не знал пощады по отношению к евреям […]*
Пульс общественной жизни слабо бился частью в “хозяйственном правлении” при закрытой синагоге, возглавляемой юристом Альб[ертом] Львовиче[м] Фуксом, частью в студенческой кассе — как отделении петербургского “Общества распространения просвещения между евреями в России”, возглавляемой всеми уважаемым и любимым — тоже юристом — Вл[адимиром] Осиповичем] Гаркави. О концертах ежегодных в пользу кассы я выше говорил. Цель кассы — только помощь студентам — не могла удовлетворить таких работников, как покойные А. Д. Идель — сон, П. С. Марек, М. Крейнин и др[угие], работавшие вместе с Гаркави. Требования шли дальше: школы для народа, издание книг, вопросы воспитания и всякие другие проблемы захватили деятелей кассы. Нужны были средства. Надо было увеличить членские взносы и изыскать другие возможности. Много лет “Общество просвещения евреев в Петербурге”, вернее сказать, председатель общества Гор[аций] Ос[ипович] Гинцбург помогал сотням и тысячам студентов, учащимся академии художеств, консерваторий и др. Наступил момент получить этот долг от “устроившихся”. Многие охотно отзывались, вспоминая, как эта своевременная помощь была необходима. Но были и такие, с которых приходилось взыскивать судом. Находившие, что тем, что они стали на ноги, они уже все отплатили. Не мало курьезов имеется по этому поводу, подтверждающих, что не всегда так называемое] “образование” влияет духовно на человека. Участвуя в комитете [271] наряду с вышеназванными общественными деятелями, я старался заинтересовать людей, стоявших в стороне от еврейской общественной жизни.
По существу, М. Я. Герценштейна нельзя причислить к “стоявшим в стороне”. Действительность упорно и настойчиво напоминала ему о его еврейском происхождении. Цель и стремление всей его жизни было занять в науке то положение, на какое он — по своему знанию и дарованию — мог рассчитывать. Перейдя “рубикон” при женитьбе, он как бы устранил главное препятствие — еврейство. Но университет, как заколдованный, не давался ему. Такой министр просвещения, как Боголепов, сам профессор и понимавший значение Герценштейна, находил, что до седьмого поколения не надо давать еврею университетской кафедры. Этот же министр, когда я послан был к нему бароном Д. Г. Гинцбургом просить у него разрешить ремесленные школы, на каковые Гиршевский фонд [272] ассигновал большие суммы, сказал мне: “Не надо нам еврейских ремесленных школ”. И никакие доводы мои ни к чему не привели. Он назначил мне 15 минут для разговора, но уже после первых пяти минут, чувствуя, что предо мною стена, которую ничем не пробьешь, и в глубине души огорченный и негодующий на такую тупость, я — против всякого этикета — встал и простился с ним.
Невозможность попасть в университет — вторая “трагедия” Герценштейна. Он не переставал работать, посвящая все вечера науке. Но жизнь предъявляла свои требования. Семья — надо было позаботиться о ней. И вот “кабинетный ученый” принимает скромное место в Поляковском земельном банке [273], чтобы вскоре занять центральное место секретаря и руководителя банка. Материально это больше чем удовлетворяло, но духовно и душевно это было чуждо “кабинетному ученому”. Третья трагедия.
Как раз в этот период состоялось наше знакомство. Не зная почему, я с первого момента как — то сразу понял душевное состояние Мих[аила] Яковлевича] и сумел, не касаясь больных мест, находить то общее, что нам обоим было дорого. А дорого нам было многое. И общие российские дела, и специально еврейские. Его ясный ум освещал все необычайно ярко. Политико эконом, он видел вещи, как они есть на самом деле. Я же на многое смотрел как артист — художник. И этот контраст нас особенно сближал. Его интересы, интересы ученого, стали мне близки, и я мечтал содействовать ему в его стремлении попасть в университет. Он же стал интересоваться моей общественной и музыкальной деятельностью и всегда шел навстречу, когда в этом была надобность. Так, например, прихожу к Мих[аилу] Яковлевичу] по поводу членского взноса в “0[бщест]во просвещения] евреев”. Издавна он платил 3 рубля [в год], и это делалось механически. Но когда я посвятил его в деятельность общества, для которой нужны средства, и просил его увеличить свой членский взнос, то он спросил: “Сколько назначить?" — “Ну, хотя бы 10 р[ублей] в год”, — сказал я. “А против 100 р[ублей] вы ничего не будете иметь?” — спросил он меня и стал ежегодно платить 100 р. Все это он делал просто, без всякой рисовки и с какою — то трогательной готовностью.
Помимо сторублевого взноса он проявлял максимум интереса ко всему, что служило просвещению масс. С болезненной чут костью реагировал он на все отрицательное в еврейской жизни и искренно радовался всему положительному. Служа в банке, он сталкивался с той негативной стороной жизни, которая ему — “кабинетному ученому” — была чужда. Зато вечером, у себя в кабинете, он чувствовал себя “дома” среди книг и научных работ.
К этому времени — концу 90‑х годов — популярность Московского трио — Шор, Крейн, Эрлих — чрезвычайно возросла. Помимо “исторических камерных утр” трио участвовало в пользу всевозможных просветительных и благотворительных обществ. Оно стало неотъемлемой частью московской жизни. Москва считала его своим детищем. Разнообразная публика, посещавшая концерты трио — большею частью молодежь, с трогательной признательностью относилась к участникам трио. В сезон 1902/3 года наступило десятилетие трио. Юбилейный концерт собрал в большом зале консерватории больше 2000 человек [274]. Получилось такое торжество, которое предполагать было трудно: десятки адресов, восхвалявших деятельность трио, благодаривших за часы высоких переживаний. И речи, речи без конца. Нам артистам, избалованным овациями, аплодисментами и т. п., как ни лестно было все это торжество, оно не могло уже дать того удовлетворения, какое могли получить наши родители, дожившие до радости видеть общественную, публичную оценку деятельности их детей. Особенно это могло много дать моим родителям, жившим в Симферополе и не имевшим права жительства в Москве. И вот задолго до концерта я поднял на ноги всех, кто мог мне помочь в том, чтобы им разрешили на несколько дней пребывание в Москве. Светлейший князь Ливен, брат начальницы института, где я преподавал, одев все свои регалии, поехал в Нескучный дворец [275] на прием к великому князю Серг[ею] Александровичу]* просить разрешить моим родителям пробыть несколько дней в Москве в связи с концертом. Ответ был коварно лживый: “Да, конечно. Но это зависит от Власовского” (тогдашний обер — полицмейстер и главный гонитель евреев). Княгиня Трубецкая, жена предводителя дворянства, мать моей ученицы, написала гражданскому губернатору Булыгину, что стыдно, если родители Шора не получат разрешения быть на юбилейном торжестве сына. В конце концов разрешение на три дня от Власовского получилось тогда, когда уже неделю родители были в Москве. Старший дворник, получив соответственную мзду, терпеливо ждал разрешения Власовского, полученное после отъезда родителей. Мать и отеп сидели в ложе вместе с М. Горьким. И когда я с эстрады смотрел на их счастливые лица, то это было для меня высшим удовлетворением. Дни их пребывания в Москве долго служили темой рассказов, и весь Симферополь знал подробности нашего юбилейного концерта…
Мих[аил] Яковлевич] Герценштейн проявил и здесь максимум энергии и посвятил много времени и труда, чтобы осуществить свой намеченный план, т. е. собрать 5000 р. для фонда стипендии имени трио при Московской консерватории по случаю юбилея. И эту цель он осуществил. В первую голову стипендией этой пользовался Исай Добровейн. К участию в создании стипендии Мих[аил] Як[овлевич] привлек целый ряд лиц, близких и дорогих мне, как Анна Вас[ильевна] Бернштам, граф[иня] Софья Владим[ировна] Панина, Анна Серг[еевна] Петрункевич, Ник[олай] Карл[ович] Мекк, Дав[ид] Вас[ильевич] Высоцкий и мн[огие] др[угие]. О каждом из них мне придется говорить. К Герценштейну я еще вернусь. Как всегда в жизни, все переплетено, нелегко отделить одно явление от другого.
Как “реакция на реакцию” политическая жизнь оживилась по всей стране к концу 90‑х годов. Появились личности, вокруг которых образовались кружки. Имена: Муромцева, Милюкова Петрункевича, Родичева и др. привлекали общее внимание [276]. Ив[ан] Ил[ьич] Петрункевич. впоследствии патриарх кадетской партии, один из вдохновителей “адреса” тверского земства, на котором Николай II написал: “бессмысленные мечтания”, являлся своего рода центром, вокруг которого объединилось много политических деятелей. Среди них был и Мих[аил] Яковлевич] Герценштейн, которого Петрункевич сразу оценил.
С Петрункевичами я был давно знаком. Знакомство шло по музыкальной линии. Жена Ив[ана] Ил[ьича] Петрункевича принадлежала к тому типу “русских женщин”, которых когда — то воспел поэт Некрасов. Вдова графа Панина, она, выйдя замуж за Петрункевича, совершила с точки зрения придворных сфер непростительный “мезальянс”. И за это ее многого лишили, что принадлежало ей по праву. И главное — отняли единственную дочь, отдав ее на воспитание в Смольный институт, чтобы изолировать от материнского влияния. Но тут само провидение вмешалось, и дочь А. С. Петрункевич — графиня Софья Владимировна Панина — оказалась верной дочерью своей матери и все средства свои употребляла на просвещение народа. Знаменитый “Народный дворец” в Петербурге на Лиговке ею построен, и сама она принимала деятельное участие в просветительной работе. Во время Февральской революции 1917 г. гр[афиня] Панина занимала пост товарища министра во Временном правительстве.
А. С. любила музыку. Она недурно играла и, несмотря на возраст, пожелала совершенствоваться в игре. Заниматься с нею было в высшей степени интересно. Она умела восторгаться. Она умела с благоговением относиться ко всему прекрасному в искусстве, в жизни, в людях, н это придавало ей какое — то особое обаяние. Она обладала тем умом сердца, который всех пленял и привлекал к ней. Преклоняясь перед умом мужа и веря в его идеалы, она шла с ним рядом, никогда не отступая, внося во всем нежность и мягкость женской души. Если муж ее оценил
Герценштейна как полезного знатока земельных вопросов, то она прежде всего видела в нем благородную и тонко чувствующую душу. Об Ив[ане] Ил[ьиче] Петрункевиче много писали. Такие люди принадлежат истории. Живя одно лето в “Машуке”, имении Петрункевичей, я мог оценить многое в Ив[ане] Ил[ьиче]: разностороннее образование, ум, память, твердость политических убеждений и т. п. Но какая — то сухость его характера мешала мне близко подходить к нему. Все у него — так мне казалось — от головы. Тогда как у жены все было от сердца. Музыка нас сближала, и много моментов высоких переживаний дала она нам.
Революция нас разъединила. Они покинули Советскую Россию. Чехословакия дала им приют. Оба они умерли. В моей жизни знакомство с Петрункевичами имело значение. И я с теплым чувством вспоминаю усопших друзей…
Люди полагают, что они делают “историю”. Но великим создателем “истории” является жизнь. Черная реакция, казалось, окончательно победила на всех фронтах. И между тем, как трава — точно из камня — растет между расселин скал, так и свободная жизнь ищет выхода и находит его в самых неожиданных местах и самыми неожиданными способами. Против меня в Шереметевском переулке, где я жил 20 лет, проживал в скромной квартирке молодой офицер по фамилии Скирмут. Жил он с тетушкой. Производил он очень симпатичное впечатление. Неожиданно для него самого он стал наследником огромного состояния. Дальний родственник его — тоже Скирмут — владел на юге России, недалеко от Симферополя, огромным именьем, дававшим большой доход, это был тип Плюшкина, скареда, копившего всю жизнь и только смертью доставившего радость своему незнакомому наследнику. Сергей Трофимович Скирмут[277], как звали моего знакомого, сделавшись наследником огромного состояния, ни на йоту не изменил скромного образа жизни своего, разве только что в том Шереметьевском переулке, всем принадлежавшем Шереметьеву, переехал в лучшую квартиру. Это дало ему возможность отдаться широкой общественной деятельности. Надо было только найти законные пути. Народу в это время для воскресных и праздничных дней оставалось развлекаться в кабаках и трактирах. Вот в эту сторону была направлена деятельность “Общества народных развлечений”. председателем которого был Скирмут, а я его товарищем. Общество устраивало чайные в районах фабрик и особо посещаемых трактирах. Обставляло их так, чтобы уютно и приятно было бы посидеть в них. Тут же можно было покупать за гроши брошюры, книжки изд[ания] “Посредника”[278]— о вреде пьянства и т. п. Чайные имели успех. Полиция косилась на них, но все было “с разрешения”. Успех этот окрылил нас, и мы со Скирмутом решили по праздникам дать народу обшелоступные концерты в Сокольниках на кругу, где тысячи могли их слушать. Составлен был оркестр из хороших артистов, приглашен был дирижер Гуревич. По воскресеньям и праздникам можно было слушать хорошую и доступную народу музыку за гроши. Все это ложилось тяжким материальным бременем на общество. Доходы его от членских взносов были не очень большие, а расходы — благодаря расширению деятельности — огромные. Большинство членов комитета играло пассивную роль. Работали главным образом Скирмут и, по музыкальной части, я. Наступил, кажется, третий отчетный год. Это было незабываемое заседание. В отчете был указан дефицит в 26000 рублей. Члены общества с яростью нападали на комитет за такое попустительство. Досталось нам всем. Когда устали нас разносить и дали возможность говорить членам комитета, то поднялся председатель Скирмут и просто, без помпы, заявил, что весь дефицит он берет на себя и очень благодарит всех, помогавших достигнуть благоприятных для народа результатов. Речь его — простая, задушевная — изменила совершенно настроение аудитории, и заседание закончилось овациями по адресу Скирмута. В своей общественной деятельности Скирмут не остановился только На этом. Он создал книжное издательство, где печатались лучшие сочинения того времени. Он издал всего Ибсена, наряду с тем интересом, какой Художественный театр вызвал к этому писателю, ставя “Д-ра Штокмана”, “Привидения”, “Пер Гюнта” и особенно “Бранда”, который явился эпохой в русской жизни […]*. Он купил дом в Гранатном переулке с большим садом и собирал у себя художников Москвы. Горький у него останавливался. Бывал и Шаляпин. Он поддерживал семью Крандиевских и все делал просто. В конце концов и его большого состояния не хватило, и он исчез из Москвы.
Глава 12. А. Ф. Кони
Значение Кони в русской общественной жизни известно. Окруженный ореолом “оправдания” Веры Засулич[279] в начале своей судебной деятельности, он на протяжении долгой жизни своей сумел, исполняя всевозможные судебные должности, пользоваться уважением самых разнообразных сфер. Все это доказывает незаурядный ум, большой такт и, если хотите, талант. Несомненно, Кони был очень талантлив. Это доказывают его писания. Его книжечка “Доктор Гааз”[280] и по сегодня производит сильное впечатление. Находясь под обаянием личности Гааза, я однажды спросил Ан[атолия] Федоровича], был ли доктор Гааз таким, как он его изобразил, или это до некоторой степени идеализация. “Если бы вы знали д-ра Гиршмана, то вы такого вопроса не задали бы мне”, — ответил Кони. “Доктор Гааз” был посвящен д-ру Гиршману, знаменитому глазному врачу в Харькове, исключительному гуманисту…
Встречая на своем жизненном пути массу выдающихся людей и умея разбираться в них, Кони — в своих книгах “На жизненном пути”[281] — дает много ценного и интересного для характеристики эпохи. Надо отдать справедливость Кони — у него всегда есть что сказать и он умеет это сделать хорошо. Понятно, что знакомство с ним представляло огромный интерес. И когда я получил приглашение от писательницы Р. Хи[н] — Гольдовской [282] приехать на Рождество в ее маленькое имение по Николаевской жел[езной] дороге, где будет также А. Ф. Кони, то я, конечно, воспользовался этим приглашением.
Как это часто бывает в жизни, рисуешь себе человека на основании его деятельности, его книг и того ореола славы, какой окружает его имя, совсем иным, чем он на самом деле; я сказал бы больше: все это мешает подойти просто к человеку и взять его таким, какой он есть. Какая — то бессознательная лесть окружает такого человека. К его слабостям относятся снисходительно, а достоинства переоценивают. И он сам, избалованный таким отношением, теряет ту простоту и естественность, которые так привлекательны в человеке. Кони был достаточно умен, чтобы понять все это. Но ему было нелегко сохранить себя. Внешне он производил впечатление старого чиновника, просидевшего не одно служебное кресло и нажившего обычно связанные с этим болезни. Некрасив он был очень, и в то же время что — то привлекательное было в его лице, в улыбке. Он воспользовался приглашением большой поклонницы его Хи[н-Гольдовской. чтобы провести рождественские каникулы (две недели) в тиши. Весь уклад жизни в этом маленьком имении считался главным образом с ним. Свои две недели рождественских каникул Кони проводил все время за литературной работой. С ним можно было видеться только во время трапез. Прогулки он совершал один. Зато вечером после ужина, когда на дворе мороз, а в комнате весело горят дрова в печке, и лампы мягко освещают собравшихся в гостиной, тут можно было близко подойти к Кони. Он был замечательный рассказчик, любил говорить, когда чувствовал внимательную аудиторию. Несмотря на то, что первое впечатление мое было не в его пользу, я через два — три дня покинул с сожалением маленький домик, унося светлое воспоминание о Кони.
Кроме глубокого интереса, какой возбуждает такой человек, как Кони, я почувствовал в нем расовую близость. Трудно объяснить, почему и отчего. Мы совершенно не касались еврейского вопроса. Но то, что он чувствовал себя так хорошо и уютно, окруженный нежной заботливостью хозяйки — еврейской писательницы, и счел возможным именно у нее провести свои каникулы, натолкнуло меня на эту мысль. И еще потому, что он отнюдь не являлся среди нас чуждым элементом… Я останавливаюсь на этом потому, что с Кони никто не связывает представления о его еврейском происхождении. Он сам нигде и никогда этого не касался — это было бы невыгодно для него. При дальнейших встречах наших я имел случай убедиться в своем предположении. Дело в том, что всякие гонения и притеснения часто приводят к противоположным и неожиданным для притеснителей результатам. Наряду с гонениями на евреев в России вырастал благородный протест против них. Национальное самосознание проявилось в сионизме и в особом интересе к “прошлому” еврейского народа. С другой стороны, оно же вызвало и глубокий интерес к жизни народа в “настоящем”, в черте оседлости. Плеяда знаменитых еврейских писателей этого времени всем известна. Все было ценно в области фольклора. Отразилось это и на еврейской песне. И здесь до некоторой степени почин принадлежит А. Д. Идельсону, как об этом пишет сам Энгель [283]. В это время — вероятно — немало было таких, которые делали попытки так или иначе выразить свое отношение к еврейству. Такую попытку сделал и я в виде небольшой записки, скорее для себя, чем для кого — либо другого. Но встреча с Кони на берегу Балтийского залива летом 1898 — 99 гг. изменила мое намерение. Я жил с семьей в Дубельне, а он в Майорнгофе (окрестности Риги). Узнав об этом, я посетил его, и встреча, несмотря на всю важность его положения, которое немцы — хозяева санатория — особенно подчеркивали, была очень приветлива и проста. Он пошел меня провожать, и по дороге мы заговорили о гонениях на евреев. Между прочим, он рассказал мне, что у него был близкий друг и товарищ, с которым они вместе учились. Окончив университет, он поселился в Елисаветграде и долго не мог — как еврей — устроиться. Кони всячески старался помочь ему, но это не сразу удалось. Но когда однажды министр юстиции, желая по какому — то поводу сделать приятное Кони, спросил, что он желал бы, то Кони попросил назначить его еврейского товарища следователем. “Мне хотелось, — сказал Кони, — этим назначением создать прецедент и как бы снять запрещение государственной службы для евреев. Министр обещал это сделать. Но представьте мое разочарование, когда назначение состоялось, то товарищ мой оказался крещеным”. Этот разговор и дальнейшее поведение Кони, который проводил меня до дома, ласково поговорил с моими маленькими детьми, рассказал нам о страшном “восьминоге”, о котором была статья в “Вестнике Европы”, побудило меня показать ему мою “записку”, которую он взял с собой. В Кони я видел человека, занимающего важное судебное положение, который может помочь в случае надобности. Мне хотелось заразить его теми чувствами и переживаниями, какие руководили мною, когда я ее писал. Понятно, с каким нетерпением я ждал его ответа. Через дватри дня я снова пошел к нему. “Обеими руками я готов подписаться под вашей запиской, — сказал он мне, — но мы переживаем такое реакционное время, что необходимо терпенье. Надо ждать и надеяться”. Еще больше почувствовал я близость к Кони, и мне еще яснее стала наша расовая родственность. Вот содержание записки в сокращенном виде: […][284].
Глава 13. Максим Горький — Ал[ексей] Максимович] Пешков
Впервые я познакомился с Горьким в Нижнем Новгороде. Нижний и Горький — точно синонимы. Постепенно растущая слава Горького как бы ореолом окружила город. Там в небольшой квартире я застал писателя и его молодую жену — Екатерину] ПавлГовну] Пешкову.
О Горьком в течение последних 35 лет много писали, подвергая его самой разнообразной критике, как писателя, политического деятеля и человека. Наступит время, когда возможно будет более беспристрастно отнестись к такому крупному явлению, как Горький, когда трагические переживания его последних дней осветят нам настоящий образ писателя и человека. Я же хочу только поделиться теми впечатлениями, какие остались у меня в памяти от нескольких встреч с Горьким.
При первом знакомстве, которого я так жаждал, на меня особенно сильное впечатление произвела жена Горького — Екатерина Павловна Пешкова. Молодая, изящная, целиком проникнутая той тонкой, русской интеллигентностью, равную ко торой трудно найти, она как — то особенно выделялась на фоне несколько пролетарской обстановки дома и обихода жизни. При этом в простоте ее обращения не чувствовалось ни малейшей искусственности и деланности. Это первое впечатление мое не изменилось на протяжении многих лет знакомства с трогательно самоотверженной деятельностью Екат[ерины] Павловны в качестве заведующей помощью политическим ссыльным (“Политическим Красным Крестом”[285]). Во все время своей нелегкой, а подчас щекотливой общественной деятельности, она проявляла все лучшие свойства своей тонкой, благородной натуры.
Сам Горький, входивший в то время в полосу такой славы, которая могла бы вскружить голову всякому другому — как это через много лет случилось со столь талантливым мужичком Есениным, — был как — то сдержан и несколько угрюм.
Мы мало знали о его прошлом. Не знали о покушении 20-летнего Горького на самоубийство. Знали только, что судьба не баловала его и что ему пришлось пройти суровый путь жизни, пока он не обратил наконец на себя внимание читающего мира. Еще меньше знали о том, что привело его к покушению на себя, какие глубокие внутренние переживания толкнули его на это. Какая жажда искания “правды” и “смысла жизни” была в этом человеке.
Для нас всех М. Горький был восходящей звездой, готовой затмить всё и всех. Держался Горький просто, как бы не допуская преувеличения по отношению к нему. Я ушел под впечатлением какого — то смешанного чувства: радости и грусти. Я был рад, что познакомился с человеком, каждый рассказ которого вводил нас в новый, мало известный нам мир обездоленных людей, озаренный ярким светом любви и сочувствия. Автор сам был один из них. Он ничего не выдумывал. Он изображал жизнь и заражал нас своими чувствами. Он становился кумиром молодежи. Его песни о соколе и буревестнике[286] были у всех на устах. Он казался глашатаем затаенных стремлений к свободе. В нем начинали видеть руководителя жизни. Внешне он мало походил на воображаемого героя. Скорее длинный, чем высокий, с вздернутым широким носом, он мало был похож на знаменитого писателя и еще менее на “учителя жизни”, как многие были готовы видеть такового в нем. Тогда он и не чувствовал себя таковым. Проста и ласкова была его беседа, и что — то сильно притягивало к нему.
А в то же время он казался чуждым и неподходящим к той обстановке жизни, в какую он попал. [Потом] я помню такую сцену у Скирмута. После какого — то не то концерта, не то спектакля мы все собрались в Гранатный переулок в квартиру Скирмута: артисты Художественного театра, оперы и др. Горький был героем дня. Он уселся на пол, опершись спиной в стену. Все интересовались поближе подойти к нему, поговорить, а он молча смотрел кругом. И когда вокруг собралось много народу, то он как — то резко проговорил: “Чего смотрите точно на балерину?” Это было как — то неуместно и г-рубо… грубо. Вероятнее всего, что это явилось результатом какого — то смущения. Впоследствии это никогда не повторялось, и каждая встреча с Горьким оставляла отрадное впечатление.
Его тонкая измученная душа чувствовала музыку, и у меня висит его портрет от 1902 г. с надписью: “На память с благодарностью”, очевидно, за музыку. На десятилетнем юбилее Московского трио в сезоне 1902 — 903 гг. Горький сидел в ложе с моими родителями в большой зале Московской консерватории, и я был вдвойне рад его присутствию.
С постановкой “На дне” Художественным театром слава Горького достигла апогея[287]. Все это уже не влияло на писателя. Жизнь его закалила. Он знал ее настоящую цену и оставался самим собою, где бы он ни находился. Шаляпин, его приятель, находясь на вершине славы, завидовал Горькому. После одного бенефиса своего, давшего ему 12 ООО рубл. сбору, Шаляпин в ресторане со слезами на глазах говорил Горькому: “Как мучительно сознавать, что несешь свое искусство той сытой толпе, которая может заплатить 10 р. за место и 100 р. за ложу, а там за стенами театра та голодная толпа, которой это искусство насущно необходимо. Ты, Алексей Максимович, трогаешь души миллионов людей своими в душу проникающими писаниями, а мы?” И он махнул рукой. Несомненно, что Максим Горький будил совесть у людей.
Театр, театральная среда и все соблазны, какие они несут с собою, не миновали Горького. Они внесли раздор в семью. Екатерина Павловна осталась одна с сыном. Горький надолго уехал в Италию [288]. Наша последняя встреча была в апреле 1920 г. при совершенно исключительных условиях. Он, конечно, и до того много раз бывал в России, но мне с ним не приходилось встречаться, или же встречи были мимолетные. А в апреле, кажется 23‑го, был день рождения Ленина [289]. Ему минуло 50 лет, и “партия” решила торжественно отпраздновать этот день, тем более что сам Ленин говорил: “Стыдно жить после 50 лет”.
На Большой Дмитровке в здании “Художественного кружка”[290]. зал которого вмещал 600–700 человек, была собрана вся головка партии. На эстраде — все комиссары с Троцким во главе, за столом президиума — генеральный секретарь Сталин. Рядом с ним Ольга Дав[ыдовна] Каменева, Каменев и др. — само собой разумеется, что без музыки не могло обойтись такое собрание. Остановились главным образом на инструментальной музыке. Исай Добровейн как пианист, квартет “Страдивариус” и я с Давидом] Крейном [исполнили] Крейцерову сонату Бетховена. Несмотря на специальные приглашения, нам пришлось пройти через тройной контроль, прежде чем войти в зал. Начало было назначено в 7 ч. вечера. Все к этому времени были на местах.
Я всматривался внимательно во всех, находящихся на эстраде, но Ленина не было. Говорили все комиссары, говорила Крупская, говорили тепло и сердечно. Самую теплую речь произнес Горький. Но начало его речи вызвало мое негодование. Он начал так: “На Руси были великие люди — Петр I, Лев Толстой. Ленин больше”. Сопоставление Петра I, Льва Толстого и Ленина мне показалось изменой художественному творчеству, особенно в устах писателя… Речи длились до 10 часов, когда был назначен перерыв. Все сошли вниз в буфет, где каждый, без всякого различия, мог получить кружку полусладкого чая, кусок черного хлеба и маленький кусочек сыра. Пока мы утоляли голод этим показавшимся роскошным угощением в дни голода, разнеслась весть, что Ильич приехал. Все бросились наверх. На эстраде стоял Ленин, несколько взволнованный. Когда все успокоились, он просто, почти не повышая голоса, начал: “Прежде всего, товарищи, разрешите поблагодарить вас за то, что вы позволили мне отсутствовать, пока говорили обо мне”. Это скромное начало, простота дальнейшей речи без всяких “красных слов”, в которой он предостерегал товарищей не почивать на лаврах, а не покладая рук продолжать работать, производили чрезвычайно благоприятное впечатление. Во время речи генеральный секретарь два раза сообщал Ленину, что ему прислано в подарок два вагона муки. Ленин, не останавливаясь, распоряжался послать их разным рабочим организациям. Он кончил.
Был уже 12‑й час. Началась музыкальная часть. Ленин сидел у самого рояля. Первым играл Добровейн. несколько маленьких вещиц. Было поздно, и я советовал квартету сыграть только ноктюрн из квартета Бородина, а не весь квартет, как стояло в программе. Но они не послушали меня и сыграли весь квартет, во время которого половина зала опустела. Зато они как бы подготовили благоприятную почву для нас с Крейном. И когда мы сыграли первую часть Крейперовой сонаты с большим подъемом, то, несмотря на запрещение бисов, нас попросили еще сыграть, и мы сыграли финал сонаты Шуберта. Генеральный секретарь Сталин не мог сдержать своего восторга и поделился с Ольгой Дав[ыдовной] Каменевой. А та ему сказала: “У этих артистов дома нет ни муки, ни сахару”. На другой день я получил 2 пуда муки и 1 пуд сахару, который Ольга Дав[ыдовна] решила разделить, спросив моего разрешения. Мне полпуда и нуждающимся товарищам полпуда.
В этот вечер я в последний раз видел Горького. И хотя я долго не мог ему простить “Льва Толстого”, но чем больше я знакомился с сочинениями Горького, с его отношением к коллегам — писателям, с его личностью, я проникался глубокой симпатией к этому исключительному явлению в русской литературе.
Глава 14. [1904]
I
Я писал как — то, что не легко объяснить, да и трудно до конца понять, почему происходит в человеке какой — то духовный переворот, который точно перерождает его и открывает какие — то новые горизонты. Я не писатель и не психолог — о чем сейчас жалею. Я определенно чувствую, что все пережитое за последние два десятилетия должно было привести к духовному перевороту, к переоценке ценностей и иному отношению к жизни. Но не потому, что это является результатом каких — то катастроф или кризисов, а оттого, что как брошенное в землю зерно, прежде чем дать новый колос, проходит всевозможные изменения в своем развитии, так и в человеке, непрестанно развивающемся, происходят всевозможные перемены. В этом жизнь, движение вперед и непрерывное развитие.
Пришел [1]904 г[од]. В воздухе чувствовались новые веяния. Наступало, как я уже сказал, то освободительное движение, кот[орое] привело ко “всеобщей забастовке”[291]. Все это не могло не отразиться и на психологии обывателя. Каждый так или иначе участвовал в чем — то важном и значительном. Жизнь как будто шла обычным путем, прерываясь событиями, выбивающими ее из колеи: неудачи японской войны [292], убийство московского] генерал — губ[ернатора] С. Романова[293] (Гапон + 9 января[294]), постоянные студенческие беспорядки, волнения среди молодежи, волнения и забастовки на фабриках, — словом, все как бы предвещало какую — то перемену. Художественная] жизнь не прерывалась, но все невольно заставляло задумываться над тем, то ли и так ли все идет как надо.
Лично меня моя деятельность перестала удоволетворять. Я прошел 10 — [ти]л[етний] стаж исторических] концертов, пережил блестящий артистический успех в Париже, Лондоне, Берлине, юбилей; и в душе вырастал грозный вопрос — а дальше что? Достигает ли музыка тех результатов, какие […][295] Понимает ли ее широкая публика? Понимают ли ее сами артисты? умного ей приписывают? и т. п. Вот тогда показалось необходимым самому глубже проникниуть в “святая святых” музыки. В сущности, музыкальный язык является загадочным сфинксом как для слушателей, так и для музыкантов, и мне казалось, что если его разгадать и расшифровать, то мы действительно начнем чувствовать лучше, тоньше и благороднее. Анализ психологических] произведений Баха, Бетх[овена], Шуб[ерта] и др. раскрывал передо мною новый мир. Мне казалось, что вся предыдущая деятельность — ничто в сравнении с тем, что можно сделать музыкой при помощи подробного анализа ее содержания. Словом, эта “идея” спасала меня от той рутины, в кот[орую] впадает всякий музыкант, если не стремится вперед в своем иск[усстве]. Она же, как прежде лекции, обновила, расширила и освежила все области моей деятельности, как педагогическую, так и артистическую. Словом Тут произошло своего рода “освободительное движение”, приведшее к трем важным явлениям моей жизни: к идее Б[етховенской] академии, к поездке в Бонн, [Э]йзенах, Лейпциг и др[угие] города и, наконец, к поездке в 1907 г[оду] в Палестину. Каждое из этих явлений как бы подводило “итог” чему — то. И, подведя итог, подымало стремления на большую высоту. Всякий, обладающий музык[альным] дарованием, стремится усовершенствоваться по разным побуждениям и преследуя различные цели. Разные соблазны на артистическом пути: самолюбие, слава, карьера и деньги. Большинство и не стремится отстоять себя перед этими соблазнами и даже, наоборот, считают их как бы входящими в круг артистической деятельности. Иначе говоря, иск[усство] как бы должно служить нам, а не мы на службе у него. И пока артист не подымается выше в своем отношении к иск[усству], оно как всякое ремесло служит ему. Здесь нет места артистическому призванию. Миновать все эти соблазны никому не дано. Их надо пройти И большое счастье, когда артист находит в себе достаточно духовных сил, чтобы преодолеть их все эти соблазны.
Идея “Бетх[овенской] академии” явилась результатом анализа музыкального] творчества Бетховена. Изучая жизнь его, мы проникаемся любовью к Бетх[овену] человеку и, несомненно, что изучение […][296].
Правда, это не легко дается и достигается только ценою мн[огих] мучительных переживаний. Зато с каждой победой открываются человеку новые горизоты. Чувства его углубляются, и во много раз усиливаются, и расширяются. Он точно по — новому чувствует и понимает все окружающее, будь то люди, природа и все явления текущей действительности.
[О Бранде][297]
Как всегда весною меня потянуло вон из города в мой любимый Крым. И вот в мае 1904 г[ода] мы даем концерт в Ялте. Сколько раз я бывал на юге, и хотя всегда испытывал известный восторг от красот южного берега, но никогда это не достигало той силы и напряжения, какие я читаю в своих собств[ен ных] письмах того времени. И не только по отношению к природе. То же относительно близких, любимых жены и детей, друзей и искусства. Точно какие — то итоги чувств, после которых все должно было переключиться на все большие и большие масштабы. В этом смысле годы [1]904, [190]5 и [190]6, подводя итоги четвертому десятилетию моей жизни, разделили е[го] как бы на две половины, закончившись поездкой в Пал[естину] в 1907 г[оду]. Вернусь к поездке в Ялту.
Письмо от 27 мая: “Утром 26 мы выехали из Симферополя]. Жарко было и пыльно. Это отчасти отравляло удовольствие переезда. Но вскоре показались горы. Мы проезжали те места, кот[орые] мы вместе проезжали обратно из Гурзуфа и т[ак] д[алее]”.
29 мая: “Вчера концерт прошел блестяще, зал был почти полон. Играли мы хорошо. Аренский был в концерте, и, после того как мы исполнили его трио, ему устроили овацию. Я за него очень рад. Он очень болен, и, на мой взгляд, несмотря на свою молодость, доживает последние дни. Сам он этого не чувствует и, главное, не бережет себя”.
Вспоминаю его кончающим Петербургскую] консерваторию, он исполнял с оркестром свой ф[орте]п[ианный] концерт. Он много обещал тогда и сам был полон надежд. И если он сумел бы преодолеть соблазны жизни, понял бы глубже призвание творца музыки, призвание, предъявляющее наиболее высокие требования композитору, артисту — худож[нику], то он дал бы много больше того, что дал. По содержанию и направлению [своей] музыки он как бы олицетворяет “салонный академизм”, стараясь быть приятным для более широких кругов слушателей. Трио D-moll его, посвященное памяти покойного директора Петербургской] консерватории] К. Ю. Давыдов[а], в котором] трогательная прекрасная элегия, впервые было исполнено им самим. Не будучи пианистом, он свои вещи исполнял превосходно. Я был на этом вечере, когда А[ренский] исполнял свое трио. Во время перерыва ко мне подошел известный критик, профессор] Московской] консерватории] Ник[олай] Дмитриевич] Кашкин и сказал: “Третье трио Мендельсона”, желая указать на мендельсоновское влияние. Его учитель Римский — Корсаков в своей летописи посвящает умершему в 1906 г[оду] Аренскому целую страницу, закончив ее так: “В молодости А[ренский] не избег некоторого моего влияния, впоследствие влияния Чайковского. Забыт он будет скоро. Безалаберная жизнь среди вина, карт и кутежей расстроили его здоровье, и он умер от скоротечной чахотки. Он боролся со своими порочными наклонностями и одно время душевно заболел. Но преодолеть их не был в состоянии. Жаль, дарование было у него большое…”[298]
После концерта в Ялте, где Ар[енский], быть может в последний раз был чествуем, мы пригласили его в Гурзуф, куда мы поехали на обед, передохнуть после ряда концертов. Это был незабываемый обед. Композитор и исполнители его произведения, взаимно расположенные, провели незабываемый день вместе. Через 1 1/2 года он скончался 45 л[ет] от роду. Я чувствую, что злоупотребляю словом “незабываемый”. Но сейчас, через 40 л[ет][299], все события того времени так врезались в память, оставили такой глубокий след в сердце, что слово “незабываемый” вполне уместно.
Есть русская пословица “на ловца и зверь бежит”. Мы выбрали для отдыха Гурзуф как наиболее уединенное и тихое место весною, когда нет еще сезона. И действительно, оно таким и оказалось. Отдохнуть можно было отлично. Но вот по соседству с Гурзуфом вырос новый курорт — Су[у]к-Су, своего рода каприз разбогатевшего инженера, построившего мост через Волгу[300]. Почти на голой скале над морем был создан роскошный курорт, расчитанный на богатых посетителей. Он только — только открывался и совершенно еще пустовал, обслуживая только одну молодую пару. То был скрипач Борис Лившиц, уч[ени]к Ауэра, женатый на его младшей дочери. Лившиц — под фамилией Сибор и сейчас известен в Москве как очень хороший скрипач — был в Суук — Су гостем заведующего курортом. Узнав, что мы с Крейном в Гурзуфе, он пригласил нас посмотреть новый курорт. В назначенный день мы пришли в Суук — Су и попали в сказочную обстановку 1001 ночи. Магом и волшебником этой обстановки явился инженер Шалит, кот[орый] в то время строил такой новый город под Петербургом] на острове Голодай[301]. Первое впечатление было, что перед нами артист- фантазер, полный каких — то колоссальных проектов, с хорошей душой чел[ове]к. Небольшого роста, с густой черной шевелюрой, живой как ртуть, он сразу стал как — то близок нам. Являясь полным хозяином курорта, он пригласил нас отобедать с ними, тем более что 6 поваров готовили обед только для Лившица с женой. Обед происходил в 8 ч[асов] вечера. Я не запомню такой роскошной сервировки стола, уставленного дорогими винами в хрустальных графинах. И в то время, как мы 5 чел[ове]к обедали, небольшой салонный оркестр из 6–7 итальянцев прекрасно играл всевозможные попур[р]и из опер. Нас, музыкантов, трогала изящная игра коллег, и мы, не сговорившись, к концу обеда решили ответить им тем же. Хороший рояль стоял тут же на веранде. Крейн взял скрипку у первого скрипача оркестра. Сибор принес свою, и создался импровизированный концерт. Слушателями были: безмолвное море, тихая ночь, итальянцы и слуги. Это было действительно прекрасно. И всех охватило то чувство восторга и общего единения, какие так способна вызвать волшебница — музыка. Шалит был вне себя от восторга. Он велел подать шампанское, чтобы особенно подчеркнуть прекрасный момент. Итальянцы оценили нашу музыку, и мы расстались с ними друзьями. На др[угой] день Шалит снова пригласил нас, но я категорически отказался, хорошо понимая, что экспромт не повторится и мы только нарушим незабываемое впечатление. Но дня через два мы утром снова пошли в Суук — Су, чтобы проводить уезжавшего Шалита, с кот[орым] больше никогда не пришлось встретиться. И как странно и неожиданно было для меня через много лет познакомиться в Париже с прекрасной молодой дамой из Кипра — баронессой де Me- наше, оказавшейся дочерью Герасима Шалита. Проводив Шалита, мы направились обратно к себе и по дороге встретили — знакомого Этлимана — художника, архитектора и прекрасного скрипача, напоминающего Иоахима, и молодого чел[ове]ка по фамилии Бидерман, у кот[орого] имение около Гурзуфа. По их настойчивой просьбе мы поднялись в “Хасту”, так называлось именье Бидермана, и провели прекрасно целый день среди совершенно сказочной обстановки, совершенно противоположной Суук — Су.
Герасим Шалит по своему необузданному характеру принадлежал к тому типу людей, каких сердцевед Толстой охарактеризовал в лице отца в рассказе “Два гусара”. То же отсутствие сдерживающих центров перед осуществлением всякого желания, любого, хотя бы безумного плана. При этом во всех действиях таких людей наблюдается отсутствие личного интереса и готовность многим жертвовать. Общее впечатление от всей их деятельности, несмотря или вопреки их беспутности, — налет какого — то благородства. Если это понятно в русском графе Федоре Турбине, которого характеризовали как картежника, дуэлиста, соблазнителя и т[ому] п[одобное], и к тому же это было в начале 20 г[одов] 19 ст[олетия], как это понять в еврее, инженере из Риги в начале 20 ст[олетия]. Таковы парадоксы жизни. Сын сиониста, кот[орый] знал Герцля [302], чуждый каких бы то ни было национальных стремлений, Герасим Шалит точно впитал в себя размах и ширь русской натуры. И это соединение было особенно симпатично в нем.
В Бидермане не было и тени тех буйных, страстных и беспутных наклонностей соседа. Умный, образованный, он был всегд корректен, любил удобства жизни, был благоразумен и предусмотрителен (молодой Турбин). Среди диких гор — точно оазис, настоящий культурный уголок. Дом, обставленный просто и уютно. Отличная библиотека книг и нот. В зале прекрасный рояль Бехштейна. Вокруг дома чудный фруктовый сад, виноградники, и сверху чудный вид на всю окрестность. Вся обстановка свидетельствовала о культурности немецких хозяев. Сам Бидерман, большой любитель музыки, походил больше на артиста, чем на заботливого аккуратного немецкого хозяина. Это впечатление еще более укрепилось во мне при дальнейших встречах и длительном дружеском знакомстве с Бидерманом. Он был один из тех, кто понял идею Бетх[овенской] академии и был готов содействовать ее осуществлению..
В течение дня Бидерман не раз выражал сожаление, что он должен вечером поехать в Ялту, чтобы сопровождать небольшую кавалькаду на Чатыр — Даг. Слово за слово, и оказалось, что представляется прекрасная поездка верхом. Крейн — лихой наездник, загорелся желанием ехать, а я хотя не очень решительно, но тоже согласился. Прямо из “Хасты” телефонировали в Ялту относительно лошадей, и на др[угое] утро мы верхом отправились на Чатыр — Даг. Надо быть поэтом, чтобы передать все виденные красоты. Душевное ли состояние мое, кот[орое] остро реагировало па dcc, по то, что открывалось взору сверху, не поддается никакому описанию. Когда же мы взобрались на гору Роман — Кош и увидели оттуда всю цепь гор и Козьмодемьянский монастырь, то прямо дух дыхание захватило. К вечеру мы несколько заблудились и решили ночевать на открытом месте. Но чабаны — пастухи указали нам путь к гостинице. Утром мы взобрались на Чатыр — Даг, оттуда виден Симферополь, Бахчисарай, Черное море, Азовское и бесконечная цепь гор. Но все это не могло сравниться с видом Роман — Кош[а]. Вернулись мы через Алушту, откуда […]* к вечеру были в Гурзуфе. После такой поездки пару дней ни стать, ни сесть невозможно было. Вот какие интересные экспромты нарушали наш отдых в Гурзуфе. Жалеть об этом не приходится; тем более что это посещение моего любимого южного берега явилось прощальным. Своего рода “итог” с рядом “незабываемых впечатлений”…
Не скажу, что вся сила переживаемых впечатлений лежала в красотах южного берега. Многое я видел раньше, но никогда острота переживаний не достигала такой силы. Причина отчасти была во мне, в кот[ором] происходило своего рода “освободительное движение”. Приехав прямо из Гурзуфа [на] подмосковную дачу, я не менее восторгался и наслаждался небольшим лугом ромашек перед домом, которые утром молились на восток, в полдень гордо смотрели в небо, а к вечеру снова кланялись западу под влиянием солнца. Это производило трогательное впечатление. Мы жили уединенно, без всякого соседства, и никогда не скучали. Я не раз задумывался над тем, откуда у нас, выросших в городе, такая ненасытная любовь к природе. Я упоминал уже о политических движениях 2‑й половины [1]904 г[ода] в связи с вечером “Общества просвещения”[303]. Тот якобы покой и порядок, какими обычно шла наша концертная деятельность, нарушились, и не только по политическим причинам. Какой — то протест вырастал изнутри против “привычного”. Необходимо было внести что — то новое, свежее, если не в самой программе, которая преследовала исторический] порядок, то по крайней мере добиваться еще больших результатов от исполнения. В этом сказалось влияние (с одной стороны, лекций, а с др[угой], анализа, о кот[ором] я упоминал). “Художник не должен быть стар. Много нужно для иск[усства], но главное — огонь!” — говорит Толстой в рассказе “Альберт”[304]. В искусстве], как во всякой борьбе, есть герои, стремящиеся преодолеть всякие соблазны, и есть обыкновенные […].
Вспоминается мне случай, имевший место год перед этим. Как известно 11 /III 1881 г[ода] в Париже скончался Николай] Рубинштейн, любимец Москвы, директор Московской] консерватории] и друг Чайковского. Незадолго перед этим на вопрос в письме М-ше ф[он] Мекк, “почему он, Чайковский, не пишет “трио”, композитор ответил, что звучность ф[орте] — п[иано] со струнными ему кажется неподходящей и что вряд ли он когда — нибудь сочинит трио [305]. Но вот умер друг, Николай] Рубинштейн], первоклассный пианист — виртуоз, и это побудило Чайк[овского] создать свое знаменитое трио — “Памяти великого пианиста”[306].
В 1893 г[оду] Чайковский скончался, и через некоторе время после его смерти молодой тогда композитор Сергей Рахманинов] сочинил трио памяти Чайковского[307]. Так же обширная первая часть, так же вторая — тема с вариациями и финал — заключение. По содержанию оно не меньшей силы, чем трио Чайковского, и для ф[орте]п[иано] еще трудней — точно ф[орте]п[ианный] концерт со скрипкой и виолончелью. Исполненное в первый раз памяти Чайковского, оно не произвело такого впечатления, какого ожидал молодой композитор. То ли что не были преодолены все трудности исполнителями, или слушатели не были подготовлены достаточно, чтобы тотчас же воспринять новое произведение, но трио не имело успеха, и сам композитор его невзлюбил. Прошло 10 л[ет], трио ни разу не исполнялось. В сезон [1]902/3 года последним номером нашей исторической программы концертов было трио Рахманинова.
Целое лето посвятил я на изучение этого трио, кот[орое] доставило мне много наслаждения. В начале осени, когда афиша была выпущена, я встречаю Рахманинова, кот[орый] останавливает меня и говорит: “Зачем вы причиняете мне неприятности”. Я смотрю на него во все глаза. “Зачем вы играете мое трио, мне это неприятно, я его не люблю”. — “Мы играем его, потому что это прекрасное произведение, и я очень прошу Вас, когда подойдет время его исполнить, прослушать нас”, — попросил я его. На этом мы расстались. Месяца через 4 наступила очередь программы, кот[орая] заканчивалась трио Рахманинова. Он пришел на генеральную репетицию и слушал нас, согласился со мн[огими] сокращениями, которые он тут же и сделал. Некоторые оттенки наши ему так понравились, что он решил при следующем издании трио, принять их к сведению. Мы расстались с тем, что завтра он с женою будет в концерте. Но через час по его уходе я получил от него записку, что хотя он и обещал быть, но придет только его жена. В концерте жена его была; и она убедилась, что трио имело успех…
Прошло полгода, осенью в окт[ябре] 1903 г[ода] минуло 10 л[ет] со дня смерти Чайковского. Незадолго до этого студенты университета обратились ко мне с просьбой устроить концерт в пользу их кассы. Концерты устраивались в большой зале Дворянского собрания 183, вмещавшей от 2–3 тысяч человек. Чтобы привлечь такую массу слушателей, нужна боевая программа и имена любимцев публики. Я предложил им следующее: Московское] трио: Шор, Крейн, Эрлих исполняют два трио — вначале Рахманинова, а в заключении Чайковского. Между этими трио — любимцы публики — Собинов (любимый московский] тенор Б[ольшого] театра) и др[угие] [исполнят] романсы Чайковского. А весь концерт посвящается памяти Чайковского.
Концерт привлек полный зал публики. Когда мы вышли играть, то против эстрады на хорах мы увидели Рахманинова, сидящего, облокотившись на барьер (его любимая поза). Это нас как — то еще больше пришпорило, и мы с большим подъемом сыграли его трио. Успех превзошел все ожидания, нас вызывали много раз, а в антракте к нам с хор в артистическую спустился композитор, пожал нам всем руки и сказал: “Вы заставили меня полюбить мое трио, теперь я буду его играть, спасибо”. Для нас, исполнителей, это был самый большой комплимент, какой возможно получить от композитора… Я упомянул об этом эпизоде, т[ак] к[ак] он наглядно подтверждает мысль Шопенгауэра, что композитор творит подобно сомнамбуле, как бы во сне, и не всегда сам может судить о своем творении [308]. А во 2‑х [во — вторых], подтверждается и мысль Вагнера, кот[орый] писал Листу: “Только исполнитель является настоящим художником. Все наше поэтическое творчество, вся композиторская работа наша, это только некоторое хочу, а не могу: лишь исполнение дает это могу, дает — искусство”[309].
Такой же случай, как с трио Рахманинова], произошел с 5‑й симф[онией] Чайковского. Композитор, сам дирижируя, провалил ее и готов был уничтожить ее. Явился Никиш и возродил ее исполнением.
Когда Бетх[овен] услыхал одну из своих сонат, только сочиненную, в исполнении пианистки Мари Биго, то сказал: “Это не то, что я думал, но это много лучше”. “Das ist nicht genau der Charakter, welchen ich diesem Stucke habe geben wollen, doch fahren Sie immerhin fort, wenn ich es nicht vollstandig selbst bin, so ist es etwas Besseres ais ich”[310].
II
К этому времени московский [Художественный] театр достиг необычайной высоты постановкой ибсеновского “Бранда”[311]. То ли что время такое подоспело, когда весь воздух кругом был точно пропитан жаждой подвига, то ли что артисты изумительной игрой волновали и возбуждали эту жажду жертв, подвига, самоотверженности. Но каждое представление Бранда, которого исключительно исполнял Качалов, накаляло настроение зрителей до точки кипения… В жизни Москвы и, пожалуй, всей России Бранд создал своего рода эпоху. Почва точно была подготовлена. И когда со сцены раздавались слова Бранда: “Хотя бы все вы дали кроме жизни, ее не дав, вы ничего не дали”[312], то они зажигали всех каким — то горячим энтузиазмом. Люди жаждали выхода из того тупика, куда загнала их жестокая реакция. И представление “Бранда” открывало этот выход. Бранд помог т[ак] наз[ываемому] “освободительному движению”. Возможно, что он же повлиял на Каляева, убившего Серг[ея] Романова — брата Александра] III. Каляев не был обыкновенным рядовым террористом. Он шел на это как на подвиг и как подвиг совершил предназначенное ему. С опасностью для себя он пропустил сначала удобный случай бросить бомбу, заметив в карете гостей. И только когда Сергей был один, он исполнил то, что считал своим долгом. Он знал, что скрыться в Кремле невозможно, что его ждет смерть, и это его не остановило. Нe вспомнил ли он в предсмертный час слова Бранда “хотя бы все вы дали кроме жизни, ее не дав, вы ничего не дали”.
Через 25 л[ет] у меня в дневнике записано: меня 3‑й день волнует ибсеновский Бранд. Странное дело! Еще в 1904 г[оду] я переживал Бранда как эпоху в своей жизни. Никогда не забуду этой постановки Художественного] театра в Москве. Бранда играл Качалов — гениально. Еще долго по мн[огим] поводам целые цитаты из “Бранда” играли значительную роль в моей жизни. И сейчас, когда я снова читаю его, сильное волнение охватывает меня всего, и тогда все явления окружающей жизни кажутся незначительными. Куда — то тянет вверх к подвигам и настойчивому стремлению к цели, высокой и прекрасной…
[А ведь это так необходимо и особенно здесь, в строющейся Палестине.]
III
К концу девяностых годов 19 ст[олетия] (темная реакция подчас вызывает усиленное стремление к свету. Так в самые тяжкие годы последних десятилетий 19 ст[олетия] для учащихся в гимназиях и университетах) создалось в Москве Педагогическое общ[ество], целью которого было развивать и расширять горизонты учащихся популярными лекциями по всем областям науки [313]. Лучшие педогоги Москвы — во главе с директором частной гимназии Алфёровым, профессорам] университета — все горячо принялись за осуществление этой идеи. По воскресеньям от 2–4 [часов] в аудитории Исторического музея [314], прекрасно приспособленной для лекций, с великолепным фонарем[315], 5–6 сот учащихся слушали лекции по всем отраслям наук. Амфитеатр аудитории был акустически так великолепно устроен, что шепот на эстраде был слышен в последних рядах. Лекции чрезвычайно привились, и мест не всегда хватало для желающих.
Как раз в это время я у себя для своих учеников читал лекции по истории музыки с исполнением музыкальных образцов. Узнал об этом Алфёров. Он пришел ко мне с предложением прочитать популярную лекцию по музыке у них в обществе. Я стал отказываться, ссылаясь на то, что никогда публично не читал и сразу попасть в такую среду опытных лекторов прямо боязно. Но Алфёров обладал большой настойчивостью, и тогда я предложил следующее: возьму одну из трудных тем для неподготовленной аудитории — напр[имер] Баха — и сначала прочитаю с иллюстрациями в кругу педагогов. Если они одобрят и благословят, то буду читать, если осудят, то подожду еще. Алфёров с этим согласился. В назначенный день я просил доставить рояль в гимназию Алф[ёрова] на Арбате. Вечером в кругу нескольких педагогов я, сильно волнуясь, рассказал о Бахе и исполнил несколько вещей его, наиболее доступных.
Многое было подвергнуто критике. Так, напр[имер]: всякое техническое выражение или не упоминать, или тотчас же объяснить. Самый язык по возможности упростить, имея в виду учащихся 12–17 л[ет]. Но общее решение было — непременно читать. Я был очень благодарен педагогам за их указания и при каждом чтении пользовался их советами указаниями. Все др[угие] лекторы использовали также волшебный фонарь. Возникал вопрос, как пользоваться фонарем при музык[альных] лекциях. Ф[анта]зия моя разыгралась, т[ак] к[ак] картины очень много давали учащимся. И т[ак] к[ак] для Педагогического общества] работала диапозитив[ная] прекрасная мастерская Анциферова, то я готов был всю историю музыки иллюстрировать также картинами. Таким образом, у меня накопилась целая библиотека картин: история инструментов, нотописани[е] народов древности, из жизни композиторов, рукописи, портреты крупны[х] деятел[ей] и т[ому] п[одобное].
Лекции меня очень захватили, т[ак] к[ак] я чувствовал, что увлекаю аудиторию, и на этой почве звуки музыки сильнее действуют. Являясь чем — то новым, лекции они благотворно действовали и на др[угие] стороны моей деятельности, внося какую — то свежесть и в педагогическую, и в артистическую деятельность работу. Результаты лекций давали большое удовлетворение. У меня имеются документы, свидетельствующие о совершенно исключительном влиянии их на слушателей. Многие города ка кКазань, Астрахань, Самара и др[угие] устраивали подряд целую неделю моих чтений и называли это “неделя о Шоре”.
В одном из близких к Москве городов — в Туле — я в один сезон прочитал 21 лекцию. Устраивались они от всевозможных просветительных общ[еств] или от “народных университетов”, каких много развилось в больших городах России по примеру Нар[одного] университета] Шанявского в Москве 190. Как курьез стоит упомянуть, что во времена сильной реакции после [1]905 г[ода] в Саратове был закрыт Нар[одный] ун[иверситет] после моей лекции о… Бетховене. Свободолюбие и непочтение к власть имущим не понравилось саратовскому губернатору. Такое выражение Б[етховена] по поводу Гете, как “я ожидал встретить короля поэтов, а встретил поэта королей”, или посвящение Героической симфонии консулу Бонапарту и уничтожение этого посвящения, когда Наполеон объявил себя императором, казались черносотенному губернатору потрясениями основ, и университет закрыли. Должен сказать, что я продолжил читать лекцию эту по всей России и никаких помех не встречал.
Мне лично лекции принесли большую пользу. Я многому научился от разных аудиторий, и над многим пришлось поработать, многое усвоить и при этом учиться непрерывно. Кафедра для лектора то же как и эстрада для артиста невамеп — поучительн[а] в высшей степени.
Вернусь к первой артистической поездке нашего трио за границу в мае 1903 г[ода]. […]
Глава 15. [1905]
1905 г[од] начался трагическим событием, взбудоражившим всю Россию. 9[-го] января священник Гапон повел десятки рабочих с женами и детьми к Зимнему дворцу. Народ желал лично говорить с царем. Ответом на это была стрельба в безоружных людей. Событие это явилось неожиданным для самого Талона, которого, быть может не без основания, считают провокатором. Несомненно, однако, и то, что он и сам был захвачен движением, которое вызвал. И возможно, что при благоприятном исходе он стал бы народным героем. Роковым образом имя его тесно связано с именем одного из энергичнейших и очень уважаемым и полезным деятелем нашей мал[енькой] страны…[316]
Несмотря на огромность этого преступления царской России, обычная жизнь шла своим путем. “Природа не знает остановки в своем движении и казнит всякую бездеятельность”, — говорит Гете[317], так же и действительность безостановочно продолжается. Каждый вечер театры полны. Сезон концертов продолжается. Общественная, торговая, учебная и все др[угие] деятельности шли обычным путем. Но на всем был какой — то особый налет, точно 9‑е января раскололо жизнь на “до” и “после” 9 янв[аря]… 4/II [1]905 г[ода] [стало] ответом на 9‑е [318].
В моей личной жизни продолжалось то “освободительное движение”, о кот[ором] я упоминал. Точно перед тем, как прийти к какому — то окончательному решению, надлежало познакомиться со мн[огими] явлениями жизни в разных странах и среди разных народов. Лето решено было провести в Италии. Итальянские друзья наши звали в Pegli, около Генуи [319]. К этому путешествию я серьезно подготовился. Мне хотелось видеть и показать своим все красоты проезжа[емы]х мест. А потому было решено днем ехать, а на ночь останавливаться на ночлег. Ехать надо было на Вену, и, само собою разумеется, в первую голову интересовало все, связанное с былой и настоящей музыкальной] жизнью города. Кроме того, Вена была богата художественными] галереями, городскими и частными. Л. О. Пастернак, знавший хорошо эту сторону Вены, дал мне много ценных адресов, где я действительно нашел прекрасные художествен ные сокровища. 5 дней пребывания в Вене, конечно, недостаточный срок, чтобы всесторонне познакомиться с таким замечательным городом. И все же мы много успели за это время, познакомившись с разными сторонами жизни города. Любезную, веселую и несколько легкомысленную Вену показала нам ее улица, кафе, Пратер[320] и т[ому] п[одобное]. Суровую Вену мы чувствовали в соборе Св. Стефана (Steph[a]ns Kirche[321]). Блестящую музык[альную] сторону дал нам театр, где дирижировал Малер[322]. И совершенно исключительные впечатления [мы] пережили на кладбище Zentralfriedhof[323]. Это скромный памятник Бетховену — небольшой пирамидальный камень с лаконичной надписью “Beethoven”, окруженный со всех сторон знаменитыми могилами: Моцарта, Гайдна, Шуберта, Брамса, Глюка и мн[огих] др[угих], оставляет неизгладимое впечатление. Вы точно попадаете в пантеон величайших представителей музыки, и вас охватывает какая — то благоговейная робость. Ведь для бетховенианцев Вена, как и Бонн, явля[е]тся своего рода Меккой, притягивающей паломников. С этой стороны Вена особенно привлекала меня. В первый же день мы искали Верингерское кладбище, где вначале был похоронен Бетх[овен]. Встретив по дороге прилично одетого чел[ове]ка, я спросил его, не может ли он указать где находится кладбище, на котором покоится прах Бетховена. “Бетховена?” — переспросил он. — “А кто он такой?” — “Как кто такой? Ведь это самый знаменитый композитор”, — удивился я. Пожав плечами, незнакомец заявил: “Не знаю такого”. И удалился!..
После Вены наше внимание привлек Зальцбург — город Моцарта, где прошли его детские годы. А затем, не отрываясь от окон вагона, мы любовались до вечера Тиролем. На др[угое] утро продолжали путь до Ривы — Garda — See[324], — где уже чувствовалась Италия: цвет воды, лимонные рощи, мягкий благоухающий теплый воздух, все заговорило точно на др[угом] язы — ке. Предположение остаться на сутки на берегу Garda — See уступило настойчивому желанию скорее попасть в Италию, и в тот же вечер друзья нас встретили в Милане и водворили в Hotel рядом с La Scala…[325]
Милан еще не Италия. Это интернациональный город, каких много в Европе. На нем нет печати оригинальности, как на мн[огих] др[угих] городах Италии. Город сам, как и жители его, вместе с так называемым “прогрессом”, точно стерли с себя все, что когда — то составляло их особенность. Бродя по улицам, я был поражен одинаковостью одежды и головных уборов мужчин, это производило впечатление какой — то ординарности, отсутствия всякой ф[анта]зии. В широкой Народная масса, выражаясь музыкально, ждешь и желаешь должна звучать многоголосым хором самостоятельных голосов. А вместо [этого] желание быть — как — все 11 звучит бледным, тусклым унисоном. Но что- то симпатичное детское в итальянцах делало эту толпу близкой. Осмотрев все достопримечательности города, его художественные] сокровища, окрестности и, конечно, собор, мы отправились в Pegli.
Миланский собор не без основания считается замечательным архитектурным памятником. Несмотря на свои огромные размеры, он производит впечатление легкости, изящества даже некоторой грации, не совсем вяжущейся с католическим храмом. Много прекрасных фигур внутри, некая кружевная отделка снаружи придают ему несколько светский характер. И даже то, что нам особенно повезло присутствовать при коллективном причастии множества детей, одетых в бело[е], и принимал причастие сам кардинал, весь в красном, не изменило впечатления какой — то светской театральности…
Курортная жизнь в Pegli ничем не отличается от таковой на всем свете, интересна для нас была встреча с супругами Момильяно. Он, занимая важную дожность санитарного директора порта, морского врача, никогда не тяготился не чувствовал своего еврейства (Pegli, письмо к А. В. Бернштам [326]). Познакомившись с нами, евреями из России, они очень заинтересовались положением евреев в России, причем, конечно, у них было много превратных представлений об этом положении. Нас сблизили общие интересы, и мы подробно знакомились с положением евреев в Италии. Все, что мы узнали, явилось таким контрастом царской России, что мы в хорошем смысле позавидовали итальянским евреям. Жена Момильяно, узнав, что я музыкант, рассказала нам, что дядя ее — Луиджи Луццатти — нередко играет в 4 руки с королевой и что он при дворе свой человек. Это, впрочем, неудивительно. Ведь Л[уиджи] Луцц[атти] много раз был министром и даже премьер — министром [327]. Его полезные для Италии финансовые реформы создали ему исключительную популярность, и вся Италия считала день проведения этих реформ национальным праздником…
Нас, русских, интересовали также народные собрания, которые] происходили на площади перед нашей гостиницей, когда ораторы свободно высказывали свои политические воззрения, идущие иногда вразрез с правительственными, и милиционер, охраняя только порядок, не вмешивался мешал ораторам высказываться… Настоящее впечатление от Италии я получил, когда я с моим приятелем, итальянцем, посетили Флоренцию, Болонью и Венецию…
Несколько слов о Генуе. Генуя славится своим Campo Santo[328]. И действительно, вряд ли где на свете есть кладбище, подобное генуэзскому. Итальянцы большие мастера на скульптурные украшения, и кладбище полно не только просто памятниками могильными, а также многими жанровыми сценками из жизни усопших. Получается впечатление, что тщеславие присуще не только по сю сторону жизни человека, но и по другую. Вот, напр[имер], памятник продавщицы бубликов, кот[орая] всю жизнь собирала деньги на памятник, на котором желала быть изображенной во весь рост с бубликами в руках. Па многих скульптурных памятниках чувствуется заботливое отношение будущих покойников к будущим могильным памятникам. Много прекрасных работ, имеются даже работы знаменитого Кановы. Много тщательного труда вложено в исполнение намеченных планов. И все же является вопрос — искусство ли это? Еще пока вы на кладбище, интерес возбуждают всевозможные жизненные сцены, тщательно сработанные. Но стоит только прикоснуться к истинному искусству, как все виденное на генуэзском кладбище только чуть — чуть приближается к нему искуеетву. А ведь мы знаем, что искусство приблизительного не терпит. Все это невольно наводило меня на мысль, что в области музыки мы наблюдаем то же самое, т[о] е[сть] десятки тысяч исполняющих только чуть — чуть приближаются к настоящему искусству и только в отдельных редких случаях артист поднимается на высоту истинного искусства.
Достаточно было мне попасть во Флоренцию и в полуденный зной жаркого июльского дня зайти в прохладную капеллу или мавзолей, где стояли четыре знаменитые статуи Микеланджело, посвященные Лоренцо Медичи — утро, день, вечер и ночь [329], — чтобы не только понять, что такое истинное искусство, но совершенно наполниться непередаваемым восторгом и счастьем от приобщения к настоящему искусству. Какой — то аристократизм духа проникает чувствуется и в самом произведении, и в художнике, создавшем его. Да и вообще, вся Флоренция проникнута этим духом. Таких храмов, иногда […]* у храма, где все говорит о гениальности художников, нечасто можно встретить даже в Италии. Величайшие художники Италии жили и работали во Флоренции. И невольно проникаешься любовью к народу и стране, так много давшим миру в области искусств…
А вот после Флоренции — Болонья, точно провинция перед столицей, но своеобразная и оригинальная. Весь город в аркадах, т[ак] что при самом сильном дожде можно спокойно обходить его. Есть у Болоньи также чем гордиться в области музыкального] иск[усства]. Консерватория ее основана в 1864 Соду]. Но задолго до этого в 1807 г[оду] 15 тцл [пятнадцатилетний] Россини поступил уч[ени]ком в Liceo filarmonico к аббату Маттеи [330] и вышел оттуда знаменитым композитором, как свидетельствует надпись при входе в лицей… Как — то в воскресенье часа в 4 дня я попал в театр на оперу из русской жизни под названием “Федора”[331]. Театр случайный, летний, построенный наспех, но оркестр, солисты, а также исполнение было весьма недурное. Пели хорошо, и оркестр аккомпанировал недурно. В самом наиболее напряженном месте оперы (содержание касалось революционной России. Герой оперы убил военного сановника и бежал за границу. Дочь сановника поклялась наказать убийцу. Она едет за границу, входит в революционную среду, встречается с убийцей, не подозревая, что он и есть виновник смерти ее отца, влюбляется в него, пользуясь взаимностью, и вдруг узнает правду). И в этот страшно напряженный момент, когда солисты и оркестр в повышенном тоне поют, разразилась такая гроза вовне, что из — за дождя и молний не слышно стало, что творится на сцене, и к тому же дождь стал проникать в театр. Артисты оркестра раскрыли зонтики, точно привыкли к таким явлениям, но публика бежала из театра под аркады. Так и не пришлось дослушать оперы. Юмористический эпизод этот почему — то точно подходил к Болонье и не нарушил впечатления какой — то провинциальности этого милого города, аркады которого и являются результатом постоянных дождей.
Зато красавица Венеция оказалась достойной всех тех восторгов, какие расточают ей по сегодняшний день. Благодаря моему приятелю, итальянцу, мы поселились в отеле на Grand Canale*. Вечером с балкона можно было наслаждаться прекрасным пением, раздававшимся с разукрашенных гондол, проезжавших по каналу. Два — три дня, посвященных на обзор художественных] сокровищ Венеции, конечно, недостаточно. Но и то, что я видел за это короткое время, убеждало в том, как безгранично богата Италия живописью. Целые версты огромных полотен знаменитых художников хранятся в худож[ественных] галереях Венеции. Сам город, с его изумительными по красоте дворцами, является прекрасной рамой для своих картин… Подведя итог всему виденному и пережитому в Италии (а видел я только самую малую часть страны), я должен сказать, что итальянцы вполне заслужили свою прекрасную страну, дав миру в течение столетий бесчисленное количество знаменитых художников всех искусств. Что благоприятствовало этому? Сказать трудно. Быть может, счастливое сочетание климата, красот природы, яркого солнца, природной одаренности населения и любовь ко всему прекрасному. Милая, светлая Италия…
Обратный путь мы совершили через Швейцарию, в которой лет 7 тому назад мы прожили целое лето. Живя на ville Ригльонд над Vevey**, у местных людей, я имел случай сделать прогулку на Сен — Бернар вместе с[о] местной школой. Эта 2–3-дневная прогулка познакомила меня со многими, мало кому доступными, сторонами франц[узской] Швейцарии. Переехав озеро, мы сразу попадаем в Савою, а затем в кантон Le Valais*, население которо[го] до странности бедно. Чрезвычайно набожное, оно эксплуатируется духовенством и производит какое — то жалкое впечатление. Многие страдают зобом, и это искажает совершенно внешний вид населения [жителей]. Приписывают это воде. Контраст правой и левой сторон озера поразителен. С одной стороны — ряд цветущих городов, блестящих отелей, роскошных пансионов, исторических мест как Шильонский замок 204 и т[ому] п[одобное], а с др[угой] — точно Богом обиженный берег — пустынный, жалкий, с незаслуженно обиженными людьми. Помню, как это несправедливое со стороны природы распределение земных благ меня глубоко задело. Но жители счастливого берега точно привыкли к этому и свое преимущество принимали считали как должное. Этот контраст их не трогал, они его не замечали как-в порядке вещей, удивляясь моим переживаниям — Со — етороны учителей я ожидал больше чуткое тн. С др: — стороны эта была прогулка, и пнкто не лселал углуб ляться в жизненные проблемы. Школьники весело совершили двойной путь, перебегая с места на место, убегая вперед и возвращаясь на зов учителей. Так веселой гурьбой мы к вечеру дошли до монастыря.
Поражало то, что в жаркий июльский день, еще не доходя до монастыря, мы в ложбинах находили тающий снег. С заходом солнца все сразу приняло какой — то суровый вид. Стало мрачно и холодно. Сам монастырь не смягчал этого впечатления. Темные мрачные кельи, отведенные для ночлега, и даже едва освещенная столовая, где нас скромно накормили, не могли изменить этого впечатления. Сами монахи молчаливые, суровые, только усугубляли настроение. Мы смотрели на них как на самоотверженных людей, посвятивших себя служению “человеку”. Как известно, монастырь Сен — Бернара находится на перепутье разных стран [332], и когда — то немало смельчаков пускалось в путь пешком. Нередко внезапная снежная буря застигала их в пути, и они гибли от холода. В монастыре находилось всегда много т[ак] наз[ываемых] сенбернарских собак. И они- то являлись спасителями погибающих. Чутьем отыскивали они замерзающего человека, раскапывали снег, отогревали его дыханием, и нередко на шее им привязывали корзиночку с провизией и бутылку крепкого напитка, которым человек мог воспользоваться. Они указывали монахам дорогу к застигнутым бурей, и, таким образом, содружество человека и собаки давало на Сен — Бернаре прекрасные результаты, спасая людей от смерти. Собаки на Сен — Бернаре оказались несколько иными, чем мы представляли себе. Гладкие, без всякой шерсти, худые, они гибнут, если их перенести в др[угие] условия. Дело в том, что воздух на высоте горы такой разреженный, что непривычному трудно дышать. А кто привык к этому разреженному воздуху, тому не только трудно, но и гибельно дышать в др[угой] атмосфере. Говорили, что как монахи, так и их друзья, собаки, недолговечны… После ночи, проведенной в непривычно мрачных условиях, наступившее утро, хотя и холодное, как — то обрадовало. Вся суровость таяла под влиянием солнечных лучей. Глазу открывался необычайный по грандиозности вид. И наряду с этим величием, красотой гор, неба, солнца и легкого воздуха, как ни мал казался монастырь со всем своим населением, идея “спасения человека” приобщала и его к этому величию. С теплым чувством покидал я монастырь, сознавая, что пережил что — то новое и большое…
В том же году я был свидетелем музыкального празднества в небольшом городке Нионе на берегу Жен[евского] озера. 5000 певцов собралось со всех концов Швейцарии, и в течение 2–3‑х дней происходили состязания хоров, концерты и… грандиозная выпивка. Я был поражен стройностью хорового пения швейцарцев. Как известно, последние не отличаются особой музыкальностью, и все же в школах достигают у детей от 70–80 % абсолютного слуха методами Жак-Д’алькрозовским [333]и другими] — как гласит статистика, хоры поли. Я надеялся услышать произведения швейцарских композиторов, а также народные песни, исполненные хором, но вместо этого большинство хоров пели Вагнера и др[угие] хоры из опер. Но самое празднество носило вполне народный характер и объединяло как бы всю страну на почве музыки. И это вызывало в высшей степени благоприятное впечатление…
В том году композитор Скрябин жил недалеко от Женевы с семьей. Меня связывало с ним мпого[е] пережитое вместо, и мне хотелось навестить его. Я знал Скрябина с 1886 г[ода], когда он только что поступил в консерваторию. Худенький кадетик, он производил впечатление слабого и нервного мальчика. Поступил он на старший курс в класс Сафонова, в то время когда Сафонов со знаменитым виолончелистом Давыдовым на 2 месяца покинули Москву для ряда концертов по всей России. Вновь поступивших учеников Сафонов передал мне на это время поручил мне, своему старшему уч[ени]ку. Кадетик Скрябин поражал меня той быстротой, с какою он усваивал все заданное. За эти два месяца я мог убедиться в необыкновенности дарования 15 — [ти]л[етнего] Скрябина. К этому времени он уже начал сочинять, и с первых творческих шагов его, несмотря на сильное влияние Шопена, чувствуется уже нечто специфически скрябинское. С виду скромный, деликатный, он, однако, упорно отстаивал свой подход к иск[усству] и жизни. Не раз он в классе, ценя высоко своего учителя Сафонова, вопреки его требованиям], отстаивал свое толкование, особенно Шопена. И Сафонов, как умный педагог, соглашался с мнением своего уч[ени]ка, когда находил, что он прав. В то время в классе Сафонова было немало выдающихся уч[ени]ков, и среди них Иосиф Левин с исключительными виртуозными данными, которым способствовала необыкновенно большая и гибкая рука. Скрябин, не довольствуясь тем, что исполнение его на ф[орте]п[иано] полно тонкости, изящества и нежной грации, что чаровало слушателей, пожелал в виртуозности состязаться с Левиным и упорно работал над этюдами Листа, над его “Дон — Жуаном” и т[ому] п[одобным], результатом чего явилась болезнь правой руки. Тогда — то он и сочинил свой прекрасный прелюд и ноктюрн для одной левой руки. Своими сочинениями он всех нас покорял, и наш учитель Сафонов с особенным вниманием относился к творческому дару своего уч[ени]ка. Он всячески старался облегчить тернистый путь начинающего композитора, материальное положение которого никогда не было блестящим. Он содействовал тому, что такой меценат, как Беляев, заинтересовался Скрябиным и стал печатать его сочинения, обеспечив ему ежемесячное содержание. Через несколько лет, по окончании консерватории, молодой Скрябин был приглашен профессором] консерватории, директором которой был Сафонов. К тому времени, когда Скрябин жил около Женевы, он был уже несколько лет женат на хорошей пианистке Вере Исакович, и у него было две дочки [334].
Имя Скрябина становилось известным и за границей, и постепенно чувство самосознания юного композитора постепенно превращалось в манию величия, что начало отражаться и на его творчестве, переходившее иногда границы искусства. Глубоко ценя его дарование, а также и его самого, я решил навестить его. Я хорошо знал и его жену Веру Ивановну — хорошую пианистку, хорошую мать и преданную супругу. Помню, как сразу, как только я попал на их дачу, я почувствовал, что точно не вовремя приехал, хотя хозяйка как будто была рада моему посещению. Но какая — то растерянность ее и печаль, которую она не могла скрыть, поразили меня. Скрябина не видно было. Тогда я спросил: “А где комната Александра] Николаевича]?” Надеясь увидеть того, ради кот[орого] я приехал. Она повела меня на 2‑й этаж и показала комнату, в кот[орой] жил и работал композитор. Но его в ней не было. На мой вопрос “Где же он?” она с глубокой печалью сказала мне: “Александр] Николаевич] нас покинул”. Я сразу не понял ее и спросил: “Он уехал куда — нибудь?” “Нет, — сказала она, и слезы зазвучали в ее [голосе] ответе, — он нас совсем оставил”. Я сразу почувствовал, что переживает бедная женщина, и глубокое сочувствие к ее горю охватило мою душу, “что же Вы намерены делать?” — спросил я ее. “Сама не знаю, — был ее ответ, — я написала отцу и жду ответа”. Под тяжелым впечатлением уехал я к себе и всю дорогу не мог отделаться от чувства глубокой печали, охватившей мою душу…
Последствия моего посещения убедили меня в том, что нет случайных встреч и все в жизни — как бы результаты предшествующих мыслей и стремлений. Я хотел повидать Скрябина, кот[орый] покинул Россию и поселился за границей. Мною руководили чувства любви и уважения к замечательному композитору; наткнувшись на семейную трагедию, я не мог оставаться равнодушным к горю молодой женщины, покинутой с двумя детьми. С ним случилось в области творчества до некоторой степени то же, что при состязании виртуозном. Как тонкий и прекрасный музыкант — я употребил бы без преувеличения эпитет “гениальный” — он понимал все значение и величие Бетховена, к которому он, однако, относился отрицательно. Начал он свое симфоническое творчество тем, чем Бетх[овен] закончил, т[о] е[сть] симфонией с хором. А затем — после 2‑х последующих симфоний — появил[и]сь “Поэма экстаза” и “Прометей”[335], после чего он самого себя загнал в какой — то мистический тупик, мечтая создать “мистерию” — синтез всех искусств [336]. Мистерия как “последний праздник человечества”, а автор как бы Мессия. Таково было преувеличенное душевное состояние высоко одаренного музыканта, пожелавшего (быть может, бессознательно) превзойти непревзойденного Бетховена. И на этот раз он повредил себе руку, как в состязании с Левиным, и как бы положил закрыл себе путь к дальнейшему творчеству. Ранняя смерть избавила его от сознания мучительного бессилия своего… И все же я утверждаю, что ушел от нас в 1914 г[оду] гениальный композитор Александр Скрябин [337]. Не могу забыть концерта, программа которого состояла из 9‑й симф[онии] Бетховена и “Поэмы экстаза” Скрябина. Я был поражен тем, что тот подъем духа, какой всегда возбуждает 9‑я симф[ония], не только не ослабел после исполнения “Экстаза”, а как бы еще усилился. Я вышел из концерта взволнованный и как бы даже в каком — то экстазе. Чтобы себя проверить, я остановил своего коллегу профессора] консерватории] Гольденвейзера вопросом: “Что скажете?” Он так же как и я пережил то же самое. Время Скрябина еще придет. Он сам определил срок через 50 л[ет].
Встретившись по дороге в Россию в Берлине с Сафоновым, я подробно рассказал ему о положении Скрябиной и о необходимости ей помочь. Результатом нашего разговора было приглашение Сафоновым Веры Ив[ановны] Скрябиной преподавательницей Московской] консерватории. Это сразу устроило ее и разрешило безвыходность ее положения… Мой разговор с Сафоновым остался для нее тайной…
Воспоминания об этих событиях первого нашего пребывания в Швейцарии отвлекли меня от продолжения путешествия [1]905 г[ода]. И на этот раз мы попали на редкое празднование, которое раз в 25 л[ет] имеет место в Швейцарии. Fete de vignerons[338], таково название этого праздника, сопровождаемого театральным исполнением всей трудовой народной жизни Швейцарии. Были представлены 4 времени года и все работы, исполняемые сельскими жителями — летом, осенью, зимою и весною. Артисты — крестьяне ближайших к Веве селений — исполняли свои роли под музыку, специально написанную швейцарским композитором Дорэ. Амфитеатр, временно построенный на берегу Женевского озера, вмещал несколько тысяч человек. Целую неделю артисты под ярким солнцем давали несколько представлений в день, и амфитеатр всегда был переполнен. Из разговора с участвующими я понял, что они радуются этому празднику, в котором они удостаиваются участвовать раз в 25 л[ет]. Да и зрители точно участвовали в этом чисто народном празднике труда. Покидаешь всегда Швейцарию с чувством сожаления, что провидение щедро одарило страну. И как ни странно, но именно это обилие красот природы, прекрасных разнообразных климатов, содействующих благосостоянию страны, то ли все это от привычки становится будничным, но мало поэзии в самих швейцарцах.
Посетив в Берне музей картин, убеждаешься, что нет выдающихся живописцев швейцарцев. Беклин, скажете. Но он, вопервых, не первоклассный, а во — вторых, кажется, не швейцарец, но только живет там [339]. То же и в музыке, литературе и поэзии. Впрочем, имеется у них Ригонтини и Герд — первоклассные живописцы. Не следует, однако, требовать, чтобы яблоня давала гранаты, а гранатовое дерево апельсины и т[ому] п[одобное]. Швейцарцы имеют огромные заслуги в др[угих] областях, и таковыми их надо принять.
Возвращение в Россию готовило нам много неожиданных сложных переживаний. В начале осени начались студенческие, а затем и общеуниверситетские волнения, которые, распространившись, привели в октябре ко “всеобщей забастовке”. Надо представить себе громадную Россию, которая вся замерла. Вся жизнь остановилась. Это было и грандиозно и жутко. В Москве был убит революционер Бауман [340], и похороны его как бы показали всю мощь “левых”. Весь город наблюдал эти грандиозные похороны, организованные прекрасно, с самыми разнообразными чувствами. Большинство как будто сочувствовало революционерам. Но было и немало черносотенного элемента, затаившего злобу. Полиция отсутствовала, но порядок был образцовым. Окончились похороны расстрелом студентов и др[угих] участников, подошедших после похорон к университету, от 25/ XI4925 г. из кот. видно, что обещания небыли выполнены. Вот оно: И вот я в Палестине в молодом Толь Авиве. Конечно Тель- Авив еще не настоящая Пал[естнна].
Из Манежа против университета высыпали жандармы, городовые и начали стрелять в безоружных людей. Это был сигнал к самой черной и жестокой реакции. Манифестации черносотенные с хоругвями, иконами и портретами царя производили жуткое впечатление. До погромов в Москве не дошло! Но однажды управляющий домами Шереметьева, где я много лет жил, предупредил меня, что не ручается за безопасность нашу. Пришлось на пару дней отправить детей к христианским друзьям. Помню хорошо, какое омерзительное чувство бессилия и беззащитности охватило душу. Эта толпа подонков несла с собою смерть. Это не был “народ”. Народ свою волю выразил всеобщей забастовкой. И это подействовало. Наверху всполошились. Результатом был манифест, а затем и Государственная Дума [341].
Первые выборы, которые ярче всего отразили волю народа. Государственная Дума, со своим точно рожденным быть председателем ее — С. Муромцевым и такими членами ее, как Милюков, Петрункевич, Винавер, Герценштейн, ораторами, как Родичев и др[угие], являлись красой интеллигентской России, и, конечно, она не могла быть долговечной. Распущенная вскоре, она ответила “выборгским воззванием”. На что т[ак] называемый] “Союз русского народа” ответил убийством Герценштейна и Йоллоса [342]… Все эти колебания если и отражались на текущ[- ей] действительности, то главным образом в виде подъема настроения или упадка его. В такие моменты, однако, вопреки государственным колебаниям, душевная жизнь человека, охваченного идеей, независимой от текущей действительности, углубляется и расширяется. Анализ бетх[овенского] творчества открывал такие глубины этого великого творца, что идея Бетх — [овенской] академии, в которой, исходя от Бетх[овена], можно было бы познакомиться, с одной стороны, с его предшественниками, а с др[угой] — с последующими творцами, все более и более овладевала мною. Но прежде чем приступить к осуществлению той идеи, надо было преодолеть много затруднений.
Прошли годы, прежде чем я мог приступить к осуществлению моей заветной мечты. И это были годы упорного преодоления препятствий и настойчивой работы. Нужны были и “сочувствующие”, готовые помочь мне. И тут мне хотелось бы остановиться на двух друзьях моих, имевших большое значение в моей жизни в эти годы. Я познакомился с Ан[ой] Вас[нльевной] Бер щитам — вначале нашего с-толетня. Людей, совершенно противоположных как личности, характеры по своему отношению к жизни и по своей моральной ценности
Глава 16. 1906 г[од]
Я познакомился с Анной Вас[ильевной] Бернштам в начале [конце] 19-г[о] века. Она была вдовой московского фабриканта Альберта Бернштама. Редко приходилось встречать такую молодую впечатлительность и способность глубоко проникать в суть жизни, как у этой вел[икой] женщины. Наше знакомство обратилось в глубокую дружбу, и мои письма к ней проникнуты искренней горячей привязанностью. Она платила мне тем же. Я не знал покойного мужа ее, но много слыхал о его любви к музыке и хорошей игре на рояле. Он любил играть в 4 р[уки], и одна из моих уч[ени]ц часто играла с ним. Как случилось, что мы никогда не встречались, мне стало ясно после более близкого знакомства с его вдовой. И тут замешался “еврейский вопрос”. Как могло случиться, что дочь Вольфа Тугенгольда, цензора евр[ейских] изданий в Вильне [343], друг[а] Фина, Лебенсона, Гинцбурга, преподавателя истории в вил[ьневском] раввинском училище [344], стала женою принявшего протестанство Бернштама, остается для меня загадкой.
Присматриваясь внимательно за два десятка лет нашей дружбы к душевной и духовной жизни этой прекрасной женщины, у меня создалось впечатление, что она точно постепенно оттаивала от предыдущей жизни. Какие — то отдаленные воспоминания детства чаще и чаще пробуждали в ее душе иные чувства, чем те, какими она жила до нашего знакомства. Все это происходило в ней постепенно и принимало характер упрощенного, углубленного и красивого отношения к жизни. И с каждым ее таким шагом вперед она становилась мне более и более дорогой, и дружба наша более и более крепла. Я глубже и лучше начал понимать ее по мере более близкого знакомства с немецким населением Москвы. Вряд ли где на свете немцам лучше жилось, чем в Москве и в Петербурге. Издавна — точно раз и навсегда — осталась на России неизгладимая печать фраза древнеклассического призвания варягов: “Земля наша велика и обильна, но прока в ней нет, да пойдите, княжите и володите нами”. Немцы проникали всюду: от царского престола до колонистов на Волге. Работники они были хорошие, и при условиях русской жизни проявлялись нередко и лучшие их стороны. В Москве немцы составляли автономное общество, они имели свой “немецкий клуб”, правда не очень высокого пошиба, свое певческое общ[ество] “Liedertafel”[345], в котором было много истинных любителей музыки. Их ежегодный концерт бывал обставлен с большой торжественностью. Лучшие артисты охотно принимали у них участие. Во всем этом участвовало “среднее сословие”.
Но было и “высшее” — немецкая аристократия, облюбовавшая т[ак] наз[ываемое] Воронцово поле, улица, соединявшая Покровский бульвар с Курским вокзалом. Отдельные особняки, прекрасно устроенные и красиво обставленные, принадлежали магнатам торговли и крупным негоциантам, как, например, Вогау [346], Марки [347], […], […][348] и др.
Замкнутые в своем кругу, они жили своей обособленной жизнью. Следующее (молодое) поколение их интересовалось искусством] и умело ценить его представителей. Я давал уроки дочери Вогау, в замужестве Марк — Лили Гуговне, — и она сумела оценить дарование Исая Добровейна, с кот[орым] сохранила теплые дружеские отношения до своей смерти. Целый сезон она собирала у себя большое общество, угощая музыкальными лекциями. И я должен сказать, что встретил в этой среде немало ценителей и даже знатоков музыки.
Муж Лили Гуговны — молодой Марк — много сделал для поддержки научных учреждений Москвы и отличался чрезвычайно благородным характером. Большинство этих немецких аристократов были европейского происхождения. Как контраст предыдущему являлись немецкие ремесленники, которых было много в Москве и которые отличались добросовестностью. Все ф[орте]п[ианное] мастерство России находилось в немецких руках. Крупнейшие фирмы — “Бек[к]ер”, “Шредер”, “Дидерихс”[349], “Мюльбах” и др[угие] принадлежали немцам. Много артистов немецких было в русских оркестрах, много учителей музыки в консерваториях, и в самой музыке немецкое влияние было очень сильно. В России умели ценить иностранных артистов. Москва
Бернштамы держались какой — то средней линии между аристократами Воронцова поля и московским Лидертафелем. Я никогда не встречал их ни там, ни тут. Здесь сказалось, быть может, настоящая культурность этой семьи. Объективно говоря, все немецкое население Москвы, за малым исключением, усвоив весь лоск европейской цивилизации, было далеко от того, что можно назвать культурностью.
Семья — не Бернштам, их родственники — например, знаменитый окулист Леонард Гиршман, кот[орому] Кони посвятил своего доктора Гааза, были действительно люди культуры. Вот чем можно объяснить, что Бернштам держался вдалеке и от немецких магнатов, за которыми он не считал нужным тянуться, и от лидертафельцев, интересы которых были ему чужды. От евр[ейской] общ[ины] его отдалило крещение. Не имея детей, Бернштамы воспитали двух приемышей. Я застал Анну Вас[ильевну] бабушкой от приемной дочери, к которой она относилась с большой любовью. Приемный сын оказался неудачником. Хороший по натуре, он был слабого характера и как — то не устроился в жизни. Мать его жалела, но помочь ему было трудно.
Вот условия, при которых я застал Ан[ну] Вас[ильевну] в конце 90[-х] г[одов] 19 ст[олетия]. Она жила на Мясницкой, против Мясницкого проезда к Красным ворогам [350], в небольшом особнячке своем, в кот[ором] она занимала нижнюю полуподвальную квартиру, куда редко проникало солнце. При жизни мужа она занимала верхнюю барскую квартиру, кот[орую] А[нна] В[асильевна] уступила дочери, у которой было много детей… Не раз я задумывался о том, как сложно сожительство двух людей и каким искусством надо обладать, чтобы не подавлять др[уг] друга. В таких случаях обыкновенно страдает тот, кто больше любит и мягче по натуре. На моих глазах, в течение мн[огих] лет нашей дружбы с Ан[ной] Вас[ильевной] я мог наблюдать, как расправлялись и вырастали крылья ее души, которые всегда у нее были, но как будто были сломаны, когда жизнью управлял кто — то более сильный, авторитету которого она подчинялась.
Впрочем, и условия жизни были вначале иные. Создавая фабрику, Бернштам естественно заботился о ее успехе, расширении, доходности, и, так как эта пора “стяжания” идет вразрез с высокими идеалами, успех предприятия покоится на эксплуатации труда. И как бы не был порядочен и честен фабрикант, избежать эксплуатации и соблазна стяжания почти невозможно. Оставшись вдовой, А[нна] В[асильевна] была обеспечена определенным — довольно крупным — дивидентом. То, что она ограничила свои расходы только одн[ой] нят[ой] часть[ю] своего дохода, а все остальное отдавала нуждающимся, в этом я не видел особенной заслуги. Но то, как она это делала, было трогательно. Точно виновная в том, что на ее долю выпадает возможность помочь, она тщательно избегала упоминания ее имени при этом, оставаясь всегда в тени. Надо помнить, что оказывать материальную помощь нуждающимся и при этом не вызвать почти враждебного протеста у бедного требует большого искусства. Этим искусством] А[нна] В[асильевна] обладала в совершенстве. Помощь приходила неизвестно откуда. Никакой благодарности не требовалось, и обе стороны были удовлетворены. Впрочем, дающая сторона никогда не была вполне удовлетворена…
Мне выпало на долю быть посредником во многих случаях, когда необходима была помощь А[нне] В[асильевне], и если кто проникался глубокой благодарностью к ней, то это был я, кот[орый] наблюдал в этот момент всю тонкую деликатность этой кроткой и благородной души. Вот почему, где бы я ни находился и что бы ни переживал, я находил возможным делиться с нею. Она сохраняла мои письма, и после ее смерти дочь ее передала их мне. Они полны любви и уважения к старому другу, кот[орый] так чутко на все откликался. Я мог писать ей: “С Вами у меня связано так много светлого, прекрасного, исходящего от Вас. Когда я думаю о Вас, то готов на все прекрасное…” и т[ому] п[одобное].
Трудно точно и подробно передать, что привязывает к чел[- ове]ку. Возможно, что подобно тому как Ан[на] Вас[ильевна] освобождалась от какой — то моральной опеки, мешавшей ей проявить себя всецело, и обнаруживала все больше и больше истинную сущность своей души, так и я переживал некое “освободительное движение”, о котором я уже упоминал. И это совпадение могло особенно содействовать нашей дружбе.
Я часто вечером после уроков заезжал к ней, чтобы поиграть. Она любила музыку и была горячей почитательницей нашего трио, концерты кот[орого] она не пропускала. Она участвовала в создании стипендии в 5000 р[ублей] Московского] трио при Московской] консерватории. Она знала мои планы о создании Бетх[овенской] академии, и, когда приблизилось время осуществления этой идеи, она, при трогательном письме, прислала мне билет Московского] земельного банка в 5000 рублей]… На это я ей писал ответил: “Что я могу ответить на Ваше письмо? Оно влило в меня столько энергии, я с такой бодростью смотрю на будущее, что это одно может хоть сколько — нибудь удовлетворить Вас, за бесконечно дорогое для меня отношение Ваше к моей идее. Итак, за работу! Я надеюсь осуществить кое — что хорошее. Да и стыдно было бы не сделать этого, имея таких друзей, как Вы!"
Билет я хранил, избегая воспользоваться им, с тайной мыслью, что он может когда — нибудь ей самой понадобиться. В этом я не ошибся.
Окт[ябрьская] революция подтвердила мое предположение, и наступило время, когда нужда постучалась в дверь мясницкого дома. Ждать долго не пришлось. 26/Х 1918 г[ода] я писал А[нне] В[асильевне]: “Сейчас такое положение вещей, что и Вы, всю жизнь помогавшая другим, можете иногда испытывать нужду в самом необходимом. Я получил на днях в долг довольно крупную сумму, и поделиться с Вами доставит мне большую радость… Дор[огая] Ан[на] Вас[ильевна], Вы меня по — хорошему поймете и не рассердитесь на мое предложение. Мысль о том, что Вы можете в чем — либо нуждаться, не дает мне покоя. Пишу об этом, т[ак] к[ак] сказать это мне гораздо труднее” (ее письмо[351]). Подобно тому как я охотно играл ей, так я охотно делился — как в разговоре, так и в письмах — своими заветными мыслями и чувствами. Она умела проявлять такой глубокий интерес и так как — то тепло и сердечно воспринимала то, что было дорого мне, что редко перед кем я так раскрывался. И как раз в это время я так много переживал и ко мн[огому] стремился. Читая свои письма к ней, я снова и снова переживаю тот душевный подъем, который так ценен и дорог одним тем, что он был. Вот письма этого времени: (письма[352]). Содержание моих писем больше чем что — либо может указать на то, кто была та, кому они адресованы. И никакая характеристика не даст лучшей картины душевной глубины этой скромной прекрасной женщины. Ее душа как зеркало отражала все то, о чем я ей писал. Причем всегда какой — то внутренний червячок — сомнение в себе — постоянно грыз ее.
Неужели это было сознание того, что ей пришлось когда — то перейти в стан “победителей”? Незадолго до смерти она пожелала посетить Вильну, где она родилась и где покоился прах ее родителей… Правы арийцы, ничто не в состоянии вытравить из евр[ейской] души еврейское происхождение..
Глава 17. Давид Васильевич Высоцкий
С Д. В. Высоцким я познакомился впервые при довольно курьезных условиях. Устраивая ежегодно вечера в пользу “Общества] просв[ещения] для евр[еев] в Р[оссии]”, вернее, в пользу студентов, кот[орые] являлись главными распространителями билетов и распорядителями вечера, мы всячески стремились увеличивать доходность этих вечеров. И действительно, нам удалось довести доходность их, как я уже упоминал об этом, с 600 р[ублей] до 12000.
В первые годы, когда доходность была невелика и каждый рубль имел значение, студенты обратились ко мне с просьбой — не найду ли я возможным перед концертом лично завезти билеты на — тзечер Высоцкому, т[ак] к[ак] у них есть основания думать, что тогда плата за них будет весьма высокая. В первый момент сама просьба показалась мне неуместной, а если это к тому же каприз разбогатевшего буржуя, то тем более это неприемлемо. Но, обсудив хладнокровнее, я подумал, что интересы студенческая касса нуждается в каждом лишнем рубле, и помочь им надо. К тому же я много хорошего слыхал о Высоцком, как о человеке добром и отзывчивом. Я решил исполнить их просьбу. Со стороны Дав[ида] Васильевича] и его жены я встретил такую предупредительность и такое дружеское расположение, что визит мой был щедро оплачен, и студенческая касса обогатилась сразу пару сотней рублей — четыре годовых взноса за право учения в университете.
С этих пор началась наша дружба с домом Д. В. Высоцкого, кот[орая] продолжалась много лет… Из всех представителей торгового дома “Высоцкий и К°” Да[вид] Васильевич] был наиболее отзывчивый, и при ближайшем знакомстве, наиболее интересный, несмотря на многие странности или, вернее, чудачества, какие появляются у человека, непривычного к богатству, и кот[орый] не в состоянии с ним справиться.
Отец его, как известно, был мелким торговцем чая [353], который он разносил по домам. С ним произошел интересный случай, когда московский] купец, с кот[орым] он имел дело, по ошибке дал мелкому торговцу чаем вместо нескольких рублей несколько тысяч. Дома, разобравшись в этой ошибке, бедняк Высоцкий, для кот[орого] это было целым состоянием, тотчас же вернул деньги по принадлежности. Пораженный порядочностью и честностью своего мелкого клиента, русский купец захотел шире помочь ему и открыл для него большой кредит. Это дало возможность Высоцкому расширить свою мелкую торговлю и положить основание будущему миллионному торговому дому “Высоц[кий] и К 0”.
Постепенно богатея, Вольф Высоцкий каждую свободную минуту посвящал евр[ейской] науке. Он окружил себя умными и просвещенными людьми и участвовал во всевозможных благотворительных и просветительных обществах. Одновременно он поддерживал и ортодоксов, и сионистов. А в семье своей имел немало представителей революционной деятельности. Достаточно вспомнить имена: Гоц, Фундаминский, Гавронский, Высоцкий и др. Незадолго до смерти он положил в банк капитал в 100000 на сто лет на разные евр[ейские] благотворительные дела. В строительстве Хайфского техникума он принял горячее участие. И все, что я сейчас о нем рассказал, я слышал в прочувствованной речи Усышкина на десятилетии техникума. Это было 3/II 26 г[ода].
Один из первых палестинофилов в России, он много жертвовал на колонизацию Пал[естины]. Уже в 1885 г[оду] он предпринял путешествие в Пал[естину], после которого напечатал свои впечатления [354]. Он поддерживал евр[ейские] журналы. Он тогда уже мечтал о высшей академии в Пал[естине], для которой пожертвовал 10000 р[ублей]. Он высоко ценил Ахад- Аама, назначив его [своим] опекуном вместе с рав[вином] Мазэ после своей смерти [355].
Я застал Ахад — Аама служащим (представителем торгового дома “Выс[оцкий[и К°” в Лондоне) Высоцкого. Все это свидетельствовало о том, что Вольф Высоцкий был далеко не заурядной личностью и что он не только оказался замечательным коммерсантом, создавшим миллионный торговый дом, но что он сумел справиться и благополучно распорядиться растущим богатством, что далеко не так просто. Пройдя почти до 45 л[ет] суровый путь жизни, он, однако, вопреки тяжким условиям этой жизни, стремился всегда к просвещению. И когда условия жизни изменились, то он оказался закаленным против соблазнов, какие таятся в деньгах. “Стяжание” не стало его идеалом. Деньги, как средство помощи, как “лекарство” от голода, как средство просвещения масс, как возможность обнаружить даянием, кроющуюся в сердце доброту — вот истинное значение денег. И так до некоторой степени понимал это Вольф ВысоЦкий. Немало препятствий на пути всякого, стремящегося к добру, но преодоленные напряжением духа, они придают новые силы человеку… Не одно “счастье” явилось причиной материального успеха Вольфа Высоцкого. Он — житель Жагор — оказался, неожиданно для себя самого, знаменитым чайным дегустатором. И его соединение разных сортов чая сделало чай Высоцкого популярным по всей России и за границей…
Он был из местечка Жагоры, и традиции еврейской благочестивой жизни превозмогли все соблазны московской жизни. Он оставался в богатстве таким же, каким был в бедности. Нечто иное представляли четыре представителя торгового дома “ Высоцкий] и К°”. Кроме Дав[ида] Васильевича] участвовали [представителями были] Гоц — отец, Цетлин и Гавронская Любовь Васил[ьевна] — сестра Дав[ида] Васильевича], Гоц и Цетлин[356] были оба женаты на сестрах Д[авида] Васильевича]. Каждый из четырех наследников Вольфа Высоцкого являл собою особую индивидуальность, особый мир стремлений особое отношение к жизни, к людям и воззрений на жизнь мир. Я не застал жены Гоца, как и мужа Гавронской[357]. Рафаил Гоц[358], отец известного революционера[359] , был чрезвычайно наблюдательный человек, интресовался еврейской наукой и в квартете Высоц[кий] и К 0 как будто играл особую роль. Впрочем, я его мало знал.
Дочь его Вера Закхсим была моей уч[ени]цей. Однажды мне пришлось — по поводу ее ареста — побывать в жандармском управлении (своего рода полицейское ГПУ[360]). И хотя не без некоторой иронии, но все же внимательно и вежливо отнеслись к просьбе учителя за ученицу, сестру хорошо им известного революционера Гоца. Она не была опасна, и ее скоро освободили.
Гоц — отец, быть может, как сохранивший традиции набожного меетечкового еврейства больше других был близок покойному Вольфу Высоцкому, но ко времени моего знакомства с Высоцкими он являлся каким — то анахронизмом. Я никогда не встречал его у родных по жене. Повторяю, я его мало знал и ничего не могу сказать о его характере, кроме того, что он был мало общителен, и ни с какой стороны невозможно было к нему подойти. Возможно, что вся моя характеристика Гоца — отца страдает односторонностью. Его интересы были сосредоточены главным образом на евр[ейской] науке. Он был ламдан[361] в полном смысле этого слова. Его интересовали евр[ейские] писатели. Им он старался помочь, хотя по натуре было очень скуп. Была у него хорошая евр[ейская] библиотека. Любил он ссылаться в разговоре на знакомые ему тексты из Писания. И в этой области он, наверное, был иной. Тут он был как рыба в воде. А в той московской деловой и интенсивной общественной жизни он казался выбитым из колеи… Судя по его сын[у] Михаилу, одного из основателей партии социалистов — революционеров, надо по лагать пользовавшегося большой популярностью и как революционер, и как литератор[362], надо полагать, что дом отца-Гоца благоприятствовал развитию детей.
Нечто иное представляла из себя Л. В. Гавронская. Всеми любимая за свою доброту, внимательное отношение к нуждающимся, она являлась матерью прекрасных детей. Какой — то особый налет благородства, интеллигентности и культурности приобщили 3‑е поколение В. Высоцкого к той прекрасной (русской) интеллигенции, которой так славилась Россия. Любовь Васильевна] вела скромный образ жизни, и в ней как бы сочетались лучшие черты характера ее родителей. Само собою разумеется, что она в квартете играла пассивную роль, предоставив все брату, а затем сыновьям.
Наиболее представительным внешне был Цетлин — муж третьей сестры Дав[ида] Васильевича] — Анны Вас[ильевны]. Что он представлял из себя до женитьбы на А[нне] Вас[ильевне], я не знаю. Но как муж ее он являлся одним из директоров торгового дома “Высоцкий и К'”. И он и жена его являли собою типичнейших представителей nouveaux rich — разбогатевших буржуа. В них отсутствовало то, что было так привлекательно в Люб[ови] Вас[ильевне]: ее тонкое, деликатное отношение к людям; отсутствовали доброта и широкий размах Дав[ида] Васильевича]. Они жили своей эгоистической жизнью, мало отзываясь на нужды близких. И разве только участвуя в той официальной помощи, которая исходила официально из торгового дома. Наряду с этим они воспитывали единственного сына, довольно талантливого поэта, интересующегося как общественными, так и литературными течениями, вопреки этой парниковой, тепличной обстановке обнаруживший лучшие черты настоящего интеллигента [363]… После гонений московских 90‑х г[одов] осталось в городе […]*.
Торговый дом “Высоцкий и К°” выступил на арену московской жизни в такое время, когда московское] купечество начало играть исключительную роль в общественной] и духовной жизни Москвы и, пожалуй, всей России. Если Предки их приходили в Москву пешком, в лаптях и, проявляя известную инициативу, настойчивость в труде, постепенно богатели. Многие из них и при богатстве оставались теми же невежественными мужиками, какими пришли в Москву. Но постепенно из этой среды выделялись и такие, которые понимали значение просвещения. Своих сыновей они старались воспитывать соответственно требованиям времени. Таким образом в 3‑м поколении выросло в Москве образованное московское купечество. Достаточно назвать имена Третьяковых, Морозовых, Рябушинских, Востряковых, Алексеевых [364], Цветковых, Исиповых и мн[огих], мн[огих] других, (сыгравших) имевших незабываемое значение в общественной] и худож[ественой] жизни города, чтобы понять, как много внесло в жизнь Моск[вы] богатое купечество.
Это они, заботливо и любовно собирая, создали картинные галереи, Художественный] театр, русскую оперу. Знаменитое Абрамцево Саввы Морозова[365] явилось художественным] центром русских художников. Все они, начиная от нашего Антокольского и кончая Серовым и др[угими], с восторгом говорили об этом редком очаге русского искусства. Хозяин Абрамцева сам был художником и обладал особым чутьем чувствовать художественный] дар у других. Это он один из первых оценил Шаляпина и мн[ого] сделал для его художественного] развития… Медицинский факультет нуждался в клиниках, и московское купечество покрыло все Девичье поле первоклассными клиниками[366]. Они поддерживали артистов, ученых, философов, поэтов и т[ому] п[одобных]. Они являлись издателями книг, нужных и полезных. Достаточно вспомнить издательство Сабашниковых, Павленкова[367] и др. Им многим обязано возникшее в 1865 г[оду] Музыкальное] о 6щ[ество] и Московская] консерватория, во главе которой стал Ник[олай] Рубинштейн.
Трогательно было любовное отношение москвичей вообще и московского] купечества в особенности к этому замечательному человеку.
К ежегодному юбилейному концерту его они нередко подносили ему дорогой ларец с разорванными векселями на большую сумму, т[ак] к[ак] Ник[олай] Рубинштейн] вечно был в долгах]… Таково было московское] купечество ко 2‑й половине к концу 19 стол[етия]. Но конечно, все это имело и оборотную сторону, далеко не столь красивую. И когда я раз был свидетелем того, как работают на тверской мануфактуре, хозяйка которой Варвара Алексеевна Морозова ежегодно жертвовала 200000 на университет, на клиники и др[угие] нужды, то понял, что лучше они не жертвовали бы этих денег, а устроили бы хорошую вентиляцию в чесальном отделении, где в воздухе стоит непрерывная пыль, от которой рабочие преждевременно гибнут… Какое — то проклятие тяготеет над богатством, и никакими софизмами его не оправдаешь… Вступая в семью богатого московского] купечества, Д. В. Высоцкий решил, что он должен идти по стопам своих коллег, т[о] е[сть] весь обиход жизни его не должен ничем отличаться от жизни богатого купечества. Впервые я застал Высоцкого в хорошей квартире на Мясницкой. Но уже вскоре он переехал в собственный особняк в Чудовском переулке. И как всегда в таких случаях, идя по этому пути, приходится не останавливаться перед новыми требованиями. Большим соблазном является при этом то, что и “другие так”. И невольно приходится тянуться за этими другими. Однако можно и должно сказать про семью Высоцкого, что, устраивая свою жизнь так, как казалось ему необходимым при том положении, в какое счастливая судьба поставила его, он, получая много от жизни, умел давать жить и другим.
Отзывчивый на всякое доброе дело, он редко кому отказывал. На этой почве создались между нами те дружеские отношения, кот[орые] сохранились до смерти Дав[ида] Васильевича] (после 1918 г|ода] я только раза 2 встретился с Дав[идом] Васильевичем]. Один раз в Киссингене, а 2‑й раз в Париже).
По своему воспитанию, образованию и всему укладу жизни в доме отца, а затем и в самостоятельной семейной жизни искусство как — то не входило в обиход [его] жизни. Интерес вырастал у него наряду с[о] знакомством с представителями его. Так он стал интересоваться или, вернее, стал считать нужным ввести в дом музыку после нашего знакомства. В зале нового особняка появился прекрасный “Бехштейн”. Младшие дети начали учиться музыке под моим наблюдением, а затем и со мною. Они начали посещать концерты и интересоваться музыкальной жизнью…
Знакомство с художником Л[еонидом] Осиповичем] Пастернакам] направило внимание Высоцкого на живопись. Он стал покупать картины. И если он делал это, советуясь с художником, то приобретал недурные картины. Полагаясь же на свой вкус — в этом он был упрям, — то картинная галерея его не очень выигрывала. Он построил в своем особняке “именно галерею”, и она ко времени революции вся увешана была картинами русских художников. Все это носило характер любительства. Зато, надо сказать, он охотно отзывался, когда к нему обращались за помощью для молодых художников. Многие из них даже не знали, откуда приходила помощь.
Заинтересовался Высоцкий и моей идеей Бетх[овенской] академии, но не идеей самой, а потому, что я ею заинтересовался. И когда я решил в [1]906 г[оду] поехать в Бонн на родину Бетх[овена], то Высоцкий пригласил меня заехать в Остендэ на пару недель, чтобы на свободе поговорить о моих планах…
Вот мое первое впечатление от Остендэ. Высоцкие приготовили мне комнату в Hotel’e, где они жили. На бумаге этого Royal Palace Hoteli я писал домой 7 августа [1]906 г[ода]: “Вот я и в Остендэ. Это как раз то, против чего я всю жизнь воевал. Это та разодетая, искусственно прикрашенная толпа, праздная, пустая, просаживающая огромные деньги и сама не знающая, зачем и для чего она живет. Самый Hotel, где мы живем, — это чудо как отель. На самом берегу моря, роскошный, великолепный и т[ак] д[алее]. Сегодня же едем в казино слушать знаменитого Карузо (тенора). Исай[368] играет здесь чисто. Дети говорят, что больно за него. Публика во время игры не перестает болтать. В зале 15000 человек. Роскошь туалетов и богатство превосходят всякое представление. Надо все повидать […][369].
Глава 18. [1907. Поездка в Палестину]
[Отрывок из дневника 1924 года]
Евпатория, август 1924
Вторник, 21 августа
Не помню, по какому поводу мы коснулись Палестины, и я довольно подробно рассказал о своем путешествии. Это было в 1907 году, в апреле. Воспоминание об этом времени вызывает во мне сильные и сложные переживания. Мне было 40 лет. Этот возраст представляется мне моментом наивысшего расцвета физических и духовных сил. За год до этого я уже занялся анализом музыкального искусства. Мне всегда казалось, что музыкальный язык — наиболее богатый и выразительный. И если поэт Тютчев говорит: “Как сердцу высказать? Другому как понять тебя. Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь”, то мне было ясно, что звук, выражающий чувство, — сама правда. Что никакими словами не выразить того, что можно выразить звуками музыки. Эта глубокая вера в музыку, в силу музыки сблизила меня с одной моей ученицей, серьезной, вдумчивой и начитанной девушкой, обладающей необычайными критическими и аналитическими способностями. Передо мною раскрылся новый мир. Мне казалось, что вся предыдущая деятельность — ничто в сравнении с тем, что можно сделать с музыкой при помощи подробного анализа ее содержания. Музыкант, проникнувший в святая святых Баха, Бетховена и других, должен стать лучше и чище, и сделаться тем “жрецом искусства”, который призван “зажигать сердца людей”. В сущности, музыкальный язык является загадочным сфинксом, как для музыкантов, так и для слушателей, и мне казалось — кажется и теперь, — что если его разгадать и расшифровать, то мы действительно начнем чувствовать лучше, тоньше и благороднее…
Весною 1906 года моя покойная жена, с которой я прожил 20 с лишком лет в полном согласии и любви, уехала в Берлин, чтобы (спасти и) помочь одной молодой девушке, которая должна была стать матерью. За это время я особенно много времени уделял работе с этой ученицей над анализом музыкального творчества. Интерес мой к анализу возрастал с каждым днем, и так как он неразрывно связан был с тою, с которой мне приходилось работать, то между нами установились более чем дружеские отношения. Предохранительным клапаном в наших отношениях, державшим их все время на самой целомудренной высоте, была “идея”, во имя которой мы работали. Упиваясь красотою музыкального содержания Шуберта, Бетховена, Моцарта и других композиторов, над произведениями которых мы работали, и чувствуя, как вся эта красота, наполняя наши сердца, самым благотворным образом влияет на наши отношения, я нисколько не опасался установившейся близости и не придавал ей значения. Наоборот, во всем переживаемом, связанном с весною, с парком Петровско — Разумовским, было так много поэтически — прекрасного, что я полностью пережил все и чувствовал, как во мне растет что — то новое, свежее, бодрое и хорошее. Предыдущие годы, установившие определенные формы деятельности, вносили в жизнь некоторый шаблон и рутину. А тут нахлынуло что — то новое, свежее, какое — то высокое и настоящее служение искусству, и я весь отдался охватившему меня новому чувству.
Летом, когда вернулась моя жена, мы поселились на 34‑й в[ерсте] по Брестской ж[елезной] д[ороге], в имении “Жаворонки”, и я продолжал интересующую меня работу. В это время были моменты исключительных душевных переживаний, связанные с природой, восходом солнца или ярким солнечных днем, которые, по — видимому, начинали тревожить моих близких. Я утверждаю, не обманывая себя, что при всем этом у меня не примешивалось увлечение женщиной, а было это какое — то сложное чувство чего — то нового, яркого, глубокого, связанного с любимым искусством и поклонением прекрасного существа. Я тогда вырос, помолодел и чувствовал, что могу еще много — много сделать. Все это наполняло меня признательностью к существу, возбудившему во мне такое яркое переживание. Конечно, это вносило незаметно что — то отрицательное в мою семейную жизнь, хотя ничем, положительно ничем не были нарушены мои отношения к жене и детям. Под влиянием высоких и возвышенных чувств и мыслей, охвативших меня, я пришел к заключению, что, будучи отцом взрослых детей, я должен отказаться от супружеских обязанностей. А это могло навести на подозрительные размышления. В середине лета моя ученица уехала. Она была у нас в деревне, чтобы проститься. Ненастный, дождливый день нагонял тоску, и я неожиданно для себя, провожая ее, залился слезами. Если бы мне за десять минут до этого сказали, что я буду плакать, провожая ее, то я бы удивился…
В августе я уехал на родину Бетховена, в Бонн. Перед этим я по приглашению Высоцкого приехал к ним, в Остендэ, надеясь на свободе поговорить о осуществлении Бетховенской академии. Я остановился в одном из лучших отелей, где получил рядом с Высоцкими прекрасную комнату. Роскошный ресторан, куда надо было являться к обеду во фраке, и вся роскошь Остендэ с его “Казино”, где во время игры знаменитого Исайэ или Карузо в игорном зале шла азартная игра, кончавшаяся иногда самоубийством, так не вязалась с моим тогдашним настроением, что я не выдержал и через неделю бежал от гостеприимства удивленных хозяев. За эту неделю я два раза съездил в Брюссель, где виделся с моей ученицей. Вместе мы доехали до Кельна, где в соборе, наслаждаясь в тихий полдень тишиной и красотой расписных стекол, неожиданно были мы поражены величественно прозвучавшей 1‑й прелюдией Баха, сыгранной монахом — органистом…
Наконец я попал в Бонн и поселился на берегу Рейна. В полном одиночестве прожил я некоторое время, посещая домик Бетховена и знакомясь со всеми подробностями его жизни. Бывал я и на кладбище на могиле Шумана. Эта неделя, проведенная в безмолвном обществе Бетховена и Шумана, дала мне очень много. На обратном пути в Россию мы провели еще несколько дней в Эйзенахе, родине Баха, Лейпциге, знаменитом музыкальном центре, и, наконец, в Берлине. В каждом из этих городов пришлось много пережить. В Эйзенахе мы почти не спали, с раннего утра осматривая все касающееся Баха и Лютера. В Лейпциге мы вместе осматривали знаменитую статую Клингера “Бетховен”, посетили Гевандхаус, полный воспоминаний о Мендельсоне, и Томас — Кирхе, где жил, работал и умер И. С. — Бах, вместе были на опере Штрауса “Саломея”[370], и я переживал немало таких часов, которые немцы называют “блауе штундэ”[371]. Наконец, в Берлине посетили мы могилу Мендельсона. В этом прозаическом мало поэтичном городе сразу надвинулось что — то прозаическое
[…][372] семье. Жена моя, с которой мы так много пережили и прожили, почувствовала постороннее и, главное, женское влияние. Мы продолжали усиленно работать. Я мало спал и много времени отдавал анализу музыкальных произведений. Отношения с ученицей становились все тесней и тесней. Нас связывала общая работа и “идея”, которая неопределенно рисовалась в нашем воображении, как нечто способное улучшить и осчастливить человеческую жизнь через звук. Слово не достигает цели. Знать, как нам жить и действовать, дело умственное, говорит английский философ, а действовать и поступать — результат чувства. Музыка, звуки должны очистить нашу жизнь от всей ее скверны, и эта вера заставила меня пренебречь многолетними установившимися отношениями и находить в себе силу и настойчивость. Когда оказалось невозможным работать дома, я перенес занятия к ученице. Рано утром, зимою, когда еще было темно, я уходил на работу.
[…][373] Давно лелеемые мечты о Палестине все более и более захватывали меня. В середине апреля 1907 года я вместе с моей женой поехал к своим родителям. Отец ехал со мною. Через несколько дней мы сели на небольшой пароход в Севастополе. В первый раз в жизни я покидал семью с чувством какой — то полной неизвестности, когда и через сколько времени я вернусь. Я видел и чувствовал страдания жены и ничем не мог их облегчить. Сам я невыносимо страдал и испытывал чувство человека, попавшего в морскую пучину и предоставленного самому себе. Сильное душевное напряжение делало меня необычайно восприимчивым ко всем впечатлениям окружающей жизни. Я был как натянутая струна…
Медленно отчаливал пароход, все увеличивая расстояние, отделяющее нас от пристани, на которой стояла скорбная, полная тоски и грусти фигура провожавшей меня жены. Я переживал такое душевное состояние, что ничего не имел бы против, если пароход пошел бы ко дну. Пусто и одиноко было на душе.
Как только пароход вышел из рейда, где было довольно спокойно, его начало покачивать. Несмотря на апрельское солнце, прохладный, свежий ветер заставил одеться потеплее. Я уселся, потом улегся на палубе и до позднего вечера не двигался с места. Чего — чего не передумал я за это время. Отец, который никогда не страдал от качки, несколько раз приходил ко мне, принося еду. Он с деликатностью относился к моему душевному состоянию, не нарушая его ничем. Помню, как в сумерках молодой татарин прошел по палубе, насвистывая какой — то чрезвычайно решительный и энергичный мотив, который мне в этой обстановке очень понравился. Через несколько дней я услыхал тот же мотив на пароходе из Константинополя в Александрию, где его играл [небольшой] оркестр. А еще позже его напевал извозчик, который вез нас к Мертвому морю. Это был — Матчиш. Когда я много времени спустя рассказывал этот эпизод профессору] Самойлову, то он прибавил, что, совершая путешествие через Швецию, Норвегию в Америку, он всюду слышал этот мотив. Вот популярность.
[Босфор]. Поздно вечером я спустился в каюту, крепко заснул и утром проснулся от полной тишины и покоя. Надо быть большим поэтом, чтобы передать красоту этого дивного уголка. Тихо двигается пароход по проливу, и вы можете наслаждаться красотой и оригинальностью берегов. Необычайные постройки, виллы, минареты, масса зелени и яркое солнце заставили меня на время забыть свое душевное настроение. С глубоким интересом наблюдал я открывавшуюся взорам дивную картину красивой природы. Красота эта, как целительный бальзам, смягчала внутренние страдания.
Наконец мы в Константинополе. Нас на лодке встречает друг нашего детства, вместе о нами выросший Моисей Нахимзон. С глубоким сыновним почтением отнесся он к отцу моему, которого он не видел лет 20, и задушевно — братски ко мне. Благодаря ему мы скоро отделались от турецкой Таможни при осмотре вещей. Могучим средством явился бакшиш, т. е. “на чай”. Но все же для видимости таможенные чиновники настояли на том, чтобы открыть корзину, в которой была наша провизия. Оказалось, что отец потерял ключик, и пришлось, к моей досаде, ломать замок. Позже это сослужило мне хорошую службу.
Несколько дней, проведенных в Константинополе в гостеприимной семье Нахимзонов, масса новых и оригинальных впечатлений рассеяли несколько мою тоску. В Константинополе мы сели на большой пароход “Эль — Арабиа” и направились в Александрию. По дороге мы посетили Афины, обратив внимание на все, связанное с древностью. Развалины Акрополя, где Сократ поучал, расстроили меня до слез. Под сильным впечатлением всего пережитого когда — то Элладой я покинул берега Греции. В Александрии я предполагал сначала остановиться, но, проведя в ней несколько часов, настойчиво решил двинуться дальше. Мы сели на новый пароход. За обедом, у общего стола, мое внимание привлекла русская пара. Она молоденькая миловидная женщина, он постарше, несколько желчный и беспокойный человек. Когда старый отец мой за столом выказывал совершенно естественное внимание своей молодой соседке, я чувствовал, что муж ее как будто недоволен. После обеда я сказал отцу, что обыкновенно русские путешественники не любят встречаться с земляками, и нам лучше держаться в стороне…
Каждый раз, что я попадал на новый пароход, я тотчас же разыскивал инструмент, на котором можно было бы поиграть. На этом пароходе пианино стояло в маленькой каюте около капитанской вышки. Оно оказалось запертым, и ключ потерянным. И тут — то оказался полезным ключик от нового замка, купленный в Константинополе. И тогда отец, который всегда говорил “все к лучшему”, пожурил меня за мою досаду. Я открыл пианино и сел играть. Минут через пять кто — то вошел. Я сидел спиной к двери, не видел вошедшего, но почувствовал, что это наш русский путешественник. Я продолжал играть, как будто никого в каюте не было, и, когда минут через 20–30 я встал, чтобы уйти, он меня остановил со словами: “Вы — Шор, я — Бунин”[374]. Таким образом состоялось мое знакомство с писателем, которого я сравнительно мало знал по его сочинениям. Дальше мы путешествовали вместе, и я не скажу, чтобы общество его было бы из приятных. Особенно тяжело было мне чувствовать в просвещенном человеке несомненный антисемитизм, и где, в Палестине, на родине народа, давшего так много миру…
Мы проехали Кипр, Порт — Саид и, наконец, подъехали к Яффе[375]. […][376]
Особенное душевное состояние мое давало мне возможность воспринимать все впечатления с необычайной остротой. Поэтому мои палестинские впечатление резко отличались от впечатлений моего отца. Я ждал обратного, а между тем случилось так, что для меня это путешествие явилось необычайно значительным, а он был как будто даже разочарован.
К Палестине нельзя подходить с обычной меркой. Любитель — турист может разочароваться запущенностью и дикостью многих мест. Правоверный еврей, в воображении которого рисуется былое величие Израиля, разочаруется настоящей действительностью. Правоверные христиане и магометане тоже найдут немало для критики. Словом, подход должен быть иной. И во мне, при моем духовном состоянии, это путешествие оставило неизгладимый след. Одинаково восхищала меня природа, как своей красотой, так и дикостью запущенных мест. Исторические места, одни имена которых будят в душе так много воспоминаний, как, напр[имер], Иерусалим, Назарет, Генисаретское озеро[377], Галилея, Тивериада, Иордан, Мертвое море, Ерихон и т. п. Удивительная способность Востока сохранять обычаи и условия жизни прошедших тысячелетий, часто наталкивала на библейские и евангельские картины. Никогда не забуду, как в знойный полуденный жар мы ехали из Тивериады в Ерусалим [Хайфу]. Я всегда садился к кучеру, чтобы не видеть лиц моих спутников, часто не соответствовавших месту и времени. Далеко впереди я увидел приближающуюся группу. Впереди шел старый араб, в белом хитоне, с посохом в руках и медленно вел за собою маленького ослика, на котором сидела под бурнусом в виде зонта женщина с младенцем на руках. “Святое семейство” — невольно вырвалось у меня восклицание. Мы остановились и долго смотрели вслед удаляющейся группе. Помню, как меня поразила совершенно библейская картина в Тивериаде. Я встал рано утром и вышел на плоскую крышу — обычное место отдыха и прогулок на Востоке, я увидел старого еврея, подошедшего к озеру, и с ним молодую женщину с кувшином на плече. Он постоял у воды и как будто молился, она же зачерпнула воды и, поставив кувшин на плечо, медленно двинулась обратно. Такая же картина встретила нас при въезде в Назарет под вечер. Со всех сторон женщины, девушки и дети с кувшинами на плечах направлялись к фонтану “Марии”. Это было и живописно, и живо напоминало прошлое.
А как хороши палестинские легенды, полные какой — то возможной правдивости. В прелестном уголке, Хайфе, на берегу моря стоит гора Кармель. С этой горы Илья — пророк поднялся на небо, гласит легенда. Помню, когда я стоял на вершине этой горы, которая делит море на две части, у каждой из которых расположена древняя римская колония, Цезарея и другая[378], мне было совершенно ясно, что мудрый пророк ввиду неизбежности смерти вместо того, чтобы броситься в море, предпочел подняться на небо…
На каменных стенах Ерусалима весною часто выступают ярко- красные цветы. “То кровь защитников Ерусалима”, — говорят вам местные жители.
Страна, в которой каждая пядь земли полна исторического прошлого, где совершались величайшие революции, где напряженнейшие человеческие мысль и чувство подарили миру “идеи”, не изжитые и по сегодняшний день, такая страна заслуживает паломничества всех. Раз в жизни побывать в Палестине и затем надолго запастись внутренним содержанием. Правда, я возмущался фанатизмом и грубой эксплуатацией со стороны представителей всех религий и направлений. Но нигде, быть может, это не бросается с такой резкостью в глаза, как там, на родине всех религий. Особенно возмутителен контраст между наивной верой простых людей и стремлением к наживе грубого и невежественного духовенства. Совершенно одинаково подходил я к святыням всех религий, и вывод напрашивался один и тот же: все это надо уничтожить, но так, чтобы не выплеснуть с водой и ребенка. Надо подойти к этому с осторожностью.
Помню, например, как я возмущался, направляясь с отцом к Стене плача[379]. Узкий проулок, загаженный весь так, что каждый шаг приходится делать с осторожностью, привел к площадке, где находится стена. Орава нищих набросилась на нас как саранча, и в результате большая каменная стена, местами поросшая мхом, как будто ничего не говорящая ни сердцу, ни уму. Но когда я, совершенно разочарованный, собрался уходить и увидел подходящую к стене группу из трех лиц — женщина и мужчина под руки вели больного, который весь трясся. Глубокая вера в молитву у стены и те надежды, которые на нее возлагали верующие, разом все преобразили, и стена получила какое — то символическое значение. Я ушел под этим впечатлением…
Помню, как у Гроба Господня меня возмутил монах, продававший масло, в[од]у, исцеляющие от всех болезней, амулеты, предохраняющие от несчастных случаев, и т. п. Но, опустившись вниз, в катакомбу, я встретил русскую женщину из Орловской губернии, которая, почувствовав во мне земляка, решила мне все показать. Она была в этом подземелье как дома, знала всех святых и кто где находится. Вся исполненная глубокой веры, она готова была хоть часть ее передать мне. Она точно вся сияла от счастья, что удостоилась посетить святые места. Ее наивная и глубокая вера тронула меня своею непосредственностью, и я предоставил ей вести меня, куда она хотела. В заключение она заявила, что, уезжая, она мечтает о том, как снова вернется сюда… Впрочем, в Палестине существует поверье: кто раз побывал здесь, непременно вторично вернется сюда.
Несколько случаев в дороге позволили мне ближе приглядеться к Бунину, и я убедился, что в его странностях немало жесткости и грубости. Я помню нашу поездку в Хеврон к могиле Авраама, Исаака и Якова. Рано утром выехали мы в экипаже из Ерусалима. Нас было с извозчиком шесть человек. Я, по обыкновению, сидел рядом с кучером. В трех верстах от Ерусалима мы остановились у могилы Рахили. Гробница в виде домика, невзрачного и внутри мало интересного, не привлекала к себе. Осмотрев ее, мы двинулись дальше. В Хевроне местные магометане нас очень недружелюбно встретили градом камней, когда мы близко подошли к могилам, которые они считают своей святыней. Да и могилы представляют груду наваленных камней. На обратном пути нас настигли ранние сумерки, и мы ехали почти в темноте. Приближаясь к могиле Рахили, я еще издали заметил, что она вся светится, и это было необычайно красиво и таинственно. Поравнявшись с могилой, мы услышали крик странного человека, бегущего за экипажем. Мы остановились. Оказалось, что это был синагогальный служка, который, узнав накануне о нашей поездке в Хеврон, хотел выказать нам внимание, рано утром пошел к гробнице, но нас уже не застал. К вечеру он зажег лампады и свечи и ждал нас. Мы снова все осмотрели, он помолился у гробницы, и мы приготовились ехать дальше. Но тут произошло следующее: трусливый служка отчаянно боялся пуститься [темной] ночью в путь, а извозчик — американец совершенно основательно заявил, что семь человек он на утомленных лошадях не повезет. Бунин настаивал на том, чтобы мы двинулись дальше, не обращая внимания на несчастного служку. Я воспротивился такой несправедливости и предложил, чтобы экипаж поехал медленно, а я, служка и еще один из наших спутников пойдем пешком. Однако и на это Бунин не согласился. Он устал и хотел скорее домой. Я отпустил экипаж и пошел со своим спутником пешком. Не зная местных условий, я ничего не боялся и бодро двинулся в путь. Через несколько минут, когда звук удаляющегося экипажа стих, один из спутников заявил мне, что мы затеяли очень рискованное предприятие и что если нас встретят бедуины, то это будет очень неприятно. В первый момент я рассердился на говорившего, почему он раньше не предупредил? Но затем, охваченный со знанием правильности своего поведения, красотой звездного неба и прекрасным воздухом, которым так легко дышалось, я ободрил своих спутников, и мы смело двинулись вперед. На пол- пути к Ерусалиму мы вдруг услыхали конский топот. Насторожившись, мы тихо подвигались вперед, а навстречу, все ближе и ближе, раздавался конский топот коней. Наконец мы поравнялись с[о] всадниками. Два бедуина в полном вооружении внимательно нас осмотрели и поехали дальше. Мы благополучно дошли до ворот Ерусалима. Бунин впоследствии написал прекрасное стихотворение “Гробница Рахили”.
В Бейруте мы часа на два наняли экипажи, чтобы осмотреть город. Кучер — араб, настоящий джентльмен в европейском костюме, но с кинжалом за поясом, соблюдая свои интересы, медленно двигался вперед. Я сидел рядом с ним, и мы беседовали по — французски. Бунин, досадуя на медленную езду и бранясь по — русски, неоднократно подгонял кучера. Тот, не понимая языка, но чувствуя, что это относится к нему, после каждого окрика, сверкая гневным взглядом и полуоборотившись, бормотал что — то по — арабски. Я всячески старался отвлечь его внимание и расспрашивал его обо всем встречном. Но когда Бунин вздумал толкнуть его в бок с криком, “да поедешь же, черт”, то он схватился за кинжал, и мне стоило немало усилий его успокоить. Бунину я посоветовал помнить, что мы не у себя.
Другой случай произошел на Тивериадском озере[380]. Мы подъезжали из Дамаска часам к трем — четырем. До этого времени озеро покойно, но с четырех часов в нем подымается волнение. Мы нашли лодку, и ловкие арабы — лодочники, подняв парус, помчались в Тивериаду. Для меня все это было ново, и я, не подозревавший об опасности, наслаждался и красотой озера, и самой поездкой. Нам важно было перегнать лодку американцев, чтобы получить комнаты в гостинице. Бунин, долго живший у моря, почему — то сильно волновался и по временам бранил лодочников. Не знаю, быть может, он был прав, но с нами ничего не случилось, и мы уже темной ночью благополучно добрались до Тивериады.
Вот уже 17 лег, как я посетил Палестину, а все впечатления так свежи, как будто это было вчера. Помимо всего я должен сказать, что во все время моего пребывания там у меня было чувство человека, попавшего к себе домой. Все было мне дорого и близко. Потому ли, что я южанин, уроженец Крыма, климат и красота которого родственны Палестине, или еще по другим внутренним причинам, но я был там дома. Меня и встретили, как родного. С [профессором] Шацем мы через четверть часа уже были братьями. Особенность моего душевного состояния давала мне возможность направить свое внимание на людей, охваченных духовными стремлениями. Шац был именно таким человеком. Придворный скульптор болгарского короля, он все бросает и едет в Палестину, чтобы там на первых порах бездомным скитальцем создать свой “Бецалель”. А колонии, где я видел людей, идейно настроенных, работающих под знойными лучами солнца и создающих условия для возрождающейся новой еврейской культуры! А дети, радостные и свободные, с песнями идущие и возвращающиеся из школы! Это никогда не изгладится из памяти. Там и только там еврейский народ скажет еще свое слово, и это слово будет могучим призывом не только на словах, но и на деле ко всемирному братскому союзу всех народов..
Глава 19. Мое первое посещение Палестины
Покидая Палестину в конце мая 1907 г[ода], я на почтовой бумаге парохода “Шлезвиг” написал следующее: “В жизни каждого человека бывает момент, который как бы гранью отделяет прошедшее от будущего. И этот в высшей степени важный “момент”, к сожалению, часто приходит незаметно, не оставляя следа. Миллион причин мешают сосредоточиться и задуматься над тем, что составляет сущность жизни; и человеческое существование продолжается точно по инерции. И сколько жизней, способных служить украшением человеческого рода, гибнут в житейской сутолоке. Сколько благородных стремлений разбивается в так наз[ываемой] борьбе за существование! Сколько мечтаний, хороших побуждений, добрых намерений остаются невыполненными благодаря так называемой житейской мудрости!”
Не будучи сионистом, я оказался одним из первых среди москвичей, посетивших [Эрец — Исраэль]. В апреле 1907 г[ода] я сел на пароход в Севастополе и на др[угой] день же был в Константинополе. Я переживал исключительное душевное состояние.
Анализ музыкального] творчества открывал передо мною все душевное и духовное величие творцов музыки. Становилось ясно, что настоящий великий композитор велик и как личность (человек). Особенно это ясно на Бетховене. И благодарное чувство к этому титану от музыки вылилось в стремление создать учреждение для всестороннего изучения лучшего, что есть в творчестве Бетховена, его предшественников и последующих композиторов.
Так назревала идея создания Бетховенской студии, которая осуществилась лишь через несколько лет. Мечта о поездке в Бонн — на родину Бетховена — меня не покидала. И вот — за год до поездки в Пал[естину] — я посетил Бонн.
Предо мною письмо, написанное 27 авг[уста] 1906 г[ода] из Бонна. Привожу выдержки из него (перевод с иврита):
“И вот я в Бонне! Место, о котором мечтал как истинный мусульманин о Мекке или как религиозный еврей о святом городе Иерусалиме. И ничто не обмануло моих надежд. Я чувствую, что не напрасно стремился сюда, не напрасно горело во мне желание увидеть этот маленький домик, в котором родился один из величайших людей девятнадцатого века… Я задумал увидеть город, наполненный духом Бетховена, и вот передо мною обычный немецкий городок. Все, что осталось в нем с тех времен, это — дом, в котором родился величайший композитор, и комната, в которой он появился на свет. И какая комната! Б-же мой! Маленькая, низкая, с маленьким окошком, выходящим на стену соседнего дома, так, что не видно даже полоски неба… Но это не помешало гиганту развернуться, и он не стал из — за этого меньше любить природу и людей! И эта стена значительнее всех красот мира. Через два дня я поднялся на гору Рассельруэ (Rasselruhe), и передо мной открылся прекрасный вид на Рейн, на Бонн и его окрестности. Бетховен часто бегал здесь в детстве. Здесь зародилась его любовь к природе, которая выразилась со всей полнотой в его произведениях. В жизни своей не встречал такого прекрасного вида. Я хотел бы сохранить в своей памяти обуревающие меня мысли и чувства и записал в свой блокнот: “Только творчество ради творчества может принести желанные плоды. В мире Бетховена я остро чувствую отвагу и стремительность. Он покоряет сердца не только как художник, но и как личность. Если бы даже он не написал ни одной ноты, он остался бы для нас исключительной личностью только благодаря истории своей жизни”.
Здесь, в Бонне, на берегу Рейна в полном одиночестве я изучал все касающееся жизни и творчества Бетховена[381] . Не раз сидел я у могилы другоге музыканта Шумана, который похоронен здесь.
Что — то глубоко трогательное есть в судьбе Шумана. Один из просвещеннейших музыкальных деятелей и композиторов, счастливый муж знаменитой Клары Вик [382], он, мучимый какими — то тайными страданиями, душевно заболевает и умирает около Бонна. Ровно 40 л[ет] спустя рядом с ним похоронили Клару… целыми — часами.[383] Из Бонна я поехал в Эйзенах на родину С. Баха. С раннего утра и до позднего вечера я знакомился в течение нескольких дней со всем, касающемся Баха. В Лейпциге я побывал в Томас Кирхе, где последние 27 л[ет] своей жизни жил, работал и умер Себ[астьян] Бах. Посетил Гевандгауз, полный воспоминаниями о Мендельсоне. В музее смотрел знаменитую статую Клингера — Бетховен (+ сравнение ее с Аронсоном [384]).
В Берлине посетил могилу Мендельсона… Упоминаю об этом путешествии, связанном для меня со многими переживаниями, потому что оно явилось до некоторой степени подготовлением к моему посещению Пал[естины].
Если Бонн, Эйзенах, Лейпциг и Берлин разрешали мои музыкальные сомнения, то народно — национальное чувство, проснувшееся в тому времени, требовало настойчиво Пал[естины]. И вот в апреле 1907 г[ода] я сюда приехал (мое письмо от 31 г[ода] от “Я был […]* “все” и везде).
Я переписывался с тогдашним секретарем музыкальной школы Иерусалима — М-е Мари Ицхаки[385], которая сохранила все письма мои.
Вот некоторые выдержки из них: стр. 2, 3,4 до знака X. О […][386] до скорбью… и дальше: “Под впечатлением” до “из Берлина” — и дальше — от “Я ответил” до “живых”[387].
Глава 20 [О Бетховене]
Что такое Бетховен? Только гениально одаренный музыкант или нечто гораздо большее? Не проявляется ли в его творчестве весь рост и все величие человеческой души, способной подняться на недосягаемую высоту, и не представляют ли творения Бетховена ступени, по которым композитор поднимался к идеалу? И если всякое истинное искусство показывает человеку те возможности величия, которые имеются в его душе, то не являют ли творения Бетховена настоящую картину такого величия? Вот почему его имя так обаятельно и магически действует на всякого, прикосновенного к музыке. И если жизнь всякого великого человека представляет глубокий интерес, то жизнь Бетховена возбуждает интерес исключительный. Если мы проследим его жизнь, полную горьких лишений и человеческих страданий, отданную целиком служению искусству на благо человечества, то наше удивление перед Бетховеным — музыкантом соединиться с благоговением перед Бетховеным — человеком.
Бетховен — этот гений, сумевший сочетать гениальность и человечность, одно из тех явлений в искусстве, которое, кажется, никогда не будет исчерпано и к которому каждое поколение может подойти по — своему. Он явился в то время, когда Европа переживала одну из величайших страниц своей истории. Свободная философская мысль, стремящаяся освободить человека от всех религиозных, общественных и гражданских пут, неудержимо влекла к провозглашению великих освободительных принципов. Вся жизнь должна была обновиться, и на обломках старого, унижающего человеческое достоинство строя надлежало возникнуть новой счастливой жизни. И если последствия не оправдали надежд и Бетховен был свидетелем того, как попирались человеческие права, то все же его великое сердце до последнего своего биения осталось верным лучшим идеалам его времени, которые он часто понимал глубже, шире и выше, чем кто — либо из его современников. Это резко отличало Бетховена от современных ему музыкантов, даже таких гениальных, как Гайдн и Моцарт. В то время как другие музыканты стояли в стороне от умственного и социального движения свего века и оставались только великими музыкантами, Бетховен в полном смысле слова [был] сыном своего века и, можно смело сказать, шел впереди него. Он так верил в этическую силу своего “божественного искусства” и так высоко ставил свое артистическое призвание, что и перед коронованными лицами не склонялась его львиная голова.
Убогая обстановка окружала колыбель Бетховена, родившегося 17 дек[абря] 1770[388].
Ничто, положительно ничто не предвещало будущего величия. Бедность, доходящая до нищеты, тяжелая семейная атмосфера, впоследствии пьянство отца, отсутствие правильного школьного обучения, необходимость рано поддержать всю семью, все это могло бы сломить менее энергичную натуру и не дать развиться природным дарованиям. А между тем мы именно на Бетховене можем проследить постоянный внутренний рост, которому никакие внешние препятствия не могли помешать. Глубокое сознание важности своего призвания не покидало его и являлось верной путеводной звездой для всей его остальной жизни. Благородная способность стоять выше житейских невзгод вырабатывалась в Бетховене постепенно. Шаг за шагом можно проследить этот рост и видеть, как всякое самоусовершенствование являлось плодом огромных усилий и как с каждым таким завоеванием дух его все более и более укреплялся. “Нет ничего выше, как приблизиться к божеству и распространять его лучи между людьми”, — говорил Бетховен, и это он делал на протяжении всей своей жизни. Идея Служение человечеству, основанное на любви и самоотречении, — вот конечный результат его жизни.
Перед нами великая трагедия. Живой и страстный человек борется всю жизнь сам с собой, со своими наклонностями, темпераментом и потребностями, для того чтобы быть достойным того высокого призвания, которое мы называем гениальностью. Невольно останавливаемся мы перед таким величием. Бетховены озаряют нам путь к совершенству. И как они всю жизнь борются, глубоко веря в свое назначение, так и мы с их помощью, веря в совершенство человека, будем бороться и стремиться к прекрасному в жизни всеобщему братству.
Глава 21. “Музей Музыки”
Задолго до революции в среде музыкантов и истинных любителей музыки чувствовалась острая неудовлетворенность музыкальной жизнью; искания новых путей по всем направлениям прорезали сферу музыкальной общественности; устраивались сотни концертов, организовывались новые школы, музыкальные библиотеки, нарождались общества, собирались заседания; и все же недовольство продолжало расти, все сильнее и ярче обнаруживался какой — то существенный пробел музыкальной культуры.
Музыкальное искусство было [богаче] музыкальной культуры. И это различие между возможностями музыки и осуществлениями культуры ее, предчувствие еще нераскрытых ценностей, побуждало к исканию новых форм музыкальной жизни. [Где же возможно было найти эти формы?]
Художественное произведение живет двойной жизнью — в творчестве и восприятии. Первая стадия кончается завершением его воплощения, вторая начинается с того момента, как первый [зритель или слушатель] подошел к нему. В первой стадии оно имеет индивидуальное значение, во второй становится общественной ценностью. Творить могут лишь немногие, созерцать искусство способны почти все. И несмотря на это, существует много учреждений, которые приходят на помощь музыкальному творчеству и интерпретации, и ни одного, которое осуществило бы в полной мере возможность созерцания, т. е. слушания музыки.
Общественно — музыкальная жизнь исчерпывается концертами. Симфонические, камерные, вокальные вечера, Klavier- Abend'bi[389] наводняют музыкой сезоны больших городов. Слу — чайный характер, бессистемность пестрой смены музыкальных исполнений вносят смятение и путаницу в восприятие неподготовленного слушателя. Подавленный бессвязностью впечатлений, он растерянно стоит среди потока звуков, не успевая овладевать ими, пережить, осмыслить. И часто истинно художественного наслаждения нет; оно замещается иллюзией удовлетворения, рождающейся из непоколебимой веры в высокое значение концерта. Для того чтобы слушатели могли раскрыть все ценности, заложенные в концерте, он должен быть дополнен музыкальным учреждением, которое подготовит слушателя к нему. В области изобразительных искусств мы находим формы художественной соответствие форм жизни, необходимые и для музыкальной культуры.
Выставки живописи и скульптуры, случайные и бессистемные, носят тот же характер, что в музыке — концерт. […]*
Без глубокого знания искусства нет истинного постижения его. Существует полная возможность изучения живописи и скульптуры; ее дает художественный музей и его разновидность — художественная галерея. Систематическое распределение художественного материала по авторам, стилям, периодам и эпохам вводит зрителя в историческую жизнь искусства; в строгой постепенности переходит он от простой непритязательной старины к изощренности модернизма. И там, где благодаря музею возможно созерцание искусства во всей его полноте, рождается знание искусства, создается эстетическое созерцание его. Живописный концерт — так можно назвать картинную выставку — имеет свои художественные цели: опубликовать новые художественные произведения, дать новые русла эстетическому наслаждению; он достигает этого, когда вкус публики развит, укреплен и изощрен художественным музеем и галереей.
Музыкальная выставка — так можно назвать концерт — беспочвенна; незнающей, неподготовленной приходит публика на нее. Ей необходим корректив — учреждение, дающее систематическое знание искусства.
Таким должен быть Музей Музыки.
Глава 22. [Бетховенская студия]
Бетховенская студия, созданная в 1912 году[390] имела целью всестороннее и систематическое изучение творчества Бетховена.
В процессе работы студии раскрылась неразрывная связь Бетховена с предшественниками его, и глубокое влияние его на все последующее развитие искусства. Задачи студии углубились и расширились: с одной стороны, в сферу ее деятельности вошли более широкие области музыкального искусства, с другой — для всестороннего освещения музыкального искусства и раскрытия его органической связи с другими областями культуры в программу работ студии были включены ряд музыкальнотеоретических и исторических наук, эстетика, история изобразительных искусств и др.
В последние годы, в связи с общими условиями жизни страны, деятельность Бетховенской студии значительно сократилась.
В настоящее время многочисленные запросы и обращения со стороны лиц, заканчивающих специальное музыкальное образование и стремящихся к пополнению его путем более концентрированного изучения выдающихся явлений музыкального искусства, свидетельствует о назревшей потребности возобновления деятельности студии.
В силу вышеизложенного полагаю желательным возобновить работу Бетховенской студии согласно следующим положениям:
Общие положения деятельности Бетховенской студии
1. Целью Бетховенской студии является всестороннее и систематическое изучение выдающихся явлений музыкального искусства.
2. Изучение это ведется в монографическом порядке. Каждому композитору посвящается отдельный семестр, в течение которого его творчество освещается с точки зрения эпохи, стиля, художественной школы, его жизни и личности, и в то же время устанавливаются общие принципы, долженствующие лечь в основу интерпретации его.
1. Явления музыкального искусства ставятся в органическую связь с прочими областями культурного творчества; для этого наряду с музыкально — исполнительскими, музыкально — историческими и теоретическими занятиями ведутся — в связи с изучаемым композитором или музыкальным явлением — лекции и собеседования по философии искусства, истории изобразительных искусств, истории и теории литературы и т. п.
2. Работа ведется преимущественно по типу семинарий. Слушатели являются в то же время активными работниками, самостоятельно подготавливающими теоретические и исторические рефераты или исполнения музыкальных произведений.
3. В заключение каждого семестра производится отчетный коллоквиум и отчетные исполнения, причем лица, успешно выполнившие их, получают соответствующее удостоверение.
В число слушателей принимаются лица, имеющие серьезную музыкальную подготовку
Письма 1885 — 1917
Письма В. И. Сафонова к Д. С. Шору
1
14 июня 1885
Пильниц
Согласно обещанию, сообщаю Вам мой адрес: Pillnitz bei Dresden, Haus Fritzsche, Herrn W.v. Safonoff. Напишите мне, что Вы поделываете. Как идут занятия с М-Ile Пельшау и Борчевской, а также были ли Вы на экзаменах у Мегнера, и как он сошел. Мы здесь очень хорошо устроились, и я сам, слава Богу, могу, наконец, поработать для себя.
До свидания.
Преданный Вам Сафонов
2
16 июля 1885
Пильниц
Любезный Давид Соломонович, письмо Ваше я получил уже довольно давно, но за разными обстоятельствами пришлось отложить ответ до сих пор. Я здесь или работаю, или нахожусь где — нибудь в горах или лесах, поэтому довольно трудно бывает найти минутку, чтобы написать письмо. Этим делом я обыкновенно занимаюсь, когда езжу в Дрезден на пароходе. Сегодня у меня все утро сидит настройщик, и я пользуюсь этим временем, чтобы расквитаться с долгами, которых накопилось много.
Мне чрезвычайно жаль, Вам не пришлось заняться с Борчевской, надеюсь, что осенью Вы наверстаете это. Что касается m-lle Пельшау, то помимо ее болезни из газеты я узнал, что умер ее отец, служивший в Курске, и потому, впрочем, она и прекратила занятия. Как идет Ваша работа? Успеете ли за лето приготовить все задания? Работы ведь Вам много. Надеюсь, впрочем, что все будет в порядке и что Вы сможете соединить труд с пользованием летним временем для здоровья и запаса сил на зиму, когда действительно надо будут приналечь хорошенько, чтобы сделать возможным большие успехи.
Наша жизнь течет здесь по — прежнему; собственно, отдохнуть в полном смысле слова мне совсем не придется, потому что теперь я сам довольно много играю, но уже и перемена настроения очень важное дело.
Не имеете ли Вы каких — нибудь новостей о Славинском? Он со времени отъезда в Симферополь точно в воду канул для меня. Если что — нибудь о нем знаете, то сообщите мне.
Что касается Вас лично, то я хотел бы знать примерное распределение Ваших дневных занятий и что Вы уже успели приготовить.
Напишите мне это.
Я собираюсь в Петербург не ранее половины сентября, поэтому времени Вам еще довольно, чтобы приготовить задания. Прошу обратить особенное внимание на технику.
Засим до свидания. Жена[391] благодарит Вас за новости и кланяется Вам. Дети наши, слава Богу, здоровы и процветают. Настенька выучила даже несколько немецких слов.
Преданный Вам Сафонов
3
22 августа 1885 [но штемпелю]
Пильниц
Любезный Давид Соломонович, письмо Ваше я получил и отчасти предвидел Ваше решение, которое вполне одобряю и вовсе не из личных только моих чувств. Так как вопрос мой решу не раньше половины сентября, то Вам остается только работать это время по — прежнему, не теряя времени и не падая духом. Бог даст, все устроится к лучшему. Приеду в Петербург, и там выяснятся все обстоятельства. Во всяком случае, напишите мне еще раз в начале сентября о консерваторских делах, но сами не разглашайте моего сообщения, если К. Ю.[392] сам не будет говорить об этом.
Ваш Сафонов
4
[1885]
Любезный Давид Соломонович, третьего дня я приехал и завтра, т. е. пятницу 13 сент[ября], жду Вас к 1 часу дня к себе, чтобы сообщить Вам нечто серьезное.
Преданный Вам Сафонов Четверг вечером
5
13 июля 1886 [по штемпелю]
Кисловодск
Любезный Давид Соломонович, пишу Вам наудачу, ибо не помню хорошенько Вашего адреса. Напишите мне, если это письмо дойдет до Вас, как Ваше здоровье и можете ли Вы теперь работать. Больше не пишу ничего. Если письмо Вас найдет, то напишу подробнее по получении от Вас известий. Жена Вам кланяется. Дети здоровы.
Ваш Сафонов
6
20 августа 1886
Кисловодск
Любезный Давид Соломонович, хоть несколько поздно, но все — таки собрался ответить Вам. Я очень был рад получить от Вас известия и от всей души желаю Вам совершенно поправиться. По — видимому, единственное лекарство для рук — это совершенный отдых, поэтому дайте им совсем отдохнуть, а осенью уже принимайтесь за работу. Как могло случиться, что Вы не попали на вокзал в Петербурге, как мы условились. Я ведь Вам “Moi'se”[393] [нес] от Розенова и так и не мог доставить Вам этой пьесы. Жаль.
В Москве думаю быть к сентябрю, вероятно, один, оставив жену с детьми здесь до конца сентября.
Что касается Мендельсона (как концерта), то в адажио можете следовать и подлиннику, и вариантам ad libitum[394] — но по вкусу.
До свидания. Напишите мне сюда, как Вам живется и совсем ли в порядке руки. Наши Вам кланяются. Саша теперь уже все говорит и порядочно ходит.
Преданный Вам Сафонов
7
[1886]
Любезный Давид Соломонович, уроки у Поповых устраиваются. Зайдите ко мне завтра в среду, между 12 и 1 часом или еще лучше к 1 часу дня, чтобы переговорить об этом.
Преданный
Вам
Сафонов
8
[1886]
Любезный Давид Соломонович, необходимо Вам принять М-11е Тихомирову, намеревающуюся заниматься со мной через некоторое время. Она очень способная, только мало знает. Пройдите с ней Ганона и этюды Крамера.
9
[1886]
Москва
Любезный Давид Соломонович, мне надо Вас видеть, приходите в класс, если это можно, до 6 часов. Если позже, то после этого срока — ко мне на квартиру.
Ваги Сафонов
10
[1886]
Любезный Давид Соломонович, вчера вечером я ждал Вас, чтобы узнать насчет гипноза, но Вы не пришли. Если сеанс может состояться сегодня вечером, то, во — первых, приходите к б часам обедать, а во — вторых, до того дайте знать М-11е Философовой (Софья Алексеевна), что сеанс будет и когда Ваш знакомый придет. Адрес ее: Мясницкая, против почтамта, Юшков переулок, первый подъезд налево (Школа живописи, ваяния и зодчества).
Ваш Сафонов
11
17 сентября 1888
Любезный Давид Соломонович,
к моему приезду приготовьте аккомпанемент 4‑го концерта Бетховена (G-dur), чтобы я немедленно мог попробовать его. Сделали ли Вы теперь все Ваши задачи? Когда сделаете, то непременно дайте себе отдых полнейший на 4–5 дней и проведите их как можно больше за городом. Прошел ли Ося[395] все свои пьесы? Напишите мне все это в Берлин, по следующему] адресу:
Herrn Prof. W. v. Safonoff
Hotel Victoria Unter den Linden
Hotel lagernd!
Berlin
Я надеюсь быть в Москве 19 сентября.
Поклон Раисе Михайловне
Ваш Сафонов
12
18 июня 1890
Кисловодск
Любезный Давид Соломонович, разумеется, было бы хорошо, если бы Вы явились на конкурс Рубинштейна, только дело в том, что надо представить большой заданный репертуар: Баха или Генделя, Моцарта или Гайдна, Вебера или Мендельсона, Шуберта, Бетховена, Шумана, Шопена (кажется, четыре вещи) и Листа. Я нигде не читал публикаций об условиях конкурса, а свою пригласительную программу забыл и потому не знаю подробностей. Мне кажется, что к этому августу Вы не успели бы всего этого приготовить (надо, напр[имер], одну из пяти последних сонат Бетховена, а ор. 106 Вы, вероятно, забросили).
Так как Вы еще молоды (Вам теперь, я думаю, 23–24 года), то если не успеете к этому конкурсу, можете явиться на следующий конкурс через пять лет. Во всяком случае, Вы можете написать немедля Владимиру Антоновичу Тургу, прося его сообщить Вам подробные условия настоящего конкурса, — может быть, и успеете.
Только не теряйте времени.
Ваш Сафонов Наш поклон семье Вашей.
13
[1905]
Любезный Давид Соломонович, будьте добры достать мне шесть № Русских Ведомостей от субботы 21 декабря. Мне говорили, что есть заметка о 17 декабря. Если можно, доставьте эти №№ к отъезду, т. е. к 6 часам.
Ваш Сафонов
Письмо Д. С. Шора к P. M. Шор
14
7 мая 1907
Иерусалим
Дорогой и любимый друг мой!
Вот я в Иерусалиме, куда я так упорно стремился, и, конечно, на первых порах больше всего разочарований. Но это только вначале. Чем больше всматриваешься, вглядываешься и вдумываешься, тем все вырисовывается яснее, и начинаешь понимать многое.
Город восточный, да еще порядком грязный, невольно оскорбляет то особенное представление, какое мы обыкновенно имеем о Иерусалиме. Но зато окружающая природа, дикая, суровая, могучая и грандиозная дает понятие о том, что здесь могли происходить великие дела…
Замечательно, что “возрождение” еврейского народа на почве “сионизма” выдвинуло немало поразительных лиц. И с одним таким замечательным человеком я сейчас познакомился — это профессор] Шац. У меня было к нему письмо от Членова, и когда я был в Константинополе, то узнал, что он большой друг Моисея Нахимзона. Он был замечательным художником в Софии и зарабатывал 30000 фр. Все это он оставил, чтобы основать здесь художественную школу, кот[орая] за один год существования насчитывает 120 уч[еников] и 500 кандидатов. Сам он ежедневно работает с 6 утра до 9 вечера и живет как отшельник. При этом он полон энергии и энтузиазма… Он глубоко верит в свое дело и служит ему от всей души… Я еще побываю в школе и тогда напишу тебе все…
Сегодня видел знаменитую Стену плача, и там действительно плакали. Вообще Иерусалим такое место, что все религии сходятся сюда, чтобы проявить свой фанатизм. Душно и тяжко становится, и все же только когда поднимаешься на высокое место и окинешь взглядом весь город, то легче становится на душе […][396]
Огромную задачу я взял на себя и молю Провидение помочь мне все выполнить. Одно дело — “житейское” понятие о счастье, другое — духовное. Здесь в Иерусалиме, как нигде, — это понимали пророки и выдающиеся люди. Призываю благословление на твою дорогую мне голову. Крепко обнимаю тебя и чувствую, что ты мне близка. […][397]
Письма Д. С. Шора к М. И. Ицхаки
15
20 сентября 1911
Дорогие друзья!
Только недавно, вернувшись, я получил Ваше письмо, и хотя поздно, но все же спешу ответить. Я уже знаю о том, что ш-Пе Левит остается. Она за этот год подвинулась и развилась, т[ак] что Палестина сделала хорошее приобретение, да и ей это хорошо. Относительно скрипача, думаю, что раз г-н Эквовива[?] делает такое предложение и ссылается на скромные условия, то нет оснований не соглашаться. Мы имеем возможность поддержать m-me Руппин, как ей писал г-н Вишняк 3000 р. (это все наши деньги). Надо, чтобы дело само себя окупало, и тогда оно будет резонным. Мне, конечно, хотелось бы побывать в Палестине, и я это исполню в ближайшем будущем. А пока советую нечто очень важное, чтобы не впасть в обычную ошибку, и прошу Вас об этом довести до сведения m-me Руппин: не начинайте музыкального образования детей с игры на инструментах, а непременно с пения. Только тогда развивается настоящий слух и музыкальность. Скрипка во всяком случае (для развития слуха) лучше фортепиано. Передайте это т-Ие Левит.
Сборники еврейских песен и также др[угих] народов для этого очень полезны. Словом, для детей пение первое дело, а потом уже игра. Для школы это лучше, т. к. такие уроки коллективные. Всего — всего наилучшего вашим друзьям.
Ваш Д. Шор
Шацу сердечный привет. Он мне ничего не пишет. Д-ру Magis, Рабиновичам и др. лучшие пожелания.
16
31 января 1912 [по штемпелю]
Москва
Многоуважаемая m-lle Marie!
Ваши письма меня тронули. Одно — полное надежд и довольства, а др[угое] — полное отчаяния и тревоги. Я на днях совещался с г-ном Вишняк, и мы перевели m-me Руппин 1500 р. И еще столько же нам удастся выслать через некоторое] время. Это все, что мы можем отсюда сейчас сделать. Необходимо, чтобы местные средства — хотя бы те же г-да Рабинович, Лурия и др. содействовали бы делу, кот[орое] имеет уже — по Вашим словам — таких хороших руководителей. Со временем дело пойдет. Школа должна обслуживать христианское и магометанское] население. Она должна явиться объединяющей почвой для всех исповеданий… Дай Вам Бог успеха. […]*
Ваш Д. Шор
17
14 июня 1913
Москва
Многоуважаемая и милая m-lle Ицхаки!
Я писал уже г-ну Руппину и просил Вам сообщить содержание моего письма. Написал и г-ну Сахновскому и должен снова подтвердить Вам, что как мне ни больно об этом писать, но дальнейшей гарантии мы на себя взять не можем. Я до сих пор не могу собрать обещанные Вам за это полугодие 1500р. Времена тяжелые, и надо найти другие источники, но, конечно, не бросать начатого дела. Г-н Сахновский сообщил мне, что он кончил по пению. Должен Вам сказать, что певцы наименее способны руководить таким сложным делом. Это понимает и г-н Сахновский, т. к. он пишет мне: “Что, хотя я и кончил по пению, но теорию могу взять на себя”. Я написал ему, что требуется от заведующего школой. И советовал ему, если он чувствует, что удовлетворит требованиям, поехать в Палестину, хотя гарантировать его не можем. Я уверен, что если может такое дело делать и любить Палестину, то поедет, и средства как — нибудь раздобудем сообща. Вы понимаете, что мне все это дорого и я желал бы полного процветания нашему делу, но повторяю, сейчас гарантировать невозможно. Надо заинтересовать немцев. Среди них найдутся и люди, сочувствующие музыке (как напр. Варбург) и, главное, легче найдется хорошо образованный музыкант, кот[орый] это дело сумеет сделать хорошо. Шлю Вам и всем друзьям лучшие пожелания.
Ваш Д. Шор
Относительно того, что г-н Вишняк спрашивал, “отчего Вы денег не требуете?”, скажу, так это только так себе, невсерьез; т. к. он больше других теперь знает, как трудно собирать.
Я много меньше могу высказать Вам, нежели чувствую, как дорого мне, чтобы музыка процветала в Палестине.
18
16 июля 1913
Москва
Дорогая m-lle Marie!
После того как я написал г-ну Руппину и Вам о невозможности содействовать школе, я не мог успокоиться. Мысль о школе меня мучила. Результатом всего этого была комбинация, которую] мы придумали с г-ном Вишняк, и, кажется, успех будет обеспечен на некоторое время, и школа получит свою субсидию. Теперь только надо людей. Г-н Шалит подойдет. Я спрошу m-lle Гольдберг. Кого она имеет в виду. Она сама хочет поучаствовать в моей “студии”, чтобы поехать к Вам подготовленной. Если все осуществится, как мы предполагали с г-ном Вишняк, то Вы сумеете спокойно работать. Весною постараюсь попасть к Вам и посмотреть, что у Вас делается. Пока же от души желаю вам всем всего наилучшего. Продолжайте заботиться о школе.
Ваш Д. Шор
19
31 января 1914
Москва
Дорогая m-lle Мари!
Не сердитесь, что я не отвечаю. Меня извиняет огромное количество дел, которое, однако, не отвлекает моего интереса от нашего дорогого дела в Палестине. Как ни трудны сборы — мы все же вышлем Вам обещанные суммы.
Меня только беспокоит постановка дела, и Вы — как серьезный человек — должны это понять. Поэтому я обрадовался возможности проверить все, и на днях к Вам поедет большой музыкант и художник, Михаил Гнесин. Он всей душой предан делу, и Вы в нем найдете друга и советника. Вы все ему должны показать и считаться с его мнением. Он все должен исследовать и сообща со всеми преподавателями выработать систему настоящего художественного преподавания. В его лице Вы встретите авторитет в полном смысле этого слова. Итак — пока до свидания. Я собираюсь к вам. Деньги скоро вышлем. Всем привет, а Вам низкий поклон за Ваше святое отношение к делу.
Ваш Д. Шор
20
[1914]
Дорогая m-lle Мари!
Я уверен, что г-н Гнесин встретит всюду сердечный прием, т. к. его цель только помочь в общем и дорогом нам деле. Он Вам все сообщит относительно рояля. Дайте ему полную возможность ознакомиться со всем положением дела. Он передает Вам и всем друзьям нашим приветы.
Ваш Д. Шор
21
17 июля 1914 [фрагмент письма]
Поездка Гнесина имела целью помочь Вам советом и указаниями. Он много нам в Петербурге рассказывал, и его обаятельный рассказ вызывает глубокое сочувствие к музыкальному делу в
Палестине. Теперь Вы сами видите, что я был прав, когда настаивал на хоре. Первое дело — развить музыкальный слух и вкус — это совместное пение, а потом уже скрипка и фортепиано. И сейчас прошу Вас больше всего обращать внимание на хор.
22
29 сентября 1914 [фрагмент письма]
Что я могу Вам писать? Сердце кровью обливается за все страдания, какие человечество — и наш брат музыкант в особенности — переживают теперь 249250. Нет никакой возможности говорить о музыке, и мы ничем сейчас помочь не можем. Здесь у нас музыкальная жизнь несколько заглохла. Мировые события заставляют всех задумываться, и всегда при таких потрясениях страдают в первую очередь искусства. Соберите свои силы и что можно — спасайте, т. е. продолжайте работать, а там мы придем Вам на помощь.
23
6 марта 1917
Москва
Дорогие друзья!
Я не только не забыл Вас, но, наоборот, больше нежели когда — либо думаю о Палестине. Вы себе представить не можете, как трудно найти достойного человека, кот[орый] по убеждению поехал бы работать к вам.
Я наведу все справки о г-не Сахновском и Вам напишу. Что касается меня, то я, несмотря на все занятия, не забывал отвечать на все Ваши письма. Неужели Вы их не получили? Буду посылать заказным.
Прошу сообщить мне, как все обстоит в школе. Я все мечтаю еще раз побывать у Вас. Теперь я очень занят. Но это не помешает мне осуществить мою мечту. Передайте всем мои лучшие пожелания. Как Яффская школа?251
Ваш Д. Шор
Проф. Шацу, д-ру Magis, Рабиновичам и всем друзьям приветы.
Приложения
Проект организации Музея Музыки
Устав О-ва “Музей Музыки” учрежденного Д. С. Шором. Цель О-ва, способы ее осуществления и район его деятельности.
1. Цель О-ва — организация “Музея Музыки”.
2. Задачи “Музея Музыки” — систематическая демонстрация музыкальных произведений, сопровождаемая философскими научными, историческими толкованиями, которые являются необходимым условием а) знания музыки, б) эстетического созерцания ее.
3. Для осуществления своей задачи О-ву предоставляется I. Устраивать: а) постоянные систематические музыкальные исполнения, б) постоянные систематические лекции, чтения, беседы по вопросами музыкального искусства, в) экстренные исполнения и лекции, г) музыкальные выставки (исполнения тех произведений, нигде еще не исполнявшихся). II. Иметь: а) свой хор, б) оркестр, в) нотную и книжную библиотеку по вопросам музыкального искусства.
4. Кроме того, О-во имеет право а) приобретать движимое и недвижимое имущество, б) заключать всякого рода договоры, в) защищать свои интересы на суде через своих упол номоченных, г) открывать свои отделения в других городах империи согласно существующим узакониям.
Общество имеет свою печать, с присвоенным ему наименованием “Музей Музыки”
5..Местонахождение Дирекции О-ва — Москва.
6. Район деятельности О-ва — Российская империя.
Состав Общества
7. Общество состоит из: членов учредителей, членов — соревнователей и членов: почетных и действительных.
8. Члены избираются Дирекцией простым большинством голосов по предложению не менее двух членов Общества.
Прим. Впредь до избрания Правления (Дирекции) члены набираются учредителями.
9. Членами Общества могут быть лица обоего пола, достигшие совершеннолетия (без различия пола н вероисповедания).
Прим. В члены О-ва не принимаются: а) учащиеся в низших и средних учебных заведениях (ст. 7. Высочайше утвержденных 4 марта 1906 г. временных правил), б) состоящие на действительной службе нижние воинские чины ив) лица, подвергшиеся ограничению по суду.
Вышеуказанные лица могут быть приглашены в качестве гостей — посетителей или исполнителей.
Учащиеся в высших учебных заведениях могут быть допущены к участию в Обществе лишь на основаниях, особо определяемых в уставах подлежащих учебных заведений (7 ст. прилож. к ст. 118. по прод. 1906 г. св. зак. т. XIV уст. пред. и прос. преет.).
10. Членами — учредителями пожизненно состоят лица, подписавшие настоящий устав.
11. В члены — соревнователи могут быть выбраны лица, вносящие ежегодно не менее р. или внесшие единовременно не менее руб. (в последнем случае они становятся пожизненными членами — соревнователями).
12. Члены — учредители вместе с членами — соревнователями составляют Дирекцию Общества.
13. В почетные члены Общества могут быть избраны лица, имеющие особые заслуги на поприще музыкального искусства или по отношению к Обществу; таковые лица освобождаются от обязательных членских взносов и не несут никаких обязанностей по Обществу, за исключением добровольно на себя принимаемых.
14. Действительные члены вносят ежегодно 100 руб. или единовременно не менее 1000 руб.; в последнем случае они становятся пожизненными действительными членами.
15. Почетные и действительные члены имеют право входа на все исполнения и лекции, устраиваемые Обществом, а также с согласия Дирекции музея имеют право присутствовать при всякого рода подготовительно — артистической деятельности (репетиции и т. п.).
16. Взнос делается в начале года за год вперед, считая началом года 1 октября.
Прим. I. Лица, вступившие в середине года вносят полный членский взнос по ближайшее 1‑е число октября месяца.
Прим. II. Если вступление в Общество приходится на период времени между 1 апр. и 1 октября, то первый годовой взнос считается с ближайшего 1 октябрю месяца.
Прим. III. Лица, внесшие полный членский взнос, получают имен ной Членский Билет на право посещения “Музея Музыки”.
17. Члены, не внесшие полного членского взноса в год избрания — в течение трех месяцев со дня избрания, а в последующие годы в промежуток от 1 октября до 1 января, лишаются права посещения “Музея Музыки” и собраний Общества. Не сделавшие членского взноса в течение года, считаются временно выбывшими из Общества.
Прим. При возвращении в Общество временно из него выбывшие уплачивают только текущий годовой взнос без какоголибо штрафа.
18. Членские взносы как годовые, так и единовременные возврату ни в коем случае не подлежат.
19. Члены Общества, систематически нарушающие Устав, а также причиняющие вред интересам Общества, могут быть по предложению Дирекции исключены из числа членов постановлением Общего собрания.
Управление делами Общества
20. Делами Общества заведуют: а) Дирекция, б) Общее собрание, в) Ревизионная комиссия.
21. В ведении Дирекции находится все распоряжение и заведывание делами Общества, за исключением изложенного в § 42 Устава.
Дирекция
25. Дирекция состоит из: 1) членов — учредителей, 2) 5-ти членов — соревнователей, 3) 2‑х членов Общества, избираемых Общим собранием большинством голосов.
24. Для замещения членов Дирекции по болезни, за отъездом и т. д. Общее собрание выбирает двух кандидатов к членам Дирекции.
25. Пожизненным председателем Дирекции состоит учредитель Д. С. Шор. Дирекция из своей среды избирает вице — председателя. Каждый член — учредитель и член — соревнователь имеет право на случай болезни, отсутствия и смерти указать себе заместителя из числа членов О-ва, и такое указание для Дирекции и Общества является обязательным.
26. Дирекция собирается по мере надобности, но не менее одного раза в 5 месяца по созыву председателя. Дела решаются большинством голосов; при равенстве их, голос председателя дает перевес.
27. Заседание Дирекции считается действительным при наличности не менее 3‑х членов, в том числе председателя или его заместителя.
28. Дирекция избирает из своей среды или приглашает директором “Музея музыки”, в ведении которого находится вся художественная часть музея.
Вар. 29. Художественная часть “Музея музыки” находится в ведении директора музея. Первым пожизненным директором музея состоит Д. С. Шор, учредитель Общества.
30. Дирекция приглашает или выбирает из своей среды секретаря дирекции. Секретарь дирекции есть в то же время Секретарь “Музея музыки”. Приглашенный секретарь музея входит в дирекцию с совещательным голосом.
31. Секретарь ведет журналы заседаний Дирекции и общих собраний О-ва и завед[у]ет вообще всей письменной частью
О-ва и музея: хранит дела и печать О-ва, составляет годовой отчет о деятельности последнего, подготовляет все дела для решения в заседаниях Дирекции и в общих собраниях, заведует перепиской и скрепляет исходящие от Общества бумаги.
32. Дирекция приглашает или выбирает из своей среды казначея. Приглашенный казначей входить в Дирекцию с совещательным голосом.
33. Казначей принимает все денежные поступления, выдавая в получении их квитанции, производит расходы, ведет отчетные приходо — расходные книги на основании инструкции Дирекции и представляет годовой отчет.
34. Должности секретаря и казначея могут быть соединены в одном лице.
35. Дирекции представляется право приглашать в свои заседания лиц, участие которых при обсуждении тех или оных вопросов будет признано полезным.
Общее собрание
36. Общие собрания созываются директором и подразделяются на: а) годичные и б) экстренные собрания.
37. Годичные созываются Дирекцией раз в году между 1 октября и 1 января. Экстренные созываются в случае необходимости по усмотрению правления или по письменному заявлению не менее одной пятой членов О-ва.
38. О времени и месте каждого Общего собрания Общества члены О-ва извещаются не позже чем за 5 дней.
39. Общие собрания, как годичные так и экстренные, считаются состоявшимися, если в них присутствует не менее 1/5 всех членов О-ва.
40. В случае несостоявшегося Общего собрания, за неявкою требуемого Уставом для его действительности числа членов, Дирекция собирает второе Общее собрание, действительное при всяком числе явившихся членов.
41. Члены, не присутствующие на Общем собрании, не могут передавать права своего голоса другим членам.
42. Общему собранию принадлежит: 1) избрание двух членов Дирекции и двух кандидатов к ним и 3‑х членов ревизионной комиссии, 2) утверждения, заключенные ревизионной комиссией по годичному отчету Дирекции, 5) слушание годичного отчета Дирекции о деятельности О-ва и предположении Дирекции на предстоящий год, 4) решение вопросов об исключении членов О-ва (§ 20), 5) решение вопросов об изменении Устава. Вопросы об изменении Устава Общества подлежат рассмотрению Общего собрания не иначе как по представлении Дирекции и решаются Общим собранием большинством голосов собравшихся членов при наличности в собрании не менее одной десятой как членов О-ва, живущих в Москве, после чего принимаемый Устав представляется на рассмотрение в особое по делам об обществах присутствие. 6) Разрешение всех вопросов, переданных на его обсуждение Дирекцией.
Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия состоит из 3‑х лиц, выбираемых на Общем собрании из членов О-ва сроком на один год
43..Ревизионная комиссия рассматривает и проверяет годичный отчет Дирекции. Заключения ревизионной комиссии докладываются годичному Общему собранию одновременно с проверенным отчетом.
44. Годовой отчет и его ревизия производится в конце каждого сезона.
45. Вопросы об изменении устава Общества подлежат рассмотрению Общего собрания не менее как по представлению Дирекции и решаются Общим собранием большинством голосов собравшихся членов не менее одной десятой всех членов Общества, живущих в Москве, после чего принимаемый состав представляется на рассмотрение в особое по делам об обществах присутствие.
46. Общество прекращает свою деятельность по единогласному решению Дирекции, подтвержденному не менее чем двумя третями всего числа членов О-ва.
47. В случае прекращения деятельности О-ва все имущество его распределяется согласно постановлению Дирекции, подтвержденному Общим собранием.
Примечания
1
Этот принцип соблюден для всех текстов.
Здесь и далее все заглавия, заключенные в квадратные скобки, даны составителем.
(обратно)2
Еврейская энциклопедия (репринтное воспроизведение издания Общества для научных еврейских изданий и издательства Брокгауз — Ефрон. Москва, 1991. Т. 16. С.69.
(обратно)3
Сабашников М. Записки. Москва, 1995. С.112.
(обратно)4
Мать Щепкиной — Куперник — Ольга Щепкина, внучка знаменитого актера Михаила Щепкина (1788–1863), была пианисткой, ученицей пианиста и дирижера, основателя (в 1866 г.) Московской консерватории Николая Рубинштейна (1835–1881). Любовь к музыке, традиционную в семье, она прививала и дочери. О М. Щепкине см.: Энциклопедический музыкальный словарь. Москва, 1966. С.595.
(обратно)5
Жан Филипп Рамо (1683–1764), французский композитор и музыкальный теоретик.
(обратно)6
Название европейской фортепианной фирмы, получившей свое название по имени ее основателя, немецкого предпринимателя Карла Бехштейна (1826–1900). Фирма имела представительство и в России.
(обратно)7
Неопубликованное стихотворение Щепкиной — Куперник, датированное 24.04.25. Сохранилось в архиве семьи Шор в Национальной и университетской библиотеке Иерусалима (в дальнейшем НУБИ), 4° 1521, папка 345.
(обратно)8
Толстой Л. Дневники // Собрание сочинений в двадцати двух томах. Москва, 1985. Т.21. С.499.
(обратно)9
Толстая С. Дневники. Москва, 1978. Т.2. С.420.
(обратно)10
Свое восхищение талантом Шора Иванов выразил в нескольких письмах к нему (1925 г.), находящихся в архиве семьи Шор // НУБИ, 4°1521, папки 340 и 336. А кроме того, и в письме к еврейскому философу Мартину Буберу (1878–1965), датированном 19.06Т 34. Vjaceslav Ivanov. Dichtung und Briefwechsel aus dem deutschsprachigen Nachlass.(Hrsg.) M. Wachtel. Mainz, 1995. S.45. См. также: Сегал Д., В. Иванов и семья Шор // Cahiers du monde russe et sovietique. Vol XXXV, 1994.
(обратно)11
Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Нью — Йорк, 1956. Т.2. С. 274–275.
(обратно)12
См.: письма Добровейна к Шору 1925 г. // НУБИ, 4° 1521, папка 387.
(обратно)13
См.: письма Пастернака 1932–1941 гг. // НУБИ, 4°1521, папка 392.
(обратно)14
Сионизм // Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 1992. Т.7. С. 880 — 881.
(обратно)15
Попытки систематизировать мемуары отца были предприняты его сыном, Евсеем Шором (1891 — 197–1). Он подготовил выдержки из воспоминаний отца (около шести страниц), сопроводив их краткой статьей о нем. Публикация этих материалов на иврите состоялась год спустя после смерти Е. Шора в периодическом сборнике на иврите “He'avar”. См.: Shor D. Zikhronot // He'avar. Tel — Aviv, 1975. № 21. С. 136–144. Краткие биографические данные о Давиде Шоре с оценкой его вклада в развитие музыкальной культуры Израиля приводит его невестка Падива (Надежда) Шор (ур. Фридляндер), опубликовавшая две брошюры о Шорах — отце и сыне — на иврите. См.: Shor N. Lezekher hamusyqay vehamehanekh hadagul prof. Yhoshu’a Shor z”l. Holon, 1974. C. 5–8. А также: Shor N. Hap’aut ’al saf hamusyqah. Tel — Aviv, 1980. C. 54.
(обратно)16
Старший сын, Лев (? — 1923) сделал музыку своей профессией. Окончив Петербургскую консерваторию с серебряной медалью, он сорок лет проработал преподавателем музыки в Пензе. Александр (годы жизни не известны), второй по старшинству, стал известнейшим на всю Москву настройщиком музыкальных инструментов (см. о нем: Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. С. 423).
Внуки Соломона Шора в большинстве своем продолжили музыкальную традицию семьи. Владимир, сын третьего по старшинству сына, имя которого не известно, проявил большое музыкальное дарование и поступил в консерваторию. В 1927 г., после отъезда Давида Шора в Палестину, он возродил Московское трио в новом составе Владимир Шор — Борис Крейн — Евгений Пинке (программки концертов нового трио сохранились в НУБИ, 4° 1521, папка 413). Газета “Вечерняя Москва” (1927. № 278) писала: “[…] у нас, за годы революции не выработался еще надежный ансамбль […], могущий равняться со старым памятным всем москвичам трио в составе Д. Шора и покойных Д. Крейна и Р. Эрлиха. Новое трио в составе В. Шора, Е. Пинке и Б. Крейна намерено, видимо, возродить традиции своего славного предшественника”. Евсей (Yhoshu’a), сын Давида Соломоновича, получил основательное музыкальное образование под руководством своего отца. Сама домашняя обстановка в семье Шоров немало способствовала развитию его музыкального дарования. С 1911 г. Евсей принимал участие в создании знаменитой Бетховенской студии Давида Шора и вплоть до 1917 г. с энергией и увлечением помогал отцу в административной работе. Несмотря на многолетний перерыв в занятиях музыкой, заполненный учебой в Московском университете, а затем завершением образования во Фрайбургском университете (примерно с 1922 г.) на кафедре философии у таких известных профессоров — мыслителей, как Йонас Коэн и Эдмунд Гуссерль, Евсей Шор, эмигрировавший вслед за отцом в 1934 г. в Палестину, вернулся в лоно музыки. Он участвовал в осуществлении нового проекта своего отца — создании Института музыкального образования и воспитания в Тель — Авиве. После смерти Давида Шора в 1942 г. он стал преемником дела отца и в последующие 25 лет возглавлял институт. См.: Shor N. Lezekher hamusyqay vehamehanekh hadagul prof. Yhoshu’a Shor z”l.
(обратно)17
19 Шор Д. Что случилось в ноябре 1917‑го, когда большевики заняли Москву. // НУБИ, 4° 1521, папка 449. Приводимый отрывок вошел в публикацию в сборнике “He'avar”. См.: He'avar // Shor D. Zikhronot. С. 138
(обратно)18
Шор Д. Что случилось в ноябре 1917‑го, когда большевики только заняли Москву.
(обратно)19
Имя и годы жизни не установлены.
(обратно)20
Шор Д. [Исай Добровейн].
(обратно)21
Дубнов С. Краткая история евреев. Москва, 1996. С. 442.
(обратно)22
Шор Д. Воспоминания ученика об учителе // Новое русское слово. 28.11.37.
(обратно)23
О дружбе отца с Шором пишет дочь Сафонова, Мария, пианистка, эмигрировавшая в США. См.: письма М. Сафоновой к Д. Шору 1937–1939 гг. (НУБИ, 4° 1521, папка 376), а также ее письма к Е. Шору 1949 г. (там же).
(обратно)24
Бейзер М. Евреи в Петербурге // Ленинградский еврейский альманах. Т.26. Иерусалим, 1988. С. 18.
(обратно)25
После крещения в конце XIX в. Давид Абрамович Крейн изменил свое отчество на Сергеевич. — Краткая еврейская энциклопедия. Иерусалим, 1992. Т.4. С. 556.
(обратно)26
Антон Рубинштейн (1829–1894), пианист, композитор, основатель Русского музыкального общества (1859) и первой российской консерватории (1862, Петербург). Крещен вместе со своим братом Николаем Рубинштейном (о нем см. прим. 4).
(обратно)27
Шор Д. Москва.
(обратно)28
Там же.
(обратно)29
Шор Д. Москва.
(обратно)30
Шор Д. Что случилось в ноябре 1917‑го, когда большевики только заняли Москву.
Один из докладов, написанный им в то время, — “Музей музыки” — посвящен проблемам музыкальной педагогики (НУБИ, 4°1521, папка 343). Шор пишет о воспитании общей музыкальной культуры, а не только обучения навыкам игры на музыкальных инструментах. В “Музыкальном альманахе” (изд. Бетховенской студии) в 1914 г. опубликована статья Шора “Несколько мыслей о современной педагогике”. Об этой публикации упоминает “Музыкальная энциклопедия” (Москва, 1978. Т.4. С. 869).
(обратно)31
Сергей Танеев (1856–1915), композитор, музыкальный теоретик (крупнейший полифонист и теоретик контрапункта) и пианист, в 1885–1889 директор Московской консерватории. Ученики: Метнер, Рахманинов, Скрябин и мн. др. Шор посещал его занятия по полифонии и контрапункту.
(обратно)32
Шор Д. [Антон Рубинштейн], отрывок № 1.
(обратно)33
Шор Д. [Рубинштейновский конкурс].
(обратно)34
Там же; здесь: [Антон Рубинштейн], отрывок № 4.
Фраза из очерка “Глас из пустыни" Мордехая Бен — Ами (наст, имя Марк Рабинович, 1854–1932), еврейского писателя и публициста. См.: книжки Восхода. 1900, сентябрь. С. 103.
(обратно)35
Фраза из очерка “Глас из пустыни" Мордехая Бен-Ами (наст, имя Марк Рабинович, 1854 — 1932), евре
(обратно)36
Шор Д. [Антон Рубинштейн], отрывок № 4. Следует отметить, что Шор поднимает здесь большую тему о двух взглядах на еврейское искусство вообще и на еврейскую музыку в частности: 1) евреи — народ, пришедший с Древнего Востока, и потому корни их искусства там; 2) формирование евреев происходило в культурных традициях стран Европы, где они расселились после изгнания из Палестины Навуходоносором II в 586 г. до н. э., и, значит, там следует искать истоки их творчества.
(обратно)37
Земцовский И. В мире еврейской музыки. // Вестник еврейского университета в Москве. 1998. № 2. С. 78–79.
(обратно)38
Например, в исследованиях о еврейском фольклоре Саминского “Об еврейской музыке” (сборник статей, 1914) и в его теоретической работе “Художественный итог последних работ Общества еврейской теории музыки*' (1915).
(обратно)39
Пятинедельную поездку в Палестину Д. Шор совершил вместе со своим отцом, Соломоном Шором. На пароходе, идущем из Александрии в Яффо, Шоры познакомились с четой Буниных, русским писателем Иваном Буниным (1870–1953) и его женой Верой Муромцевой — Буниной. Сойдя в Яффо, Шоры и Бунины предприняли совместное путешествие по Святой Земле, посетив Иерусалим, Хеврон, Тивериадское озеро (ныне оз. Кинерет) и Хайфу. В своей книге “Жизнь Бунина. Беседы с памятью” (Москва, 1989) Муромцева — Бунина подробно описывает увиденное в Палестине. Впечатления от этой поездки легли в основу многих рассказов Бунина: “Иудея”, “Камень”, “Шеол”, “Пустыня дьявола", “Страна содомская”, “Генисарет” и др., а также и его стихов “Гробница Рахели", “Гермон”, “Долина Иосафата” и др. Впечатления от Эрец — Исраэль описывает в своих дневниках и Шор (см. [1907. Поездка в Палестину] в данной публикации). Часть этих дневниковых записок опубликована на иврите самим Шором в газете “Davar” от 5 декабря 1933 г. Дополнительную информацию о деятельности Шора во время визита в Палестину можно найти в статье палестинофила и поборника возрождения языка иврит, Элиэзера Бен — Йегуды (1858–1922) в газете “Hashqafa" от 14‑го мая 1907 г., а также в книге: Hirshberg J. Music in the Jewish community of Palestine, 1880–1948. Oxford, 1995, где описаны встречи Шора с музыкальными деятелями Палестины и его концерт, состоявшийся в Иерусалиме (ibid, р. 33–34).
(обратно)40
Шор Д. [1904].
(обратно)41
Цит. по: Быховский С. Ук. соч.
(обратно)42
Марк Антокольский (1843–1902), скульптор.
(обратно)43
Владимир Стасов (1824–1906), художник и музыкальный критик.
(обратно)44
Речь идет о работе Антокольского “Нападение инквизиции на евреев” (1863–1869 гг.).
(обратно)45
Там же.
(обратно)46
Цит. по: Быховский С. Ук. соч.
(обратно)47
Предположительно — доктор Шнеур Залман (Соломон) Быховский (Волынь, Россия 1865 — Варшава 1934), врач, публицист и активист сионистского движения, участник 1‑го (1897) и 5‑го сионистских конгрессов (1901); на последнем он вошел в комиссию по культуре наряду с Ахад — ха — Амом и известным лидером сионистского движения Нахумом Соколовым (1859–1936). О Быховском см.: Encyclopedia of Zionism and Israel. Ed. by Raphael Patai. New York, 1971. p. 171. Об участии Быховского в 5‑м сионистском конгрессе см: Zanzyfer А. Ра’атеу hag’ulah. Tel — Aviv, 1912. С. 113.
(обратно)48
Быховский С. Ук. соч.
(обратно)49
Шор Д. Москва 1923–24 [05.01.24].
(обратно)50
Шор Д. [Неопубликованные фрагменты] // НУБИ, 4° 1521, папка 204. На формирование мировоззрения Бетховена сильнейшее воздействие оказали события Великой французской революции (1789–1799). Основные идейные мотивы его творчества — героическая борьба за свободу, равенство, братство — идеалы, провозглашенные Великой французской революцией. “Бетховен, — пишет французский писатель и музыковед Ромен Роллан (1866–1944), — последний представитель великого немецкого оптимистического идеализма, веривший в пришествие свободы и братства для человечества…” (Цит. по: Роллан Р. Девятая симфония //Собрание сочинений в 14 тт. Москва, 1957. Т. 12. С.28–29).
Шор Д. [Неопубликованные фрагменты].
(обратно)51
Там же.
(обратно)52
Проект устава Общества “Музей музыки” см. в “Приложениях”.
(обратно)53
О нем см. примечание 18.
Шор Д. [Неопубликованные фрагменты].
(обратно)54
Программа Бетховенской студии // НУБИ, 4° 1521, папка 343.
(обратно)55
и Письмо датированно 18.03.1910 // НУБИ, 4° 1521, папка 224. Шор неоднократно цитирует это письмо в своих воспоминаниях как доказательство того, что музыка Бетховена не только удовольствие, но и сильнейшее средство воспитания.
(обратно)56
Из письма (1928) Шора к сыну // НУБИ, 4° 1521, папка 343.
Дмитрий Курский (1874–1932), член партии большевиков с 1904 г., с 1918 по 1928 — нарком юстиции.
(обратно)57
Ха — тиква — “Надежда” (иврит). Гимн сионистского движения, ставший впоследствии национальным гимном государства Израиль.
(обратно)58
НУБИ, 4°1521, папка 336. Письмо без даты (написано приблизительно в первой половине 1925 г. в Германии, по дороге в Палестину).
(обратно)59
Степун Ф. Ук. соч. С.274.
(обратно)60
Владимир Ленин (Ульянов) (1870–1924), политический деятель, возглавивший руководство Октябрьским (1917) восстанием в Петрограде; председатель Совета народных комиссаров.
(обратно)61
Лев Троцкий (Бронштейн) (1879–1940), политический и государственный деятель. С 1918 по 1925 г. — нарком по военно — морским делам, одновременно в 1920 г. — нарком путей сообщения. Член Политбюро.
(обратно)62
Иосиф Сталин (Джугашвили) (1878–1953), политический и государственный деятель, с 1919 г. — избран членом ВЦИК, в 1917–1922 гг. — утвержден народным комиссаром по делам национальностей. С 1922 г. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии.
(обратно)63
Петр Гермогенович Смидович (1874–1935), в 20‑е годы член Президиума ВЦИК и член ЦКК ВКП(б).
(обратно)64
Там же.
(обратно)65
Там же.
(обратно)66
Хехалуц — пионер(иврит) — сионистское непартийное молодежное движение, основанное в 1917 г. Целью движения была подготовка кадров к переселению в Палестину.
(обратно)67
НУБИ, 4"1521, папка 449.
(обратно)68
См.: БейзерМ. Евреи Ленинграда. Москва/Иерусалим, 1999. С. 161.
(обратно)69
Самуил Каменецкий (1876–1942), юрист и общественный деятель. С 1912 г. член комитета Общества распространения просвещения между евреями в Россини, с 1923 г. — заведующий библиотекой общества.
(обратно)70
Давид Гофштейн (1889–1952), поэт, писавший на идише; с 1923 г. стал публиковать стихи на иврите. В двадцатые годы жил в Палестине, потом вернулся в СССР, стал писать стихи на идише. Погиб по делу Еврейского антифашистского комитета
(обратно)71
НУБИ, 4° 1521, папка 449. Решение об этом выступлении созрело уже давно. В дневнике от 15 ноября 1923 г. Шор пишет: “[…] Мне удалось […] побывать в Джойнте [Объединенный распределительный комитет американских фондов помощи евреям. — Ю. М.] и с 6 до 11 час[ов] обсуждать, как добиться свободного преподавания еврейского языка. Были: Каменецкий из Петербурга, Гофштейн, поэт, и Ген — учитель из Киева, д-р Быховский, Гольберг, Гнесин и я — москвичи. Решили подать власть имущим меморандум и объяснить, что только недоразумение привело к запрещению преподавания еврейского языка” (там же).
(обратно)72
См. примечание 81.
(обратно)73
Степун Ф. Ук. соч. С.274.
(обратно)74
См. примечание 81.
(обратно)75
Там же.
(обратно)76
Там же.
(обратно)77
Там же.
Виктор Якобсон (1869–1934), с 1899 г. член Сионистского комитета. С 1908 г. руководил филиалом Еврейского колониального банка в Стам буле. Возглавил Бюро Всемирной сионистской организации. Знаком с Шором еще по Симферополю, где они оба родились. Шор был знаком и с его сестрой Лидией (в замужестве Малкиной), проживавшей в РошПине, а также с его женой Розой Сергеевной Якобсон.
(обратно)78
Хопенко Моше — Дов (1881–1949), воспитанник Петербургской консерватории, ученик Леопольда Ауэра. По его приглашению в Палестину приехали Гнесин, преподававший в консерватории “Шуламит” в 1924–1925 гг. и Энгель.
(обратно)79
См. примечание 245 к фрагменту воспоминаний “Мое первое посещение Палестины" в разделе “Примечания".
(обратно)80
Всеобщая конфедерация трудящихся в Израиле.
НУБИ, 4°1521, папка 449.
Там же.
(обратно)81
Из письма к Габриловичу (1928) // НУБИ, 4° 1521, папка № 391.
(обратно)82
Там же.
(обратно)83
Мордехай Голинкин (1875–1963), организатор первой в Эрец — Исраэль оперной труппы (1923–1928).
Феликс Варбург (1871–1937), американский банкир, активно способ ствовал развитию еврейских поселений в Палестине, оказывал также поддержку и Еврейскому университету.
(обратно)84
Из письма к Габриловичу (1930) // НУБИ, 4° 1521, папка 391.
(обратно)85
Там же.
Из статьи Шора о Габриловиче, опубликованной (на иврите) 23.10.36 в газете “Давар”. В статье приведен отрывок из русского черновика статьи (НУБИ, 4° 1521, папка № 391).
(обратно)86
Шор Д. [Текст без названия] // НУБИ, 4°1521, папка № 395.
(обратно)87
Шор Д. [Текст без названия] // НУБИ, 44521, папка № 396.
Именем Д. Шора в 1943 г. названа также роща в Яар ха-Халуц возле Бен — Шемена. Позднее его именем названа улица в Тель — Авиве.
(обратно)88
Здесь и далее в квадратных скобках курсивом выделены поправ ки, внесенные Шором от руки, на полях или между строк.
(обратно)89
Имеется в виду Февральская революция 1917 года
(обратно)90
Здесь и далее подчеркивания, сплошной или пунктирной линия-
(обратно)91
“Лесной царь", баллада для голоса и фортепиано Шуберта, слова Гете (1815).
(обратно)92
Натан, богатый иерусалимский еврей из одноименной драмы “Натан Мудрый” (1779) немецкого писателя и философа Готхольда Эфраима Лессинга (1729–1781). Это один из первых филосемитских литературных образов.
(обратно)93
Разрядка Шора.
(обратно)94
См.: Рубинштейн А. Г. Музыка и ее представители. Разговор о музыке. Москва, 1891. С.23–24
(обратно)95
“Страсти по Матфею” (1729).
(обратно)96
См. сборник основных трудов Гумпрехта: Gumprecht О. Musikalische Charakterbilder. Leipzig, 1869–1876. S.76.
(обратно)97
Здесь и далее в тексте сохранено перечеркивание Шором отдельных слов, словосочетаний и предложений.
(обратно)98
Цикл так называемых исторических концертов был дан Антоном Рубинштейном в Петербурге в сезон 1885–1886, позже повторен в Москве, Вене, Берлине, Лондоне, Париже и Лейпциге. Семь концертов цикла охватывали историю фортепианной музыки от истоков до современных Рубинштейну композиторов.
(обратно)99
Рубинштейн провел в 1887–1888 гг. 58 лекцийконцертов, сыграв 1302 сочинения 79 авторов. В 1888–1889 гг. он провел в Петербурге расширенный цикл Исторических концертов в виде лекций с комментариями. Им было сыграно 877 произведений 57 авторов.
(обратно)100
Русского музыкального общества в Петербурге (1859).
(обратно)101
Имеется в виду статья немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813–1883) под названием “Das Judentum in der Musik” (“Еврейство в музыке”, 1850), напечатанная в лейпцигской “Новой музыкальной газете” за подписью Freigedank. Статья содержит юдофобские нападки на еврейских композиторов.
(обратно)102
См. в книге философа и музыкального критика Эмилия Метнера (1872–1936) “Модернизм в музыке”, вышедшей в Москве в 1912
(обратно)103
Первая строка из стихотворения русского поэта Александра Пушкина (1799–1837) “Поэт” (1827). Чтобы прояснить, что имеет в виду Шор, процитируем небольшой фрагмент:
Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожнеи он.
(обратно)104
См.; Шуман Р. Жизненные правила для музыкантов. Москва, 1959. С.19. Шор, скорее всего, цитирует по изданию: Schuman R. Gesammelte Schriften uber Musik und Musiker. Bd. 2, Leipzig, 1914. S.56.
(обратно)105
Шабат — суббота (иврит).
(обратно)106
В романе русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) “Дворянское гнездо” (1859) создан образ старого музыканта Христофора Лемма (описание его см. в главе V).
(обратно)107
Устанавливались свечи, которые зажигались для встречи Субботы, и мать, шепотом молясь и делая таинственные движения руками, благословляла наступающий праздник
(обратно)108
В еврейской традиции Суббота — день отдыха и святости — считается праздником.
(обратно)109
Ритуальная чистота считается одной из важнейших заповедей Субботы, так же как и зажигание свечей
(обратно)110
В канун Субботы прекращают работу еще до наступления вечера. Незадолго до захода солнца женщина зажигает субботние свечи и произносит над ними благословления. После благословления запрещена всякая работа, а зажигание огня считается работой, и потому сначала она зажигает свечи, а потом, прикрыв глаза руками, чтобы не видеть их горящими, благословляет. Затем она отнимает руки от глаз и видит свечи, будто бы зажгла их после благословления.
(обратно)111
Евреи, вынужденные принять другое вероисповедание, иногда насильно обращенные, в большинстве своем втайне остававшиеся верными иудаизму.
(обратно)112
одно слово неразборчиво
(обратно)113
одно слово неразборчиво
(обратно)114
Перед наступлением ночи седера (пасхальной трапезы) убирают весь дом от остатков хамеца (все непресное, квасное, подвергшееся брожению). В Песах не только запрещено есть хамец, но и пользоваться им; хранящий у себя на Песах хамец, если даже и не ест его, нарушает запрет. Словом “хамец” называют также посуду и кухонную утварь, которые не подверглись особому очищению.
(обратно)115
Опресноки, лепешки из пресного теста.
(обратно)116
После уборки приступают к поиску оставшегося незамеченным хамеца. Полностью устранить хамец означает собрать его из всех углов и щелей и уничтожить.
(обратно)117
Евреи, вынужденные принять другое вероисповедание, иногда насильно обращенные, в большинстве своем втайне остававшиеся верными иудаизму
(обратно)118
Традиция задать и ответить на четыре вопроса в пасхальную ночь есть часть заповеди — устная передача истории исхода евреев из Египта.
(обратно)119
Хрен (горькая зелень) символ горькой жизни евреев в египетском рабстве; соленая вода символизирует слезы рабов; крутое яйцо — память о праздничной жертве, приносившейся когда — то в Храме в канун Песаха.
(обратно)120
Еврейская религиозная начальная школа для мальчиков.
(обратно)121
“Норма”, “Сомнамбула” и “Пуритане” — оперы итальянского композитора Винченцо Беллини (1801–1835); “Дочь полка” — опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1797–1848). Оба композитора являются классиками итальянской оперы эпохи расцвета бельканто (стиль вокального исполнения, отличаюшийся особой певучестью).
(обратно)122
Григорий Исаакович Богров (1825–1885), еврейский писатель (крестившийся перед смертью), автор автобиографии “Записки еврея” (1871 — 18/3), написанной с крайне ассимиляционных позиций
(обратно)123
Гораций Гинцбург (1833–1909), еврейский общественный деятель и филантроп, в начале 60‑х гг. выдвинулся как один из наиболее отзывчивых меценатов, покровительствоваший и Петербургской консерватории.
(обратно)124
См. историю создания студии во вступительной статье, а также примечания к ней № 67, 68, 69, 72, 73
(обратно)125
Заведения, учрежденные для приготовления к военной службе малолетних, обязанных служить далее в армии солдатами и закрепленных на основе крепостного гуава за военным ведомством. Согласно указу 1827 г. о рекрутской повинности для евреев в кантонисты сдавали детей начиная с 12 лет.
(обратно)126
-Здесь: барахло (идиш).
(обратно)127
Драма Пушкина “Борис Годунов” (1825), действие пятое (Палаты патриарха). Монолог начинается словами: “Достиг я высшей власти; /Шестой уж год я царствую спокойно…”
(обратно)128
Позже был переименован в улицу Чехова
(обратно)129
Григ Э. Мой первый успех. Фиорды, сб. 2. Петербург, 1909.
(обратно)130
Глупец; букв.: он глуп (нем.).
(обратно)131
Так же — Давыдов. Оба написания, встречающиеся в тексте, верны..
(обратно)132
— текст отсутствует.
(обратно)133
В начале января 1887 г. Давыдов ушел в отпуск с тем, чтобы больше уже не возвращаться в консерваторию (преемником его был назначен Антон Рубинштейн).
(обратно)134
Под “тревожными восьмидесятыми" Шор имеет в виду политическую реакцию 80‑х гг
(обратно)135
Был переименован в бульвар Профсоюзов.
(обратно)136
Так называемая “Лунная соната” (1801).
(обратно)137
Заключительные слова баллады Гете: “In seinen Armen das Kind war tot” — “В руках его мертвый младенец лежал” (перевод с нем. В. А. Жуковского).
(обратно)138
В Санкт — петербургском обществе квартетной музыки, существовавшем до 1878 г., позже — Петербургском обществе камерной музыки, существовавшем до 1917 г.
(обратно)139
Эжен д’Альбер (1864–1932), композитор и пианист. Швейцарец французского происхождения. Начиная с 1882 г. неоднократно гастролировал в России.
(обратно)140
Общедоступные симфонические концерты при Русском музыкальном обществе были организованы по инициативе Рубинштейна в 1886–1887 гг
(обратно)141
Очень тихо (итал.).
(обратно)142
Очень громко (итал.). Оба термина передают динамику звучания различной степени.
(обратно)143
В цитате сохранена пунктуация Шора. В оригинале: Служенье муз не терпит суеты;
(обратно)144
Doigter — аппликатура, способ расположения и порядок чередования пальцев при игре на музыкальном инструменте (фр.). Рациональная аппликатура позволяет пианисту с наименьшей затратой усилий исполнить музыкальное произведение.
(обратно)145
Каприччио; здесь: романтическая фортепианная пьеса
(обратно)146
Са. — приблизительно (нем.)', здесь: почти Скарлатти.
(обратно)147
Речь идет о так называемых Променадконцертах Вуда, которые тот организовывал с 1895 г.
(обратно)148
Речь идет о книге Newmarch к. H. Wood. London, 1904
(обратно)149
Беляевский кружок (1880–1890), объединивший группу композиторов вокруг Мит рофана Беляева (1836–1903/4), музыкального деятеля и мецената. Кружок обычно относят к младшему поколению “Могучей кучки” и считают ее переемником. В центре кружка, собиравшегося на музыкальных вечерах в доме Беляева (“беляевские пятницы”), стоял Н. Римский — Корсаков, учеником которого были почти все члены кружка: композиторы А. Глазунов, А. Лядов, Ф. Блуменфельд, И. Витоль и др.
(обратно)150
Музыкальный журнал, выходивший в Петербурге с 1915 по 1917 гг. Номера 1, 2, 7 за 1916 г. были посвящены критике книги (см. статьи о Лядове — Н. А. Римского — Корсакова, В. Каратыгина, В. Каренина).
(обратно)151
Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1928), писатель. Упоминаемый рассказ напечатан в книге: Потапенко И. Н. Повести и рассказы. Т.II, изд. Ф. Павленкова. СПб., 1891. С.293–320
(обратно)152
Чернышев переулок — ныне улица Ломоносова, Театральная улица — ныне улица Зодчего Росси, Разъезжая улица не меняла своего названия.
(обратно)153
Раиса Михайловна Муллер, будущая жена Д. С. Шора
(обратно)154
Строка из 137 псалма Давида (Теиллим/137/4 — 5): “Если забуду тебя Иерушалайм, пусть забудет (меня) десница моя” (Кетувим. Иырушалаим. 1978; ред. Давид Йосифсон). В русской Библии псалом — 136. В 588 г. до Р. Х. Иерусалим был разрушен вавилонским царем Навуходоносором (604–562/61 г. до н. э.), а его жители уведены в плен. Данный псалом — клятва, данная изгнанниками.
(обратно)155
Нужно: “ […] Спит царевна вечным сном […]”. Строка из пушкинского стихотворения “Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях” (1833).
(обратно)156
Начиная с этого абзаца и далее (включая отрывки из главы “Москва”) пассажи, посвященные Сафонову, представляют собой различные варианты статьи Шора о нем, опубликованной в “Новом русском слове” (28.11.37). Статья называется “Воспоминания ученика об учителе”.
(обратно)157
Разрядка Шора.
(обратно)158
Пост директора Сафонов оставил в 1906 г., в результате конфликта в 1905 г. с С. И. Танеевым и частью революционно настроенного студенчества (Сафонов придерживался консерватив ных политических взглядов).
(обратно)159
Непрерывное движение; также музыкальный термин, обозначающий пьесы, написанные в быстром и равномерном ритмическом движении (лат.).
(обратно)160
Сборник этюдов Клементи “Gradus ad Parnassum” (Путь к Парнасу), изд. 1817–1826.
(обратно)161
Письмо в архиве не сохранилось, см. фрагмент из него, цитируемый Шором в эссе “В. И. Сафонов”.
(обратно)162
Карл Юльевич Давидов.
(обратно)163
То есть напротив дома №12 на Неглинной улице.
(обратно)164
В то время пост министра внутренних дел занимал граф Дмитрий Толстой (1823–1889), апологет классического образования.
(обратно)165
Лоскутная гостиница (на Тверской ул., с 1935 г. и до недавнего времени — ул. Горького) построена в 1877 г. Владельцем ее был купец Николай Николаевич Мамонтов (1836–1890).
(обратно)166
Инвенция — небольшая двух — трехголосая пьеса. Чакона — первоначально: медленный танец испанского происхождения; затем в музыке: полифоническая композиция, как правило в миноре.
(обратно)167
Heiligenstadter Testament (1802). Прогрессирующая глухота, первые признаки которой появились в 1797 г., заставила Бетховена весной 1802 г. уехать на несколько месяцев в Гейлигенштадт, в надежде, что уединение и покой приостановят болезнь. Но ожидания не оправдались. В октябре того же года, потеряв надежду на выздоровление и преследуемый мыслями о самоубийстве, Бетховен пишет так называемое Гейлигеншедское завещание в форме писем родственникам и друзьям, в которых, извиняясь перед ними за свое невыносимое поведение последних лет, вспыльчивость и раздражительность, выражает надежду на понимание его тяжелого положения.
(обратно)168
Общество “Музыкально — теоретическая библиотека”, организовано в 1908 г. Его возглавили Вячеслав Булычев (1872–1959), хоровой дирижер и композитор, и Сергей Танеев, композитор и музыкальный теоретик
(обратно)169
Московская симфоническая капелла, организованная Булычевым в 1901 г. (по данным “Энциклопедического музыкального словаря”, Москва, 1966), в 1905 г. (по данным Большого энциклопедического словаря “Му зыка”, Москва, 1998).
(обратно)170
В 1908 г. певица Мария Оленина-Д’Альгейм (1869–1970) вместе с мужем Пьером Д’Алыеймом (1862–1922), французским писателем и переводчиком, организовали “Дом песни” для пропаганды русской музыки
(обратно)171
Эмилий Карлович.
(обратно)172
[…]* — фамилия неразборчиво.
(обратно)173
Правильно: Бекман — Щербина Елена (1881/82 — 1951). В 1912–1918 гг. преподавала в собственной школе фортепианной игры
(обратно)174
[…]*— начало текста утеряно.
(обратно)175
— текст телеграммы отсутствует, в архиве не найден.
(обратно)176
Разрядка Шора.
(обратно)177
Сафоновы Анастасия (1881–1898) и Александра (1883–1898).
(обратно)178
Неточность: Кругликов (1851–1910) был директором (в 1881 и в 1898–1901 гг.) музыкально — драматического училища при Московском филармоническом обществе
(обратно)179
Карл Александрович (1851 — после 1914), возглавлявший в Москве музыкально — издательскую фирму
(обратно)180
В 1918 г.
(обратно)181
Старшая дочь Мири
(обратно)182
30 мая 1889 г.
(обратно)183
Циклы исторических концертов в виде тематически выдержанных музыкальных вечеров и воскресных утренников, организованных Московским трио под руководством Шора (см. афишу 1895 г. в “Приложениях”).
(обратно)184
Синодальное училище церковного пения — среднее специальное музыкально — учебное заведение. В 1918 г. на базе училища была создана Народная хоровая академия, которая в 1923 г. объединилась с Московской консерваторией.
(обратно)185
См. вступительную статью и примечание к ней № 3.
(обратно)186
Анатолий Брандуков (1858–1930), виолончелист — виртуоз и педагог. Окончил Московскую консерваторию (1877) с золотой медалью. Профессор и директор (1906–1917) музыкально — драматического училиша Московского филармонического общества.
(обратно)187
Строгановское училище технического рисования основано графом Сергеем Строгановым (1794–1882) в 1825 г. Преемником его является Московское высшее художественно — промышленное училище.
(обратно)188
За исключением Смоленского у всех других перечиленных лиц Шор указал инициалы неверно. Степан Васильевич Смоленский (1848–1909), Василий Сергеевич Орлов (1856–1907), Александр Дмитриевич Кастальский (1856–1926) — в разное время были директорами московского Синодального училища. О С. Н. Кругликове см. выше примечание № 63
(обратно)189
См. в разделе “Письма” письмо № 2.
(обратно)190
Опера русского композитора Михаила Глинки “Руслан и Людмила” (1842).
(обратно)191
См. в разделе “Письма” письмо № 12
(обратно)192
Мы конченые (букв.: уничтоженные) пианисты (нем.).
(обратно)193
Данный текст, судя по первому абзацу, является продолжением предыдущего.
(обратно)194
Х. Н. Бялик умер в 1934 г.
(обратно)195
Находится в еврейском поселении Моца на северозападе от Иерусалима.
(обратно)196
Агада — рассказ, повествование о том или ином событии из еврейской истории, изложенный мудрецами, авторитетами Галахи (закона, освященного еврейскими традициями). Бялик читал курс от Еврейского университета в Тель — Авиве
(обратно)197
Сокращенно ОПЕ, культурно — просветительская организация российских евреев. Существовало с декабря 1863 г. по 1918 г. Первоначально ОПЕ было задумано как центр пропаганды просвещения в еврейских массах, направленного на распространение русского языка и приобщение евреев к руской культуре. Целью пропаганды была постепенная подготовка евреев к непосредственному участию в жизни русского общества. Затем общество стало заниматься издательской деятельностью, оказывало материальную поддержку еврейским ученым и деятелям искусств, студентам, а также поддерживало еврейские общественные библиотеки и начальные школы.
(обратно)198
Немецкий клуб располагался на Софийке; Купеческий (Купеческое собрание) — на Большой Димитровке. Под залом Дворянского собрания имеется в виду зал Благородного собрания (Дворянского клуба), находившийся на углу Охотного ряда и Большой Димитровки. Путеводитель по Москве (Москвич Г. Путеводитель по Москве. Москва, 1909. С.44) так описывает этот зал: “Грандиозное помещение, в котором устраиваются выдающиеся концерты и балы”.
(обратно)199
Сергеи Трубецкой (1862–1905), философ и публицист, первый выборный ректор Московского университета; имел высокий моральный авторитет. См. об этом: Милюков П. Н. Воспоминания. Москва, 1991. С. 197; а также: Сабашников М. Записки. Москва, 1995. С.292, 559.
(обратно)200
Графиня Анна Михайловна (ур. Обольянинова) (1835–1899), жена Адама Васильевича Олсуфьева (1833–1901). Имение Олсуфьевых Никольское — Обольяновка располагалось недалеко от станции Подсолнечная.
(обратно)201
Цитата из письма Владимиру Черткову от 7 марта 1896 г. (письмо № 414). См. Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Москва, 1937. Т.87. С.358.
(обратно)202
В Россию Петр Кропоткин (1842–1921) вернулся летом 1917 г. Последние три года прожил в Дмитрове, работая над “Этикой”.
(обратно)203
Елизавета Олсуфьева (1857–1898).
(обратно)204
Цитата из статьи — обзора Г. Успенского “Мельком” (“Русские ведомости”, 12.09.1890).
(обратно)205
Дочь: Софья Владимировна Панина (1871–1957). Мать: Анна Сергеевна, в замужестве Петрункевич.
(обратно)206
М. А. Бакунин (1814–1876) — в молодости был участником московских философских кружков, гегельянец, друг Тургенева. Впоследствии — революционер — анархист
(обратно)207
Тут смешаны несколько обстоятельств. Анархические выступления Бакунина в Европе в 40‑х гг. и его связь с революционерами вызва ли гнев русского правительства, которое предложило своим посольствам отобрать у Бакунина заграничный паспорт и немедленно вернуть его в Россию под полицейский надзор. Отказ Бакунина вернуться повлек за собой решение Сената (октябрь 1844 г.) о лишении его дворянского звания, всех прав состояния и в случае появления его в России — ссылка в Сибирь на каторжные работы. Несмотря на это, в 1848 г. Бакунин принимает участие в работе тайных и полутайных революционных кружков в Германии. Зимой 1849 г. в Дрездене Вагнер готовит концерт, в котором собирается дирижировать 9‑й симфонией Бетховена. На генеральную репетицию, тайно, скрываясь от полиции, прибывает Бакунин. Тогда он и сказал Вагнеру слова, которые цитирует Шор (история изложена в соответствии с воспоминаниями Вагнера, см.: Wagner R., Mein Leben. Bd. I. MGnchen, 1963. S.397–398).
(обратно)208
См.: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинении. Москва, 1949. Т.60. С.417 (письмо № 232).
(обратно)209
Выступление тринадцати тверских дворян, среди которых был член губернского присутствия А. А. Бакунин, происходило в феврале 1862 г. Тринадцать мировых посредников Тверской губернии подписали 5 февраля 1862 г. особый “журнал” Тверского губернского присутствия по крестьянским делам о неудовлетворенности положения 19 февраля 1861 г.; в этом документе говорится об окончательно определившейся “несостоятельности правительства удовлетворять общественным потребностям” и о необходимости скорейшего созыва “представителей от всего народа, без различия сословий” для выработки новых основных законов. Материалы об этом см. в анонимных статьях “Очерк Тверского губернского комитета по освобождению крестьян” (“Колокол” от 15 января 1860 г., № 61. С.503–504, а также: Никитенко А. В. Записки и дневники. СПб., 1904. Т.2. С.69–70
(обратно)210
Жена П. А. Бакунина (1820–1900) — Наталья Семеновна Бакунина (Nathalie Bakounine).
(обратно)211
В греческой мифологии благочестивая супружеская чета, получившая от богов в награду долголетие и возможность умереть одновременно.
(обратно)212
Жена П. А. Бакунина (1820–1900) — Наталья Семеновна Бакунина (Nathalie Bakounine).
(обратно)213
В греческой мифологии благочестивая супружеская чета, получившая от богов в награду долголетие и возможность умереть одновременно.
(обратно)214
начало отрывка не найдено.
(обратно)215
См. примечание № 36 к главе “Что случилось в ноябре 1917‑го, когда большевики только заняли Москву”.
(обратно)216
пробел в тексте.
(обратно)217
У Рубинштейна: Для евреев я христианин, для христиан — еврей; для русских я немец, для немцев — русский; для классиков я будущник, будущникам — ретроград, и т. д. Заключение: ни рыба, ни мясо, существо достойное сожаления”. См.: Рубинштейн А. Г. Мысли и афоризмы. С. — Петербург, 1903. С. 113.
(обратно)218
Дед Рубинштейна со сторо ны отца, бердичевский купец Роман Рубинштейн, крестил свою семью, когда Антону Рубинштейну не было и двух лет. Мать — Клара Левенштейн, происходила из зажиточной еврейской семьи, приехавшей из Прусской Силезии
(обратно)219
слово неразборчиво
(обратно)220
Данный текст является черновиком статьи, опубликованной на иврите в газете “Давар” в 1934 г.: статья называлась “Антон Рубинштейн” (Davar, от 5 декабря 1934 г.).
(обратно)221
Приписка Шора не имеет места в дневниковой записи Толстого. См. вступительную статью примечание № 8.
(обратно)222
Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. Москва, 1953. С.92 [запись датирована 17 мая 1896 г.].
(обратно)223
Шор использует термин, обозначавший секту — духоборы, выступавшей против обрядности православной церкви и религиозного догматизма. Толстой покровительствовал этой секте, см. его переписку с писателем Леопольдом Сулержицким (1872–1916): Толстой Л. Н. Поли. собр. соч. В 90 томах. Москва, 1928–1958. Т.71 и 72.
(обратно)224
Скорее всего, Шор подразумевает статью писателя Владимира Короленко (1853–1921) “Лев Николаевич Толстой" (“Русское богатство”, 1908), в которой гот пишет о Толстом как “зеркале”, отражающем противоречивую реальность, и утверждает, что в этом все крупные достоинства Толстого и не менее крупные недостатки (см.: Короленко
(обратно)225
По поводу отлучения от церкви Толстой получил не только сочувственные письма, но и увещевательные и даже ругательные, преимущественно анонимные. Об этом письме вспоминает и Гольденвейзер (Ук. соч. C. 58; дневниковая запись от 24 марта 1901 г.): “Л. Н. недавно получил курьезное анонимное, кажется, письмо, автор которого пишет ему, что вся его слава основана исключительно на сочувствии евреям и что попробуй он иначе отнестись к еврейскому вопросу, вся слава его пропадет”.
(обратно)226
Этот же эпизод, почти слово в слово, мы найдем в дневнике Гольденвейзера (Ук. соч. С.218). Упоминаемый журналист предположительно — Герман Бернштейн, североамериканский поэт и журналист, позднее европейский и русский корреспондент нью — йоркской прессы. Уроженец России, эмигрировавший в 1893 г. Переводчик на английский язык русских авторов, в том числе и Толстого, автор статьи о нем (“Leo Tolstoy”. В книге: “Celebrities of our times. New York, 1924). Известно о посещении им Ясной Поляны
(обратно)227
Кишиневский погром произошел 6–8 апреля 1903 г. и был одним из самых кровавых погромов, со множеством жертв.
(обратно)228
Статья Толстого “Не могу молчать!" по поводу смертных казней, написана 31 мая 1908 г. в Ясной Поляне.
(обратно)229
Речь идет об ответе Толстого Эммануилу Линецкому (р. 1870), зубному врачу из Елисаветграда, который 18 апреля 1903 г. обратился к Толстому по поводу кишиневского погрома. Ответ Толстого (от 27 апреля) был напечатан во многих русских и иностранных периодических изданиях. В конце письма к Линецкому Толстой приписал: “Такое же письмо я послал в Москву Д. С. Шору”. (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Москва, 1954. Т.74. С.108, письмо № 130). Следующее письмо № 131 адресовано Шору и датированно — 27 апреля 1903 г. Текст аналогичен письму Линецкого, в конце примечание: Ответ на письмо Шора от 24 апреля 1903 г. по поводу кишиневского еврей ского погрома….Он не может отзываться на “всякие события”… — Высказывание, которое Шор приписывает Гольденвейзеру, явный перефраз из письма Толстого: “Требовать от меня публичного выражения мнения о современных событиях так же неосновательно, как требовать этого от какого бы то ни было специалиста, пользующегося некоторою известностью” (С. 107).
(обратно)230
В оригинале: “Евреи меня решительно осаждают, писем 20, требуя, чтобы я высказался о кишиневских ужасах. Я написал об этом ответ Шору, к[оторый] писал мне […]” (Письмо к М. Л. Оболенской от 6 мая 1903 г., № 149; см.: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Москва, 1954. Т.74. С.123–124). Мария Толстая (1871–1906), в замужестве с 1897 г. — Оболенская, вторая дочь Толстого.
(обратно)231
В дневнике от 25 июля 1903 г. Толстой пишет: “Написал три сказки […]” (См.: Толстой Л. Н. Собр. соч. в 20-ти томах. Москва, 1960–1965. Т.20. С.173). Позднее, 20 августа он продолжит: “Только нынче кончил сказки и не три, а две [••]” (там же, С. 174). Сказку “Труд, смерть и болезнь” Толстой завершил на неделю позднее. Эти сказки были опубликованы (на идише, в переводе Шолом- Алейхема) в литературном сборнике “Гилф” (“Помощь”), доход с которого пошел в пользу жертв кишиневского погрома. 7 августа 1903 г. Толстой рассказал о своих новых произведениях Гольденвейзеру, который записал в своем дневнике: “Л. Н. написал три сказки: “Три вопроса”, “Труд, смерть и болезнь” и “Ассирийский царь Ассархадон ’. Сказки эти Л. Н. посылает в сборник в пользу евреев, пострадавших от кишиневского погрома. Впрочем, вероятно, напечатать можно будет только одну — первую, так как другие две едва ли пропустит цензура — (Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. Москва, 1922. С. ИЗ — 114). В дневнике Шора кавычки, выделяющие цитату из Гольденвейзера, зачеркнуты.
(обратно)232
Этот адрес полностью приводит в своем дневнике А. Б. Гольденвейзер (Ук. соч. С.119–120)
(обратно)233
См.: Переписка Л. Н. Толстого с гр. А. А. Толстой. 1857–1903. СПб., 1911. С.93–94.
(обратно)234
В феврале 1911 г. С. А. Толстая помещает в газеты объявление: “Вышло из печати собрание сочинений Л. Н. Толстого, цена 25 рублей. Склад, Москва, Хамовнический переулок, дом21”. (См. С. А. Толстая. Ук. соч. Т.2. С.554).
(обратно)235
впоследствии Ленинский район Москвы; Хамовнический переулок — переименован в улицу Льва Толстого. В доме № 21 по этой улице писатель прожил более 19 лет. В апреле 1920 г. здесь был создан музей — усадьба Л. Н. Толстого.
(обратно)236
Т. Л. Сухотина Толстая
Via Aventina 15, Roma 2 апреля, 1934
Дорогой Давид Соломонович,
Мне очень было приятно познакомиться с Вашим милым сыном и его женой. Он большая умница, и его жена, кажется, ему поддержка и утеха.
Но увы! Вспоминать с ним старое время так же бесполезно, как и с моей Таней. Мы с Вами помним то время и тот круг, где искусство и этика занимали первое место и имели преобладающее значение в жизни. Это и не совсем умерло среди молодежи — но темп жизни их увлекает и… одуряет.
Очень хороша Ваша статья. Вот судьба: старикам приходится заражать молодежь энтузиазмом. Желаю от всей души евреям устроить свою родину.
Пишу Вам в постели. Болею гриппом. И вообще здоровье пошатнулось. Но я не жалуюсь. Все хорошо, что с нами случается, и я верю в Высший Закон, который управляет нами на общее благо. Живу много с отцом и, пожалуй, сейчас ближе к нему, чем была при его жизни. Сейчас Толстой не в моде, но дело свое он сделал, и нет ни одного общественного течения или частной инициативы, которые не подчинились бы хоть частью — хоть в уродливой фор ме — его влиянию. Со временем придут к его идеалам, потому что они вечны и непреложны.
Всего Вам и Вашим желаю лучшего. Благодарю за старую дружбу и за блаженные часы, дарованные Вашей музыкой.
Т. Сухотина — Толстая.
P. S. Возвращаю Вам Вашу статью, она может быть полезна Вам и Вашим.
(НУБИ, 4°1521, папка 209)
(обратно)237
См. дневник Толстого (20 января 1905 года): “[…] Музыка есть стенография чувств[…]” (Толстой Л. Н. Собр. соч. Т.20. С.208
(обратно)238
См. подробнее: Толстой Л. Н. Что такое искусство [1896 г.] // Толстой Л. Н. Ук. соч. Т. 15. С.44 — 242).
(обратно)239
Шор, скорее всего, имеет в виду следующее высказывание Толстого: “Последние произведения Бетховена как были музыкальные бредни большого художника, интересные только для специалистов, так и остались бредом, не составляющим искусства […]” (См.: Толстой Л. Н. О том, что называют искусством [1896 г.] // Толстой Л. Н. Ук. соч. Т. 15. С.409). Негативная оценка 9‑й симфонии Бетховена дана Толстым в статье “Что такое искусство?” [1896] (Там же. С. 197–199). Там же Толстой называет последние произведения Бетховена “бесформенными импровизациями" и бессмыслицей (С. 154–155, 175–176). Об отрицательном отношении Толстого к Бетховену см.: Чайковский М. Жизнь П. И. Чайковского, ч. 1, 1896. С.520.
(обратно)240
Продолжение цитаты, принадлежащей американской писательнице Люси А. Маллори*, звучит следующим образом: “[…] верь, как верим мы; ешь и пей, как мы едим и пьем; одевайся, как мы одеваемся, — или будь проклят. Если же кто не подчинится ему, то оно превратит жизнь его в ад своими насмешками, сплетнями, ругательствами, бойкотом и остракизмом, но мужайся”. (См.: Толстой Л. Н. Круг чтения. СПб., 1912. С.599.)
(обратно)241
Явная описка. Нужно: 8 месяцев
(обратно)242
Карл Юльевич Давидов.
(обратно)243
См. письмо № 3 в разделе “Письма”.
(обратно)244
Музыкальное училище (1895), основателем и директором которого была Елена Гнесина (1874–1967). Ее сестоы Евгения СавинаТнесина (1870–1940) и Мария Гнесина (18/1 — 1918) — музыканты; Михаил Гнесин (см. о нем во вступительной статье на с. 28) был их братом
(обратно)245
Валентина Зограф — Плаксина основала в 1891 г. в Москве общедоступное музыкальное училище, ныне музыкальное училище при Московской консерватории.
(обратно)246
Валентина Шацкая (1882–1978), пианистка и педагог. С 1911 г. совместно с мужем, педагогом и музыкально — общественным деятелем, Станиславом Шацким (1878–1934) организовала первые в России детские клубы, в которых особое внимание уделялось эстетическому — преимущественно музыкальному — воспитанию
(обратно)247
См. письмо С. Л. Толстой к великому князю Константину Константиновичу Романову (1858–1915), вице — председателю Русского музыкального общества, написанное 30.09.1905 при участии Танеева и Гольденвейзера, где Толстая пишет о крайне неблагоприятной атмосфере, сложившейся в Московской консерватории, из — за гоубости и самоуправства ее директора — Сафонова. (См. С. А. — Толстая. Ук. соч. С.514–515.)
(обратно)248
Наступает десятилетие со дня его смерти. — 1928 г.
(обратно)249
О нем см.: Добровейн М. Страницы жизни. Москва, 1972.
(обратно)250
Имеется в виду, в первую очередь, “черта оседлости”, граница территории Российской империи, на которой разрешалось проживание евреев. Черта оседлости была упразднена законом 20 марта 1917 г.
(обратно)251
Настоящая фамилия Добровейнов — Барабейчик. Отец Исая — Зорах Осипович, играл в оркестре местной оперы. Пятилетний Исай и семилетний брат его, Леонид, прослыли в Нижнем Новгороде музыкальными вундеркиндами. Барабейчик Л. А (1889–1975), пианист и педагог. В 1921–1960 гг. — солист оркестра Большого театра.
(обратно)252
Осенью 1901 г. оба брата были приняты в Московскую консерваторию.
(обратно)253
В мае 1911 г. Добровейн закончил консерваторский курс с золотой медалью, осенью того же года был зачислен в венскую Школу мастеров фортепианной игры при Музыкальной академии в Вене, руководил которой пианист и композитор Леопольд Годовский (1870–1938).
(обратно)254
С 1923 г. Добровейн жил за границей, в 1927–1928 гг. он руководил оперным театром в Софии; в 1931–1935 гг. — симфоническим оркестром в Сан — Франциско; в 1941–1945 гг. руководил Королевской оперой в Стокгольме. Большой успех имели его постановки русских классических опер в Дрездене (1923), где он дирижировал первой в Германии постановкой оперы М. Мусоргского “Борис Годунов
(обратно)255
перечень отсутствует
(обратно)256
слово неразборчиво
(обратно)257
фамилия неразборчиво: Н[…]нсен
(обратно)258
Точнее: с 1895 г. по 1901 г. Оставив работу в капелле, Аренский целиком отдался творческой и исполнительской деятельности, концертировал как пианист в России и за рубежом
(обратно)259
См. примечание № 173 к главе [1904].
(обратно)260
Скерцо (букв. — шутка) — музыкальная пьеса в стремительном темпе (ит.).
(обратно)261
Очень скоро; быстрый темп и связанный с ним оживленный характер исполнения (ит.)
(обратно)262
В 1902 г. Рахманинов женился на одной из своих двоюродных сестер — Наталье Александровне Сатиной
(обратно)263
В 1910 году.
(обратно)264
Шор ссылается на эссе, посвященное Рубинштейнам, скорее всего, это отрывок № 1 в данной публикации
(обратно)265
С мая 1879 г. в связи с выселением из Москвы евреев был вынужден жить в Подмосковье (дер. Салтыковка). По окончании Московского училища живописи, ваяния и зодчества в 1884 г. (диплом в 1886 г.) жил в Москве. В сентябре 1892 г. ему предписали покинуть Москву при выселении из нее евреев (вернулся в декабре, но постоянный вид на жительство получил лишь к началу 1894 г.).
(обратно)266
См. оо этом вступительную статью и примечание к ней № 55.
(обратно)267
Герценштейн был крупным специалистом и автором многих трудов по аграрному вопросу в России; был известен своими резкими выступлениями и критикой аграрной и финансовой политики правительства.
(обратно)268
Первая Государственная Дума действовала всего 72 дня, с 27 апреля по 8 июля 1906 г., когда была распущена. Часть членов Думы не подчинилась указу о роспуске и, собравшись в одной из гостиниц Выборга, провела два заседания (вечером 9 и утром 10 июня), после чего руководство Думы обратилось к населению с воззванием, призывая его в знак протеста не платить налоги и уклоняться от воинских наборов.
(обратно)269
18 июля 1906 г. он был убит черносотенцами из “Союза русского народа”. “Союз русского парода” — черносотенная, националистическая и монархическая организация (1905–1917), члены которой участвовали в организации еврейских погромов и политических убийств.
(обратно)270
В 1888 году.
(обратно)271
В отчете “Общества для распространения просвещения” за 1911 г. Шор упоминается как член комитета (один из десяти наряду с Я. И. Мазе, Л. А. Лурье и др.) и как член Финансовой комиссии. (См.: отчет “Общества для распространения просвещения”. Москва, 1911.)
(обратно)272
Благотворительный фонд, учрежденный в 1888 г. бароном Морисом де Гиршем (Хиршем), финансистом и филантропом. Фонд предназначался для устройства сельскохозяйственных и общеобразовательных школ, ферм и мастерских в России с целью привлечь ее еврейское население к землевладельческому и ремесленному труду. Попытка реализовать этот проект окончилась неудачей из — за неприемлемых условий, выдвинутых русским правительством.
(обратно)273
Так называемый “банк Поляковых", основанный в 1873 г. Лазарем Поляковым (1842–1914), банкиром и еврейским общественным деятелем, председателем еврейской общины Москвы
(обратно)274
На Большой Никитской (позже переименована в улицу Герцена) № 19. Зал открылся в 1901 г.
(обратно)275
Он же — Александровский дворец. Ныне его занимает Академия наук.
(обратно)276
Сергеи Муромцев (1850–1910), один из основателей и лидеров конституционно — демократической партии. В 1906 г. председатель 1‑й Государственной Думы. Павел Милюков (1859–1943), историк, с 1905 г. — лидер либеральномонархической партии (кадетов) и редактор ее газеты “Речь”. Иван Петрункевич (1844–1928), лидер партии кадетов, один из редакторов “Речи”. Федор Родичев (1854–1933), видный кадет, член 1- и Государственной Думы.
(обратно)277
Шор ошибается. Нужно: Сергеи Аполлонович Скирмут (1862–1932), издатель и книготорговец (книжный магазин “Труд”). История внезапного обогащения Скирмута, излагаемая Шором, отлична от той, которую передает в своих воспоминаниях Сабашников (см.: Сабашников М. Ук. соч). “Сергей Аполлонович происходил от небогатых дворян Таврической губернии. Осиротел в раннем детстве, воспитан был старушкой, дальней родственницей, очень тщательно, но скромно, сначала дома, а потом в каком — то привилегированном учебном заведении. Старушка, но — видимому, намечала для своего питомца военную карьеру; сам же молодой человек еще не определил своего выбора, когда ему пришлось иметь встречу, повлекшую изменение в его материальном положении.
В вагоне московской конки он, как благовоспитанный юноша, уступил место вошедшему в вагон пожилому господину. Разговорились. При выходе Сергей Аполлонович назвался. Незнакомец, в свою очередь назвавшись Ф. Н. Плевако, настоятельно попросил Сергея Аполлоновича посетить его в своих же собственных интересах. Вагон отошел, и Сергей Аполлонович и не обратил внимания на это приглашение. Однако кто — то из знакомых, которому он рассказал про встречу, настоятельно рекомендовал ему отозваться на приглашение.
В конце концов Сергей Аполлонович посетил Федора Никифоровича. Оказалось, что в Америке разыскивались наследники како го — то Скирмута, скончавшегося там бездетного владельца значительного состояния. Плевако предложил Сергею Аполлоновичу выдать ему доверенность на ведение дела о получении наследства и так называемое option, т. е. обязательство о вознаграждении в случае успеха дела. Надо было произвести изыскания о том, существуют ли какие — либо родственные отношения между умершим американцем и Сергеем Аполлоновичем. Доверенность и option Сергей Аполлонович выдал и перестал думать об этом случае. Однако через несколько лет Ф. Н. Плевако в самом деле ввел Сергея Аполлоновича в обладание весьма значительного состояния” (С.501–502). Федор Николаевич Плевако (1843–1908), мос ковский адвокат. Известен как защитник по уголовным делам.
(обратно)278
Издательское товарищество “Посредник” основано Л. Толстым в 1884 г. совместно с другом и издателем его произведений Владимиром Чертко вым (1854–1936) и Павлом Бирюковым (1860–1931), биографом Толстого. Существовало в 1884–1935 гг. в Петербурге, с 1892 г. — в Москве; выпускало книги для народа, художественную и детскую литературу, книги по сельскому хозяйству, домоводству и проч. Подробнее об издательстве см.: Лебедев В. К. Книгоиздательство “Посредник” и цензура (1885–1889)// Русская литература, 1968, № 2. С.163–170.
(обратно)279
Вера Засулич (1851–1919), в 1883‑м — одна из организаторов первой марксистской группы “Освобождение труда’, с 1903‑го — в меньшевистском крыле РСДРП; 24 января 1878 г. ранила выстрелом из револьвера петербургского градоначальника Федора Федоровича Трепова (1803–1889). Судом присяжных была оправдана. Оправдательный приговор суда был вынесен благодаря либеральному поведению председателя суда — Кони. После этого процесса Кони на несколько лет был отстранен от работы в уголовном суде.
(обратно)280
Федор Петрович Гааз. Биографический очерк. СПб., 1897.
(обратно)281
В пяти томах очерков и воспоминаний “На жизненном пути” (1912–1929, 5‑й том посмертно) Кони дал ряд ценных для истории литературных портретов и зарисовок по истории суда в дореволюционной России.
(обратно)282
писательница и драматург Рашель Хин (1863–1928) во втором замужестве Гольдовская; ее второй муж Онисим Гольдовский (1865–1922) — присяжный поверенный
(обратно)283
См.: Энгель И. Очерки по истории музыки. Москва,
(обратно)284
текст записки отсутствует
(обратно)285
Во главе “Политического Красного Креста” кроме Пешковой стоял и присяжный поверенный Максим Винавер (1863–1926), бывшии крупным русско — еврейским общественным деятелем (кадет, член Государственной Думы). См.: Римони А. Луч света в темной ночи// Наша страна, № 952, 21.07.1974. Там же о деятельности Шора в 20‑х годах, о его вкладе в дело спасения сионистов от сибирской ссылки (факты, изложенные в статье и касающиеся непосредственно Шора, соответствуют его неопубликованным дневникам от 1923–1924 гг.).
(обратно)286
Героико — романтические песни, отражавшие революционный настрой в России в тот период: “Песня о Соколе” (1895) и “Песня о Буревестнике” (1901).
(обратно)287
1902 год
(обратно)288
Под “раздором” Шор имеет в виду гоажданский брак Горького с актрисой Марией Андреевой (ур. Юрковской) (1868–1953), с которой тот жил на о. Капри с
(обратно)289
Шор ошибается, Владимир Ленин родился 22.04.1870. 23 апреля 1920 г. состоялся торжественный вечер.
(обратно)290
В доме № 15-а по Большой Дмитровке (с 1937‑го — Пушкинская улица, ныне улице вернули прежнее название) находился Литературно — художественный кружок, возникший в 1899 г. как объединение художественной интеллигенции. В кружке по “средам” устраивались авторские чтения, художественные выставки, организовывались лекции и спектакли; его учредителями были А. П. Чехов, Н. Д. Телешов и актер А. И. Южин. С 1908 г. деятельностью кружка руководил поэт В. Я. Брюсов. Торжественный вечер, посвященный Ленину, состоялся в Красном зале
(обратно)291
Имеется в виду всероссийская политическая забастовка в октябре 1905 г.
(обратно)292
Русско — японская война 1904 —1905 гг. Имеется в виду сдача Порт — Артура 20 декабря 1904 г. (2 января 1905‑го по старому стилю), ряд поражений русской армии под Ляояном, Мукденом, поражение русского флота в Цусимском сражении 15 (27–28, по старому стилю) мая 1905 г.
(обратно)293
4 февраля 1905 года Иван Каляев (1877–1905), член боевой организации партии социалистов — революционеров, убил С.A. Po ll — 4791 манова. Каляев казнен в Шлиссельбурге ночью, с 9 на 10 мая.
(обратно)294
9 (22, по старому стилю) января 1905 г. в Петербурге состоялась мирная демонстрация по инициативе организации “Собрание русских фабрично — заводских рабочих г. С. — Петербурга”, организатором и лидером которой являлся священник Г. А. Гапон. По приказу правительства демонстрация была расстреляна. См. об этом у Шора в записках [1905].
(обратно)295
обрыв текста.
(обратно)296
обрыв текста
(обратно)297
см. отрывок II.
(обратно)298
Цитата приблизительна. Первые два предложения соответствуют оригиналу. Остальное является сво бодным изложением абзаца, посвященного Аренскому. См.: Римский — Корсаков Н. А. Летопись моей музыкальной жизни. Москва, 1932. С.303. Шор цитирорвал по более раннему изданию (СПб., 1909, под редакцией жены Римского Корсакова, пианистки и композитора, Надежды Николаевны, урожд. Пургольд, 1848–1919).
(обратно)299
Шор пишет эти строки в последний год жизни, то есть через 38 лет после описываемых событий, округляя этот период до “40 лет”.
(обратно)300
Скорее всего, Николай Белелюбский (1845–1922), уроженец Таганрога, инженер — мостостроитель, ученый в области механики и мостостроения. Под его руководством были построены железнодорожные мосты через Волгу: Сызранский и Свияжский
(обратно)301
Проект (начала XX в.) архитектора И. А. Фомина, предусматривавший создание городского общественно — спортивного центра “Новый Петербург” на территории Тучкова Буяна и нового жилого района в западной части острова Голодай (ныне остров Декабристов) — на берегу Финского залива. Проект остался на бумаге. Видимо, Шалит намеревался приступить к строительству, что и сообщил Шору, который ошибочно принял намерение за действие
(обратно)302
Предположительно: Липа Шалит, один из двух делегатов, представлявших еврейство Риги на первом сионистском конгрессе в Базеле в 1897 г. См. о нем: Цейтлин ИГ. Документальная история евреев Риги. Иерусалим, 1989, с.26.
(обратно)303
См. главу [Рубинштейновский конкурс].
(обратно)304
“Альберт” (1857). Фраза произносится музыкантом Альбертом (см.: Толстой Л. Н. Соч. в 3‑х томах. Т. З, книгоиздательство “Слово”, 1921. С.253).
(обратно)305
Нужно: “Памяти великого художника”, оп.50 (1882).
(обратно)306
Фортепианное трио “Памяти великого художника” (1893).
(обратно)307
В белоколонном зале Дворянского собрания. В 1921 г. этот зал отвели Государственной филармонии (носящей имя Д. Д. Шостаковича).
(обратно)308
См. Шопенгауэр, Артур. Мир как воля и представление. Книга третья. Мир как представление. § 52. (Arthur Schopenhauer. Die Welt ais Wille und Vorstellung. Drittes Buch. Die Welt ais Vorstellung: zweite Betrachtung, § 52// Arthur Schopenhauer. Werke in zehn Banden. Ziircher Ausgabe. Bd.l. Zurich, 1977. S.541).
(обратно)309
IIIop цитирует rio русскому переводу: Вагнер Р. Моя жизнь. Мемуары. Письма. Дневники, [в 4‑х томах] Москва, 1911. Т.4. С.22.
(обратно)310
В дословном переводе: (нем.) Это не совсем тот характер, который я хотел придать этой пьесе, однако продолжайте, если это и не в полной мере мое, то это нечто лучшее. (Цит. по: Schindler А. Biographie von Ludwig van Beethoven. Munster, 1871. S. 220.).
(обратно)311
Пер вая постановка “Бранда” (1866) Художественным театром прошла 20 декабря 1906 г., затем выдержала 39 представлений. Несомненно, что данный отрывок написан не раньше 1906 г., тем не менее Шор посчитал нужным вставить его в текст, посвященный 1904 г.
(обратно)312
В тексте драмы эти слова произносит “один из толпы”. См.: Ибсен Г. Полн. собр. соч. СПб., 1909. Т.1. С. 131. В театральной постановке, возможно, были произведены некоторые изменения
(обратно)313
Общество было создано при Московском университете и состояло из следующих отделов: отделения по вопросам религиозно — нравственного образования и воспитания, русского языка и словесности, математики, истории, естественных наук, новых языков, физических и химических наук, отделения по начальным училищам, отделения по вопросам воспитания
(обратно)314
общественный деятель в области народного образования. По инициативе Шанявского и на его средства в Москве был основан (1906) народный университет его имени, имевший научно — популярное и академическое отделения; кроме того, при университете были краткосрочные курсы. Закрыт в 1918 г. в связи с общей реорганизацией системы народного образования.
(обратно)315
Световой прибор для демонстрации диапозитивов
(обратно)316
Речь идет о Пинхасе Рутенберге (1877–1942), бывшем члене боевой организации от партии эсеров. В 1906 г. он подготовил убийство Гапона. Опубликовал в 1909 г. записки “Убийство Гапона”. Эмигрировал в 1919 г. в Палестину, где в 1923 г. основал и возглавил крупнейшую палестинскую электрическую компанию — “Хеврат Хашмаль”.
(обратно)317
Цитата из “Круга чтения”. См. “19‑е августа” № 8. (Толстой Л. Н. Круг чтения. СПб., 1912. С.486).
(обратно)318
Шор имеет ввиду забастовки и волнения рабочих 4–7 февраля 1905 г.
(обратно)319
Выписка Шора с отдельного листа: “Как бы дачное место для генуэзцев. Прекрасное место для купания, оно привлекает и самих итальянцев. Особых достопримечательностей, кроме садов на вилле Паловичине и особой фосфоричности залива, в Pegli нет. Купанье там прекрасное”. [НУБИ, 4°1521, папка 209).
(обратно)320
Парк на юго — востоке Вены, с увеселительными аттракционами.
(обратно)321
Правильно: Stephansdom
(обратно)322
Австрийский композитор и дирижер Густав Малер (1860–1911) с 1897 по 1907 гг. был директором и режиссером Венской придворной онеры.
(обратно)323
Центральное кладбище
(обратно)324
Озеро Гарда
(обратно)325
Полное название Teatro alia Scala — “Ла Скала” — оперный театр в Милане.
(обратно)326
Письмо в архиве не найдено
(обратно)327
Luigi Luzzatti (1841–1927), политический деятель. Был генеральным секретарем Министерства земледелия, индустрии и коммерции, министром финансов, а также председателем Совета министров
(обратно)328
Кампо Санто, кладбище в пригороде Стальеио.
(обратно)329
Лоренцо Медичи (1449–1492), герцог флорентииский, правил во Флоренции (1469–1492), поэт и философ. Микеланджело создал надгробный памятник Медичи (Сан — Лоренцо, Флоренция).
(обратно)330
Джоаккино Россини (1792–1868), итальянский ком позитор. В 1806–1810 учился в Болонском музыкальном лицее у С. Маттеи (контрапункт).
(обратно)331
“Fedora” (1898) опера итальянского композитора Умберто Джордано (1867–1948).
(обратно)332
Через Большой Сен — Бернарский перевал в Западных Альпах проходит дорога, соединяющая долину р. Рона в Швейцарии с долиной р. Дора — Бальтеа в Италии. В верховьях р. Дора- Бальтеа находится Малый Сен — Бернарский перевал, соединяющий Италию и Францию (выход с перевала в верховьях р. Изер).
(обратно)333
Жак — Далькроз (1865–1950), швейцарский педагог и композитор, разработал систему музыкально — ритмического воспитания, способствующую приобщению ученика к музыке посредством пластических движений.
(обратно)334
Первая жена Скрябина: Вера Исакович (1875–1920), ученица Сафонова. Одна из дочерей от первого брака, Елена, стала женой пианиста Владимира Софроницкого (1901–1961).
(обратно)335
Первая в 1907 г., вторая (она же — “Поэма огня”) в 1910 г.
(обратно)336
“Мистерия” должна была объединить все виды искусства: музыку, поэзию, танец, архитектуру, а также свет.
(обратно)337
Скрябин умер 14 (27) апреля 1915 г.
(обратно)338
Шор ошибается. Это праздник сбора винограда, который празднуется ежегодно.
(обратно)339
Арнольд Беклин (1827–1901), швейцарский художник, родившийся в Базеле. Работал как на родине, так и в других странах, Германии и Италии.
(обратно)340
Николай Бауман (1873–1905), революционер, член МК РСДРП (б) — убит 18 октября 1905 г.
(обратно)341
Манифест 17 октября, провозгласивший основы гражданской свободы. В нем также обещалось собрать законодательную Думу
(обратно)342
— Михаил Герценштейн (1859–1906) был избран депутатом 1‑й Государственной Думы от Москвы. 18 июня 1906 г. убит у себя на даче боевиками “Союза русского народа”. Григорий Йоллос (1859–1907), юрист, публицист и общественный деятель, работал в Думе в различных комиссиях: бюджетной, по рабочему вопросу и по подготовке закона о печати; как и Герценштейн подписал Выборгское воззвание. 14 марта 1907 г. — убит черносотенцами из “Союза русского народа”. Граф Сергей Витте (1849–1915), председатель Комитета министров, в своих воспоминаниях называет имена убийц: Казанцев, Федоров и Степанов.
(обратно)343
Вольф Тугенгольд (1796–1864), писатель и цензор, сын Исаи Тугенгольда (1755–1820), одного из первых просветителей в Галиции. Вольф Тугенгольд играл видную роль в кружках местных “маскилим’ ; автор ряда сочинений и повестей из еврейской жизни. Две из напечатанных повестей — “Der Mensch ais Ebenbild Gottes” и “Der Denunziant” — опубликованы М. Бендетзоном в 1848 г. в переводе на иврит.
(обратно)344
В 1847 г. в Вильнюсе (Вильна) было основано раввинское училище. С ним связаны имена целого ряда писателей, поэтов и ученых, среди которых М. — А. Гинцбург, С. И. Финн, А. Б. Лебенсон и его сын Миха — Иосиф (см. о них в “Указателе имен”). Училище окончил художник Исаак Левитан.
(обратно)345
Лидертафель (от нем. Lied — песня и Tafel — стол) — немецкое мужское хоровое (квартетного пения) любительское общество. Вечера общества проходили в основном в концертном “Русском ’ зале ресторана “Славянский базар” на Никольской ул.
(обратно)346
Торговый дом “Вогау и К”.
(обратно)347
Г. М. Марк — сахарозаводчик
(обратно)348
два имени неразборчиво.
(обратно)349
Фирма “Беккер" и фабрика основаны в 1841 г. в Петербуге Яковом Беккером (1851–1901). В 1861 г. фабрика перешла к его брату Францу и потом в собственность М. А. Битепажа. В 1924 г. на ее основе в Ленинграде (ныне Санкт — Петербурге) была создана фабрика “Красный Октябрь”. Карл Шредер (? — 1889) основал в 1874 г. в Петербурге фабрику роялей и пианино. Позднее фирма “Шредер” приобрела фабрику Беккера. “Дидерихс” — фирма, отцом — основателем которой был Фридрих (Федор) Дидерихс (1779–1846), основатель первой в России фабрики по изготовлению роялей и пианино. С 1846 г. фабрикой управляла его жена, с 1868‑го — старший сын Роберт, с 1878 г. совладельцем фирмы стал его брат Андре, и фабрика получила название “Братья Д.”. Фирма устраивала также конкурсы пианистов. Прекратила существование в 1914 г., после немецких погромов, разразившихся с началом Первой мировой войны.
(обратно)350
Мясницкая — была переименована в улицу Кирова; Красные ворота (ныне не существуют) находились на одноименной площади, переименованной в 1941 г. в Лермонтовскую площадь.
(обратно)351
Письмо в архиве не найдено.
(обратно)352
Письмв в архиве не найдено.
(обратно)353
Калонимос-Вольф Зеев Высоцкий (1824–1904), коммерсант. В 1858 г. создал свою знаменитую чайную фирму; филантроп и сторонник движения Ховевей Цион, финансировал ежемесячник на иврите “Ха — Шилоах” [Hashiloachl.
(обратно)354
Дневник этого путешествия был опубликован в ежегоднике “Haasif” за 1889 и 1894 гг
(обратно)355
Третьим опекуном был назначен Шмелькин (Москва).
(обратно)356
Цетлин Осип Сергеевич (1856–1933).
(обратно)357
Б. О. Гавронский
(обратно)358
Р. А. Гоц
(обратно)359
Оба сына Рафаила Гоца были революционерами. Старший — Михаил (1866–1906), в революционном движении с 1880‑х годов, один из руководителей группы “Народная воля”. Младший — Абрам (1882–1940), в революционном движении с 1896 г., примыкал к партии эсеров, позднее член боевой организации этой партии.
(обратно)360
Главное политическое управление (до 1922 г. — ВЧК; Всероссийская комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем).
(обратно)361
Здесь: ученый, эрудит (иврит)
(обратно)362
Литературный псевдоним М.Рафаилов.
(обратно)363
Цетлин Михаил Осипович (1882–1945), поэт, критик и издатель, печатался под псевдонимом Амари. С 1917 г. жил за границей (Швейцария, Франция), с 1941‑го — в США. Один из основателей и первый редактор “Нового журнала”.
(обратно)364
Братья Павел и Петр Третьяковы (Павел Михайлович (1832–1898) — основатель знаменитой Третьяковской галереи, переданной в 1892 г. в дар городу Москве). В семье Морозовых было много меценатов: Савва и Сергей Тимофеевичи, Иван и Михаил Абрамовичи, Варвара Алексеевна и Маргарита Кирилловна (урожд. Мамонтова) и др. Сергею Тимофеевичу (1862–1950) принадлежит большая заслуга в организации Музея Московского губерн ского земства (ныне известного как Музей народного искусства). Иван Абрамович (1871–1921) коллекционировал произведения живописи. В 1918 г. эта национализированная коллекция легла в основу второго Музея новой западной живописи. Маргарита Кирилловна (1873–1958), жена Михаила Морозова, была ученицей Н. К. Метнера и другом Скрябина, руководила Музыкальным обществом. Наиболее известен из них Савва Тимофеевич (1862–1905), внук патриарха семьи Саввы Васильевича, покровительствовавший актерам Художественного театра в Москве. Рябушинские — патриарх семейства Павел Михайлович (1820–1894), владелец текстильных предприятий и банкир, сын его Павел (1871–1889), расширил дело, построив в 1916 г. автомобильный завод. Павел Павлович Рябушинский, старший сын Павла Михайловича, банкир, с 1905 г. занялся общественной деятельностью. Им была создана газета “Утро России”, орган московского купечества. Николай Павлович Рябушинский (1876–1951) — меценат, художник дилетант, издатель журнала “Золотое руно” (Подробнее о Рябушинских см.: Бурышкин, П. А. Москва купеческая. Нью — Йорк, 1954, с. 189–193/) Востряковы Дмитрий Родионович и Елена Кирилловна (1875 —?), сестра М. К. Морозовой, — меценаты. В их доме на Большой Дмитровке проходили встречи Московского литературнохудожественного кружка (см. примечание № 168 к эссе о Максиме Горьком). Патриарх семейства Алексеевых — Алексей Петрович (1724–1775). Алексеевская фирма владела хлопкоочистительны ми заводами и шерстомойнями. Из этого семейства вышло много людей искусства: режиссер и руководитель московского Художественного театра Костантин Сергеевич Станиславский (1863–1938); брат его, Борис Сергеевич, играл в Обществе искусства и литературы (основанного в 1888 г. К. С. Станиславским); из сестер — Мария Оленина — Лонг — певица (об остальных членах семьи см.: Бурышкин П. А. Ук. соч. С. 147–148).
(обратно)365
Абрамцево было куплено в 1870 г. Саввой Мамонтовым (1841–1918), железнодорожным дельцом. Подмосковная усадьба Абрамцево была одним из очагов “литературно — художественной” жизни в России (ныне это музей Академий наук).
(обратно)366
Комплекс клиник для медицинского факультета Московского университета построен в основном на пожертвования наследников Саввы Васильевича Морозова (1770–1862), текстильного фабриканта. Позднее комплекс преобразован в 1‑й медицинский институт им. И. М. Сеченова (с 1990 г. — Московская медицинская академия).
(обратно)367
Братья Сабашниковы Михаил и Сергей владельцы издательства “Книгоиздательство М. и С. Сабашниковых”, основанного ими в 1890 г. Флорентий Федорович Павленков (1839–1900), друг Дмитрия Писарева (1840–1868), публициста и литературного критика, приверженец его революционно — демократических идей. Военный, в 1866 г. вышел в отставку и посвятил себя переводческой и книгоиздательской деятельности. Издательство Павленкова просуществовало до 1917 г.
(обратно)368
Эжен Исайэ.
(обратно)369
обрыв текста.
(обратно)370
“Salome” опера немецкого композитора Рихарда Штрауса (1864–1949).
(обратно)371
Здесь: время грез, мечтаний, романтического полета души.
(обратно)372
текст вырезан.
(обратно)373
текст вырезан.
(обратно)374
См. вступительную статью и примечание к ней № 48.
(обратно)375
Портовый город, ныне часть Тель — Авива.
(обратно)376
неразборчиво.
(обратно)377
Одно из названий озера Кинерет.
(обратно)378
Под “другой”, скорее всего, имеется в виду древнее поселение Шуми (также Шуни), на территории нынешнего поселения Беньямина. Из двух источников, протекающих но территории Шуми, римляне проводили воду в Цезарею (Кейсарию). Здесь сохранились также развалины римского театра.
(обратно)379
Часть западной стены Иерусалимского храма, уцелевшая после его разрушения римским императором Титом Флавием Веспасианом (39–81) девятого числа месяца ав 70 года. Девятого ава сюда сходятся паломники- евреи, чтобы оплакивать разрушенный Храм.
(обратно)380
Озеро Кинерет.
(обратно)381
Среди записей в той же папке (НУБИ, 4° 1521, папка 410) найден фрагмент текста, который, видимо, предназначался в качестве дополнения к воспоминаниям об этой поездке: “В Hotel‘e, в котором я живу, есть пианино, и я могу играть, когда угодно. Когда я впервые сел за инструмент и сыграл первую прелюдию Баха, то горничная Мария (тип заботливои и честной немки) сказала мне: “О, spielen Sie, spielen Sie, ich hóre das sehr gern”*, a Oberkellner** обещал послать за настройщиком; и к Herr Prof.*** стали относиться с почтением. Вчера утром я предполагал сейчас же после игры уйти в горы и там поработать. Но ко мне зашел молодой фламандец из Антверпена и, поблагодарив сердечно за Баха, кот[орого] я играл накануне, просил еще ему поиграть. Я мог легко от него отделаться, но это оказался такой милый энтузиаст, что я с ним еще раз пошел и на могилу Шумана, и в музей Бетховена. Что сказать про музей? Я так много уже знал обо всем, что в нем есть, что сразу почувствовал себя дома и даже поправил заведующего, когда она что не так объясняла. Но всего больше поражает эта комнатка. Неба не видать. А разве это помешало гиганту развернуться? Разве он меньше оттого любил природу и людей? Я даже начинаю думать, что такой закал нужен, и от него не надо оберегать детей!! Вот что навеяли на меня Бетховен и Шуман. В домике Бетховена я уже свой человек. Много ценных указаний получил я там от профессора] Шмидта, директора музея. Возможно, что в будущем наше
О, играйте, играйте, я с удовольствием слушаю (нем.). Старший официант (нем.). Господину профессору (нем.). трио будет здесь играть!!”
(обратно)382
Clara Wieck (1819–1896) в замужестве Шуман, пианистка и композитор.
(обратно)383
[листок из папки № 410, видимо, это продол жение]: Целые часы я просиживал у этой могилы и невольно мне кажутся маленькими все наши интересы. Глубоко веришь в “человека” на могиле Роберта и Клары
(обратно)384
Аронсон Наум Львович (1872–1943), скульптор, автор памятника Бетховену, установленного в 1906 г. в Бонне. О Клингере см. выше примечание № 235
(обратно)385
Музыкальная школа “Шуламит” (1910) — одна из первых, создан ных в Израиле; основала ее Шуламит (Сельма) Руппин. В ноябре 1911 г. она открыла филиал школы в Иерусалиме. После смерти Руппин 15 октября 1912 г., директором яффского отделения стал Моше Хопенко (см. вступительную статью и примечание к ней № 116), а иерусалимский филиал возглавила пианистка М. И. Ицхаки. См. подробнее: Ruppin Arthur. Memoirs. Diaries. Letters. Jerusalem, 1971.
(обратно)386
[…]*** — слово неразборчиво.
(обратно)387
Эти письма в архиве не найдены.
(обратно)388
Дата рождения спорна. Музыкальный словарь (Москва, 1966, С. 53) дает следующую информацию: род. 16 (?; крещен 17) 1770
(обратно)389
Фортепианные вечера.
(обратно)390
Дата основания студии спорна. Сам Шор в своих записках называет то 1913‑й, то 1912 г. Музыкальный энциклопедический словарь — 1911 г. Поскольку неоднократно замечалось, что в воспоминаниях Шора встречается несоответствие дат и событий, то предпочтение следует отдать академическому изданию.
(обратно)391
Варвара Ивановна (ур. Вышнеградская).
(обратно)392
Карл Юльевич Давыдов.
(обратно)393
Скорее всего, “Моисей" — опера Джоаккино Россини (1827).
(обратно)394
По желанию (лат.).
(обратно)395
Лицо неустановленное.
(обратно)396
фрагмент вырезан.
(обратно)397
фрагмент вырезан
(обратно)398
Она была также издательницей журнала “World’s Advance Thought”.
(обратно)399
Просветители, деятели Хаскалы, еврейского просветительского движения, возникшего в Германии во второй половине XVIII в. и распространившегося в России в XIX в. Маскилим выступали за интеграцию евреев в окружающее общество, за модернизацию и реформу иудаизма.
(обратно)400
“Человек как подобие Бога” и “Доносчик” ( нем .).
(обратно)401
Молчание (лат.).
(обратно)
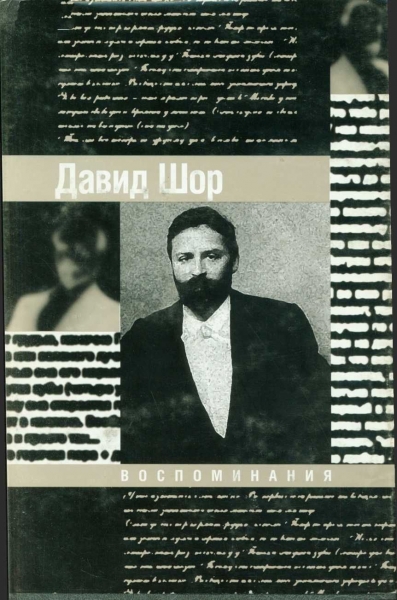


Комментарии к книге «Воспоминания», Давид Соломонович Шор
Всего 0 комментариев