Взгляд извне
Автор:
Я познакомилась с Агнессой Ивановной Мироновой в 1960 году у своих друзей. Это была женщина лет сорока (так мне в первый момент показалось, но вскоре выяснилось, что она много старше), еще очень красивая. Прекрасные черты лица, живые зеленовато-карие глаза какого-то удивительного сияющего оттенка, прическа из крупно вьющихся каштановых волос венцом вокруг головы, большое декольте (хотя была уже осень), безупречно гладкая стройная шея. Платье было светлое, летнее, идеально пригнанное по фигуре, подчеркивающее большой крутой бюст. Было видно, что она следит за своей еще очень хорошей фигурой.
За ужином она стала рассказывать об этапе, которым пересылали ее из Москвы в Караганду. Она рассказывала ярко, красочно, темпераментно, с интонациями действующих лиц, все мелочи в ее рассказе вставали, как живые. Талант рассказчицы и сама рассказчица произвели на меня огромное впечатление.
Мы вышли вместе, нам было по дороге. Я стала ее расспрашивать.
Агнесса не принадлежала к тем реабилитированным, которые словно стеной закрывают пережитое от чужих глаз, не хотят говорить о нем, обрезают всякие воспоминания. Она ничего не хотела вычеркивать, ничего не хотела забывать, наоборот — она рассказывала охотно, с огоньком, ни в чем не таясь, а с людьми несведущими чувствовала ответственность — дать им узнать правду. Больше того — тут она становилась страстной пропагандисткой этой правды, которую люди не знают по неинформированности или не хотят знать.
В тот первый вечер мы, прощаясь, условились, что в ближайшее время она придет ко мне. И она пришла и принесла мне прекрасные письма из лагеря Михаила Давыдовича Короля и стихи тогда уже умершей Сони Солуняновой. А затем я стала приходить к ней. Так возникла наша дружба.
Мы дружили до самой ее смерти, больше двадцати лет…
Я любила приходить к ней. Я побуждала ее к рассказам, а ей рассказывать было нужно, это теперь была ее жизнь.
Оговорюсь — я не точна. Она жила не только прошлым. Активная и энергичная натура, она деятельно жила настоящим, жизнью своих близких и друзей и собственной духовной жизнью.
Но вернусь к рассказам. Предложить ей записывать их я не решилась. Я боялась не того, что она не согласится, а того, что, узнав, что слова ее запечатлеваются, она цензуровала бы себя, рассказывая, подбирала бы, что сказать, а что нет, и естественный рассказ превратился бы в надуманный и мертвый.
Приходя от Агнессы домой, я записывала, что удалось запомнить. Были и пропуски в памяти. Тем не менее что-то осталось. И на основании этих вех, дополнив их рассказами близких Агнессы и собственными воспоминаниями о ее рассказах, я и попыталась написать о ней то, что удалось сохранить. Увы! Это только схема, только краткий смысл, только скелет ее рассказов. Живые интонации, яркие подробности, эмоциональная окраска ситуаций — все это потеряно…
У Агнессы была исключительная память. А зрительная — просто феноменальная. Пятьдесят лет спустя она могла подробно назвать, кто во что был одет и какого цвета что было. Цвета и оттенки она помнила удивительно. Все это ускользает из моего изложения, и не только потому, что самой мне многое не запомнилось, но и умышленно, иначе описание туалетов заняло бы слишком много места.
Ускользнут и многие имена. Это жаль. Я вовремя не переспросила Агнессу и не записала их точно.
Друзья и близкие Агнессы на годовщине ее смерти
Вера Никифоровна (Верочка):
Хотя я и моложе была на пять лет и училась в гимназии на несколько классов позже, но кто же не знал тогда сестер Аргиропуло? Это были первые девушки в Майкопе. Очень красивые, но совершенно разные. Старшая, Лена, была похожа на мать, младшая, Агнесса, в отца — гречанка.
Лева (племянник):
Никогда не забуду влюбленного в нее молодого телохранителя Миронова. Помню, мы уходили из гостей, она надела беличью шубку, но надо было еще надеть боты. Она села на стул, а он ей надевал. Даже нам, детям, было ясно, как он в нее влюблен.
… Вот уже сейчас недавно она со мной поспорила, что сумеет поддержать разговор на любую тему. Ну, думаю, о чем бы таком заговорить? И придумал: о лошадях, вот тут она и проиграет! Но она тотчас стала рассказывать об английской принцессе, которая здесь у нас получила приз за верховую езду. Правда, потом призналась: «Ну, в этом ты понимаешь больше меня!»
Вера Никифоровна:
Меня старшие девушки часто выбирали в наперсницы. Идешь с кем-нибудь и только и слышишь о победах спутницы — и тот в нее влюблен, и этот… От Агнессы я никогда не слышала, что кто-то в нее влюблен. Она никогда не роняла себя до таких рассказов, но, идя с ней, я только и ловила безмолвные восхищенные взгляды. А она ни на кого не смотрела. А как она шла! Высоко подняв голову, уже тогда, у девушки, у нее была эта осанка. Ни на кого не глядя, ничьих взглядов не перехватывая, она шла своим путем, зная, как она действует на людей, но даже как будто не придавая этому значения. Реалисты про нее сочинили песенку: «Аргиропуло Агнесса нос дерет, как баронесса».
Лева:
А вы когда-нибудь видели, как она играла в бильярд? Она очень хорошо играла. Но не в этом даже было дело, а в том, как красиво она играла. И она это знала, она любила покрасоваться своей игрой.
Вера Никифоровна:
…Да, у нее были возможности одеваться…
Лева:
Ну, об этом я могу вам рассказать! Никто с ней не мог сравниться в туалетах! Только раз она была посрамлена. Это было знаете когда? Когда встречали Громова и других летчиков после перелета. Был парад на Тушинском аэродроме, и мы, пацаны, тоже там были с тетей Агой и дядей Мирошей на трибуне для привилегированных.
Жена Громова подговорила Данилову и Юмашеву, и они попросили Сталина (все это мне рассказывала тетя Ага) разрешить им встретить своих мужей в Париже. Жена Громова была спортивного склада, с хорошей фигурой, а в Париже она приоделась по последней моде.
И вот тетя Ага, привыкшая первенствовать, вдруг видит в правительственной ложе Громова и его жену в этом парижском костюме! Тетя Ага долго потом не могла успокоиться. Но это было единственный раз.
А мы, мальчишки, были потрясены машиной Громова. Это был «шевроле».
Часть I. И РАЙ, И АД — ВСЁ РЯДОМ
Агнесса Аргиропуло,
1919 год
МОЙ ДЕДУШКА
Вы знаете, я сейчас больше всех писателей люблю Чехова. Я его не понимала прежде, я только сейчас оценила. Спасибо, что вы принесли мне его письма. Это ведь самое подлинное.
Чехов мне еще и потому интересен, что он был на Сахалине, как раз когда там отбывал каторгу мой дедушка — отец моей матери. Чехов, думается мне, знал его. Я рассказала в Ленинской библиотеке, и они мне разрешили пройти в рукописный фонд. Там я нашла картотеку арестантов, составленную Чеховым. На каждого арестанта, о котором удалось Чехову получить какие-то сведения, он заводил карточку.
И я нашла там карточку на Зеленова Ивана — уроженца Томска. Все сходится, и возраст сходится, только фамилия дедушки была Зеленцов. Ошибся ли Чехов? Или дедушка значился там как Зеленов?
Семья дедушки Ивана и бабушки Анисьи (Они) жила в Барнауле. Дедушка был простой человек, русский. Бабушка была якутка, неграмотная. Детей было много, дедушка ходил на заработки, уходил рано, приходил поздно.
Напротив жили богатые поляки. Вероятно, они были высланы после восстания в Польше в 1863 или даже в 1830 году. В Сибири они разбогатели, имели несколько доходных домов — сдавали квартиры жильцам.
И вот однажды этот хозяин, поляк, старик — уже восемьдесят лет ему было — вызывает моего деда и говорит:
— Стар я и слаб, ничего уже делать не могу, вот только сижу и смотрю в окно, дом твой вижу и всю вашу жизнь вижу, как дети выбегают босые на мороз, как ты каждый день уходишь рано утром на заработки. Не пьянствуешь, в церковь ходишь. Я понял, что ты человек честный, трудящийся. У нас с женой никого нет — ни детей, ни внуков, одиноко живем, а смерть наша не за горами… Вот я и хочу завещать тебе все свое имущество, чтобы ты присматривал за мной и за женой в нашей старости, стал бы нам за родного.
Дедушка согласился не сразу, сказал, что посоветуется с женой, и, поговорив с бабушкой Оней, предложение принял.
Старик поляк прожил недолго, умер. Осталась старушка, за ней дедушка ухаживал заботливо: вызывал докторов, покупал лекарства, сам, не доверяя горничной, давал их ей, следил, чтобы у старушки все было, часто сидел с ней, разговаривал, и она относилась к нему как к сыну.
В доме были горничная и два поляка-приживала, они от зависти не знали, что и выдумать. Может быть, они сами надеялись стать наследниками, а тут объявился какой-то бедняк без роду и племени… И вот, когда старушка умерла, они стали говорить, будто дедушка отравил ее, будто они сами видели, как он давал ей яд с ложечки. Старушка уже была похоронена, но слух не затихал. Состоялся суд. Главным свидетелем выступил батюшка, его голос на суде был равноценен голосам двенадцати свидетелей. Батюшка сказал, что в гробу умершая была с зелеными пятнами, значит, ее отравили. Тут же выступили и горничная, и те два приживала и опять сказали, что якобы видели, как дедушка давал ей яд с ложечки.
Труп выкопали, вырезали желудок и в запечатанной банке отправили на экспертизу в Томск. Ответ пришел, что в желудке найдены следы мышьяка. А он, мышьяк этот, входил в состав лекарства, которое старушке прописали для аппетита. Но никто в этом не разбирался. Все знали, что мышьяк — яд, и значит дедушка мой — отравитель.
Его осудили на двадцать лет каторги. Начиналась зима, пароходы по Оби уже не ходили, а ехать надо было на пароходе. Дедушка просидел в тюрьме в Барнауле восемь месяцев. К нему в тюрьму пускали на свидания бабушку Оню и детей. Там, в тюрьме, ставили самовар, и все, сидя на полу вокруг самовара, пили чай с принесенными булками. При этом присутствовал жандарм и тоже пил чай.
В начале лета пароход увез дедушку. Он стоял на палубе, закованный в цепи, ножные кандалы были привязаны к поясу, на голове — арестантская шапка. По лицу текли слезы.
После его ареста старшая его дочь, мамина сестра, пошла работать, а маму отдали ученицей в пошивочную мастерскую, где ее заставляли подметать пол, бегать за покупками, помогать кухарке, а шить не учили. Когда она спросила, почему так, хозяин ответил, что днем все швейные машины у него заняты и учить ее не на чем. Учись, мол, сама, ночью.
Маме в мастерской каждый день давали два кусочка сахара. Она не ела его, а прятала в мешочек, который затем приносила домой — маленьким братьям и сестрам.
Пока дедушка не был осужден, а только нависла над ним угроза, умные люди научили бабушку, и она брала из дома поляков серебро — посуду, подсвечники, безделушки, — там все было из серебра. С этим бабушка ездила в Томск и другие места и продавала. Вырученные деньги помогали сводить концы с концами.
У мамы было четыре класса образования. Она ушла из пошивочной мастерской. Старшая сестра к тому времени уже работала кассиршей в одном магазине и на такую же работу смогла устроить и маму.
Так прошло восемь лет. И вдруг приходит телеграмма: «Молитесь Богу оправдан».
И опять все на пристани, но уже не провожают, а встречают. На палубе худой человек с длинной белой бородой, слезы катятся по его лицу.
Почему же его оправдали? Дедушка рассказывал, что он встретил на Сахалине очень умного и хорошего человека, которому поведал все, что с ним случилось. А тот тотчас обратил внимание на такую деталь: когда дедушка якобы отравил старушку, он уже юридически был полным хозяином всего и отравлять ему ее не было никакого смысла. Человек, о котором рассказывал дедушка, вскоре уехал с Сахалина, подал от имени дедушки прошение в Петербург, и дедушка был оправдан.
Кто это был? Может быть, Чехов? Есть фотография, где Чехов снят с каторжанами, и там есть один худой, с длинной белой бородой. Я думаю, что это мой дедушка, но проверить это не удалось.
Дедушка вернулся, и к нему на дом пришли городской голова и другие почтенные люди города. Только батюшки, который свидетельствовал, с ними не было — он сошел с ума. Пришедшие принесли дедушке ларец с золотыми и ассигнациями и сказали, что все годы дедушкиного отсутствия дома сдавали жильцам и вот от них доход — он принадлежит дедушке.
МОЙ ОТЕЦ
Греция… Я никогда не была в Греции. В Барнауле была, а в Греции нет, а ведь Греция — это тоже родина моих предков.
Отец мой — Иван Павлович Аргиропуло — был грек по национальности, турецкий подданный. Царское правительство разрешило части турецких греков, спасавшихся от расправы турок, приехать в Россию. И родители отца привезли его, еще совсем маленьким, в Анапу. Как и почему уже юношей он попал в Барнаул, я не знаю.
Там это было диво — южанин, грек. Подружки прибежали к маме на работу:
— Знаешь, в лавке у Прохоровых новый приказчик! Грек! Красавец! Все барышни приходят на него посмотреть!
Пришла и мама. А папа был и правда красивый — черноглазый, черные кудри. Нос большой с горбинкой, но это его не портило. И не только лицом был папа интересен. Он был гораздо культурнее барнаульских юношей, он очень любил книги, знал литературу. Какой-то принц из далеких экзотических стран — таким он показался маме.
Они познакомились, встретились на маскараде, папа был в костюме Пьеро. Он стал ухаживать за мамой. Дедушка сказал ей:
— Смотри, если выйдешь за него замуж, он увезет тебя за тридевять земель.
Мама говорила, что не выйдет и не увезет, а самой ей именно и хотелось, чтобы он увез ее.
Она вышла за него замуж.
Поп не хотел венчать:
— Не буду, вы разной веры!
Папа вспылил:
— А откуда вы свою веру взяли, вы не знаете?
Поп не знал и был очень упрям. Пришлось венчаться в другом месте, у другого попа, который был грамотнее.
Дедушка дал несколько тысяч приданого за мамой, и папа увез ее в Майкоп. Тут оказалось у него очень много родственников-греков, и все мечтали разбогатеть. Мамино приданое оказалось для них как раз кстати, и они стали вовлекать отца во всякие аферы, а он легко поддавался их влиянию.
Помню, появилась затея разбогатеть на извести. Где-то можно было ее раздобыть чуть не бесплатно. Ее приобрели, наняли железнодорожные вагоны за пятьсот рублей, привезли эту известь, а никто не берет. Продать удалось всего на пятьдесят рублей. Железная дорога больше ждать не хотела, требовала, чтобы вагоны наконец-то разгрузили, пришлось вывезти известь в поле и сбросить, а тут как раз пошли дожди… Другие затеи были не лучше. Родственники отца комбинаторами были плохими: все комбинации у них лопались, принося убытки. Но папа и сам был прожектером. Уже при белых у нас жил отец белого офицера (мы брали жильцов для приработка), за этого офицера Лена вышла замуж. Отец его тоже был «делец». Они с папой затеяли приобрести совместно мельницу. Папа рассчитывать не умел, в делах ничего не понимал, ему все казалось, что компаньон его надувает… В конце концов они оба прогорели на этой мельнице.
Моя память начинается раньше этого времени, когда папа поступил работать управляющим к очень богатому греку. У этого папиного хозяина были плантации табака, виноградники, склады, магазины, кинотеатр. Папа был управляющим магазинов и кинотеатра. Хозяин платил ему жалованье семьдесят пять рублей в месяц. К Новому году давал еще конверт с пятьюдесятью рублями (не мог даже полного оклада дать, скупердяй!).
Отношения с хозяином у отца были близкие. Оба греки, они говорили друг с другом на родном языке, были на «ты».
Жена хозяина Клио Федоровна была рябая и некрасивая, но очень хорошо сложена — стройная, высокая. Она тоже относилась к нам по-семейному. Однажды она пришла поболтать с мамой, а уходя, споткнулась о какой-то половик и упала. Ее тотчас подняли, все у нее было цело, и даже ушибов не было. Она ушла.
И вдруг вскоре хозяин взволнованно сообщил отцу, что Клио Федоровна потеряла из кольца очень ценный бриллиант — подарок покойного деверя… Не нашли ли мы его? Папа сказал, что нет. Мы стали искать. Сперва ничего не находили, затем мама велела прислуге принести все половики, стала их тщательно перебирать пальцами и нашла бриллиант. Тотчас позвонили отцу по телефону-вертушке. Обрадованный хозяин отпустил отца с работы, благодарил, превозносил, на радостях говорил: «Вот что значит честные люди!» Это было перед Новым годом.
А на Новый год хозяин пригласил нас всех на семейный ужин. Мы, дети, играли с детьми хозяев. Моей подружкой была Галатея — хозяева давали своим детям греческие имена. Ужин был роскошный.
В начале ужина Клио Федоровна встала и в наступившей тишине сказала:
— Вы знаете, какой это ужин? Это бриллиантовый ужин!
И произнесла тост за честных людей.
Но больше никак они нас не отблагодарили.
Когда пришла советская власть и у них все отняли, мама сказала отцу:
— Ну и дураки мы были, Иван, что отдали бриллиант! Мы бы сейчас себе дом купили!
Помню свадьбу сестры Клио Федоровны. Невеста в длинной фате, жених высокий, похожий на Столыпина. Шлейф невесты несли две девочки из гимназисток — Агриппина и Медея. Свадебный обед был в греческой кофейне. Столы стояли подковой. Нас, детей, сперва за столы не посадили. Мы с сестрой Леной были одеты очень просто, в белых платьях. Мама из голубых лент сделала нам повязки на голову.
После праздничного обеда был бал. Открывал его наш отец — стройный, красивый. Ему очень шли большие черные усы. Танцевал он отлично. Он пригласил невесту на вальс. Все смотрели на них. Папа вел бал, танцевал все время — и с мамой, и с Клио Федоровной, и с другими, а мы смотрели, и любовались, и гордились папой, и чувство у нас было такое: «Это наш папа танцует! Видите, какой у нас папа? Хоть вы и богаты, а мы нет, и одеты мы просто, но мы не хуже вас! Наш папа здесь лучше всех!»
Потом нас посадили за стол.
У нас не было своего дома, мы снимали квартиры. В начале гражданской войны мы снимали квартиру у генерала в отставке в его особняке. Генерал был на пенсии, с утра до вечера занимался своим садом. Сад был прекрасный, аккуратный, в английском стиле, все подрезано, подчищено, зеленые лужайки. Генерал знал названия всех деревьев, рассказывал нам о них. Старик был добрый, приветливый.
Пришли красные. Генерала убили, «надели», как на вертел, на садовую решетку. Некоторое время он висел так.
Папа был в Махачкале, отрезан от нас фронтом. Когда он вернулся, так совпало, к нам в особняк пришли реквизировать вещи.
Отец говорил:
— Это не наше.
И пришедшие все забирали.
Затем явились уже к нам, реквизировать наши вещи. Нашли Ленины новые маленькие сапожки.
— А говорят, буржуи в каблуки бриллианты прячут!
И хотели оторвать каблуки. Лена взмолилась, они ей:
— А если найдем, что будет, а?
— А если не найдете, — сказала Лена со свойственным ей задором, — мне ходить будет не в чем.
Они оставили.
Вы знаете, я ездила недавно в Майкоп… Как только получила наследство Шарлотты, тотчас поехала «по следам своей юности»… Отыскивала старых знакомых, улицы, родные мне с детства. Многое изменилось, только кое-где еще следы прежнего… А скольких людей уже нет — или умерли, или раскидала жизнь… Но кое-кого все-таки разыскала. Свою майкопскую подругу я нашла в Сухуми. Ее семья когда-то была очень богата, у них действительно были драгоценности. Они зарыли их под большой цветущий куст в саду, но реквизиторы были дотошны, они почти все цветы перекопали, чудом этот куст не тронули — надоело возиться, вероятно.
На сохраненные драгоценности семья моей подруги потом купила несколько домов в Сухуми, один из них — ей. Он небольшой, сияющий белизной между синим морем и синим небом. Кругом сад, где цветут магнолии. Это рай.
Подруга моя смеялась:
— Помнишь, какие были у нас розовые кусты в Майкопе? Вот ты видишь один из них.
И, заметив мое недоумение, раскрыла мне только сейчас — спустя пятьдесят лет — их семейную тайну.
Но у нас брать было нечего.
После прихода красных слух пошел такой: будет объявлена свободная любовь, ни одна женщина никому не должна отказывать.
Папа умолял маму:
— Ты их не выпускай из дому!
Лена потешалась над его страхами, не верила.
Весь мир, в котором мы жили, встал вверх дном. Папе это очень не нравилось. А тут его родственники начали хлопотать об отъезде в Грецию. Еще до того отношения с мамой у отца разладились. Я часто слышала, как мама, вспылив, кидала ему упрек, что его родственники профукали ее приданое. Это была правда, но отец был очень предан этим своим родственникам, а они, в свою очередь, настраивали его против мамы. В конце концов он ушел от нас, стал жить врозь с семьей. Но нас — Лену, меня и Павла — он очень любил. Мы уже были не дети. Лена была замужем, я собиралась замуж, но никому еще об этом не говорила.
Отец давно мечтал о Греции, думал о ней, о родине, которой не знал, о земле своих предков. Мечта эта захватывала его все больше. И когда родственники начали хлопотать об отъезде, его стали раздирать противоречия. Он приходил к нам, уговаривал маму и нас поехать с ним. Мама и слышать не хотела, у нас с Леной уже была своя жизнь, я жила ожиданием, что мой жених приедет за мной. Мы отказывались.
А тем временем родственникам пришел ответ из Москвы. Ленин разрешал им уехать в Грецию. Отец разрывался на части — поехать? остаться с нами?
Родственники его уже уехали в Новороссийск, оттуда должны были плыть морем. Отец пришел к нам совершенно убитый. Я понимала все, стала его успокаивать:
— Что ты такой грустный, папа? Ты хочешь ехать? Поезжай в Новороссийск, там еще, может быть, и корабля не будет. А если будет, поезжай в Грецию, узнаешь, как там, напишешь. Если хорошо, приедешь за нами.
Он поехал. В Новороссийске корабль стоял уже в порту, родственники — на чемоданах. Раздумывать было некогда. И он решился. Поехал.
И — как в воду канул. Никаких вестей.
О судьбе отца мы узнали много позже, когда Павел сделал запрос — написал одному богатому греку в Афины, а тот разыскал папиного двоюродного брата Алкивиада, который и рассказал, что случилось.
На пароходе было очень тесно, все ехали на палубе. Наконец увидели свою вымечтанную Грецию. Но на берег их не пустили. Они были из большевистской России, их называли «агентами большевиков» и высадили на остров в нескончаемый карантин. Он длился и длился, было голодно, холодно, трудно. Начались эпидемии. Умерли тетя Лизика с мужем и ребенком. Начали умирать и другие братья, сестры, родственники… Отец еще крепился, он обязательно ходил к морю, купался, старался не сдаваться. Но эпидемия и его подкосила. Он тяжело болел, плакал, вспоминал детей, подолгу рассматривал фотографию, где сняты мы трое, говорил:
— Если бы Ага была со мной, я бы выздоровел!
Я была его любимицей.
Он умер. В живых из всех остался только Алкивиад.
Милая Мира, вы едете во Францию? А на берегу Средиземного моря вы будете, да? В Марселе и на Лазурном берегу?
У меня к вам просьба: привезите мне, пожалуйста, камешек с берега Средиземного моря. Море, Средиземное море, мое море… Это такая же эфемерная мечта у меня, как была у отца… Но я Средиземного моря никогда не увижу…
МАМА. ЛЕНА
Мне хочется дожить до 1986 года. Почему именно до 86-го? Тогда должна вернуться комета Галлея. Она возвращается каждые семьдесят пять — семьдесят шесть лет. В детстве я ее видела. Она приближалась с каждым днем, все вырастала в небе. Тогда пошли слухи о конце света. Некоторые даже ямы рыли — спасаться, если она столкнется с Землей.
Она появлялась и при Пушкине. Это ведь она навела его на образное сравнение с Натальей. Помните — «Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост»?
Потом она появилась уже… Когда? Сейчас вспомню. Наверное, в 1910 году, потому что, помню, — как раз когда она была на небе, мы как-то с Леной пошли к колодцу, а там был соседский мальчик. Он нам сказал: «Толстый умер». Мы не поняли, спросили папу. Папа объяснил, что это граф Толстой, самый большой русский писатель. Папа сильно переживал смерть Толстого, он его очень любил.
Так вот это было как раз тогда, когда появилась комета, а Толстой умер в 1910 году, значит, осенью или зимой того года.
Мне хотелось бы только дожить до ее возвращения…
Комета вернется, а юность…
Нас было трое детей в семье: Лена старшая, потом я, потом Павел (или «Пуха», как мы его звали).
Папа был очень начитанный. Много он вложил и в наше образование.
Вложила и мама. Она учила нас добру — подавать нищим, молиться Богу, помогать людям.
— За каждое доброе дело, — говорила она, — вам отплатится добром.
Помню, кто-то мне рассказал, как надо дразнить евреев: приставить к своему уху большой палец, растопырить пятерню и шевелить пальцами. Это называлось «свинячье ухо». Евреи ведь не едят свинины.
Я очень обрадовалась затее и как только пришла в школу стала показывать «свинячье ухо» своей соседке по парте — еврейке. Но девочка ничего не поняла. Это испортило мне все удовольствие.
Я рассказала маме, как дразнила девочку «свинячьим ухом».
Мама очень рассердилась и сказала мне:
— Твоя бабушка была якутка, а отец — грек. Значит, и тебя надо дразнить за это?
А греков тоже дразнили: когда Павлику купили велосипед и он стал ездить по улице, мальчишки кричали ему вслед:
— Пиндос, поехал на паре колес!
Моя сестра Лена была старше меня на два года, а Пухи на пять. Она по характеру была заводилой, главарем, да еще — у нас старшая. Она была вспыльчива, горяча, привыкла первенствовать, привыкла, что все лучшее — ей.
Помню, в детстве она изображала королеву на троне, но если мы с Пухой не так ей прислуживали, бросалась бить нас кулаками. А мы все терпели, чтобы не выбыть из игры. Она всегда выдумывала очень интересные игры. За эти игры мы соглашались быть ее рабами. А ей только того и надо было — властвовать, чтобы ей подчинялись беспрекословно. Правда, мы с Павлом были для нее «мелюзга». Запросто могла нас прогнать из игры. Это ей ничего не стоило.
Она была насмешница, могла рассмешить до слез. Уже когда я была замужем, к нам часто приходил в гости один армянин — рохля и размазня, неинтересный и скучный. И вот стала Лена играть роль, что влюблена в него. И ласкова, и предупредительна, и все ему подает, угощает, а он не понимает, что она над ним смеется, что она нарочно разыгрывает страстно влюбленную. Ну а мы знаем и только удерживаемся, чтобы не рассмеяться. Она еще пуще. Зайдет за его спину и рожки ему пальцами ставит, и рожи строит. Помню, раз Верочка не сдержалась (она у нас тогда жила) и, чтобы не расхохотаться, выскочила из-за стола.
Лена была очень красива. Мама наша имела в лице что-то монгольское — от бабушки Они. Лена была на маму похожа, но монгольского было в ней чуть-чуть, едва намечалось и придавало ее лицу это особое выражение — затаенной насмешки. В остальном же она была русская красавица. Блондинка, синие глаза, густые косы, яркий румянец, такой яркий, что, бывало, она прибегала к маме в слезах: «Мама, меня дразнят, что я щеки накрасила!» Мама утешала, а когда Лена стала постарше, посоветовала ей гуще пудриться, но и это не помогало — румянец проступал сквозь пудру.
Я была моложе. Лена расцветала, а я была еще девочка, и я носила одежду после нее. У нас было заведено — Лене покупалось новое, а я донашивала.
Но вот я стала Лену перерастать, я стала плотней ее, такая «бомба». Тогда и мне пришлось покупать новое.
Все кругом говорили: «Толстой быть нехорошо, некрасиво». Я им верила и все старалась поменьше есть, стесняясь, что меня так разносит. Лена говорила, что и ноги у меня толстые. Такие «бутылочки» стали. Я им всем верила, а потом стала замечать, что мужчинам такие «бомбы», как я, нравятся гораздо больше тощих.
Лена пользовалась большим успехом у мужчин. В любой компании она всегда была первая, «душа общества», ее острый язычок никому не давал спуску.
Когда в Майкоп пришли белые, за ней многие ухаживали. Помню, генерал Калмыков устроил бал. Сам в темно-бордовой черкеске, со стэком. Лена была в центре внимания, ее приглашали наперебой. Но генерал Калмыков оттеснил всех. Хотя не бал ему был нужен, а резня.
Через день белый офицер, дворянин известной фамилии, поклонник Лены, повез ее на своем выезде (прекрасные лошади были у него!) кататься за железную дорогу. Он собирался поразить ее — показать ей виселицы. Вот мужчины всегда так: обязательно им нужно воевать, убивать, уничтожать, а потом еще гордятся этим. Лена, как только поняла, куда он ее везет, приказала остановиться, повернуть обратно.
Красные расстреливали, белые вешали. Вешали за железной дорогой и на центральной площади. Было объявление: родственникам приходить в подвалы Сазонтьева, там сложены трупы повешенных, пусть берут и хоронят.
Лене хотелось блистать по-настоящему, стать самостоятельной, хозяйкой дома, хозяйкой салона, устраивать приемы. Ей было тогда девятнадцать лет.
Она вышла замуж за белого офицера, и мечта ее исполнилась — она стала хозяйкой в своем доме и никому отчета больше не давала.
Лену любили два гимназиста — братья Роговы. Однажды старший брат встретил меня на улице:
— Это правда, что Лена вышла замуж?
Я молчу, а он с горечью:
— Что ж она не подождала? Мы скоро кончим, мы бы на ней женились.
Любила ли Лена мужа? Нет.
Она прожила с ним ровно год. Когда красные вошли в город, белые ушли без боя (по договоренности), желающие остаться сдали оружие, им обещали, что их не тронут. И они стали служить в разных местах.
Спокойно прожили год. И вдруг приказ: всем бывшим белым офицерам зарегистрироваться и прибыть на станцию Тихорецкую такого-то числа в такое-то время.
Лена провожала мужа. До Тихорецкой ехали на лошадях. Прощаясь, он плакал. Затем Лена вернулась домой. Она мне рассказывала: ехала домой и вдруг почувствовала, что она совсем свободна. Свободна! Это была радость.
Он прислал несколько открыток с дороги. Сообщил, что едут в Архангельск. Затем все затихло.
И вдруг вернулся один из увезенных. Он рассказал, что тяжело болел тифом, в бараке лежал, свернувшись на койке, лицом к стене. Его сочли умершим и оставили.
А всех других офицеров увезли и расстреляли из пулемета.
Так Лена узнала, что она вдова.
ЗАРНИЦКИЙ
1.
У нас в Майкопе белые стояли несколько лет. Когда вошли красные, я заканчивала гимназию. Нам объявили, что мы должны сдавать политэкономию, прислали лектора. Он был маленький, тощий. Но такая была в нем страсть ко всем этим «коммунизмам и диктатурам», такой это был фанатик, что только дивиться можно было, как в таком хилом теле — и такой пылающий дух. Суть учения он излагал так:
— Вот есть у меня пинжак. И если у тебя его нет, то я должон его тебе отдать, и я с радостью отдам. Или рубашка, которая, как говорится, ближе к телу.
Мы, барышни, смотрели на него с удивлением.
Было лето, жара стояла страшная. Я была дома. Вдруг прибегает моя подруга Лиля:
— Агнеска, что ты тут сидишь? Ты что, ничего не знаешь? Еще вчера вошла в город башкирская бригада, а ты тут сидишь взаперти! И командиры культурные, интересные. Солдаты у них башкиры, а командиры, ну как белые офицеры! Честное слово, пойдем скорее в городской сад! Как раз они там гуляют. Сама увидишь.
Я быстро вытащила из колодца два ведра холодной воды и — в сарай. Там на земле крест-накрест сложены были жерди, я на них встала и облилась. Затем надела белое платье, чулки (тогда «на босянку» не ходили), черные лакированные туфли.
Лиля меня торопит:
— Ну что ты копаешься, они уйдут!
Мы пошли. По дороге она мне рассказывала шепотом, смущаясь:
— Мы так вчера обмишулились с Ирой, ты знаешь? Вечером мы были в саду, видим — красный командир, на фуражке красное нашито. Я и говорю Ире по-французски, но так, чтобы он слышал, что мы говорим на иностранном языке, которого он, конечно, не знает; говорю ей с пренебрежением: красное, говорю, только дураки любят, а он… Ой, ну ты только подумай — он вдруг нам по-французски тоже: «Милые барышни, вы ошибаетесь. Красный цвет — это цвет свободы!» Ох, я чуть не провалилась, мы тут же удрали. Ну ты подумай, а? Теперь я боюсь его встретить. Правда, вчера уже темнело, он мог нас не разглядеть.
Мы пришли в сад. Сели на лавочку у спуска к реке и смотрим, выжидаем. Солнце садится, от реки повеяло прохладой, поодаль в раковине заиграл духовой оркестр.
И вот видим, идут по аллее трое, в середине — высокий, стройный, интересный, в черкеске! По бокам — один постарше, другой совсем молоденький. Я посмотрела на этого в середине, и вдруг так он мне понравился, что я подумала: если буду выходить замуж, то только за него…
А тут порыв ветра, моя синяя шелковая косынка, которую я накинула на плечи, улетела. Я — бегом за ней под откос к реке, догнала. Возвращаюсь, запыхавшись, а Лиля мне шепчет:
— Зачем ты побежала? Они все кинулись наперерез твоей косынке. Если б ты не догнала, они бы тебе ее принесли…
А они стоят поодаль, поглядывают на нас. Я быстро сообразила. Новый порыв ветра — и как будто случайно моя косынка улетает вновь. Я не стала спешить. И вот тот самый, который мне понравился, приносит ее мне.
— Как вы тут сидите, такой ветер, можно простудиться! — И смотрит на меня.
— Это приезжим можно, а мы к этому климату привыкли.
И начался разговор. Тот, что был старше всех, ушел. Как мы вскоре узнали, это был командир башкирской бригады. У него была жена, семья.
А двое других — к нам на лавочку по обе стороны от нас. Тот, кого я наметила, — рядом со мной. Он назвался: Зарницкий.
А другой, молоденький, — с Лилиной стороны. Он назвался тоже: Женя, но тут же поправился: Агеев. Наверное, недавно из дома, еще не привык по фамилии.
О чем мы говорили в тот первый раз? И это помню. У нас в Майкопе рассказывали такой случай. Как-то, когда красные гнали через город пленных белых, один из них сунул стоящей у дороги девушке (она смотрела на пленных) толстую палку, которая у него была в руке. «Возьми, — сказал он, — все равно отнимут, сохрани ее. Ты только скажи — кто ты?» Она показала на дом: «Я здесь живу».
Взяла палку, повертела. Палка как палка. Почему надо было ее хранить? Но сохранила. Потом пленных отпустили, и он пришел. Разобрал набалдашник палки, а там — деньги. Много, туго скручены. Деньги эти ходили при белых, он надеялся, что белые вернутся.
Наши кавалеры смеялись:
— Не вернутся уже! Конечно, интервенция, Антанта… Но — отобьемся, обязательно отобьемся!
И вдруг Агеев, Женя, говорит Лиле:
— А я думал, что вы говорите только по-французски!
Она вскинула на него глаза — узнала. Тут же дернулась удрать, но я удержала. А Женя ей:
— Пожалуйста, не удирайте, как вчера.
Мы стали встречаться. Женя только год назад кончил гимназию и пошел добровольцем в Красную Армию «сражаться за свободу народа», как он говорил. До того, еще в гимназии, он участвовал в нелегальных кружках. У них с Лилей начался роман, но Женю вскоре куда-то услали.
В Майкопе был театр «Двадцатый век» и там же кабаре. На сцене идет представление, а в зале столики, можно смотреть представление и закусывать. Потом столики сдвигали и устраивали танцы. Иван Александрович (так звали Зарницкого) хорошо танцевал. Он был на десять лет старше меня.
Однажды мы пошли гулять втроем — он, Лиля и я. Началась гроза, ливень. Мы спрятались под дырявый навес. В яркой вспышке молнии, как блестящие стеклянные стержни, видны были струи дождя, льющего в щели крыши. Наконец нашли место, где не текло. Но успели уже вымокнуть. Когда ливень стих, Зарницкий пошел меня провожать. А на мне была красная шляпка, она линяла. Зарницкий был в белой рубахе (в цивильном), он взял меня под руку, а я склонилась к нему, и краска со шляпки стекала на его рубашку. Только утром он заметил, что рубашка его вся в красных разводах.
Как помнятся такие мелочи! Все имеет какой-то особый смысл в начале любви.
Ливень и шляпка — это было уже после того, как Иван Александрович стал открыто отдавать мне предпочтение. Я поняла это сразу, но он был человек воспитанный, вежливый и первое время, пока Женя отсутствовал, оказывал внимание и Лиле — делил свое внимание между нами. Но все яснее становилось, что нужна ему я. Как-то мы сидели в кино, в темноте, шел фильм «Отец Сергий» с Мозжухиным в главной роли. Иван Александрович сидел между мной и Лилей. Он взял наши руки в свои. Но потом поднял мою и безмолвно поцеловал — прикоснулся губами.
— Какие крепкие зубы! — воскликнула я.
— У кого зубы? — удивилась Лиля, которая его поцелуя не заметила.
— Конечно, у меня! — ответила я непонятно. В тот миг у нас с Зарницким получилось словно какое-то тайное объединение, как будто мы очертили себя волшебным кругом: то, что внутри, было только наше, а Лиля осталась за кругом.
Вскоре она поняла это. Но ничуть не обиделась. Вернулся Женя, и их роман получил продолжение.
А я вот не могла бы тогда влюбиться в однолетку, как и я, недавно окончившего гимназию. Меня влекло к мужчинам старше, уже повидавшим что-то на своем веку. Мне и потом нравились только такие, перед умом и авторитетом или силой и доблестью которых я могла преклоняться. Таким был Зарницкий.
Мы много гуляли с ним по городу, чаще всего вечерами, когда можно было где-нибудь под покровом тенистого дерева или в другом укромном местечке целоваться. Меня удивляло, что Зарницкий так сдержан. Другие меня уже так целовали, бывало насилу отобьешься, а он — ничего подобного.
Когда провожал меня, инициатива разлуки всегда исходила от него. «Пора спать», — говорил он, и мы прощались. Целовал меня крепко, но прерывал поцелуй всегда он. И уходил. Я недоумевала. Я к такому не привыкла. Называли мы друг друга на «вы».
Он сделал мне предложение перед самым уходом бригады. Нельзя было долго раздумывать, и я согласилась. Он сказал:
— Я приеду за вами, как только где-нибудь обоснуюсь.
И стали приходить ко мне толстые письма в голубых конвертах. Я отвечала.
Лена в юности меня ни в грош не ставила, всегда смеялась над моими поклонниками. А Зарницкий… над ним она не смеялась, понимая ему цену и недоумевая, вероятно, как это я сумела «закрутить» с таким. Они с Таней Каплановой — ее подругой — дразнили меня:
— Чего ты ждешь? Сколько других кругом, а ты все ждешь! Нам говорили, что в Петрограде у него невеста. Столичная. Куда тебе против нее! Ты даже и вести себя в Петрограде не сумеешь!
А я только губу закушу — и ни слова. Уйду и про себя все возражаю, возражаю… «Я, если хотите знать, даже за столом королей смогу себя держать как надо!.. И если б у него была невеста, если бы я была ему не нужна, то зачем бы он писал мне так часто, так длинно? Если бы я была ему не нужна, — то уехал бы и все бы на этом кончилось!»
Так я отбивалась мысленно, пока были от него письма, а потом они прекратились. А Лена и Таня встретят и давай смеяться:
— Ну, госпожа Зарницкая, где же твой жених? Мы же говорили тебе — не жди его! Чего ты ждешь, он давно и думать о тебе забыл!
Ну почему Лена бывала такой жестокой? Насмешница, — я уже говорила, такой был ее характер, — но неужели как женщина она не понимала, что разрывает мне душу? Или на этот раз она завидовала мне?
Когда почтальон приносил мне письма, я, бывало, отдавала ему всю мелочь, которую могла наскрести. А тут еще издали его завижу, а он мне: «Ничего для вас нету, барышня». Я и перестала выбегать ему навстречу — стыдно.
Мы тогда уже жили втроем — мама, Пуха и я. Папа еще в июне уехал в Грецию. Лена, проводив мужа, жила в его квартире свободной и самостоятельной хозяйкой, проматывая оставленное ей добро.
А к нам стал ходить Абрам Ильич. Он очень за мной ухаживал. Он тоже был военный, в военной форме. Все время делал мне мелкие подарки, например купил черные, облегающие руку перчатки. Я бывала с ним в кино, в театре, но после Зарницкого мне никто не нравился.
Абрам Ильич приходил к нам пить чай. Мама как-то мне сказала: «А он неплохой, знаешь…» Она тоже стала думать, что я жду Зарницкого напрасно.
— Ну что же, что неплохой, — отвечала я, — но мне с ним скучно.
Однажды мы шли по улице втроем — мама, Абрам Ильич и я. И вдруг навстречу нам какая-то особа из «бывших», предлагает купить у нее персидский ковер, и так пристала: «Купите, купите, не пожалеете», — что мы завернули к ней посмотреть. Ковер, действительно, был прекрасный.
— А сколько он стоит? — спросила мама.
— Сто пятьдесят миллионов.
— У меня столько нет.
— А сколько дадите?
— У меня всего пятьдесят миллионов.
— Ну, это слишком дешево!
И вдруг вмешался Абрам Ильич:
— Я даю еще сто миллионов. Теперь у вас, Марья Ивановна, хватит, чтоб его купить.
— Спасибо, большое спасибо. Я вам эти деньги верну.
И Абрам Ильич сам повесил нам ковер над тахтой.
Но все это было не то, не то, не то… Я ждала, я не могла поверить, что все кончено после таких встреч и таких писем! Не могло этого быть!
Я не выдержала, спросила у Лили:
— Женя тебе пишет?
— Пишет. А что?
Я промолчала. Но через некоторое время:
— Дай мне его адрес.
— Зачем тебе? — насторожилась она.
— Я что-то хочу у него спросить.
Она дала — неохотно. Уж что она вообразила, не знаю. Я запросила Женю о Зарницком. Он мне ответил: «Я ничего о нем не знаю. Мы с ним уже два месяца как расстались, теперь мы в разных частях, в разных местах…»
Как же я переживала!
И вдруг… Вижу, идет почтальон по двору, машет издали голубым конвертом… я сразу кинулась искать мелочь. Какая же это была радость, как сразу отлегло, как стало весело, хорошо жить!
Зарницкий писал, что три месяца лежал в сыпняке, что еще очень слаб, но выздоравливает.
А затем пришло еще письмо, что он обосновался в Ростове надолго. «Приеду за вами 16 августа, ждите».
— Ну что? — сказала я Лене и Тане. — Что? Кто говорил, что, мол, напрасно ты ждешь? — Они молчат.
И вот шестнадцатое августа.
Мы жили около вокзала. Вижу в окно — извозчики подтягивают свои фаэтоны к вокзалу, к ростовскому поезду. Мысленно представляю себе: вот пришел поезд, сейчас поедут обратно с седоками. Вот едут! Один проехал — не он… Другой, третий… Все уже проехали, а его нет.
Так я просидела весь день. Были и другие поезда, я все ждала — может быть, с этим приедет или с этим?
Он не приехал.
— Ну, мадам Зарницкая, — спросила Лена на другой день, — где же ваш жених?
Теперь уж я молчу.
Через несколько дней я написала Зарницкому письмо: вы, мол, не приехали в назначенный день, вероятно, я вам не нужна и мы оба можем считать себя свободными.
Ответа нет. Опять почтальон, когда заходит во двор, ко мне не обращается или шутливо: «А вам пишут». Сколько лет этому «утешению»!
Но я думаю: не может Зарницкий мне не ответить на такое письмо.
И письмо пришло! «Вы напрасно на меня обиделись, — писал Зарницкий. — Я не мог приехать за вами. Я сейчас имею должность начальника штаба погранвойск Северного Кавказа. Командующий погранвойсками уехал, и я не могу оставить штаб. Я пришлю своего адъютанта. 20 октября он приедет за вами».
Но опять двадцатого никого не было. Через день или два я ушла из дому, а мама до вечера была на базаре. Приходим домой, соседка нам говорит: «Тут к вам военный приходил, целый день вас ждал, сказал, что зайдет завтра утром, сказал, чтобы вы ждали его до двенадцати».
По описанию — не Зарницкий. Значит, сам не смог, значит, его адъютант. На следующий день жду его. Приходит. Молоденький, розовощекий (между собой мы стали называть его «поросеночком»). Он был татарин, с татарской фамилией, но я ее забыла. Потом он стал наркомом Татарской республики на Волге. У Евгении Гинзбург в «Крутом маршруте» он упоминается.
Он принес мне письмо от Зарницкого, чтобы я ехала с ним к Зарницкому в Ростов. Я заволновалась, пригласила «поросеночка» на обед, побежала к маме на базар (она там распродавала вещи — этим мы и жили).
Бегу к маме, а она навстречу. Несет судака. Обрадовалась: вот хорошо, будет чем угостить.
Приготовили на первое борщ, на второе — судака в соусе. Мама рада, волнуется.
— Только вот что, Ага, как же ты поедешь? Ведь у тебя ничего нет, даже простыню и ту… не возьмешь же с собой свою латаную?
И порешили так. Я сейчас не поеду. Напишу Зарницкому, что еще не готова. Через месяц буду готова, тогда и присылайте за мной. Так и сделали.
Срочно стали собирать приданое. Для этого мы продали рояль. Когда нас выселяли из особняка генерала, мы въехали в небольшую квартиру, поставить рояль было некуда и он стоял у знакомых. Мы его продали.
Купили материала и нашили простынь, на старое ватное одеяло сшили пододеяльник, сшили мне платья — черное, голубое, белое. Ложки, посуду купили на толкучке. Кое-какое серебро у мамы оставалось. Она мне его дала. И старинное большое зеркало, что некогда стояло еще в Барнауле, в доме тех богатых поляков, которые сделали своим наследником дедушку.
Лена сказала:
— А я? А мне? А мне ничего? Вот это будет мне. Мама, дай мне это зеркало.
Ей всегда все отдавали. Но на этот раз мама напомнила Лене, что в свое время она получила приданое, еще при папе, и гораздо больше и лучше было это приданое, чем мое.
Мама поставила два условия: во-первых, венчаться в церкви и, во-вторых, меня сопровождать поедет Лена. Это Лена настояла, ей очень хотелось поехать в Ростов, а мама была рада — все-таки приличнее как-то с сестрой.
2.
Ровно через месяц, теперь уже без опоздания, «поросеночек» приехал за мной. Это было 20 ноября 1922 года. Мне было девятнадцать лет, почти двадцать.
И вот мы отправились в путь — «картина, корзина, картонка…» Чемоданов у нас тогда не было, только маленький чемоданчик при мне. В нем я везла самое ценное — серебряные ложки, — не выпуская из рук. Были баулы, узлы, упакованное в солому и в рогожу, перевязанное зеркало, и т. д., и т. д.
Вокзал. Поезд. Посадка.
Посадка! Это был ужас что такое! Тогда люди ехали даже на крышах. А мы с такими вещами — и в классный вагон. Мы бы с Леной, конечно, не сели, если бы не «поросеночек» и еще один военный — артиллерист, который сразу вызвался нам помогать. В драке, в свалке они втолкнули вещи, затем втиснулась Лена, а я — последняя вскочила на ступеньки, когда поезд уже тронулся. (Я не лезла вперед, я держалась скромно, в душе сознавая свое право самого главного лица здесь, но из-за этого своего «достоинства», которое хотела соблюсти, чуть не осталась.) Когда я уже прыгнула на ступеньки, слышу вопли и рыдания нашей майкопской соседки из толпы оставшихся: «Лена, Ага, вы едете, а я вот с детьми остаюсь!» Но я ничем не могла ей помочь.
Посадка была дикая, но в вагоне неожиданно оказалось спокойнее и просторнее, чем можно было ожидать. Конечно, мест не было, но хоть не стояли впритычку.
Я протолкалась вперед, смотрю — наши сопровождающие заняли места на нижних полках, вещами завалили все на полу — и под полками (прежде под сиденьями не было ящиков для вещей) и между полками. На третьи полки вещи поднять было нельзя — всюду люди. Завалили все нашими вещами. Артиллерист, он был одессит, предупреждает:
— Приглядывайте, а то могут «ножки приделать» коробкам вашим под полками.
И мы все время проверяли — тут ли они? Тогда кражи были страшные.
Поехали.
А на средних полках и наверху ехали какие-то интеллигентные люди, как оказалось, инженеры и один музыкант. Как только они разглядели Лену и услышали ее реплики, они тотчас спустились вниз, наши вещи подняли на свои полки, а сами примостились с нами внизу на наши лавки и на два узла, которые поднять не удалось. Эти мужчины и артиллерист сосредоточили свое внимание на Лене, как это всегда бывало. Только «поросеночек» оставался мой. И Лена заблистала в центре нашего общества.
Моя сестрица меня всегда забивала, я всегда была на заднем плане и к этому привыкла. Но тут она ко мне снизошла. «Ты ложись, Ага, — сказала она мне по-сестрински, — за наши спины и спи, я тебя укрою своим пальто». Я легла, но спать не могла — мешали волнение и взрывы смеха, которые всю ночь потрясали наше купе.
Конечно, Лена рассказала, что мы едем в Ростов на свадьбу. Когда она сказала, что невеста не она, а я, они не поверили, решили, что Лена их разыгрывает.
На станциях опять люди лезли с мешками и ящиками, но и тех, кто втискивался, наши к себе в купе старались не пустить, а когда у них требовали снять с полок вещи, безапелляционно заявляли, что это их полки и что они сейчас там лягут. Надо сказать, наши интеллигенты весьма агрессивно отбивались — кто бы мог подумать! «Поросеночек» и артиллерист тоже не сплоховали. Еще помогало то, что купе было далеко от двери, почти последнее, и пока до нас доходили, люди успевали рассосаться. В общем, ехали мы по тем временам очень комфортабельно.
В Армавире была у нас пересадка. Мы «вытряхнулись» на перрон со всеми нашими баулами, узлами и пакетами. Сели на вещи, решили, что тут и будем ждать поезда. И вдруг на площади появляется роскошный выезд. Лошади белые, холеные. Соскакивает стройный военный (очень интересный, если бы не прыщи), спрашивает: «Кто тут Агнесса Аргиропуло?»
Оказывается, из Ростова позвонили, что едет невеста Зарницкого, чтобы местное отделение ЧК приняло хорошо. Ведь Зарницкий был для них высоким начальством.
Военный, который нас встретил, сразу влюбился в Лену и все вился вокруг нее, называл «невестой Ивана Александровича». Лена возражала: «Да что вы? Разве я невеста? Вот невеста». А он смеялся и тоже, как те, в поезде, не верил. Мол, не может быть, э, меня не проведешь!
Привез нас и «поросеночка» в реквизированный особняк. Входишь — мебель старинная, обитая бархатом, обстановка роскошная, только, конечно, все запаршивлено, как всегда бывало при советской власти.
На столе ужин — какао и яичница.
Когда мы ужинали, пришли еще чекисты, и, конечно, Лена царила. Я держалась скромно. И опять та же самая история: не верят, что невеста — я.
Столовая находилась на втором этаже. Оттуда нас проводили вниз. Там была роскошная спальня с большой двуспальной кроватью. Чистые простыни, хорошее одеяло, только холодно! Но тут пришла женщина (сказали, что она будет нам помогать) и заботливо заторопилась: «Я сейчас затоплю, барышни!» — и затопила печь.
— А вот тут ведро, если вам понадобится. Я утром вынесу.
Канализация, ванна — все это, конечно, не работало: водопроводные трубы полопались еще прошлой зимой.
Утром опять яичница и какао. Потом нас отвезли на фаэтоне на станцию. Пришел поезд на Ростов, посадка — как вчера. Чекисты с боя брали для нас вагон. Помню обледенелые ступени, мы с трудом влезли. Вскочив в вагон раньше всех, чекисты уже заняли для нас хорошие места в глубине вагона. И опять, едва появилась Лена, ей — всеобщее внимание: «Леночка, Леночка!» И опять шум, смех.
А я села на маленькую лавочку у окна и смотрю на черноту за окном. Даже мелькания столбов не видно. Электричества в поезде нет. Где-то в середине вагона в фонаре свечка.
Надышали, было не холодно. Сижу, вся ушла в свои мечты. Представляю, как он меня встретит, как я предстану перед ним в черном элегантном пальто и в черной шляпке, в облегающих руку черных перчатках (подарок Абрама Ильича), надушенная французскими духами (тоже подарок Абрама Ильича). Мама дала мне в приданое и персидский ковер, купленный на деньги Абрама Ильича. Я не хотела брать: «Ну как же, мама!» — воскликнула я с укором, но она мне: «Ничего, бери, не стесняйся, я с ним рассчитаюсь».
Поезд прибывает в Ростов в шесть часов утра. Глубокая осень — конец ноября, еще ночь, темно… Но вдруг впереди — огни. Море огней. Вся станция залита электрическим светом. Я еще никогда не видела такого освещения. Вот что значит большой город! Я подумала, что это хорошее предзнаменование.
Сошли на перрон. Я прихорошилась еще в вагоне, сердце замирает — вот сейчас он встретит, поцелует, а от меня — тонкий аромат…
Но — никого. Ни-ко-го. Перрон пуст. Только мы со своими «картиной, корзиной, картонкой…». «Поросеночек» видит, как я расстроилась, побежал на станцию узнавать. Позвонил оттуда по телефону в штаб. Вернулся обратно, рассказывает: Зарницкий, когда узнал, что мы приехали, страшно взволновался. Оказывается, он уже два дня нас встречал, а нас все не было. И как раз сегодня он не пошел встречать. Но сейчас будет.
И вот цоканье копыт, едет фаэтон, и на залитом светом перроне вижу — быстро, быстро, почти бежит к нам в длинной шинели «с разговорами», стройный, на голове «спринцовка» буденновская с красной звездой. Запыхался, взволнован.
— Видите, я вас сегодня не ждал, я даже небрит… Вы уж простите! — нетерпеливо заглядывает мне в лицо, но не поцеловал при всех, только смотрит на меня.
А тут приехавшие с нами военные и «поросеночек» подхватили наши «корзины, картины, картонки»… Зарницкий крепко взял меня под руку и повел вперед, забыв про Лену. Она тотчас обиделась.
— А я? — воскликнула она.
— Да, да, Леночка! — И второй рукой взял и ее под руку.
И тут я впервые почувствовала, что отныне первая дама — я.
3.
Зарницкий жил, как и армавирцы, в большом реквизированном особняке. Это был дом ЧК. Зарницкий занимал там только две комнаты, хотя он был начальство. Во всех других комнатах жили его подчиненные с семьями. Особняк этот был, как большая коммунальная квартира.
Иван Александрович предупредил меня: все соседи по дому знают, что он ждет невесту, и, когда мы приедем, изо всех дверей будут высовываться любопытные лица — какая я? Так оно и оказалось. Лица все были женские.
Иван Александрович провел нас в свои комнаты, в спальню, чтобы мы могли переодеться с дороги. Там была его кровать. Как только он вышел, Лена приподняла одеяло на его постели.
— Смотри, на чем спит твой жених! — И показала на рваные простыни. Как хорошо, что мне сделали приданое!
Потом мы завтракали в другой его комнате, и нам принесли яичницу и какао. Наверное, ничего другого у чекистов не было ни здесь, ни в Армавире.
До свадьбы мы с Леной жили не у Зарницкого, а у нашей родственницы.
Я сказала Ивану Александровичу, что иначе не согласна, как венчаться.
— Ну что же, — сказал он, — будем венчаться.
Он не протестовал, я уже знала, что его отец — священник. Мне в поезде об этом рассказал «поросеночек». Я тогда удивилась, я думала, он еврей.
Со свадьбой надо было очень спешить, потому что начинался пост, а в пост не венчают.
Была масса хлопот, готовились к свадьбе, украшали нашу комнату. Всюду стояли цветы — осенние хризантемы. А над брачной кроватью — персидский ковер Абрама Ильича.
Накануне расписались мы в каком-то темном, мрачном, казенном здании. Нам выдали справку, что в ростовской книге записей актов гражданского состояния мы зарегистрированы как муж и жена.
На другой день — венчание в церкви. Перед венчанием мы с Леной поехали в особняк к Ивану Александровичу. Я заглянула в шкаф, а там сложены разнообразные торты, пироги. Это соседки напекли нам на свадьбу. Ивана Александровича все любили.
Соседки пришли спрашивать, есть ли у меня скатерть. У меня была, но только одна. Я сказала, что есть простыни (опять я подумала: как хорошо, что мама позаботилась о приданом!). Моими простынями и накрыли столы. Правда, потом они все оказались в пятнах, но в китайской прачечной их отстирали. (Были у нас тогда китайские прачечные, как там хорошо стирали!) Иван Александрович сказал мне:
— Ага, я пригласил парикмахера, он вас причешет.
Парикмахер опаздывал, мы нервничали, я уже была в предвенечном платье. Наконец он пришел. Он мне сделал прекрасную прическу — крупные локоны, вокруг головы венчик из крупных кудрей. Волосы у меня были тогда каштановые, густые, блестящие — не то что сейчас.
Меня парикмахер завил, начал завивать Лену (она была по моде коротко стрижена), но тут пришел Зарницкий:
— Нужно ехать, пора!
Лена изумилась:
— А как же я?
Она именно изумилась, так как всегда привыкла быть главным лицом. Иван Александрович извинился:
— Вы уж извините, Леночка, но время назначено, опоздать туда нельзя.
Лена надулась, но пришлось ей ехать недозавитой.
Батюшка венчал сразу три пары, водил нас вокруг аналоя, в церкви пели: «Исайя ликуй!»
Потом — свадебный ужин в большом зале особняка. Было шумно, весело, много ели, пили; не всегда удавалось попробовать такие блюда. Двенадцать часов ночи, потом — два часа, четыре, а свадьба все не расходилась. Пили, танцевали, кричали нам: «Горько!» Я страшно устала. Иван Александрович понял это. «Пойдемте?» — осторожно предложил он мне. Мы пошли к себе в комнату, а там дышать нечем — столько цветов понаставлено! Нас проводила Лена, потом ушла.
Вот вы мне говорили об индийской книге «Кама сутра», как там предписывается мужчине в интимные минуты следить за выражением лица женщины и ласкать ее так, чтобы и ей было хорошо, тогда ему будет еще лучше.
Так вот я вам расскажу об Иване Александровиче… хотя он «Кама сутру» и не читал.
Мы остались вдвоем в комнате. Я увидела себя в зеркале — бледна, как смерть. «Прилягте», — сказал Иван Александрович. Постель была разобрана: новые чистые простыни, привезенные мной, старого одеяла не видно — на нем сияющий белизной пододеяльник. Я сказала:
— Прилягу, но с одним условием, что я буду спать здесь, а вы — вот там. — И указала место у двери.
Он засмеялся:
— Хорошо!
— И отвернитесь, пока я разденусь!
Он послушно и весело соглашался на все. Отвернулся, я легла в кровать. Сердце стучало у меня, как молоток.
— Я очень прошу вас, накапайте мне валериановых капель!
Он подал мне, укрытой до подбородка, стакан с валериановыми каплями, я выпила. Я очень устала за день. Приготовления, венчание, пир, но главное — я весь день волновалась, ожидая вечера, ночи. Я была девушка, тайное, что меня ожидало, не выходило у меня из головы.
За столом я все пила вино, чтобы набраться смелости. Иван Александрович говорил мне: «Не пейте!» А я не слушалась, пила и пила. И вот сейчас сердце стучало. Но — выпила капли, повернулась лицом к стене и — поверите ли — сразу заснула, да так крепко, словно в яму провалилась.
Проснулась — светло! Соседи уже ходят. Посмотрела — я одна на кровати. Иван Александрович на стуле у двери. Я подумала сперва — вот хорошо, а потом: как же так, ведь это наша брачная ночь!
Встала и на цыпочках подошла к нему в длинной своей рубашке. Это была купленная на толкучке старинная рубашка, вся в кружевах-воланах, на плечах — розовые банты. Я ее надела под свое подвенечное платье, розовые банты эти нет-нет да и выглядывали из-под моего декольте, и Лена поправляла… даже в церкви.
Подошла, смотрю — спит. Нет, не спит! Глаза тотчас открыл, смеется. Тогда я его быстро поцеловала и — назад в постель. Это было приглашение. Он ему последовал. Сел на край кровати, стал обнимать, целовать, сперва осторожно, затем все пылче, страстней. Потом он вспоминал: «Я тебя обнимаю, а под руками все кружева, кружева, одни кружева, тебя за ними не найдешь!»
Соседи деликатничали, не беспокоили. Но в двенадцать часов дня не выдержали, постучали в дверь:
— Вы живы ли там?
Мы вышли к столу. Я надела черное платье с золотой вышивкой. Шею закрыла золотистой вуалеткой, чтобы не видны были следы поцелуев.
4.
Когда я готовила приданое и уехала к Зарницкому, Абрама Ильича не было в городе. Это было для меня большим облегчением. Он вернулся после моего отъезда. Конечно, ему тотчас донесли, что я вышла замуж.
Он пришел к нам. В кухне был Пуха.
— Здорово, парнишка, — сказал Пухе мрачный Абрам Ильич, но не остановился, а прошел к соседям, вероятно, хотел проверить, верны ли слухи.
Соседи ему и сказали про персидский ковер. Вышел от них.
— А Мария Ивановна дома?
— Дома.
Он постучал, открыл нашу дверь.
— Здравствуйте, Мария Ивановна, нам надо с вами рассчитаться. У нас с вами одно дельце не закончено.
А мама ему в истерике (денег у нее, как всегда, не было):
— Я вам все верну! Все отдам! Только сейчас у меня ничего нет! Я достану денег и верну!
Но вдруг нашла выход, все повернула, успокоилась:
— Отдам, конечно, хотя вы ходили к нам целый год пить чай, и я вас кормила в такое трудное время, все это тоже чего-то стоит! Но я вам отдам…
Абрам Ильич:
— Не надо. — И вышел.
Много спустя, уже после войны, Таня Капланова встретила Абрама Ильича в Москве. Ехала в трамвае, и вдруг какой-то пожилой полный мужчина ее спросил:
— А вы, случайно, не бывали в Майкопе?
— Бывала. Я оттуда.
— То-то я вроде вас узнал. А вы там Аргиропуло не знали?
— Как же, знала.
— Кого же из них?
— Всех, всю семью.
Он назвался. Таня вспомнила. Стал расспрашивать обо мне. Спросил:
— А как ее фамилия сейчас?
— Миронова.
— Миронова? А почему не Зарницкая?
— Они с Зарницким разошлись.
Он возликовал:
— Я так и знал! Я это говорил! Я предчувствовал! А знаете, крепко зацепила меня тогда эта Агнесса Аргиропуло.
Стал рассказывать о себе: женат, дети, заведует рыбным магазином на Сретенке.
— Приходите, когда вам что-нибудь будет нужно, вызовите заведующего — меня.
Таня как-то зашла, вызвала. Он взял ее сумку, ушел, вернулся, а в сумке — чего только нет! И балык, и икра, и крабы-консервы. И говорит:
— Платите в кассу один рубль восемьдесят копеек.
Она была у него еще раз, и опять все повторилось. Потом она сказала мне:
— Пойдем со мной?
Я оторопела:
— Да ты что, с ума сошла, что ли?
5.
Да, балык… Помню, нам с Иваном Александровичем балык этот осточертел. Это была огромная рыба. Кто-то из подчиненных подарил ему копченый балык. Мы подвесили его в кладовке, где хранили уголь. Он оказался выше моего роста. Я отрезала от него каждый день нам с Иваном Александровичем и другим, а балыку все конца не было. С него стекал жир, и пол под ним был жирный.
Балык этот, хоть и надоел, был нам очень кстати. Я ничего не умела делать, была бесхозяйственна, не помню, как мы и питались. Потом приехала к нам жить мама, ну тогда дело пошло.
А вскоре в Ростов перебралась и Лена. Вот как это случилось.
Ее любил Вася Гончаренко. И она его любила. Вася был очень способный человек. Прекрасно рисовал, пел. У него был красивый баритон. Он иногда выступал в концертах. И вот однажды ему привелось петь дуэт с девушкой-сопрано. Лена сидела в зале, ей показалось, что певцы держат себя слишком интимно. Она тотчас вспылила, возненавидела его, решила с ним порвать, просто-напросто яростно приревновала, — она ведь была по характеру собственница. Она бросила все в Майкопе и приехала ко мне в Ростов.
В Ростове в нее влюбился красивый интересный человек, начался роман, но возлюбленный этот тоже чем-то рассердил Лену, что-то сделал не так, и она с ним порвала.
А он хотел помириться. Помню, я встретила его на улице, пригласила к нам, он встрепенулся, посветлел.
— Это Лена поручила вам меня пригласить?
Мне пришлось признаться, что нет.
Тогда, после ссоры, она тотчас вышла замуж за инженера Сухотина, может быть, назло. Сухотина она не любила. Но он был хорошо обеспечен, и Лена могла красиво одеваться, блистать.
Сухотину было тридцать шесть лет, Лене немногим больше двадцати. От него она родила сына — Борю.
Боре было одиннадцать месяцев, когда как-то наедине с Леной я завела откровенный разговор на интимные темы. И вдруг Лена сказала:
— Вот уже больше года, как у меня нет мужа. Я и прежде замечала, что он глотает какие-то пилюли, а теперь, вероятно, и они не помогают.
Она говорила с раздражением и презрением.
А тут как раз в Ростове появился Вася Гончаренко, может быть, он и приехал из-за Лены. Вася начал к ним ходить, они стали жить втроем. Лена забеременела, сделала аборт. Вася возмущался.
Сухотин его ненавидел — тайно, не показывая Лене: не смел. Когда приходили гости, Вася пел, аккомпанировали Лена или я (нас всех в детстве учили музыке). Вася поет, а Сухотин прикроется, бывало, газетой, будто читает, но, если я прохожу мимо, шепнет мне:
— И когда это он выть перестанет? — И опять закроется газетой.
Сухотин был очень рассеян. Прощаясь, целует дамам руки. Зарницкий иной раз протянет руку, он и ему поцелует. Как-то всыпал в чай вместо сахара соль. И пьет, не замечает. Лена с раздражением:
— Что ты пьешь, это же солоно!
Может быть, он весь был в своей работе — дома всегда обложится книгами, иностранными техническими журналами. Он был хороший инженер. Его обвинили во вредительстве, арестовали, осудили, послали в лагерь. Лена, надо отдать ей справедливость, исправно посылала ему посылки.
Она не была меркантильной. Наоборот, она была непрактичной, иногда могла расфукать и расшвырять все сразу. Она была щедра, ничего не жалела для тех, кого любила.
После ареста Сухотина спустя какое-то время Лена вышла замуж за Васю. От него у нее родилась дочь Ника.
6.
Хотя я была бесхозяйственна и ничего не умела делать, но, когда мы поехали к родителям Ивана Александровича знакомиться, я очень старалась помогать им по хозяйству. Это я настояла, чтобы мы к ним поехали. Иван Александрович избегал, не хотел общаться. Он ведь был начальник штаба Северо-Кавказских пограничных войск. И ему никак не хотелось афишировать, что он сын попа. Еще хуже — во время голода в Поволжье писали во всех газетах о больших богатствах церкви, утаенных попами, о том, что попы не хотят их дать голодающим, и там упоминалась фамилия его отца. Все это была ложь, но в газетах писали, и Ивану Александровичу это могло испортить карьеру. И он не поддерживал с родителями никакой связи.
А я настояла. Как же так — родные отец и мать, братья, сестры, а он — старший сын — ничего о них даже не знает! Иван Александрович делал всегда все, что я захочу, ни в чем мне никогда не отказывал. И мы поехали под Ленинград, в Мурино, где жили тогда его родители.
У отца был приход в муринской церкви. Семья большая, много детей, среди сестер и братьев Ивана Александровича были еще совсем маленькие.
Помню, как хорошо нас встретили. Отец был рад, тронут, счастлив, мать от радости расплакалась. Иван Александрович тоже был счастлив, ему очень хотелось, чтобы я понравилась его родителям.
В самый первый день нашего приезда я услышала через открытое окно (я играла в саду с младшими детьми), как он в комнате расхваливал меня:
— Знаешь, мама, она все может, все умеет, у нее такие ловкие руки! Теперь стали модны туфли с бисерной пряжкой, так она сама сделала эту бисерную пряжку и лучше, чем в магазине. Ты только подумай! А вязаная шапочка с кисточкой, она сама связала такую, и даже кисточку эту! Это же очень хитрое дело!
Мне и самой хотелось им нравиться, я все старалась чистить, убирать в доме. Помню, стала подметать одну из комнат, а сестра Ивана Александровича и говорит мне:
— Не надо, тут у нас не метут, это у нас «медовая комната», мы в ней только вытираем мокрым.
Я им понравилась, и не только потому, что старалась. Они уже не чаяли увидеть сына, а я им его вернула.
После убийства Кирова их выслали. Тогда арестовывали, высылали, расстреливали в Ленинграде всех «бывших»: дворян, попов, всех, кто был «подмочен». В эту волну попали и они.
7.
Иван Александрович хотя до меня не встречался с родителями, но не скрывал, что он попович. К нему назначили инспектора — Фриновского. Фриновский Михаил — лицо широкое, как блин, глазки маленькие, жесткие — был не промах насчет вещей. Иван Александрович недоумевал, что это за люди — все берут, все тащат, совсем не то, что прежние товарищи Ивана Александровича, да и сам он, который спал до моего приезда на рваной простыне.
У Ивана Александровича в кабинете стоял прекрасный письменный стол на львиных лапах, из реквизированных конечно. На столе — ценный хрустальный письменный прибор. Иван Александрович, бывало, и внимания на них не обращает — ну поставили ему на рабочее место, и пускай. Фриновский пристал к нему — подари мне этот прибор. Иван Александрович отдал с недоумением. Потом и письменный стол перекочевал к Фриновскому.
— Знаешь, он метит на мое место, — сказал мне Иван Александрович.
Но Фриновский делал вид, что заботится о нас.
— Что вы ютитесь в коммуналке? На третьем этаже освобождается очень хорошая отдельная квартира. Там живет Петрякин, его снимают с работы, он уже знает. С квартиры сселим, — он усмехнулся с видом вершителя судеб, — вот вы и займете вакантную. Приходите посмотреть.
Непонятно как-то было — при еще живущих хозяевах, но Фриновский уж так пристал, так настаивал, утверждая, что все равно кого-то вселят. И мы пошли.
Сперва заглянули к Фриновским на второй этаж. Жена его встретила нас недоброжелательно, мне это не понравилось… Я говорю потом Ивану Александровичу:
— Ты думаешь, мы получим эту квартиру? Ни черта мы не получим!
Так оно и вышло. Зарницкого сняли, Фриновский — на его место, а квартира — ну какое снятый с должности, разжалованный Иван Александрович имел на нее право! Мы и из особняка ОГПУ выехали, сняли две комнаты в другом районе.
Еще когда Зарницкий был начальником штаба, Фриновский пытался ухлестывать за мной. Как-то Иван Александрович уехал в командировку, Фриновский его замещал в штабе. Я пошла просить билеты в театр (нам их давали в штабе). Пришла, Фриновский чуть не расшаркался — сейчас, сейчас принесу!
И вернулся, да не один, а с Коганом, билеты мне вместе принесли, оба заигрывают, маслеными глазками меня так и сверлят.
— Мы к вам чай пить придем!
Я отрезала:
— Нет, я без мужа никого не принимаю!
А затем он — ряшка толстая — сел на место Ивана Александровича. Да он с самого начала все знал, что сядет, знал, что Иван Александрович — попович, что снимут. Донесения, вероятно, делал такие, чтобы опорочить, неблагоприятные, а сам мысленно руки потирал: «Скоро я на его место!» — и поигрывал с нами, как кошка с мышкой.
Или все-таки неудобно ему было, он и лебезил, угодничал, чтобы впечатление было — я, мол, ни при чем, я всей душой!..
О Фриновском я вам еще много порасскажу.
Агнесса с Зарницким, 1923 год
8.
Иван Александрович пошел работать в милицию. Черная форма, красные околышки. Это было совсем не то, что в Красной Армии. Как бы на много ступеней слетел вниз: и форма не та, да и не так почетно. Но хоть работа была не опасная. В то время было много бандитов, но арестовывать их, «брать» Иван Александрович не ходил. Ему поручили всю писанину, ну почти как начальнику протокольного отдела, что ли…
Приехала к нам из Майкопа Верочка, уже взрослая девушка. Мы были дружны семьями. Прежде, когда папа был управляющим магазинами, Верочкин отец служил там старшим приказчиком. Верочка прекрасно играла на рояле, очень хорошо пела. Приехала в Ростов совершенствоваться по фортепьяно и по вокалу, брала уроки у наших знаменитых преподавателей.
Взгляд извне. Верочка:
У меня в Ростове было два учителя, я брала платные уроки, из дому мне дали на это деньги. Я жила у Агнессы и вносила свою долю. Я прожила у них три месяца.
Они жили тогда небогато, помню, когда Агнессе удалось купить где-то черный крепдешин, это был настоящий праздник, она в восторге писала подругам в Майкоп об этом крепдешине и о том, что она из него сошьет.
Иван Александрович работал в милиции писарем, но он вообще хотел уйти со всякой военной работы и поступил на курсы бухгалтеров. Занятия были вечерние. Агнесса тоже туда поступила, но Иван Александрович кончил, а она — нет, терпения не хватило. Она иногда где-то работала, потом уходила. Работать ей казалось скучно.
Иван Александрович был очень пунктуален, очень собран, аккуратен. Помню, как я удивилась, когда однажды увидела его записную книжечку, а там было: «Верочке — 5 коп. на трамвай, Марии Ивановне — 10 коп. на свечку…» и т. д.
Я удивилась, что он досконально учитывает такие мелочи, записывает. Может, он был скуп? Не думаю. Просто, наверное, бюджет у них был так напряжен, что ему с трудом удавалось сводить концы с концами, балансируя на этих копейках.
Он был высокого роста и еще довольно строен, но начал полнеть. Старался поменьше есть, больше двигаться. Это было нелегко: и есть хотелось, и работа сидячая. Помню, бывало, он перед зеркалом затягивает свой милицейский ремень, тянет, тянет и — победа! Наконец-то затянул! Сошлось! Ликует…
— Верочка, я сегодня на следующую дырочку дотянул!
Вечерами, когда не было занятий на курсах, мы ходили гулять по улицам. Иван Александрович в центре, мы с Агнессой по бокам — он вел нас под руки. Он был в милицейской форме, и никто не смел к нам приставать.
Мы шли по вечерним улицам Ростова. Из подворотен нет-нет да и показывались проститутки, высматривали клиентов. Агнесса все время оглядывалась на них — уж очень ей было интересно.
С Иваном Александровичем, мне казалось, живут они душа в душу. Агнесса, бывало, все вокруг него ласково воркует: «Муша, Муша!» — так она его называла с нежностью.
И вдруг она с заговорщическим видом сказала мне:
— У меня есть к тебе секретная просьба. Отнеси, пожалуйста, письмо в гостиницу и там отдай его в пятнадцатый номер Ми-ро-но-ву. Запомнила? Но никому ни слова, хорошо?
Я, конечно, обещала молчать, но мне это было так странно, так неловко, так непонятно, я идти никак не хотела, страшно стеснялась. Но Агнесса меня уговорила. Адресата, к моему счастью, не оказалось (а то бы я сгорела от неловкости), и я отдала письмо швейцару, чтобы тот передал.
Лена уже тогда жила в Ростове, но как бы в пригороде, в деревне, за пустырем — Нахичевань. И вот раз Агнесса сказала, что пойдет ночевать к Лене, и ушла… И вдруг вернулась в два часа ночи. А я уже после этого письма в гостиницу начала все понимать и очень волновалась. Сейчас, думаю, все проснутся и догадаются, что она была не у Лены. Но ничего. Утром она сказала, что задержалась у подруги и побоялась идти к Лене через пустырь, поэтому и возвратилась домой. Все поверили без малейших сомнений, только мне она лукаво подмигнула, и я поняла, что мои тревожные догадки верны.
Как же я волновалась, что вот-вот что-то откроется, и будет скандал, и будет так стыдно, так стыдно! Но ничего не открылось.
9.
Иван Александрович работал в милиции, а затем ему сказали: у вас высшее образование, вы человек знающий, толковый. Лучше вам пойти в промышленность, у нас не хватает грамотных людей.
И послали его на обувную фабрику заместителем директора. Но фактически директором был он, всеми делами вершил, потому что в директорах там был малограмотный выдвиженец, который ничего не понимал, ничего не делал, только шумел и ругался матом.
Вскоре Иван Александрович стал приходить очень мрачным. Наш ге-ни-аль-ней-ший [с презрением и ненавистью — это Агнесса о Сталине] тогда начинал кампанию против вредителей и саботажников. Обнаружили «вредительство» и на обувной фабрике. Нашли какие-то сопревшие кожи и тут же состряпали дело. Якобы кожи опрыскали каким-то раствором, способствующим гниению, и дали им залежаться, а лаборатория делала фальшивые анализы — признавала годным то, что не годилось.
Обвинили во всем Ивана Александровича и с ним еще нескольких человек. Лет через пять они ни минуты не пробыли бы на свободе с таким обвинением, но тогда еще были другие времена, и их до суда не арестовали.
Главным «вредителем» сделали Ивана Александровича. Ну, конечно же, беспартийный, попович, с отцом связь поддерживает — как же не вредитель!
Назначили суд. Иван Александрович на работу не ходил, сказал нам с мамой: «Десять дней меня не трогайте». Десять дней оставалось до суда.
Он сел за стол, обложился бумагами, справками, отчетами и все десять дней готовился защищать себя и других на суде. Ему разрешили защищаться самому. Он был очень аккуратен, собран — Иван Александрович. Все бумажки подобрал, разложил, распределил, рассортировал.
И вот суд. На скамье подсудимых Иван Александрович и его сослуживцы. Иван Александрович подтянутый, чисто побритый, в полувоенном, держится прямо. Один вид его сразу производил впечатление.
Допрос. Судья спрашивает имя, фамилию, кто отец… Иван Александрович прямо, громко:
— Поп!
Заметьте, не «священник», а «поп» — четко, мне показалось, с вызовом, а может, наоборот, на их языке — не прятаться за форму, не смягчать.
Сперва обвинение. Всякого бреда накуролесено. А «свидетели» подтверждают.
Иван Александрович просит слово. Дали.
— Разрешите зачитать справку?
Читает официальную бумагу. Он, Зарницкий Иван Александрович, зачислен на фабрику в мае 1927 (или 1928?) года. А кожи-то прогнили раньше!
Крыть нечем. Сразу весь бред этот, что обвинитель и свидетели несли, бит. От него и перышка не осталось.
Впечатление в зале!
Судья:
— Подшить к делу!
Потом начали про лабораторию, какие там липовые анализы делали, безграмотные; все это, конечно, клонят к саботажу и вредительству. Но Иван Александрович опять:
— Разрешите зачитать?
В зале сразу все стихло — уже ждут с напряжением, как он сейчас «отбреет». И верно. Зачитывает Иван Александрович свой приказ — четко, кратко. Приказ зам. директора, в котором камня на камне не оставляет от работы лаборатории: анализы такие-то и такие-то сделаны неквалифицированно, то есть понимай — халтура, безграмотно, попросту липа. И в результате такие-то и такие-то недочеты. В конце его, Ивана Александровича, заключение: переменить весь стиль работы, анализы делать строго, объективно (то есть не давать то, что в лагере у нас называлось «туфта»).
Судья:
— Подшить к делу!
И пошло. Обвинение — ушат лживой грязи. Иван Александрович — официальный документ, точный, четкий. И вся эта грязь, сразу всем видно, — сплошная ересь. Впечатление — как в театре или на ринге. В зале уже с нетерпением ждут, как будет Иван Александрович парировать, ждут, затаив дыхание, знаете, как выхода сильного актера или борца, ждут эффекта. А Иван Александрович — ну я просто любовалась! — само воплощение разума.
Так бил их Иван Александрович три дня, пока длился суд. Голос спокойный, официальный, не громкий, но, как скажет, — сама истина. В зале тишина.
Остальные подсудимые в первый день пришли небритые, опустившиеся, хвосты повесили, еле чего-то бормотали. Но по мере того, как Иван Александрович разрушал одно обвинение за другим, они головы подняли, приободрились, и уже на следующий день все были побритые, хорошо одетые, головы держат прямо.
И всем уж ясно, что сопрели кожи и прочее по вине директора, его разгильдяйства, халатности, невежества. Но его и не подумали обвинить — выдвиженец! Пролетариат! Разве он может быть вредителем? И подозрение на него не пало. А что невежество, так ведь это понятно, оправданно — пролетарского происхождения, «академиев»-институтов не кончал — где же ему было знаний-то набраться?
Но симпатии уже с первого дня были на стороне подсудимых, и когда суд их оправдал, в зале загремели аплодисменты.
Судья улыбнулся Ивану Александровичу, а затем и мне. Он меня с первого дня заметил, проследил взглядом, как Зарницкий переглянулся со мной после первой же победы.
Я преклонялась перед силой разума Ивана Александровича.
Но когда я с восторгом рассказала Мироше о суде, он вдруг нахмурился, словно его стегнули.
— И я мог бы так! — сказал он самолюбиво.
Но сейчас я вам расскажу о Мироше.
МИРОША
1.
Мирошей Сережу звали в семье, друзья, близкие. Настоящее имя его было Мирон Иосифович Король. Но он взял псевдоним (тогда многие так делали) и стал Сергеем Наумовичем Мироновым.
Впервые я увидела Мирошу на митинге в Ростове. Было это, вероятно, в 1923 или 1924 году. Иван Александрович еще служил начальником штаба погранвойск Северного Кавказа.
Митинг проводили по поводу годовщины Красной Армии. Ораторы были малокультурные, неинтересные — наши ростовские, партейные.
И вдруг на трибуну поднялся совершенно незнакомый мне человек, весь в черном, в кожаном, в фуражке, с наганом у пояса. Говорил он что-то про мировую революцию, про интервентов, которых отогнали, но которые зарятся опять на нас напасть. Я не слушала, просто любовалась его сильным, красивым лицом. У него были прекрасные карие глаза и удивительные ресницы — длинные, густые, загнутые, как опахала. И выражение лица хорошее — доброжелательное, располагающее.
Насчет красивых мужчин у меня вообще предубеждение. Они слишком нравятся женщинам, это их балует, и они бывают чрезмерно заняты своими победами. Я и тогда сразу отсекла всякий интерес к выступавшему.
Но дома я все-таки спросила Ивана Александровича: «Муша, кто это?» Он сказал: «Это один из командиров, которые приехали с Евдокимовым»[1]. И я о нем забыла.
Но вот однажды нас, жен военнослужащих, вызвали в штаб и объявили, что мы занимаемся только нарядами и домашними делами, а это есть мещанство, и мы должны подтянуться к своим мужьям, а для начала стать политически грамотными. И назначили школу, куда мы должны каждый вторник к пяти часам являться, не опаздывая, на занятия по политграмоте с карандашом и тетрадкой для конспекта.
Иван Александрович сказал мне, что я его скомпрометирую, если не буду ходить, и я в ближайший вторник точно в пять часов пришла.
И вот мы сидим и болтаем, а сами оглядываем друг друга, кто как одет, у кого какой кулон на шее, у кого ожерелье — из настоящего жемчуга или поддельного и т. п. Многие были одеты богаче, чем я, но безвкусно, и я думала, что вот вещи на таких пропадают и как бы все это смотрелось, если бы это надела я.
И вдруг входит преподаватель, и я его тотчас узнаю — тот командир, который выступал на митинге! Но теперь уже без фуражки, и я его разглядела лучше. Породистое лицо, высокий лоб, изогнутые брови, чуть прищуренные улыбающиеся глаза необычной формы (верхние веки дугой, нижние — прямые) и эти удивительные ресницы — мохнатые, длиннющие, загнутые. На щеках ямочки. Крупный, красивой формы рот, ровные белые зубы, волосы густыми волнами обрамляют лицо. Широкоплечий, сильный, походка стремительная, крепкая.
Он улыбнулся нам, улыбка у него оказалась обаятельная, и, смотрю, все наши дамы так и замерли…
Назвался «Миронов», имени и отчества не сказал — тогда это было не принято — и объяснил, что ему поручена такая общественная работа: беседовать с нами на политические и общемировые темы. И стал рассказывать, что наша революция — первая в мире, единственная, что ее нужно защищать всеми силами нашей Красной Армии, потому что пролетариат других стран что-то запаздывает с мировой революцией, а капиталисты не дремлют.
Посмотрела я на наших дам, а они глаз с него не сводят. Я тотчас поняла, что они все в него влюбились, даже старались записывать. Ну тут уж меня задело! Неужели я ударю лицом в грязь, неужели окажусь хуже, например, Нюськи с ее песцом на плечах (и это в такую жаркую весну! Ну как же люди не понимают, что надо одеваться по сезону!)?
Я тоже стала записывать. Записи эти были через пень-колоду, я не успевала, но дома я попросила Ивана Александровича разъяснить мне получше, вообще поднатаскать меня. Он был очень рад, что я его не опозорю.
В следующий раз Миронов стал нас вызывать и спрашивать по прошедшей беседе. Вызвал Нюську. Слышу, зазубрила про мировую революцию и «сицилизм», а дальше ни тпру ни ну. А я прямо изнемогаю от нетерпения — неужели не вызовет, ведь я-то все знаю! Не выдержала, подняла руку. Миронов кивнул мне — дал слово, и я так отбарабанила ему про интервенцию и зловредную Антанту, что он нахвалиться не мог и всем нашим дамам поставил меня в пример.
И вот я у него в первых ученицах, всех обставила. Теперь он на меня все поглядывает и, как только опрос начинается, все меня вызывает, или вопросы по ходу беседы ко мне летят, или, рассказывая, нет-нет да и посмотрит на меня.
Вот когда я была политически грамотной! Единственный раз в жизни. Боже мой, у другого я эту скучищу и слушать бы не стала! Но даже скучищу эту Миронов преподносил интересно. Мироша, Мироша, какой же он был способный!
А потом как-то… южный наш город… теплые весенние сумерки, мы расходимся после занятий по домам, и вдруг нагоняет меня и уже рядом со мной — Миронов. Погода прекрасная, домой не хочется, мы пошли в парк. Помню, он вдруг стал сочинять стихи сразу, экспромтом… Так мы стали встречаться.
Было у нас любимое место — в конце нашей улицы за поворотом, на спуске к реке. Там рос молодой тополь, его каждую весну подстригали, чтобы не заносил он своим пушистым семенем улицу, и он топорщился ветвями, как колючий шар. Оттуда мы уходили бродить по пустым вечерами улочкам, подальше от моего дома — или в рощицу у реки, или в глухие аллеи парка. И даже зимой, когда пронизывал ненастный ветер, мы не замечали непогоды.
Я уже знала, что Мироша воевал на польском фронте у Буденного, а став чекистом, получил орден ВЧК от Феликса Эдмундовича. Забегая вперед, скажу, что к годовщинам Красной Армии или ВЧК он получал и дружеские письма от Семена Михайловича и именные подарки, например золотые часы или маузер.
Миронов рассказывал мне о себе.
Он был родом из Киева. Был там такой район — Шулявка, это как в Одессе Молдаванка. Воры, бандиты, биндюжники, «золотовозы» — кто там только не жил! Жили там и евреи, жили деды и прадеды Мироши.
Когда благосостояние семьи трудами бабушки Хаи улучшилось, семья с Шулявки переехала. Бабушка Мироши Хая была известна своей добротой и энергией. Она всем, чем могла, помогала нуждающимся, и все ее знали и чтили. Ее называли «шатым-малых», что значит «ангел-хранитель». Она содержала на Крещатике молочную, которая славилась свежестью и превосходным вкусом продуктов. Мирошу и сестру его Феню она сумела устроить в одну из лучших гимназий Киева, но Мироша, хотя и очень способный, учился неохотно. Отчаянный сорванец с детства, превратившись в юношу, красивый и сильный (он запросто гнул монеты), Мироша стал героем молодежи.
С грустью рассказывал он мне о своей первой любви. Девушки поклонялись ему, и он обратил внимание на Марусю, но потом изменил ей, а она не перенесла его измены и отравилась. Мироша этого не мог забыть, и, когда пели песню «Маруся отравилась», у него, даже много лет спустя, на глаза навертывались слезы…
Еврею трудно было поступить в высшее учебное заведение. Надо было иметь золотую медаль и «попасть в процент». Но и это благодаря бабушке Хае удалось преодолеть, и к началу первой мировой войны Мироша стал студентом Коммерческого института.
В 1915 году Мирошу призвали в армию. Он горел патриотическим чувством и желанием воевать за «веру, царя и отечество». Я думаю, что и — отличиться на войне. Это ему удалось. Он был призван простым солдатом, но вскоре сумел выделиться. Когда в 1916 году высочайше было разрешено евреям — но только лучшим из лучших! — присваивать офицерские звания, он сразу получил звание прапорщика, а к 1917 году был уже поручиком.
Но вот произошла революция, он снял форму и какое-то время не знал, что предпринять, но с его характером не мог долго оставаться в стороне и в 1918 году вступил в Красную Армию. В Первой конной Буденного Мироша сразу отличился, был выбран красным командиром, а в 1925 году вступил в партию.
Революция ему, еврею, открыла все дороги. Это оказалась его революция.
Он быстро шел в гору. Азартный, увлеченный человек, он был баловнем жизни, ему все удавалось.
Красота его уже не тревожила меня, я поняла, что он ее не замечает, не ценит, то есть, конечно, он знал о ней, но чтобы пользоваться ею, царить среди женщин — это было ему не нужно. Его всегда интересовали только мужские дела.
Так мы встречались целый год, и ничего между нами не было. А я и не хотела быстрого сближения.
Потом Сережа уехал и прислал мне письмо: «Ты, наверное, сочла меня за гимназиста».
Но больше писем не было. И я не понимала, что это значит. Забыл меня, встретил другую?
Прошло несколько месяцев, и вдруг неожиданно моя подруга Сусанна тихонько сует мне записку: «Приходи в 6 часов на наше место. Сережа».
Он стоял под тополем и курил, поглядывая по сторонам. Как описать эту встречу! Помню каждый взгляд, каждое слово.
Я к нему подошла, он вдруг увидел меня, блеснул смеющимися счастливыми глазами, бросил папиросу, и мы, ни слова не говоря, пошли вниз к реке, в нашу рощицу. Но я успела заметить на его гимнастерке орден Боевого Красного Знамени. Тогда это был самый главный военный орден, и заслужить его было нелегко. Орден этот сразу вознес его в моих глазах в герои. Как это действует на женское воображение, не сам орден, конечно, а то мужество, которое за ним видится!
Едва мы оказались на скамейке в тени деревьев, я поздравила его и стала спрашивать, как и за что его наградили. Сереже расспросы мои были приятны, лестны. Приехать ко мне и показаться с высшим военным орденом для него, вероятно, было упоительно. Но отвечал он мне сперва уклончиво. Горделиво отшучивался, бросал небрежно, мол, это военные дела, мужские, и распалял мое любопытство все сильнее.
Впрочем, он не очень долго мучал меня недомолвками, потому что тайны в этом уже не было. В тот же вечер он рассказал мне, что командовал частями ВЧК, когда они вместе с пехотой Уборевича подавили в Осетии и Дагестане мятеж имама Гоцинского, которого англичане снабжали оружием. Так он и получил орден: сумел взять имама живым и невредимым.
Он мне рассказывал, как брали имама. Это было очень трудно. В кавказских ущельях горцы проходили, как козы, а наши, непривычные, передвигались с трудом. Какой-то горец вызвался быть проводником и завел их в безнадежное ущелье, где они все чуть не погибли, — их там перестреляли бы всех. Миронов сам допрашивал этого горца и потом застрелил в упор.
Урок этот ему помог. В похожее ущелье его чекисты вскоре сумели загнать имама и там предложили ему сдаться, а за это — жизнь и прощение.
В Ростове, помню, мы имама видели, его сопровождали два чекиста. Это был старик с брюшком, в белой чалме. Он ходил по базару и только указывал на желательное ему, а чекисты тут же угодливо покупали и расплачивались. Потом имама увезли в Москву.
— Что ему будет? — спрашивала я Сережу. Он отвечал, что не знает.
— Расстреляют?
— Возможно.
2.
В тот Сережин приезд мы стали любовниками.
Теперь он бывал в Ростове только наездами.
Удача его не оставляла. К десятилетию ВЧК он получил второй орден Красного Знамени за борьбу с бандитизмом на Кавказе и за большие заслуги во время гражданской войны. Я понимала, что это для него значило. Он был очень честолюбив, взлет карьеры — это было для него все. Ему всегда надо было первенствовать, даже в такой мелочи, как игра в шахматы или бильярд. Я знаю, как его передергивало, когда случалось ему проигрывать, но играл он превосходно и проигрывал редко.
Зарницкий уже работал на обувной фабрике. Зарплату он получал небольшую, на иждивении у него была моя мама, а потом, когда Сухотина арестовали, и Лена с Борей; позже приехал Павел. Денег всегда не хватало, и, хотя нэп еще не кончился и купить за деньги можно было все, что хочешь, я не очень-то могла франтить, все приходилось «изображать из ничего». У нас с Леной была одна модная шляпка, Лена говорила, что она больше идет ей, а я говорила, что мне, и мы ее друг у друга перехватывали.
Я часто не работала, детей не хотела, и их у нас с Иваном Александровичем не было. Хозяйством занималась мама. Моя единственная забота была одеваться. С виду моя жизнь казалась спокойной и счастливой, и никто не догадывался, что я живу одним — ожиданием. Сережа приезжал в Ростов, когда только мог, и стоило мне узнать, что он здесь, я уже становилась сама не своя, дома все теряло смысл, и только одна мечта охватывала меня — скорее вырваться к нему.
Иногда мы бывали в гостиничном номере Мироши вдвоем с Леной, и хотя она там хохотала, дурачилась, веселилась, но все чаще стала мне говорить, что надо одуматься. Она ведь резкая, авторитарная. «Пора наконец это кончать, — говорила она. — Пока Зарницкому не донесли». Она считала, что мне Зарницкого никак потерять нельзя. Да я и сама понимала: до каких пор играть двойную игру? И у Мироши тоже была жена — Густа. Во время восстания имама она приезжала к нему в Осетию в мужском костюме, но это так, к слову.
И вот мы ссоримся, расстаемся, и я ему говорю: «Вот и очень хорошо! Давно пора!» И делаю вид, будто я на седьмом небе от счастья, что освободилась наконец от него. Но как только он уходит, горе наваливается на меня горой — ревность, досада, такая боль, хоть под поезд кидайся! Однако я держусь, креплюсь, флиртую с другими. Это для себя, чтобы не чувствовать себя побитой собакой. Сережи опять нет в Ростове. Где он? Что он? Не хочу и думать, не хочу его знать!
Я даже начинаю привыкать к разрыву, как будто успокаиваться. И вдруг звонок по телефону. Сердце подпрыгнуло — неужели он? Но я прошу подругу Сусанну сказать, что меня нет. Он звонит опять. Сусанна ему:
— Она вас видеть не хочет, она занята, она играет на рояле!
— Но я хочу услышать все это от нее самой!
Я подбегаю к телефону, я не позволяю себе даже услышать его голос, я кричу в трубку только три слова: «Нет, нет, нет!», и бросаю трубку, и опять начинаю бурно, отчаянно играть на рояле, а в душе ликование: «Ага, не можешь без меня!»
Но на следующий день опять звонок. И я уже сама беру трубку. Он тихо: «Ага, ты?» — «Я…» — «Приходи ко мне».
Нет, не я отвечаю, — не слушая разума, шепчут мои губы:
— Приду…
— Ты правда придешь? Правда?!
Я не могу дожить до вечера. Но вот наконец вечер. У нас все садятся за преферанс: Иван Александрович, мама, Лена, ее очередной воздыхатель. А я никогда с ними не играла.
— Мама, — бросаю небрежно, но так, чтобы Иван Александрович слышал, — я пойду к Сусанне! (Завтра Сусанну надо предупредить, что я у нее была.)
Мама отмахивается: иди! не мешай, мол!
И я надеваю Ленино пальто из куниц и ту самую шляпку, которую мы поделить не можем, и выскакиваю вон, и — скорее, скорее по темным улицам в гостиницу!
Там на третьем этаже постоянно жили наши знакомые. Если кто засечет, думаю, скажу, что к ним заходила. Только бы их не встретить сейчас! Тихо поднимаюсь по лестнице, будто иду к ним. Но вот дошла до поворота на второй этаж, оглянулась — никого нет, и юрк в коридор. Сережа всегда оставлял дверь приоткрытой, чтобы мне не искать его номер.
Я быстро скользнула в комнату, скорее дверь прихлопнула. А он на другом конце комнаты, увидел пальто Лены и нашу общую шляпку и потемнел в лице: «А что Ага? Почему не Ага?» А я стою и улыбаюсь. И тут он узнал, только выдохнул: «Ага? Ты?..»
Поэтому я так люблю перечитывать «Анну Каренину». Я всюду узнаю наши отношения с Мироновым. Нет, я не про то говорю, что Анна потом стала страдающей стороной, а про начало их романа. Эти тайные встречи, эти ссоры, эти бурные примирения…
3.
Миронов был очень предан советской власти. Иногда полушутя он называл меня «белогвардейкой». И вот однажды, желая испытать силу его любви ко мне, я спросила:
— А если бы я действительно оказалась белогвардейкой, шпионкой? Если бы тебе приказали меня расстрелять, ты бы меня расстрелял?
Я ждала услышать, что он все на свете отдал бы за меня, всем бы пренебрег, все бы бросил. Но он вдруг ответил твердо, не колеблясь, сразу, словно весь обледенел:
— Расстрелял бы.
Я не поверила своим ушам.
— Меня?! Меня расстрелял бы? Расстрелял бы… меня?!
Он повторил так же безапелляционно:
— Расстрелял бы.
Я расплакалась.
Тогда он спохватился, обнял меня, стал шептать:
— Расстрелял бы, а потом застрелился бы сам… — И стал меня целовать.
Слезы мои высохли, и хотя я еще повторяла: «Да, да, как ты мог хоть на миг такое подумать!» — но я уже шла на компромисс: если застрелился бы сам, значит, все-таки любит.
С.Н.Миронов, 1934 год
Такие отношения длились у нас шесть лет. Мироша называл это время «подпольный стаж».
Но вот он стал все настойчивей говорить мне:
— Ага, так дальше продолжаться не может. Ты не можешь без меня, я не могу без тебя. До каких пор нам так жить — воровать? Надо что-то решать.
Но я отшучивалась.
И вдруг Сережа получил назначение в Алма-Ату. Я провожала его на вокзале, зашла в вагон. Мы сели на лавку. Сережа сказал:
— А что, если я увезу тебя в Москву? — У него была в Москве остановка.
Я рассмеялась.
— Почему ты смеешься? Я серьезно. Поедешь в Москву, посмотришь. Ты ведь никогда не была в Москве. Ну, конечно, на время, потом вернешься…
Я была в легком платье, в жакетке, в руках только маленькая сумочка.
— Как же я могу? Без ничего?
Мне казалось это неопровержимым доводом, но он тут же его отверг:
— Не беспокойся, мы все-все купим, все у тебя будет!
А тут проводник по вагону:
— Кто тут провожающий? Поезд отправляется через две минуты.
Ударил колокол на перроне.
— Я не пущу тебя, Ага, — сказал Миронов и, смеясь, железом сжал мне руки.
— Ой, — засмеялась я, — больно!
Колокол ударил два раза, вагон дернулся, здание вокзала поплыло за окнами…
Я, конечно, одумалась вскоре. Представила себе, как они вечером дома сядут за преферанс — мама, Иван Александрович, Лена, кто-нибудь еще, а меня нет. «Где Ага?» — никто не знает. Станут играть, а меня все нет и нет. Потом спохватятся — ночь, а я не вернулась. Иван Александрович весь Ростов на ноги поднимет. И я решила: на первой же станции сойду и еду обратно. Но подъехали к ближайшей станции, и я подумала: если я сейчас сойду, я ведь Сережу очень долго не увижу, а если поеду, мы еще побудем вместе в Москве. И я не сошла.
На следующей станции все повторилось. Сережа сказал: «Если ты волнуешься, как там твои, пошли телеграмму». Но когда мы приехали на очередную станцию, он побоялся меня отпустить, заплатил проводнику, дал ему мой текст, чтобы тот отправил.
В купе кроме нас был только один пассажир, он все время спал на одной из нижних полок, а я лежала на другой. Мироша укрыл меня своей шинелью (тогда постели в поездах не давали), сидел рядом, низко нагнувшись ко мне, и напевал. Вы знаете эту песню: «Моя арба плывет средь моря пыли, В моей арбе уснула Кетаванна»?
Он ее переиначил:
Наш поезд мчится среди голой степи, В моем купе уснула Ага Ванна, Я взял ее в ростовском переулке…Он даже не уснул в эту ночь. Это он-то, которому стоило подушки коснуться — и он храпел так, что никто (кроме меня, однако) глаз сомкнуть не мог. Но он не решался уйти на верхнюю полку, он стерег меня, все еще опасаясь, что я сойду на какой-нибудь станции. В Москве мы остановились в «Метрополе», — тогда не требовалось отметки из загса, чтобы мужчина и женщина могли взять в гостинице номер, регистрация брака была вообще необязательна. В первый же день мы пошли вместе в магазин, и я выбирала все, что мне нравилось, а он только платил. Мне хотелось то и то, запросы мои все росли, я иной раз стеснялась, но он замечал, что мне нравилось, и покупал все. Правда, уже не все тогда можно было найти.
Приближалось время отъезда Сережи в Алма-Ату. Он сказал мне:
— Ты подумай, Агнеска, вот о чем. Пока я был на Кавказе, я мог часто вырываться к тебе в Ростов. Ты сама понимаешь, что из Алма-Аты я не вырвусь. Значит, или ты едешь со мной сейчас сразу в Алма-Ату, или мы расстаемся с тобой по твоей вине навсегда. Вот и решай в последний раз. Завтра я уезжаю.
И я поехала с ним.
Он, конечно, на это и рассчитывал, когда увез меня из Ростова. Эту песенку про Кетаванну он еще долго любил напевать, так ему нравилось, что он увез меня. Помню, мы приезжали с ним в гости в Тбилиси к его друзьям, и там он пел ее так:
Мое авто плывет средь моря пыли, В моем авто уснула Ага Ванна, Я взял ее в ростовском переулке…ЗАРНИЦКИЙ
1.
Я уехала внезапно, неожиданно. Мама, Павел с ребенком какое-то время оставались на попечении Ивана Александровича. Мои вещи — извините, до лифчика — я оставила дома, они так и лежали там на своих местах. Белье, черные перчатки, шапочка с кисточкой, та самая, которой Иван Александрович так гордился перед своей матерью, и все прочее, что у меня было, хранилось в ящике большого комода в нашей с ним спальне.
Иван Александрович был очень мрачен, подавлен. В день моего рождения он принес, как всегда приносил прежде, букет крупных розовых роз (и это зимой — он где-то их всегда доставал). Мама видела, как он прошел к комоду, открыл ящик с моими вещами, стал отрывать бутоны роз и бросать их туда, потом цветы. Оголил все стебли и закрыл ящик. Тут он увидел в дверях маму, что-то дернулось в его лице, ей показалось, он сейчас заплачет, она вскричала испуганно (ей представилось это дурной приметой):
— Что вы сделали?! Вы что, хоронить ее собрались?
— Да, она для меня умерла…
И быстро ушел из дому.
У него был пистолет. Мама кинулась к ящику — пистолета нет.
2.
Через некоторое время, около года прошло, я приехала в Ростов за дочерью Павлика Агулей и мамой. Мои уже переехали от Ивана Александровича.
— Ах, что ты наделала, Ага! — сокрушалась мама. — Ведь он чуть не застрелился.
Павел жил с мамой, она нянчила Агулю. Я ему сказала весело:
— Пойдем к Ивану Александровичу.
А был его день рождения. Мы взяли маму и детей и пошли.
Иван Александрович встретил нас хорошо одетый, побритый, как будто ждал. И правда, с улыбкой, спокойно сказал мне:
— Я был уверен, что ты придешь.
Пока готовили стол, пока мама хлопотала по хозяйству, а Павел занимался с детьми, мы с Иваном Александровичем прошли в нашу бывшую спальню. Там ничего не было переставлено. Все оставалось так, как было в день моего ухода. Иван Александрович сказал мне:
— Ага, это ведь так быстро произошло, это не могло быть прочно, серьезно…
И стал просить меня вернуться к нему:
— Я просто не могу жить, я не застрелился только потому, что верил — ты ко мне вернешься!
Он говорил, а по щекам его текли слезы. Потом схватил мои руки и стал целовать. И это он, такой выдержанный всегда, такой корректный!
В ту минуту я не могла сказать ему «нет» — невозможно ударить, убить человека в таком состоянии. Я растрогалась сама, былое всколыхнулось, я сказала:
— Я подумаю, Муша. Возможно, что я вернусь.
Он сказал: «Произошло быстро». Он думал, конечно, — легкомысленный порыв, прихоть. Он ничего не знал о шестилетнем «подпольном стаже» моего обмана!
Я уехала в Алма-Ату. Туда за мной полетело толстое, умоляющее письмо со страстным призывом.
Я не вернулась, милая Мира. Я опять обманула его.
Все, все, все, что я потом испытала, все, что мне пришлось пережить, это мне отплатилось за него, за зло, которое я ему причинила!
3.
Прошло почти десять лет. Миронова арестовали, я носила ему передачи в Лефортово, потом передачи перестали принимать, и нам — толпе жен — всю ночь зачитывали приговоры, всем одно и то же: «Десять лет без права переписки», а это значило — расстрел.
И вдруг я получила от Ивана Александровича письмо. Там было: «Я знаю, что твой муж арестован, что ты одна. Вернись ко мне! Я живу с другой женщиной, но я люблю только тебя, я с ней разведусь, и мы опять будем вместе». Письмо мне привезла Сусанна. Я ответила через нее: «Как я могу об этом думать, когда мой муж в тюрьме?»
И я опять обманула его: у меня уже начинались отношения с Михаилом Давыдовичем.
Я виделась с Иваном Александровичем еще через несколько лет. Я была уже замужем за Михаилом Давыдовичем, приехала в Ростов, остановилась у родственников. Вероятно, он об этом узнал, пришел в гости. Когда он собирался уходить, я сказала:
— Я провожу тебя, Муша.
Нежно взяла под руку, и мы пошли по вечерним улицам. Я шепнула ему:
— А все-таки самая настоящая любовь бывает только в юности…
— Да… — отозвался он серьезно.
Зачем мне было опять ворошить старое? Но на этот раз он не поддался.
— Ты спешишь? — спросила я.
— Спешу.
— Тебя ждут?
— Да, меня ждет жена.
Это было сказано твердо. Мы расстались дружески, даже нежно, но он уже не звал меня вернуться.
Из лагеря я написала ему в Ташкент (он был там главным инженером обувной фабрики), передала я письмо с Катей — зэка, освобожденной раньше меня. Ответа не было. Я написала Кате. Она ответила: передала в собственные руки.
Затем, уже отбыв срок (когда я жила в Богородске), я опять написала ему письмо с напоминанием о прошлом. Я писала, что сейчас одинока и несчастна, что Михаил Давыдович получил второй срок — десятку, и нет никакой надежды, что он его выдержит. Я ведь и в самом деле не надеялась на его возвращение.
Иван Александрович опять мне не ответил. Я написала Кате длинное письмо о том, как он говорил мне, что живет с другой, но любит только меня, писал мне стихи, я их приводила, повторяла в письме… Почему же теперь он не отвечает, даже слова не напишет? Смысл письма был — упреки. И еще смысл был тайный, подтекст: «Позови меня сейчас, я приеду к тебе…»
Мне было очень тяжело тогда. В нем я видела родного и близкого человека. А потом я просто не могу без любви… И я ее призывала вновь, искала ее там, где когда-то она была такой всепоглощающей…
Катя сама отнесла письмо Ивану Александровичу на работу. Он прочел при ней, сказал грустно:
— Я писал ей такие письма, это правда. Но это было давно, и много воды утекло с тех пор…
Я написала через год снова — через Катю. Она ответила мне: он умер.
Я была в Ташкенте у Кати. Заходила на фабрику, где Иван Александрович работал. Спросила о нем. Конечно, все его знали, любили. Жалели, что умер. Я хотела узнать подробности — где, как, когда.
— А вы выпишите пропуск, пройдите в отдел кадров.
В отделе кадров я спросила:
— А вы не знаете, где он похоронен?
— Вы лучше у семьи узнайте. — И дали адрес.
Но я не пошла по адресу — не хотела встречаться с его женой.
А в прошлом году — пятьдесят лет спустя — я побывала в тех местах, куда мы когда-то приезжали к его родителям. Гостила у Агули в Ленинграде, выдался у меня свободный денек, воспоминания подхватили меня, и я туда поехала. Я ведь, знаете, я вам уже говорила, последние годы все хожу «по следам своей юности», по тем местам, где она протекала…
Пришла к пригородным кассам, прошу билет до Мурина. А кассирша: «Такой станции нет».
— Простите, пожалуйста, пятьдесят лет назад по этой дороге была станция Мурино.
— Теперь это город, — говорит она. И объяснила, что нужно доехать на электричке до станции такой-то.
Я приехала. Платформа, леса нет, дач нет, поля нет. Новые домища торчат. Даже куда идти, не знаю.
И вдруг увидела — колокольня старой церкви. Я — к ней. Церковь стоит. Прошла по улице. В одном дворе маленький домик — его не снесли. Увидела седую женщину.
— Простите, вы давно здесь живете?
— Я и родилась здесь!
— Тогда вы должны знать Зарницких, священника и его жену.
— Как же, конечно, знаю. А вы кто?
— Я невестка…
— Какого же сына?
— Старшего, Ивана Александровича.
— Ивана Александровича? Я же его отлично помню! Как он?
— Он умер.
Она стала мне рассказывать об Иване Александровиче:
— Он был такой хороший проповедник! Бывало, наденет рясу, выйдет к верующим и начнет говорить о совести, о добре. Теперь никто и слов-то таких не знает. Иссобачились! А мы, бывало, слушаем его, и на душе светлеет. А отец его, батюшка, где-нибудь незаметно стоит, и тоже слушает, и радуется! Иван Александрович ведь был старший сын, к нему должен был перейти приход.
— А он ушел в Красную Армию.
— Знаю, знаю, у нас здесь все говорили. Он приезжал уже в форме… Это не вы ли тогда приезжали с ним? Вы? Как время-то нас меняет! То-то радость старикам доставили!
— А что с ними потом, после высылки было, не слышали?
— Ничего, милая, не знаю, ничего… как в воду канули. У нас здесь многих забрали, и все так — ни слуху, ни духу…
Я нашла дом, где они жили… Он был больше других, еще не снесенных домишек, разгорожен на две части — зал разгорожен надвое, даже круглый пень в саду разгорожен. В одной половине живут какие-то люди, в другой — детский сад. Я попросила разрешения, мне позволили пройти в детский сад. Все мне показалось меньше, уже, незначительнее… А где «медовая комната»? Я прошла все, но так и не нашла среди веселых, выкрашенных голубой и розовой краской комнат ту, которую когда-то мне назвали медовой…
КАРАГАНДА
1.
Я два раза была в Караганде. Первый раз — в 1931 году, когда мы приехали с Мирошей в Алма-Ату. Там полномочным представителем ОГПУ Казахстана был Каруцкий, а Мирошу назначили его заместителем. (До Каруцкого начальником ОГПУ был Данилов, которого сняли за контрабанду.)
В первый же день завхоз принес мне груду отрезов крепдешина — я взяла. Миронов рассердился:
— Отдай все!
Мне пришлось идти к завхозу домой. Его жена удивилась:
— Что, неужели не подошли?
Сам Каруцкий — пузатый, отекший — очень пил. Жена его прежде была замужем за белогвардейским офицером, родила от него сына. Каруцкому стали колоть этим глаза. Тогда он сказал ей: «Лучше пусть мальчик живет у твоей матери!» И мальчика отправили. Жена Каруцкого страшно тосковала и незадолго до нашего приезда покончила с собой.
У Каруцкого под Алма-Атой была дача, где он устраивал холостяцкие кутежи. Только мы приехали, он пригласил нас. Там я видела порнографические открытки, исполненные каким-то очень хорошим французским художником, вот уж не помню кем. Одну запомнила до сих пор. Болгария, церковь. Ворвались турки, насилуют монашенок.
Каруцкий очень любил женщин, и у него был подручный Абрашка, который ему их поставлял. Высматривал, обхаживал, сводничал.
И вот этот Абрашка, как только Миронов уйдет на работу, повадился ходить ко мне. То одно принесет, то другое, виноград, дыни, фазанов — чего только не приносил. Миронов из себя выходил:
— Зачем ты берешь? Гони его!
Как-то Сережа пришел домой, а в пепельнице полно окурков.
— Это не мои! Кто здесь был?
— Абрашка.
— Опять Абрашка? Зачем?
— Не знаю.
— Зачем ты его принимаешь? Я тебе говорил, гони его!
Рассердился, а на следующий день пришел мрачный как ночь.
— Теперь я знаю, зачем Абрашка приходит. Каруцкий посылает меня на месяц в командировку для инспекции по всему Казахстану. Это он нарочно, чтобы я уехал, а ты бы тут одна осталась… Может, ты этого хочешь, не знаю…
— Сережа! Этот пузатый Каруцкий!
— Не хочешь? Ну тогда что, если мы его перехитрим?! Мне ведь дают целый вагон. Поедешь со мной?
— А можно?
И я поехала с Сережей в командировку.
2.
Вагон был пульмановский, из царских, еще николаевский. Салон обит зеленым бархатом, а спальня — красным. Два широких дивана. Проводники, они же повара, стряпали нам на славу. Среди сотрудников только одна (кроме меня) женщина — машинистка.
Поздняя осень. В Северном Казахстане уже зима. Ветры там лютые, пурга, холода. Вагон все время топили, но выйти куда-нибудь невозможно! Я, южанка, мерзла. Тогда мне доставили доху, мех вот такой — в ладонь ширины, густой! Я в нее закутаюсь и куда угодно — в пургу, в мороз! Мне тепло.
Все бы хорошо, только почему-то Сережа с каждым днем становился все молчаливей, угрюмей, даже я не всегда могла его растормошить.
И вот приезжаем как-то на заваленный снегом полустанок.
— Это, — говорят, — поселок Караганда. Его еще только строят.
Вагон наш отцепили, и сотрудники пошли посмотреть, что за Караганда. Я тоже хотела пойти с ними, но Сережа не пустил. Долго их не было, мы с Мироновым ушли в спальню. Мироша лег на диван, молчит, потом заснул. Мне стало скучно, я опять пошла к сотрудникам, а там все набились в одно помещение. Вернулись те, что ходили в поселок, и рассказывают.
— Караганда эта, — говорят, — городом только называется. Одни временные хибары, построенные высланными кулаками. Ничего в магазине нет, полки пустые. Продавщица говорит: «Я не работаю, не торгую, нечем. Хлеб забыли, как и выглядит… Вы говорите, вам хлеб и не нужен? Ну что же вам предложить? Кажется, где-то у меня сохранилась маленькая бутылочка ликеру… Возьмете?»
Они взяли. Разговорились с нею. Она рассказала:
— Сюда прислали эшелоны с раскулаченными, а они все вымирают, так как есть нечего. Вон в той хибаре, видите отсюда? Отец и мать умерли, осталось трое маленьких детей. Младший, двух лет, вскоре тоже умер. Старший мальчик взял нож и стал отрезать, и есть, и давать сестре, так они его и съели.
Все замолчали. Они, сотрудники, про голод уже, оказывается, знали. Помолчали, но затем после горячего чаю все развеселились, заговорили о другом; один стал «выпендриваться» передо мной и машинисткой.
— Вы не глядите, что я маленький, — воскликнул он, — ни одна женщина еще на меня не жаловалась!
И рассказал историю, как снимались они с другом в фотографии и на снимке на заднем плане увидели хорошенькое женское личико. Это была жена фотографа. Они пришли в фотографию, когда мужа не было.
— Можно его подождать?
Она на кухне возится, они ей березовых дров накололи. Вдруг по лестнице тяжелые шаги — муж.
— Вы что тут делаете? Вон отсюда!
Обоих спустил с лестницы, а вдогонку им вниз летели березовые дрова.
— Вы думаете этим кончилось? — спросил рассказчик самодовольно. — Она сама ко мне приходила потом!
И так далее, вот такие рассказы. Потом стали в карты играть. А я все не могла забыть о тех детях.
Проснулся Мироша, я ему рассказала, думала поразить, а он мне:
— Я, — говорит, — сам знаю.
Он обычно от меня все свои служебные дела скрывал, но тут ведь я сама ему сказала.
— Знаю, — говорит, — заходим в домишко, а там трупы… Вот такая командировочка.
Он очень тогда переживал, я видела. Но он уже старался не задумываться, отмахнуться.
Он всегда считал, что все правильно, очень был предан. Помню, в начале нашей совместной жизни я часто говорила ему:
— Мироша, не может быть, чтобы все были виноваты!
Я говорила так под влиянием мамы, мама была умная женщина.
— Конечно, ты не веришь, — возражал он. — Ты ведь белогвардейка.
А тогда среди вымирающих селений в нашем вагоне, обитом бархатом, было полно провизии. Мы везли замороженные окорока, кур, баранину, сыры, в общем, все, что только можно везти.
Петропавловск еще с царских времен был городом. К Мироше тотчас, как мы приехали, пришел начальник ОГПУ Петропавловска. Сережа инспектировал работу этих начальников, но он не строил из себя грозного ревизора, наоборот.
— Завтра мы начнем работать, — сказал он дружески, — а сегодня приходите к нам с женой на обед, у нас будет жареный поросенок.
Они пришли. Жена его Аня — хорошенькая, но толстая! И еще платье. Ну разве можно толстым такое носить? Юбка плиссе — это же толстит! Она все оправдывалась, помню: «Это потому я растолстела, что мы были в Средней Азии, там летом очень жарко, я все пила воду».
Стол в салоне был накрыт хоть и по-казенному, но роскошно. И вот повар тащит на блюде жареного поросенка, нарезанного ломтями, в соусе. Проходит мимо нас, вероятно, опасался задеть пышную прическу Ани, наклонил блюдо, а соус как плеснет ей прямо на платье! Она вскочила, закричала:
— Что за безобразие!!! — и давай ругаться.
Повар так и замер, лица на нем нет — что ему теперь будет?!
Я пыталась ее утихомирить, советовала соли насыпать на платье, но вся радость обеда была уже испорчена. Мироша ей:
— Неужели какое-то платье помешает вам отведать такого поросенка?
Муж брови нахмурил: перестань, мол! Но она не унимается. Так и прошел весь обед.
На другой день они нас пригласили. Там-то был пир, так пир! Много всяких прислужников, слуг, каких-то подхалимов, холуев. Подавали всякие свежие фрукты, подумайте, даже апельсины. Ну уж про мороженое всяких сортов и виноград — и говорить нечего!
3.
Во второй раз я побывала в Караганде через пятнадцать лет. Миронов давно был расстрелян, мой третий муж, Михаил Давыдович, томился в лагерях. У меня позади были Лубянка, и страшный переход через степь в пургу, и дистрофия, от которой я чуть не погибла. Мой срок заканчивался. В конце его я была связана с больницей в Аратау, в трех сутках езды на лошадях от Караганды. Моей подругой стала жена начальника лагеря Панна, она меня всячески поддерживала.
У нас в больнице тогда лежал уголовник, у которого якобы отнялись ноги. Он рассказывал, что урки за какие-то их внутренние дела с размаху ударили его о скалу. Но позвоночник у него остался цел, и наш главврач не был уверен, что он не симулирует. Уголовника этого решили отправить в карагандинскую больницу, и главврач сказал конвою:
— Посылаю с медсестрой. Она не убежит, ей осталось три месяца до освобождения, а вот насчет него не уверен, за ним смотрите.
Про наших вохровцев говорили, что это дети и внуки тех раскулаченных, которых пригнали сюда умирать в тридцатые годы, и теперь они нас ненавидят — как интеллигенцию, точнее, как бывшее начальство, «партейных», что когда-то раскулачивали и высылали их семьи. Может быть, среди них был и тот мальчик, который когда-то съел своего младшего брата.
Отличались они какой-то особой жестокостью, грубостью, но, главное, были уж очень некультурны и дики. Сама я не пострадала от их жестокости, я быстро поняла, какая здесь жизнь, и научилась, не подличая, как-то ладить со многими.
А еще знаете, что мне помогло? Я никогда ни одного дня не носила тюремной или лагерной одежды. Мне казалось, что стоит надеть их одежду — эти ватные брюки или куртку с торчащей из дыр ватой, — и ты уже не человек, ты уже превратился в раба в глазах всех и в своих собственных, раба, которым можно как угодно помыкать. Надо было сохранить свое человеческое достоинство. Я и старалась держаться так — не сдаваться, не уронить себя. И это мне помогло. Отношение ко мне было другое, даже у вохры.
Но вернусь к рассказу.
Мы поехали. Впереди тачанка с двумя конвойными, затем телега, в ней на соломе — больной, и я у него в ногах со своим узелком. Правил конвойный.
Июнь. Солнечно. Степь, высокая трава, цветы. Днем останавливались, разжигали костер, конвой варил себе. Нам с больным выдавали хлебную пайку. Затем стали меня звать: «Эй, лягпомша, иди есть с нами!» Но я брезговала. Брала только вареную картошку, делилась с больным.
Ночевали в избах. Двое конвойных и я на лавках, один, дежурный, с больным на телеге.
Когда дежурил Василий, оба других тревожились, не убежит ли больной. Я успокаивала их:
— Да там же Василий!
— Дык што Василий, так твою мать! Захрапит, и хоть выноси самого!
Несколько раз в ночь выходили проверять.
Разлив рек. Вот подъехали к реке. Тачанка переправилась легко. Но телега сидит ниже. Въехали, а вода стала заливать. Мы с конвойным приподнялись, а больной в воде. И вдруг кони поплыли! Уж как они распряглись, Бог знает! Плывут вниз по течению, а вода нас заливает. Я думаю: «Я-то умею плавать, а больной?» А он весь уже в воде, страшно перепугался, лицо исказилось от страха… Я после сказала конвойным: «Он действительно ходить не может!»
Лошади вышли из воды, их впрягли в тачанку, привязали к ней телегу и вытащили нас.
Тепло было. Мы сушились на солнце.
Больной повеселел, счастливый, что не погиб. Когда поехали, рассказал мне в тот день, за что его взяли.
Хорошо ему жилось на воле! Приезжал на маленький разъезд Транссибирской магистрали, платил какой-нибудь женщине три-пять рублей, чтобы пустила на два-три дня. Не спеша проходил мимо остановившегося товарного состава. Обходчики постукивали по тормозам, внимания на него не обращали. А он, проходя мимо состава, нюхал — не пахнет ли мануфактурой? Он по запаху чуял ткани.
А когда стемнеет, прилично одевался, с внутренней стороны пиджака подвешивал топорик, молоток, а гвозди в кармане. Находил состав на запасных путях, влезал на тормозную площадку. А там на двери в вагон есть дощечки, планочки короткие, он их поддевал топориком, они отходили, повисали на гвозде. Он пролезал внутрь, а планочки ставил на место, чтобы отверстие не зияло.
Шел по вагону. Там бывало навалено рулонов! — пройти трудно. В темноте он нюхал их, хлопок не брал. Искал крепдешин, шелка. Шелка упакованы были меньшими штуками, он брал две штуки. Затем подходил к проему, выглядывал — тихо ли? Обычно на полустанке — ни звука, тишина.
Вылезал, осторожно заделывал дыру, шел к бабе, у которой остановился, укладывал рулоны в чемоданы и утром первым поездом уезжал к своей скупщице. Та очень наживалась. Если метр крепдешина стоил девять рублей, — она давала ему рубль за метр. Торговались. Он получал деньги после того, как помогал ей нарезать куски по три и три с половиной метра. Эти отрезы она отдавала своим подручным бабам, которые их продавали на толкучках.
Из-за перекупщицы он и попался. Она его «продала». Как-то нарочно обманула в расчете. Он вернулся требовать свое, а там его уже поджидали. Он разозлился: «Я сяду, но и ты сядешь!» Рассказал о ней все, и она села тоже.
4.
Но вот и Караганда! Паровозный гудок! Впервые за несколько лет я увидела поезд. Поезд, трамвай! О, Караганда теперь уже была совсем не тем засыпанным снегом мертвым поселком, что пятнадцать лет назад! Это уже был город. Но город лагерей и ссыльных — тех, кто оседал здесь после лагерей. Только самого первого, вымершего слоя тут не было — раскулаченных…
Больницу обслуживали первоклассные врачи, они лечили и начальство и вохровцев. Лагерные начальники построили себе здесь дома, некоторые — даже с колоннами. Они разводили коров, свиней, кур, батраками были у них заключенные. Если кто заболевал в семье у начальника, приказывали профессору прийти к ним домой — посмотреть горло ребенку или полечить тещин радикулит. Лучшие профессора обслуживали их на дому.
Наши конвойные сдали уголовника в больницу. «Теперь, — говорят, — будем сдавать тебя». Меня они должны были «сдать» в лагерь. Сдали. В лагере, как расконвоированную, меня направили в гостиницу. Это был совершенно пустой барак с топчанами. На них солома и одеяла, связанные так, как вяжут половики, грубо.
Заведующую гостиницей этой звали Татьяной. Мне разрешили пойти в город. Татьяна сказала, что там даже можно купить газированную воду и мороженое. Мороженое! Сколько лет я его не ела!
Я постаралась приодеться, как могла. У меня была длинная черная юбка — подарок Панны. Я шла к выходу вдоль проволоки, разгораживающей лагерь на мужскую и женскую половины, а по ту сторону проволоки стояли мужчины, заключенные. Высыпали все, смотрят на меня, слышу восклицания: «Новенькая! Новенькая!»
Татьяна рассказала мне свою историю. Отец ее был богатый волжский помещик. Два брата — офицеры — в двадцатом году удрали за границу с белой армией, связи с Татьяной не поддерживали. При Ежове ее арестовали за отца и дали десять лет. И вдруг перед самой войной ее вызывают из лагеря с вещами. Что бы это значило? Сажают в поезд — и в Москву, на Лубянку. Здесь ее привели к самому Берии. Роскошный кабинет, портрет Сталина во весь рост. Берия за письменным столом, предлагает садиться.
— Вы такая-то?.. — и так далее. — У вас родственники за границей есть?
Татьяна клянется, что никакой связи с ними не поддерживала.
— Напрасно, — говорит Берия. — У вас какой срок?
— Десять лет.
— Ну это много! Слишком много. Теперь я вам объясню, зачем мы вас вызвали. Один брат ваш живет в Константинополе, другой скончался в США и оставил шестьдесят миллионов долларов. У него прямых наследников нет. Брат ваш может получить это наследство, только если вы приедете в США. Мы вас посадим в самолет, выправим вам документы. С вами поедут двое наших людей. Получите деньги и вернетесь.
Она стала ждать — представьте только, как волновалась! Думает: если поеду, неужели не удеру, не останусь там? Правда, они могут меня убить… Дам каждому по пять миллионов.
Ждала, ждала, а тут вдруг война. Опять ждала, а ее — в этап. Куда? Как? Ей говорят: «Приговор остается в силе». Вот она и тут.
Так вот, когда я уходила в город, Татьяна попросила:
— Можно, я возьму ваш обед? Хлеб я вам сохраню.
Я согласилась. Мой брандахлыст и кашу Татьяна съела.
5.
В Караганде я еще успела пойти к парикмахеру и сделать паровую завивку. Сколько лет я не была в парикмахерской!
Парикмахер удивился:
— Я до сих пор вас не видел! Вас прислали сюда работать?
Я не стала его разуверять. Он постарался — завил меня на славу. Я почувствовала себя человеком.
Мужчины опять высыпали к проволоке, когда я шла обратно. А я иду в длинной черной юбке, красиво завитая, голову несу высоко, ни на кого не смотрю. Один робко хлопнул в ладоши, и вдруг все громко зааплодировали, приветствуя меня.
Обратно я должна была ехать с конвоем, и меня взяли в машину с женами охраны, которые в Караганду приезжали в магазины. Они все меня разглядывали, удивлялись, восклицали:
— Ах, какая прическа! А мы не догадались зайти к парикмахеру!
Мол, мы хоть и начальство, а опростоволосились!
А я сделала из проволоки каркас и натянула на него марлю, получилась шляпка с полями от солнца, оно там сильно печет. Мы ехали в кузове грузовика без верха. Вохровец, который с нами ехал, все не мог успокоиться, озлобился на мою шляпку, все восклицал с издевкой:
— Сними ты это гнездо собачье!
Раздражало его, вероятно, что-то интеллигентское, «барское» в моей шляпе. А я возражала спокойно:
— Зачем снимать? Она никому не мешает.
Но он все свое:
— Сними, тебе говорят!
Но с головы не содрал. Со мной они обычно такого не смели, да и при женщинах, вероятно, не захотел.
Когда мы приехали, все обгорели — красные носы вспухли — и опять ахать:
— Как же это вы, Агнесса Ивановна, остались беленькой?
И это называется женщины! Даже такой вещи понять не могли — прикрыться от солнца!
Когда я уезжала из Караганды, у меня с Татьяной произошел такой разговор.
— Когда ваш срок кончается? — спросила она.
— В сентябре 1947 года.
— И мой!
И мы условились встретиться тогда. Татьяна сказала:
— Я буду вас ждать. Если меня не застанете, значит, что-то случилось.
Она ко мне привязалась, и после моего отъезда у нее было тяжелое душевное состояние. Я получила от нее письмо, потом она замолчала. Там, где мы условились встретиться, ее не оказалось, я не могла задержаться, чтобы узнать, что с ней. Больше я никогда ее не видела и ничего о ней не знаю.
НАША ЖИЗНЬ С МИРОШЕЙ
1.
Хотя мы с Мирошей уехали в Алма-Ату, а потом в Днепропетровск, но каждый год в Мирошин отпуск мы ездили отдыхать на Черное море, а потом часто заскакивали в Грозный, Владикавказ или в Тбилиси, где у Мироши было много друзей по прежней работе.
Секретарем крайкома ВКП(б) в Закавказье был тогда Берия, а заместителем полномочного представителя ОГПУ в Закавказье — Абулян.
Абулян был другом Миронова. Они вместе сражались в буденновской армии; как и Сережа, он приехал в Ростов с Евдокимовым, и оттуда они уже получили назначение в разные места Кавказа.
Характер у Абуляна был независимый, Берии он подчиняться не хотел. Ну и получилось — два властителя в одной вотчине. Берия его возненавидел.
Тогда Миронов был уже начальником ОГПУ Днепропетровской области. И тут мы вдруг прочли в газете заметку о гибели Абуляна, погиб, мол, в автомобильной катастрофе. Миронов потемнел лицом, ничего мне не сказал, но я поняла — переживает. Когда через полтора месяца мы приехали в Тбилиси, я ему сказала:
— Надо пойти к вдове.
А он мне:
— Ты сходи сама, без меня.
Были у него основания для этого. Я пошла.
У Абуляна жена была русская, рыжая, двое детей.
Я зашла в дом. Нигде никого. Двери не заперты. Детей, видно, куда-то увезли. Только старуха приживалка меня встретила, бродит по дому как тень. Палец к губам приложила, указала на спальню.
Я заглянула туда. Жена Абуляна Валентина Васильевна, вся в черном, волосы растрепаны, глаза красные, полубезумные, сидит на полу, какие-то фотографии разбросаны… Увидела меня, разрыдалась. Когда успокоилась, шепчет мне:
— Знаешь, Ага, это Лаврентий его убил… Он, он убийца! Его люди!
И рассказывает. Летом жара, они жили на даче в горах. Абулян на машине к ним приезжал. Иногда очень поздно. И вот якобы его машина столкнулась с грузовиком. Ее нашли на дне пропасти. Оба — и Абулян и шофер — искалечены до неузнаваемости. Приперли их двумя грузовиками к краю и столкнули. Или убили, а потом сбросили? Никто не видел, — темно, ночь. Люди Берии и маршрут его хорошо знали, и время, когда ездит…
Когда я Миронову рассказала про это, он предостерег меня:
— Хочешь жить, — молчи про это! Никому ни слова!
Следствие уже закончилось, все шито-крыто, никто ни в чем не виноват, несчастный случай.
Несколько лет спустя мы узнали, что семья Абуляна в Москве. Я отправилась их навестить, пришла по адресу, а там другие люди уже поселились, и никто ничего про Абулянов не знает. Это было уже тогда, когда Сталин перевел Берию в Москву и тот стал заместителем Ежова.
Абуляны исчезли бесследно.
Берия вообще недолюбливал бывших кавказских чекистов, они слишком много о нем знали.
Для Миронова перевод в Днепропетровск был повышением. Тут он был полномочным представителем ОГПУ Днепропетровской области, а в Алма-Ате — только замом. Мы жили в прекрасном доме…
Взгляд извне. Лева:
Помню старинный двухэтажный особняк, на втором этаже множество комнат для членов семьи и гостей, просмотровый кинозал, бильярдная и туалеты с ваннами в каждом крыле.
На первом этаже жил личный шофер дяди с семьей. Тут же — просторный кабинет с выходом на застекленную веранду.
Меня привезли в Днепропетровск, и я стал ходить в детский сад. Как только я похвалился в саду, что Миронов — мой дядя, передо мной стали заискивать и лебезить воспитатели, родители детей и даже сами детишки. Все почувствовали мою исключительность: еще бы — племянник могущественного человека, самого Миронова!
2.
Несколько лет после того, как мы с Мирошей уехали из Ростова, мой муж Зарницкий ждал меня и верил, что я вернусь. Через пять лет он запросил развод — хотел жениться.
Все загсы Днепропетровской области были подчинены Мироше, и он вызвал к себе на дом работника загса. Тот развел нас с Зарницким, а Миронова — с Густой (тогда это разрешалось делать заочно) и соединил нас с Сережей. Все это — два развода и брак — совершилось за полчаса.
Сереже надо было в Киев, а я всегда старалась ездить вместе с ним. Приезжаем в Киев, а слух, что мы поженились, достиг Киева раньше нас, все поздравляют. Нарком внутренних дел Украины Балицкий смеется, требует: «Свадьбу! Свадьбу!»
Все это так неожиданно было, что я даже белое платье сшить не успела. Денег нам на свадьбу Балицкий дал, ну, конечно, государственных, а каких же еще? Знаете, тогда в конвертах давали? И место для свадьбы подобрали на берегу Днепра, на даче наркомата! Чего там только не было! Сотрудники все организовали с блеском — всем хотелось повеселиться.
Только вот платье… Мне предложила одна особа свое свадебное, но ведь надеванное! И я вежливо отказалась.
Я была в светло-зеленом, отделанном золотыми пуговицами. Но это никого не смутило. Вот веселились! Все кричали: «Горько! Горько!», а когда Миронов сказал, что мы уже двенадцать лет женаты — шесть лет живем без регистрации и шесть лет у нас «подпольный стаж», то все стали кричать: «К черту подпольный стаж! И знать не хотим! Хотим, чтобы сегодня ваша жизнь начиналась! Чтобы вы были новобрачными!»
Уж очень всем хотелось, чтобы все было по-настоящему.
Я носила тарелку с рюмкой водки, и все пели: «Кому чару пить?» Я к каждому подходила, он выпивал водку, целовал меня и клал на тарелку деньги. Я снова наливала рюмку и шла к следующему.
И вот подхожу к Балицкому[2] — а он красивый был, высокий, статный, блондин, настоящий Зигфрид, — все пропели про чару и ждут: что-то сейчас будет? Я знала, что Балицкому нравлюсь, но тут сидела его жена — маленькая, жалкая, злая, глаз с него не спускала. И он лихо выпил водку, но меня под ее взглядом поцеловать не решился, зато на тарелку положил серебряный рубль. Тогда это была редкость.
После пира все стали кричать: «Запереть их в спальню!» — и заперли. Но я взмолилась, что Миронов только подушки коснется и тотчас заснет (он очень уставал), а я хочу быть со всеми и веселиться, и меня выпустили.
Так летом 1936 года я стала законной женой Миронова.
3.
Первая жена Мироши, Густа принимала его измены, прощала их. Она считала, что жена должна быть другом, к которому муж всегда возвращается, как в убежище, но я такой роли не хотела! Я ни в чем не хотела быть ниже него. Когда он появлялся, все говорили: «Какой Миронов интересный!» Я боялась, что будут говорить: «Он-то интересный, а жена у него — фи!» [Гримаска, презрительно сморщенный нос.] Я добилась того, чтобы здесь же добавляли: «Но и жена не хуже него!»
— Мне с тобой иной раз нелегко, — признавался Сережа, — я иной раз и распуститься бы не прочь, пуговицы все расстегнуть, а посмотрю, вижу, какая ты вся подтянутая, в полной форме, и сам подтягиваюсь, не роняю себя, чувствую — нельзя при тебе.
— Ты недоволен?
— Нет, нет, что ты! Я тебе очень благодарен.
И добавлял:
— Удивительно! Я ведь уже двенадцать лет с тобой и ни разу тебе не изменил! Как это получается, а?
И смеется.
Как получается? А получалось у нас так, что все наши отношения с начала и до конца были нескончаемо длящимся романом. Ничего будничного, привычного, надоевшего, прозаического, без конца повторяющейся повседневности! Между нами всегда была игра, тайна, как у влюбленных, только что ставших любовниками, мы и были всегда ими — влюбленными, любовниками, новобрачными.
И еще потому получалось это, что я всегда была начеку. Как же он нравился женщинам! И он любил им нравиться. Мужские дела — это было для него, конечно, главное, но успех у женщин ему льстил.
Мне передавали, как в интимной беседе среди женщин одна из них воскликнула:
— Эх, отдаться бы Миронову и умереть!
— А я не умираю, — насмешливо съязвила я.
Но ухо держала востро.
Когда из Алма-Аты мне пришлось на время уехать в Ростов — я ездила за мамой и Агулей (обычно я старалась не разлучаться с Мироновым), мне передали, помню, что он был на пикнике и парой ему была одна сотрудница — хорошенькая, личико белое, фарфоровое, волосы черные до плеч, челка. Я тут же насторожилась:
— Они уединялись? Нет? Что же они делали?
— А она доставала из корзины пироги и угощала его.
Но и это мне не понравилось. А тут как раз подошли праздники, и мы принимали гостей.
Я очень следила за своей фигурой — дай только я себе волю есть сколько захочется, и меня бы за несколько дней разнесло! Но я себе волю не давала, я всегда была полуголодная, очень придерживалась диеты, и все удивлялись моей стройности. И вот мне сшили платье, я сама сочинила фасон. Вы только представьте себе — черное шелковое (черный цвет стройнит) с разноцветной искрой, талия и бедра обтянуты косыми складками, как блестящими стрелками, вот так вот — я даже вам нарисую, таких фасонов я с тех пор не видела. Сверху облитое этими стрелками, а внизу, почти у колен, широчайшим легким воланом расходится юбка — пышная, воздушная, как сумеречный весенний туман. А сбоку большая пряжка переливается всеми цветами, как искры на ткани.
У нас было несколько человек обслуги. Мария Николаевна — она нам стряпала и всюду с нами ездила, как член семьи, я без нее не могла; Ирина — она нам приносила паек и все, что положено из специальных магазинов и столовых; горничная, которая убирала и подавала к столу; прачка, которая стирала и гладила и помогала другим, когда не было стирки. А тут еще мама приехала.
Они все любили меня одевать. Бывало, затянут, где туго сходится, застегнут, а потом смотрят и восхищаются. И мама хоть и сдержаннее их была, но перед той вечеринкой не выдержала:
— Ну ты сегодня всех затмишь!
Что мне и надо было. Затмить! Затмить всех, смести, как пыль, всех, кто хотя бы пытается стать мне соперницей.
И вот я появилась в этом платье среди гостей, и все взоры — на меня, а она — та сотрудница со своей черной челкой и фарфоровым личиком — с подругой под руку в простой белой кофточке, в юбочке… Ну куда, куда тебе равняться со мной? Я только в залу прошла — и ее не стало. Миронов воочию убедился, что такое я и что такое она.
А окончательно ее добили валенки.
Миронов, помню, как-то сказал мне с удивлением:
— Ага, ты представь себе — З. пришла ко мне в кабинет в валенках.
Это было для него диво! Зачем она к нему приходила, я и спрашивать не стала — поняла, валенки эти отбили у него всякий интерес, если он у него и был. Вы бы видели его выражение! Он говорил мне об этих валенках, как о чем-то непристойном, неприличном, так я его приучила понимать, ценить, на какой высоте женщина должна себя держать. Валенки… Со мной он такого никогда не видел, и он понял: З. — простенькая, серенькая, дешевенькая — так она себя уронила.
Были у меня острые моменты и в Днепропетровске.
Я пристрастилась играть в покер. Ко мне приходили Шура Окруй и Надя Резник. И когда Миронова не было, мы коротали вечера за покером. А тут опять у нас вечеринка.
Надя, надо отдать ей должное, тоже умела держать себя на высоте. Она была блондинка, и на ней васильковое платье, ей очень шло. Я не могла этого пережить. Голубой — это мой цвет. Мне — шатенке — он шел чрезвычайно. И вот один сотрудник помог мне обменять в торгсине кофейный креп-жоржет не на васильковый, нет, — на бледно-голубой, этот оттенок шел мне еще больше василькового.
В Днепропетровске у меня была портниха — волшебница. Тут уж она сочинила фасон. Сверху от талии две легкие складки, они разлетались при ходьбе, как у греческой богини победы Ники.
Стол был накрыт изысканно, каждый прибор окружен цветами. И я царила за столом, но после трапезы вдруг вижу — Миронов и Надя уединились на диване в дальней комнате, и все время у них какой-то разговор оживленный… Я прошла раз, прошла два, складки юбки развеваются, как ветер, как голубой воздух, я как будто и правда лечу, как Ника. А Мироша словно меня не видит.
Тогда я сняла отводку телефона и поставила его у себя в спальне, а другой, основной телефон остался около Нади и Миронова. Я позвала Марию Николаевну и говорю ей:
— Пожалуйста, скажите Наде по телефону, что ее срочно вызывают домой.
Надя взволновалась.
— Что случилось? Как? Почему?
Но горничная уже принесла ей пальто и шапку. И Надя ушла.
Через небольшое время телефонный звонок, Надин голос — возмущенно:
— Что это за розыгрыш?
Я — холодно:
— Надо уметь себя вести в чужом доме. — И повесила трубку.
Но вот гости разошлись, мы с Мирошей направились в спальню.
— Ты знаешь, почему Надя ушла? — спрашиваю его.
— Нет, а что?
Я и рассказала ему, как ее спровадила. Он расхохотался в восторге:
— Так ты ее спровадила? Так и выпроводила? Вот так Ага!
Несколько дней прошло. Надя не показывается. Я ей звоню как ни в чем не бывало:
— Что ты давно не заходишь? Что сегодня делаешь? Скучно… Приходи на покер.
А она обрадовалась, тотчас пришла — и ни слова о происшествии… Но на Миронова больше не заглядывалась.
Так я за него боролась, чтобы мне одной-единственной царить в его жизни.
4.
Когда мы жили в Алма-Ате, не только в Казахстане вымирали сперва раскулаченные, потом казахи, но и на Украине был голод. Про это я, конечно, не знала, потому что у нас было все. Я узнала только от Лены. Я написала ей письмо: что тебе прислать? Я могу выслать шелк, чулки, платья… А она мне отвечает по-русски, то-се, а среди письма фраза по-гречески (отец научил нас читать и писать): «Одежды не присылай, пришли лучше еды». Но, знаете, сытый голодного не разумеет, и я не придала значения, говорю маме небрежно: «Ты там собери что надо…» Мама была простая женщина, но жизнь она хорошо понимала, а тут еще кто-то с Украины приехал. «Да что вы, — говорит, — там настоящий голод!» И как раз какие-то сотрудники туда ехали поездом. Мы и послали срочно, что под руку тогда подвернулось, — мешок муки, пшена, картошку…
Лена потом рассказывала: «Я все отдавала Боре (сыну), все, что по карточкам получала, а сама доходила… А на улицах и в парадных валялись трупы, я все думала — вот и я так лягу скоро… И вдруг перед домом останавливается машина, а с нее военный сбрасывает мешки. Звонит ко мне, застенчиво улыбается:
— Это вам… кажется, от сестры.
Я глазам своим не верю. Раскрыла — пшено! Я, конечно, ему отсыпала немного… и скорее-скорее варить кашу. Насыпала пшена в кастрюлю, налила воды, варю, а сама дождаться не могу, пока сварится, так и глотаю сырое…»
Осенью я уехала из санатория в Алма-Ату на неделю раньше Миронова, чтобы заскочить к своим в Ростов. В сочинском санатории на восемь дней мне упаковали сухим пайком коробки продуктов — жареную курицу, копченую рыбу, пироги, пирожки, пирожные, фрукты и прочие яства, даже была зеленая ветка с мандаринами и большой букет хризантем.
И вот я приезжаю в Ростов и вваливаюсь к своим с большим букетом хризантем и коробками. Мои обомлели. Помню, меня особенно удивил Боря, тогда еще совсем маленький мальчик. Без радости, без улыбки, серьезно, ни слова не говоря, он только ел, ел все подряд, что я привезла.
Лена плакала: «Ты нас спасла, Ага!»
Они жили только нашими посылками.
Когда мы приехали в Днепропетровск, голод еще свирепствовал. Осенью мы с Мироновым по-прежнему ездили в Сочи, Гагры или Хосту в санатории, а на лето Миронов возил нас в Бердянск, там была служебная дача.
Нам три раза в день приносили еду из специального санатория. Приносил милиционер. А в обед на третье, бывало, целую мороженицу с мороженым.
Женщина, которая нас там обслуживала, однажды спросила:
— Можно мне брать остатки после обеда? У меня трое детей…
— Конечно! — воскликнула мама.
Через день эта женщина спросила опять:
— Можно мне привести своих детей играть с вашими?
И привела троих — мальчика и двух девочек. Дети были такие худые, что мы ужаснулись. У мальчика Васи ребра торчали, как у скелета. Рядом с нашим растолстевшим Борей он казался обликом смерти. Кто-то сфотографировал их рядом. Я сказала:
— Помните, была прежде реклама: покупайте рисовую муку, а на ней худой — до того, как стал есть рисовую муку, и толстенный — после муки. Вот это фото и есть такая реклама. Вася — до муки, Боря — после.
А затем женщина эта, наша прислуга, видя, что мы их жалеем, привела еще свою четырнадцатилетнюю племянницу (ее привезли из Харькова, ветром ее шатало от слабости).
Набралось нас девять человек (с Борей и Левой). В санатории стали выдавать обеды на всех, не смели отказать. Маленький островок в океане голода…
Помните, я говорила вам, что женщина гораздо выносливее мужчины? Это я наблюдала не только в лагере.
Тогда на Украине я стала учиться в мединституте. Я была старше других студентов, мне стукнуло уже тридцать. Но студенты относились ко мне хорошо, делились конспектами (я часто пропускала занятия), опекали… Потащили они меня и в анатомичку… Я все отказывалась, откладывала, но на первом курсе это ведь обязательно. На анатомичке — надпись по-украински: «ТРУПНА». Это были два подвальных помещения. Стеллажи все завалены трупами мужчин, точнее скажу — скелетами, обтянутыми кожей, — трупы эти даже вроде бы и не разлагались из-за худобы; на полу мальчики крест-накрест друг на друге, у всех номера написаны анилиновым карандашом. Патологоанатом говорит служителю:
— Дайте нам труп женщины.
А тот руками развел:
— Та нэма ж ни одной бабы, уси чоловики!
Похожее было в лагере в Долинке. Там зимой в больших холодных сенях больницы лежали до весны голые замерзшие трупы, и их все прибывало, они сползали на дверь, и уже приходилось ее надавливать, чтобы войти… Но там мы на это не реагировали — это просто был наш быт. И днепропетровскую анатомичку я даже не вспоминала.
Когда мне было особенно тяжело, я вспоминала другое. Я уводила себя мысленно в мой прежний мир, стараясь вообразить себе, что мы опять вместе с Сережей, что мы на юге в том раю, который создавали для нас специальные цековские санатории. Помните, как у Некрасова: «Да, это юг! да, это юг! (поет ей добрый сон). Опять с тобою милый друг, опять свободен он!..»
Только одно выпускала я из своих воспоминаний — чем нас кормили, наши завтраки, обеды, ужины. Это для меня была запретная тема, иначе голод становился нестерпимым.
Но сейчас я этот запрет могу снять и включить в свой рассказ и наши трапезы.
5.
Так вот — запретная в лагере тема. Мы приезжали в санаторий осенью, когда все ломилось от фруктов. Октябрь, начало ноября. Бархатный сезон. Уже нет зноя, но море еще теплое, а виноград всех сортов, хурма, мандарины, и не только наши фрукты — нас засыпали привозными, экзотическими. Полные вазы фруктов стояли у нас на столах. Однажды мы с Мирошей купили орехи, а когда вернулись, тотчас же орехи — и фундук и грецкие — появились на всех столах. Мироша сказал шутливо завхозу:
— Что вы с нами делаете? Вы лишили нас последней возможности тратить деньги!
Тот засмеялся:
— Простите, это было мое упущение, что вам пришлось тратить деньги.
Какие были там повара, и какие блюда они нам стряпали! Если бы мы только дали себе волю… Сережа ведь тоже был склонен к полноте, но, глядя на меня, старался не распускаться, держать себя в форме. Врач ему установил разгрузочные дни, когда ему давали только сухари и молоко. За каждый такой день Мироша сбавлял полкило… Ну и, конечно, никакой сиесты! Наоборот, тотчас после обеда мы принимались за бильярд. Несколько часов бильярда хорошо подтягивали. Это я побуждала Мирошу к таким тренировкам, а он подчинялся, понимая, что я права, а то разнесет нас на сказочных санаторных харчах.
Перед отъездом в санаторий я заранее, бывало, отправлялась в Киев за тканями, которые покупала в торгсине, шила наряды в Киеве или у своей волшебницы в Днепропетровске.
Миронов все говорил мне, чтобы я одевалась поскромнее, стеснялся моих броских туалетов, но я, наряду со скромными, шила и роскошные и оказалась права.
Когда мы в ту осень приехали в Хосту, в санаторий ЦК Украины, все молодые дамы там щеголяли одна перед другой — кто лучше одет. Я Мироше сказала: «Ну, видишь? Хорошо, что я тебя не послушалась!»
Щеголяли друг перед другом, а заглазно обсуждали туалеты других. Нас всех «обштопала» жена Данилы Петровского — она была в такой венецианской шали, в такой шали! Черная, с кистями, переливалась синим, голубым, зеленым, белым, то один цвет вспыхнет, то другой… Она ее не снимала с плеч, а дамы наши лопались от зависти.
И вот как-то мы сидим поодаль от нее и глядим издали — переживаем. И тут подскакивает к нам один работник ЦК — фамилию называть не буду, — наклоняется и шепчет, уж очень хотел нам угодить, глазки блестят льстиво:
— Знаете, почему на ней эта шаль?
— Почему?
Он тихонько:
— А ей собаки левую грудь отгрызли!
Все дамы: «Ха, ха, ха!» — в восторге от его «остроумия».
Вот так мы там время проводили.
Седьмого ноября праздник. Наш заведующий сказал: сейчас вам будут поданы машины, уезжайте на пикник в горы, а мы вечером к вашему возвращению все подготовим.
Мы сели в открытые машины, а там уже — корзины всяких яств и вин. Поехали на ярмарку в Адлер, потом купались, потом — в горы, гуляли, чудесно провели день. Вернулись украшенные гирляндами из веток кипариса.
А праздничные столы уже накрыты, и около каждого прибора цветы, и вилки и ножи лежат на букетиках цветов.
Немного отдохнули, переоделись. На мне было белое платье, впереди большой белый бант с синими горошинами, белые туфли (босоножек тогда не носили).
Были в тот вечер Постышев, Чубарь, Балицкий, Петровский, Уборевич, а потом из Зензиновки, где отдыхал Сталин, приехал Микоян.
Тамадой был Балицкий, я уже говорила о нем — стройный, живой, веселый, затейник. Увидел, как мы расселись, притворно рассвирепел:
— Что это такое? Почему все дамы вместе, а мужчины отдельно? Встать! Встать всем!
И хватает даму за руку, мужчину за руку и сажает рядом, потом другую пару… Подскочил ко мне, я закапризничала:
— Не хочу сидеть с кем попало! Хочу сперва увидеть, с кем вы меня посадите!
Он задумался, замялся на секунду, поднял брови и тихо мне:
— Вы сядете со мной!
И кинулся рассаживать прочих. Рассадил. Посадил меня, но сам еще не садится. А напротив — его жена, глаза сощурила, смотрит на меня презрительно… И вдруг всеобщий хохот: Миронов принес стул и втиснулся между мной и Балицким. Тот заметил:
— Мне это не нравится!
Шепнул на ухо двум прислужникам, те взяли стул вместе с Мироновым, подняли и отнесли к назначенной ему даме. Все хохочут чуть ли не до слез.
Наконец Балицкий сел, стал за мной ухаживать, но недолго — тамада должен тосты говорить, трапезу вести… А я стараюсь не смотреть напротив, не натыкаться на колючки злых глаз его жены.
После ужина — танцы. С кем только я не танцевала! Начали мы с Балицким, тут еще все танцевали, но когда мы стали с Петровским танцевать танго, вокруг нас образовался круг, все отошли, чтобы на нас смотреть. А мы утрированно — то он кидает меня на руку, и я как будто падаю, откидываюсь, то он отталкивает, я вскакиваю, и мы опять идем бок о бок, вытянув руки… Разве теперь умеют танцевать настоящее танго? А Данила умел, мы с ним понимали друг друга без слов. В кресле сидит Постышев, умирает от смеха, его жена хохочет. Когда мы кончили, все руки отбили аплодисментами…
А мне жарко, я выскочила в вестибюль, там рояль, я села за него и все еще в ритме танго бурно заиграла мелодию.
Смотрю, Уборевич. В пенсне, худой, подтянутый, глаз с меня не сводит, глаза блестят. Я остановила игру на минуту, он с восхищением:
— Как вы танцевали!
А я опять — аккорд! Аккорд!
Тут в вестибюль входят Балицкий, Петровский. Балицкий шутливо:
— Опять она! Всюду она! — Как будто наткнулся на меня случайно, неожиданно. Это он нарочно — он же ко мне и вышел.
Но Миронов тут как тут, шипит мне на ухо, как только аккорды затихли:
— Прекрати! Разошлась!.. — Очень ему не понравился мой успех.
Я из-за рояля встала — и быстро, быстро вниз по лестнице к входной двери, пояснила остающимся:
— Жарко, мне жарко!
А внизу меня нагнал незнакомый человек и тоже:
— Как вы танцевали!
Подошел ко мне, шепчет:
— Я вижу, вам жарко. У меня здесь машина, хотите я прокачу вас с ветерком? Никто не узнает, десять минут, и вы вернетесь назад. Не бойтесь, я вас только прокачу…
А я хоть и выпила, но чувство самосохранения у меня было острое. Я, конечно, отказалась.
А сейчас, знаете, что я думаю? В семи километрах оттуда была Зензиновка, там отдыхал Сталин. Аллилуева уже застрелилась, он был один. А этот незнакомый человек в штатском, неумное, туповатое лицо… Миронов научил меня их различать. На всех приемах они бывают, смешиваются с гостями, скромные, незаметные… Кто это был? Поставщик? Или просто усердный телохранитель, выслужиться хотел, доставить даму, которая в тот вечер имела такой успех у мужчин? Привезти, предложить меня… А утром — мой труп нашли бы в горах. Могу только гадать…
Через несколько дней Балицкий пригласил нас к себе. Он жил поодаль от санатория — в особняке из прежних чьих-то богатых дач. Приглашен был только узкий круг приближенных.
И, как всегда, там, где Балицкий, было очень весело. Пили шампанское, танцевали. Мы опять танцевали с Балицким. Балуясь, я раскрыла китайский зонтик и прикрыла им наши лица.
Потом Миронов сердился:
— Ты опять перепила шампанского? Зачем ты затеяла с этим зонтиком? Это было просто нетактично.
Вот он всегда так, когда ревновал.
Балицкие уезжали раньше нас. Им подали вагон. Провожали их несколько пар — мужья с женами, мы с Мирошей в том числе.
Ритуал был такой: дама пожимала Балицкому руку, а жене его преподносила цветы, и они обнимались.
Я в свою очередь пожала Балицкому руку, подала его жене цветы и только хотела обнять ее, как вдруг она меня резко, демонстративно от себя оттолкнула.
Я закусила губу — стыдно перед всеми. Я думала, Миронов не заметит, а он, как только они отъехали, злорадно шепнул мне на ухо: «Что, съела?»
Вероятно, Балицкому за меня тоже хорошо нагорело. Поэтому он и не посмел поцеловать меня на моей свадьбе — помните, я вам рассказывала?
6.
В лагере, отвлекая себя, уводя, я пыталась вспоминать… вспоминать… Но было время, когда я и вспоминать не могла — отказывала память от голода. Это уже на ферме, когда я немного отъелась на летовках, память моя окрепла. Тогда я в трудные минуты, отвлекая себя, чаще всего вспоминала именно это время — родной мне юг, Черное море, кипарисы, пальмы, наши наряды, наши беззаботные развлечения… Но о своих воспоминаниях я никому никогда, конечно, не рассказывала. Зачем? Чтобы надо мной смеялись, как над той проституткой из пьесы Горького «На дне», помните? Мы в лагере были такие обшарпанные, жалкие, голодные, приниженные, выглядели мы так, что просто смешно было бы рассказывать о своих победах. В тюрьме от всех переживаний я почему-то пожелтела, меня называли «японцем»…
Помню, в одном бараке в Казахстане бабы меня из-за моей шубки изругали матом.
— Что, тут новенькая?
— Да, новенькая, тра-та-та, вот с такой шубой, тра-та-та, полной вшей, они мех любят, тра-та-та…
Я пыталась их урезонить:
— Вот и неправильно, вши тело любят, а не мех…
— Ну все равно, так твою мать, как только ты сюда легла, у меня все тело зачесалось. Вши, так твою мать, на меня полезли с твоей шубы!
Так меня в том бараке встретили, еле утихомирились. Приходит дневальная, она не вполне в своем уме была, но это так, к слову.
— Новенькая? — спрашивает. — Как фамилия?
— Миронова.
— Миронова? Я знала одного Миронова, он большим начальником был в Алма-Ате. Вот красавец был! А жена его и впрямь прынцесса! Еще интереснее… красавица. Это тебе не родственники?
Я тихо:
— Не-ет… — И натягиваю на лицо вонючую эту дерюгу — «одеяло». Неужели стану говорить, что это я и есть — эта женщина в драном платке, из которого торчит только нос?
7.
Я уже говорила, что ездила за нарядами в Киев. Я не могла поручить Миронову что-то купить — он всегда покупал не то, что надо. Но я старалась приурочить поездки так, чтобы нам ехать вместе.
Один из замов Балицкого стал приглашать нас каждый вечер в свой особняк, недалеко от дома с морскими чудовищами — знаете в Киеве такой дом?
Мы ходили к заму Балицкого каждый день. Миронов пристрастился к этим посещениям, чуть не до утра засиживался — азартно играли в карты. Бывало, сядут втроем — зам. Балицкого, Миронов и еще один из начальства — и играют на большие деньги. Балицкий участия в игре не принимал, даже не знал об этом. Они сидят в кабинете, а мы — жены — в гостиной, ну и перемываем косточки всем знакомым от нечего делать. А время позднее, Миронов выскочит:
— Ага, дай денег!
Значит, проигрался. Я давала, что же делать, а сама злюсь — размахнуться с покупками уже не смогу! Бывало, за вечер все деньги просадит. Уйдем оттуда, я — упрекать:
— Ну как ты тратишь!
А он посмеивается:
— Не беспокойся, все тебе вернется.
И чудо — действительно возвращалось. И дня не пройдет, как Миронов принесет деньги — и много.
Я поняла все, только когда как-то Сережу послали в Москву и я поехала с ним. Нам в «Метрополе» дали номер из двух комнат. И вот вечером пришли к нам двое играть — тот самый зам. Балицкого и еще один Сережин сослуживец. Я вошла в комнату, где они играли, и остановилась за стулом Сережи. Вижу, карта у него сильная, а он плечами пожал вроде бы в растерянности и говорит:
— Ну что же, ваша взяла…
И тут же заметил меня и с досадой:
— Что ты тут стоишь? Уйди!
Я послушалась. Думаю, почему он меня прогнал? И вдруг меня осенило: я же видела его карту! И он не хотел, чтобы я поняла, что он поддавался! Он нарочно проигрывал!
Это был подхалимаж? Не знаю…
И он, и тот другой начальник в Киеве проигрывали заму. Проиграют, а тот вскоре приглашает их в свой кабинет на работе и выдает им деньги в конверте — при Сталине такие конверты всем высокопоставленным выдавали: это, мол, вам за то-то и за то-то. Из каких-то таких фондов, которые на себя зам. потратить не мог, а оформить их выдачу мог как награду подчиненным. Он присваивал себе эти деньги выигрышами, а им возмещался проигрыш, да еще с лихвой.
Но потом что-то там случилось. Однажды Миронов получил конверт с пятью тысячами рублей. Почему-то вышло так, что с этими деньгами мы прямо пошли в особняк к заму. Сережа говорит:
— Спрячь и, как бы я тебя ни просил, ни за что не давай! Скажи, что у тебя их нет.
Я завернула деньги в бумагу, и когда пришли к заму, в уборной спрятала в трико под длинное платье.
И вот пошла у них игра. Вдруг Миронов выходит из кабинета.
— Женушка, дай мне денег!
— Денег? — говорю с огорчением (я ведь актриса, перед другими женами надо было сыграть роль). — У меня нет…
— Как нет? Я же тебе дал!..
— Ой, знаешь, я дома оставила… — И показываю пустую сумку.
Жена сослуживца тут же выскочила:
— Я могу вам одолжить!
Миронов:
— Не надо. — И ушел обратно.
Что там у них было, почему Миронов не захотел на этот раз отдать деньги, мне он не рассказывал.
Михаил Давыдович Король (двоюродный брат Сережи) все возмущался тем, как Сережа живет, ужасался карточной игрой, шальными деньгами и роскошной жизнью.
— Как ты живешь? — бывало говорил он. — Что у тебя за среда? Ты подпал под ее влияние… Это добром не кончится.
Но Сережа смеялся, не слушал. Уж очень он был счастливцем, баловнем жизни. Все ему было дано — красота, ум, способности, успех. Все у него удавалось, и поднимался он безостановочно вверх. Тогда как раз ввели знаки различия. Ягода — тогдашний нарком внутренних дел — присвоил Миронову четыре ромба (по-теперешнему это равносильно командующему армией).
8.
У Сережи было две жизни. Одна была со мной, ее я знала и о ней я вам рассказываю, только о ней, потому что о другой его жизни — его служебных делах — я не знала ничего, он жестко раз и навсегда отгородил ее от меня.
Приходя домой, он тотчас сбрасывал с себя все служебные заботы, словно снимал панцирь, и больше ничего уже не желал знать, кроме веселых наших дел. Он был на восемь лет старше меня, но разницы в возрасте я не чувствовала, мы были товарищами, и мы дурачились и играли в свою любовную игру, которая никогда не надоедала нам.
Иногда мы уходили пешком в далекие экскурсии, мы очень любили такие пешие походы. Или шли в театр, или уезжали куда-нибудь «покутить», например в Тбилиси, Ленинград, Одессу…
Помню, когда мы были еще в Алма-Ате, туда приехала родственница наших с Иваном Александровичем друзей из Ростова — Гусельниковых. Ее сын был арестован. Она, зная, что Миронов занимал большой пост в ОГПУ, рассчитывала, что Миронов ей поможет. Она пришла ко мне, когда Сережи не было. Но остановиться ей у нас никак нельзя было, это я хорошо понимала, и я устроила ее жить у одного молодого человека, которому до того помогла. Это был несчастный, очень опустившийся мелкий служащий. Мне было его жаль. Я отдала ему ненужное Мирошино белье и одежду, подкормила и добилась, чтобы ему выделили комнату. Теперь я попросила его приютить приехавшую. Он охотно согласился и был даже очень доволен, так как она стала ему вкусно готовить.
Я все не решалась попросить Миронова, но наконец выбрала минуту, когда он был особенно весел. Надо было видеть, как вся его веселость мгновенно слетела. Он ответил мне сухо, холодно, резко, что все дела рассматриваются на местах, и если этот человек взят в Саратове, то там и будет решаться его дело, а он, Миронов, никакого касательства к этому не имеет и ходатайствовать ни за кого ни перед кем не станет. Даже если б это были мои родственники или его собственные.
— Да, да! — воскликнула я с обидой. — Я знаю, ты же сам говорил, что меня собственноручно расстрелял бы, если бы тебе приказали.
Он тотчас смягчился.
— Агнеска, — сказал он ласково, — ну за что мне тебя расстреливать? За то, что ты такая у меня шалунья-женушка? Что с тобой нам так весело и хорошо? Я же тебе говорил — если бы тебя расстрелять пришлось, я бы и сам застрелился… Ну, помирились? Только ты никогда меня больше ни за кого не проси. Давай раз и навсегда договоримся об этом. Моя работа — она тебя не касается.
Так оно и пошло.
Я ничего никогда не знала о его делах, почти никогда, поправлюсь. Почти — потому что изредка все-таки, как в щелочку, просачивались какие-то отрывки.
Однажды, это было в Днепропетровске, днем я вернулась домой. В прихожей шапка Мироши. Я удивилась, что он уже дома, быстро прошла в кабинет. Гляжу, он сидит в шинели, даже не раздевался, лицо нездешнее, мысли далеко. Я уже поняла: что-то случилось.
— Что с тобой? — взволнованно.
Он — коротко:
— Кирова убили.
— Какого Кирова?
— Ну помнишь, я тебе на вокзале показывал в Ленинграде.
Я вспомнила. У меня очень хорошая зрительная память. Правда, в Ленинграде я Кирова видела мельком.
Как-то у Сережи выдалось несколько свободных деньков, и мы решили «протряхнуться» в Ленинград: из Москвы на «Красной стреле» туда-назад, там день «покутим». На вокзале мне Сережа показал, шепотом назвал:
— Киров — секретарь обкома.
Среднего роста, лицо располагающее, с нами поздоровался приветливо, сказал:
— Что, наш Ленинград решили навестить?
Начальником Управления НКВД Ленинградской области был Медведь, затем там появился еще Запорожец. Мы их обоих хорошо знали по санаторию в Сочи. Медведь Филипп — большой, плотный. Запорожец — высокий, стройный, прославился на гражданской войне, был ранен в ногу, хромал. Жена Запорожца Роза была красавицей. У них долго не было детей, прошел слух, что вот сейчас она наконец-то на четвертом месяце. Каждый день она уходила гулять надолго в разные концы — семь-восемь километров туда, семь-восемь километров обратно — тренировалась, укрепляла себя к родам…
— Убит? — удивилась я. — Кем?
— Убийца задержан, фамилия Николаев. — И добавил, резко усмехнувшись: — Плохо работают товарищи ленинградские чекисты!
У него бы, мол, такого не произошло! Но было и облегчение, что это случилось не в его области.
Оплошность коллег была явная, и все ждали, что Медведю и Запорожцу не поздоровится. Слухи, слухи — я их подхватывала от жен других сотрудников, мужья которых были не столь скрытны. Женщины говорили, что Николаев застрелил Кирова из ревности[3]. Киров, мол, очень любил женщин, актрис, шефствовал над Мариинским театром (потом театр этот даже назвали именем Кирова). Любовницей Кирова стала красавица латышка, как будто тоже актриса, — жена Николаева. И Николаев уже один раз покушался, и его задержали, но почему-то в первый раз отпустили… Если в первый день у Миронова вырвалось: «Плохо работают товарищи ленинградские чекисты» с досадой и даже с некоторым злорадством, то теперь он недоумевал — такую оплошность чекистов он и представить себе не мог.
Медведя сняли с поста (на его место назначили Агранова) и должны были судить, а с ним всю верхушку ленинградского НКВД. У нас все ждали, что их расстреляют.
Сам Сталин ездил в Ленинград допрашивать Николаева. Говорили, что в Ленинграде раскрыт белогвардейский заговор. «Раскрыли заговор» и у нас в Киеве. Это была группа украинской интеллигенции — «неоклассики» писатели, деятели культуры, среди них поэт Влыско, я его запомнила потому, что мне сказали, что он глухой. Они будто бы были националисты и готовили террористические акты против работников советской власти.
Тотчас после убийства Кирова вышло постановление ЦК — ускорить суды и немедленно расстреливать, не принимая никаких ходатайств о помиловании. Всех призывали усилить бдительность.
Сережа пропадал на работе с утра до глубокой ночи. Может быть, в связи с киевским делом — шли розыски соучастников, но это только мое предположение. Принимал ли он в этом участие, я не знаю.
Медведя и Запорожца судили в середине зимы. Мы, я уже говорила, все ждали, что их расстреляют. Но Медведю дали всего три года, а другим — по два. Это было удивительно.
Уже сейчас, после реабилитации, когда я была у Шаниной (муж ее был, кажется, заместителем Ягоды), она мне рассказала, что Шанин посылал Запорожцу в лагерь радиоприемник и пластинки к патефону, а Буланов (другой заместитель Ягоды) заботился об их семьях, а их самих распорядился отправить в лагеря в специальных комфортабельных вагонах. Запорожец на Колыме стал каким-то крупным начальником. Туда с Соловков приехал и Медведь, и тоже стал начальником.
Хотя мы таких подробностей тогда не знали, но легкость приговора всех удивила.
Но потом сразу вдруг все замолчали, как ножом отрезало. Надя Резник мне сказала по секрету, что муж ей категорически запретил даже упоминать об этом.
Теперь, после XXII съезда, мы знаем, что убили Кирова по воле «гениальнейшего», что Ягода и Запорожец действовали по его тайному приказу. Мне подробно рассказывал один писатель. Им, группе писателей, после съезда дали ознакомиться с делом об убийстве Кирова — много толстых папок. Всего прочитать они не успели, но кое-что выхватили. Начальник личной охраны Кирова Борисов, очень ему преданный, который страшно переживал его смерть, что-то подозревал. И когда его везли в Смольный на допрос к Сталину, его застрелили по дороге, а сделали так, будто это автомобильная катастрофа… И еще один следователь, который что-то начал распутывать, про него Сталин сказал: «Что это за негодный следователь, он не видит, что тут заговор, что Николаев — член контрреволюционной организации?» И следователь этот исчез.
О «величайшем вожде всех времен и народов» там, конечно, ни слова! А те белогвардейцы, которых хватали в Ленинграде и расстреливали пачками, и наши украинские «националисты», они, конечно, тут были ни при чем. Тогда же, я уже рассказывала, выслали из-под Ленинграда родителей Зарницкого. Теперь я думаю, что их просто расстреляли всех. Сталин вскоре расправился и с палачами — он всегда так делал: их руками убить, а потом самих уничтожить. В НКВД главой был Ягода, вовлек он и Запорожца; Медведя как будто бы даже в тайну не посвятили.
Теперь-то, после доклада Хрущева, мы это знаем, а тогда все представлялось загадочным. А знать слишком много было смертельно опасно.
Медведя и Запорожца расстреляли в 1938 году. Их привезли в Москву. Про Медведя мне недавно рассказывали, что он сразу согласился подписать все, что на него взваливали, — и покушение, и связь с правыми-левыми, и с иностранными разведками, и другие разные фигли-мигли. Мне передавали, что он сказал сразу:
— Мне ясно, что мне отсюда живым не выйти. Как у вас тут дела делаются, я знаю. Я все подпишу, что хотите, только условие — давайте мне каждый день коньяк и новую девочку, а когда поведете расстреливать, напоите посильнее…
Так родился «злодейский заговор».
Это я так говорю сейчас. Ну а тогда, повторяю, мы ничего этого не знали, и все представлялось загадочным.
9.
Помните, я вам рассказывала о Фриновском, как он занял место Ивана Александровича?
Фриновский был пограничник. К оперативной работе его никогда не привлекали. Ягода его не любил.
Теперь Фриновский командовал погранвойсками всего Союза. С Мироновым они когда-то начинали вместе. Фриновский тоже, кажется, был из тех, кого Евдокимов привез с собой в Ростов.
Мы встречались в санаториях на Кавказе. Фриновский был наглый, мордастый. И жена его Нина была очень вульгарна — некрасивая, курносая и сильно, безвкусно красилась. Мы с Мирошей потешались, бывало, над ней. Помню, мне Миронов как-то рассказал, давясь от смеха:
— Я сидел в ресторане напротив нее, было жарко, она вспотела, и вдруг вижу — с ресниц и бровей потекли и на щеках смешались с румянами черные потеки, а с подбородка кап-кап в тарелку…
Но вот когда мы приехали в Сочи осенью 1936 года, Сережа говорит мне:
— Ты только посмотри на Нину! Была похожа на проститутку, а теперь стала интересная женщина!
Я увидела и глазам своим не поверила — как подменили! Оказывается, она приехала прямо из Парижа. Там ее «сделали», нашли ее стиль, показали, какую и как делать прическу, подобрали косметику, костюмы. Помню, была она в платье в голубую клетку, в волосах голубая лента, ей все это так шло, что и узнать нельзя было прежнюю. И она это понимала, держалась горделиво.
А тут Ягоду как раз сняли (началось его падение) и наркомом внутренних дел назначили Ежова. Как только это известие до нас дошло, Нина и вовсе расцвела. Она не скрывала своих надежд, говорила мне:
— Это очень хорошо, Ежов нам большой друг.
Они вместе где-то отдыхали и подружились семьями.
И в самом деле, через некоторое время читаю в газете: заместителем наркома внутренних дел назначен Фриновский.
Что тут в санатории сделалось! Все подхалимы так и кинулись к Нине обхаживать ее.
Она уехала на следующий же день. Помню, мы ее провожали к машине. Она в черной шляпке, в элегантном черном костюме в обтяжку, в светлых перчатках, прощается со всеми, нас с Мирошей выделила, обняла меня, многозначительно посмотрела в глаза…
Если Фриновский пошел в гору, то и пограничники, товарищи его прошлых лет, могли надеяться на восхождение.
Ожидания не обманули. Сережа получил приказ: срочно сдать дела в Днепропетровске и ехать в Новосибирск — начальником управления НКВД всей Западной Сибири.
10.
В Сибирь мы ехали через Москву. Мы получили пригласительные билеты во дворец, в Кремль. Нам, избранным, Сталин читал новую Конституцию. Читал он негромко. Как и другие жены, я имела гостевой билет на балкон и больше половины не слышала. Внизу, в партере сидели работники прессы и наши мужья.
Сталина я видела достаточно близко несколько раз в жизни. Совсем он не такой, как на портретах. Роста небольшого, на лице оспины, сильный грузинский акцент. Речь тихая, медленная, чтобы звучало веско. Даже когда самые банальные вещи говорит, получается внушительно.
На балконе было очень душно. Нам ведь на таких всяких встречах надлежало выглядеть «синими чулками», даже легкого платья не наденешь. Строгий костюм, разве что белый воротничок, а жарко! Я не выдержала, решила — будь что будет, пойду в буфет, хоть вдохну воздуха!
В дверях меня тотчас задержали двое, ввели в фойе, попросили билет, паспорт — фотографию долго сравнивали с оригиналом. Если бы мне надо было в уборную, я бы не выдержала…
Я купила мандарины, иду назад, а они опять мне дорогу перегородили, опять — ваш паспорт! И опять сравнивать лицо с фото. А когда я пошла в зал, за мной по пятам один из них. Что они думали? Что я бомбу купила в буфете и брошу в «величайшего»?
Я села. Соседки просят — дайте, дайте мандарин в долг, мы в перерыве купим, отдадим! Почти все раздала и напрягаюсь, слушаю дальше, стараюсь делать лицо важное, значительное, хоть что-то понять. Но ведь почти ничего не слышно.
Кончил наконец читать, тут аплодисменты, овация. Длилось это долго, когда затихли наконец, я говорю знакомой, которая рядом со мной оказалась, надо же мне было что-то сказать:
— Какая хорошая, — говорю, — конституция.
А она взглянула на меня высокомерно, пренебрежительно:
— Не нам с нашими куриными мозгами судить о таких вещах!
То есть, конечно, не мне судить, ей-то, вероятно, можно. Так и обдала меня презрением — что ты, мол, в таких высоких вещах понимаешь!
Ее вскоре арестовали, превратили в ничто, растоптали. Ну теперь, спустя столько лет, реабилитировали. У нас есть общая знакомая, я ей как-то сказала: а вы ей передайте, напомните о «Великой Конституции» — не нам, мол, с нашими куриными мозгами судить о ней.
Она, ответно передали мне, не разозлилась, заплакала… Ну, я, конечно, обиды на нее не таю.
11.
В Новосибирск я взяла всех. Марию Николаевну, конечно, — без нее я не могла, она замечательно стряпала, я тогда стряпать ничего не умела. Я вообще никогда хозяйством не занималась, вела «светскую» жизнь. Приносили нам все готовое, и думать не надо было, все «подхалимы» доставали и делали.
Ну и своих, конечно, взяла — маму, Лену с Борей, Агулю.
Агуля — ее назвали в честь меня Агнессой — была дочкой моего младшего брата Павла, или Пухи, как мы его звали. Пуха женился на очень молодой девчонке, у них родились две дочери — старшая Таня и младшая Агнесса. Вскоре жена Павла, гулена, ушла от него, а детей ему бросила.
А Мироша очень хотел детей. Это стало его навязчивой мечтой — иметь ребенка. И от Густы не было (ну там они в гражданскую войну вроде бы и не хотели, Густа ведь тоже в буденновской кавалерии на коне гарцевала), а теперь не было от меня. Кто из нас виноват был в этом — не знаю.
А тут две девочки брошенные, по существу, никому не нужные — Пуха опять нацеливался жениться… Ну мы и взяли Агулю. Мы бы взяли и Таню, но она уже все понимала и была очень осведомлена о семейных отношениях. Мы привезли Таню в Днепропетровск. Агуле тогда было три года. Таня тотчас рассказала ей, что мы ей не родные, и Агуля с ревом прибежала к нам… Тогда нам пришлось от Танечки отказаться, а Агуля росла у нас, как родная дочь, ни минуты не сомневаясь, что мы и есть ее родители. Росла избалованным, единственным ребенком, дерзкая, живая, озорная. Мироша говорил: «Вся в тебя».
В семье Мироши даже создали легенду, будто мы с Сережей долго упрекали друг друга, кто из нас виноват, что нет детей, а потом я, желая ему доказать, что не я, заявила, что беременна, куда-то уехала и вернулась уже с Агулей. Алтер (Михаил Давыдович) потирал в восторге руки. «Чекиста провела!» — восхищался он мною.
Агуля в десять лет
Но все это была, конечно, неправда. Мироша знал, что Агуля моя племянница, но привязался к ней не меньше, чем к родной дочери, и Агуля тоже души в нем не чаяла.
В Новосибирске нам предоставили особняк бывшего генерал-губернатора. В воротах, оберегая нас, стоял милиционер.
Там был большой двор-сад, в нем эстрада, где выступали для нас приезжающие местные актеры, и еще отдельный домик-бильярдная. В самом дворце устроили для нас просмотровый кинозал. И я, как первая дама города, выбирала из списка, какой именно кинофильм сегодня хочу посмотреть.
У меня был свой «двор», меня окружали «фрейлины» — жены начальников. Кого пригласить, а кого нет, было в моей воле, и они соперничали за мое расположение. Фильмы выбирала я, с ними только советовалась.
Мы, бывало, сидим в зале, смотрим фильм; «подхалимы» несут нам фрукты, пирожные… Да, да, вы правы, конечно, я неверно употребляю это слово. Точнее сказать «слуги», конечно, но я называла их подхалимами — уж очень старались они угодить и предупредить каждое наше желание. Они так и вились вокруг нас. Их теперь называют «обслугой» (не «прислугой» — прислуга была у бывших)…
… Несут пирожные, знаете какие? Внутри налито мороженое с горящим спиртом, но их можно было есть не обжигаясь. Представьте себе, в полутьме зала голубые огоньки пирожных. Я-то, правда, не очень их ела, берегла талию, ела чаще всего одни апельсины.
Мои придворные дамы и пикнуть не смели против меня, те же подхалимки; только с Мирошей, случалось, мы спорили, какой фильм смотреть. Он все просил «Цыганский табор» с Лялей Черной. Там показывали поединок на кнутах, в котором два цыгана убивают друг друга. Мироша каждый раз все просил прокрутить «Табор», пока я не рассердилась: хватит тебе, мол, смотреть твой «Табор», вырежи себе кадры со своей Лялей Черной и упивайся ими отдельно.
Я ревновала, конечно.
12.
Вскоре, как мы приехали, мы были приглашены к Эйхе.
Роберт Индрикович Эйхе, когда-то латышский коммунист, был теперь секретарем Западно-Сибирского крайкома.
И вот представьте себе. Зима. Сибирь. Мороз сорок градусов, кругом лес — ели, сосны, лиственницы. Глухомань, тайга, и вдруг среди этой стужи и снега в глубине поляны — забор, за ним сверкающий сверху донизу огнями дворец!
Мы поднимаемся по ступеням, нас встречает швейцар, кланяется почтительно, открывает перед нами дверь, и мы с мороза попадаем сразу в южную теплынь. К нам кидаются «подхалимы», то бишь, простите, «обслуга», помогают раздеться, а тепло, тепло, как летом. Огромный, залитый светом вестибюль. Прямо — лестница, покрытая мягким ковром, а справа и слева в горшках на каждой ступени — живые распускающиеся лилии. Такой роскоши я никогда еще не видела! Даже у нас в губернаторском особняке такого не было.
Входим в залу. Стены обтянуты красновато-коричневым шелком, а уж шторы, а стол… Словом, ни в сказке сказать, ни пером описать!
Встречает сам Эйхе — высокий, сухощавый, лицо строгое, про него говорили, что он человек честный и культурный, но вельможа.
Пожал руку Сереже, на меня только взглянул — я была со вкусом, хорошо одета, — взглянул мимоходом, поздоровался, но как-то небрежно. Я сразу это пренебрежение к себе почувствовала, вот до сих пор забыть не могу. В зале стол накрыт, как в царском дворце. Несколько женщин — все «синие чулки», одеты в темное, безо всякой косметики. Эйхе представил нам их, свою жену Елену[4] Евсеевну в строгом, очень хорошо сшитом английском костюме (я уже знала, что она весьма образованная дама, кончила два факультета), а я — в светло-сиреневом платье с золотой искрой, шея, плечи открыты (я всегда считала, что женщина не должна прятать своего тела, а в пределах приличного открывать его — это же красиво!), на высоких каблуках, в меру подкрашена. Бог мой, какое сравнение! В их глазах, конечно, барынька, расфуфыренная пустышка… Я тотчас поняла, почему Эйхе глянул на меня с таким пренебрежением.
Впрочем, за столом он старался быть любезным, протянул мне меню первой, спросил, что я выберу, а я сама не знала, глаза разбегаются. Я и призналась — не знаю… А он говорит мне, как ребенку, упрощая снисходительно, даже ласково:
— А я знаю. Закажите телячьи ножки фрикассе.
Я заказала. Оказалось — из прозрачных хрящиков телятины спрессованные крупные куски в виде лепешек, в яичках, обваляны в сухарях и поджарены.
— Ну как, вкусно?
— Очень!
За трапезой разговор о том о сем. Общие места: как вам понравилось в Сибири, какова наша зима? Но тут, мол, очень сухо, морозы переносятся легче — всякое такое, что всегда о Сибири говорят.
Потом мужчины ушли в соседнюю комнату играть в бильярд. Миронов — коренастый, плотный, широкий; Эйхе — высокий, сухой, тонкий.
Я бы всего охотнее тоже пошла играть в бильярд, но вижу — неприлично, никто из женщин не пошел, все сидят кружком — «синие чулки», а я одна среди них — яркой канарейкой. Они разговаривают и нет-нет да на меня и глянут — таким убийственным взглядом! Все они, вероятно, ученые, может быть, как Елена Евсеевна, по два факультета кончили, все партработники, сильно партейные.
Я молчу и никак, конечно, в их беседе участия принять не могу, но стала прислушиваться. И, знаете, не очень их беседа от нашей, оказывается, отличалась. У нас друг про друга все подмечали, кто что носит, кто что достал заграничное, что сшил, а тут — про такую-то и такую-то: вот эту назначили туда-то, а та получила повышение такое-то, а эта понижение за то-то, а того-то сняли и на его место, вероятно, поставят такую-то. Весь этот калейдоскоп имен и фамилий не помню, помню только, что речь шла, как в какой-то азартной игре: этот выиграл, тот проиграл, этого снимут, а тот не на месте, а такая-то своей должности не соответствует.
Наконец, слава Богу, принесли нам список кинофильмов. Елена Евсеевна выбрала, и мы пошли в их просмотровый зал.
Когда пришли домой, Сережа спросил:
— Ну как? — Он понял, что мне было не по себе.
— Как! Как! — говорю. — Они меня за человека не считают.
А он назидательно:
— Я же тебе всегда говорил — одевайся скромнее.
Но сам-то он терпеть не мог «синих чулок».
— Я тебя люблю за то, — говорил он, — что ты женщина.
— А кем же мне быть еще?
— Я не люблю в кепках, в сапогах, а то еще курят — тьфу! Вот ты сделаешь прическу — мне нравится, оденешься как-нибудь по-новому так и эдак — мне нравится.
13.
Миронов принимал дела, приходил поздно, очень уставал, я стала замечать — нервничает. До того времени он умел скрывать свои переживания, когда они у него на работе случались, а тут что-то в нем стало подтачиваться. Та щелочка, в которую удавалось мне подсмотреть его другую жизнь, стала расширяться, пропуская то то, то это…
Когда мы приехали в Новосибирск, там уже замом Миронова был Успенский. Он очень не понравился Миронову. Сережа говорил, что это не человек, а слизь. Он имел в виду не мягкотелость, которой у Успенского и капли не было, а беспринципность, неустойчивость, карьеризм и всякое другое в том же духе. Работа Успенского вызывала у Мироши раздражение, возмущение.
Незадолго до нашего приезда в Новосибирск там прошел «кемеровский процесс» над вредителями Кузбасса. Успенский кичился тем, как он сумел его «организовать», — там якобы и подпольная типография была у него найдена, и инженеры признались…
Мироша, я уже говорила об этом, спал обычно богатырским сном, стоило подушки коснуться — и захрапит. Скажу к слову, никто не мог спать с ним в одной комнате, а я — хоть бы что, так привыкла. Он храпит, а я сплю, даже не замечаю. Даже лучше мне спалось под его храп.
Обычно засыпал он мертвым сном, а тут — лег спать и не храпит. Я тоже заснуть не могу в непривычной тишине. Ну, шутка шуткой, а ведь неспроста это было. Я поняла — что-то не так. Шепотом спрашиваю:
— Сережа, что случилось?
И вдруг он мне рассказал, вот диво — при его-то сдержанности.
Один инженер, осужденный за вредительство по «кемеровскому процессу», когда Миронова сюда назначили, все добивался свидания с ним. И вот инженер этот — он получил «вышку» — с глазу на глаз с Мироновым сказал ему проникновенным голосом:
— Я знаю, что меня ждет, я только хочу сказать, что я ни в чем не виноват. Неоднократно писали мы про технику безопасности, но все наши заявления оставались без внимания, а когда взрывы произошли, нас судили за вредительство.
И еще рассказал, в каких условиях там рабочие живут и работают и как они, инженеры, ни в чем не могли им помочь.
Голос его, слова стояли у Миронова в ушах, так он и не заснул до утра. Тогда-то и сказал он мне про Успенского, что это не человек, а слизь.
— Неужели ты не можешь написать о нем рапорт, чтобы его сняли, перевели куда-то? — спросила я.
— Как я могу написать рапорт, — возразил он, — когда Успенский какой-то родственник Ежову?
А через некоторое время он рассказал мне про нашего алма-атинского хорошего знакомого, Шатова — строителя Турксиба. Однажды привезли каких-то заключенных и ему доложили, что один из них просит свидания с ним, Мироновым. Миронов приказал — привести. Шатов и вида не подал, что они знакомы. О чем они говорили, Сережа мне не рассказал, но очень потом переживал, не спал, курил, думал, на мои расспросы не поддавался.
Я часто задаю себе вопрос теперь — был ли Мироша палачом? Мне, конечно, хочется думать, что нет. То, что я вам рассказала сейчас, говорит за это. Я еще вспоминаю и другие факты. О них я скажу позже, а сейчас просто изложу то, что думаю.
Он мог сражаться в Красной Армии, бороться с бандитами на Кавказе за советскую власть, это была его власть, она ему открыла дорогу и дала все. Он был ей предан до конца, он был честолюбив и азартно делал карьеру. А когда начались страшные процессы истребления — волна за волной, он не мог уже выйти из машины, он принужден был ее крутить, делать то, что ему навязали. Но он видел уже, он прозрел, он понимал… Так я думаю, так я хочу думать.
Как и Эйхе. Я тогда не любила Эйхе. Вот вы мне недавно рассказали, я этого до вас не знала, что весной 1937 года, когда был этот, как его, февральско-мартовский пленум — я не ошибаюсь? Так ведь? Эйхе не побоялся выступить против репрессий, и когда его арестовали, то ему ставили в вину, что в Западной Сибири не были раскрыты в должной мере враги народа и вредители.
Так это же и о Сереже! Они же там этим командовали! Ну совершенно точно! Я вам приведу сейчас иллюстрацию этого, теперь я все поняла! Это было еще до того, как привезли Шатова.
Однажды днем я очень соскучилась по Сереже и решила пойти к нему на работу. А там в приемной — народу! И все начальники в чинах с папками, и все какие-то незнакомые, приезжие, что ли? Я — нос кверху — мимо них в кабинет. Мироша сидит за письменным столом — широкий, плотный, серьезный — и сосредоточенно читает какую-то бумагу. Складка на лбу между бровей. Увидел меня — досадливо:
— Ага, видишь, я занят. Подожди.
Я вышла в комнату рядом, откуда все слышно, а он:
— Нет, не туда, пройди к секретарю.
Я капризно:
— Но я хочу здесь!
Что это, думаю, он меня отсылает? Может быть, какая-нибудь женщина должна прийти?
Сережа нажал звонок, вызвал секретаря, тот вежливо приглашает меня пройти к себе. А я свое: нет, не пойду!
Тогда Миронов вскочил в сердцах и вместе с секретарем ушел к нему. А я, как будто меня стегнули, выскочила мимо всех этих начальников с папками — и на улицу мимо часовых. Они мне — пропуск! Пропуск! А я прорвалась — и мимо.
Ну, думаю, ладно, Сереженька, погоди у меня!
Домой не пошла. До ночи сидела в саду, думаю, сейчас вот он придет домой, спросит: где Ага? А ему: не знаем, не приходила с утра. Пусть поволнуется…
Наконец, когда промерзла до костей, уже около полуночи, вернулась. Сережа лежит, не спит. Я легла спиной к нему, ему — ни слова, а он говорит примирительно, словно ничего и не было, подлизывается:
— Ишь, как ты проскочила мимо всех часовых без пропуска!
А я дуюсь, молчу. Он больше не стал настаивать, сказал только с горечью:
— Эх, Агнеска, Агнеска! — Вскочил, достал люминал, выпил. Значит, не мог заснуть. Я подумала — из-за меня. Все-таки любит. Но дело было не в этом.
На другой день вечером мне мои «фрейлины» перед киносеансом рассказали. Вот уж секрет за семью замками, уж такая тайна, а глядишь — и выплыло наружу. У нас всегда так… Я тогда поняла, почему Сережа был такой взвинченный. Оказывается, у него было секретное совещание, туда вызвали всех начальников края. Пришел тайный приказ об аресте Рудя, это, кажется, тот самый Рудь, о котором пишет Евгения Гинзбург, помните? С ним Мироша работал на Кавказе, потом Рудь этот был начальником Северокавказского НКВД, затем — в Казани. Приказ был об его аресте за то, что у него не выловлены враги народа — троцкисты и т. д., что у него было мало арестов. Ага, мало арестов, значит, не борешься? Значит, прикрываешь, укрываешь? И приказ этот читали всем начальникам в назидание. Инструкция НКВД.
И всем стало ясно: хочешь уцелеть (даже не продвинуться!) — сочиняй дела! Иначе худо будет.
Через день все подтвердилось. Мироша пришел домой обедать со своим подчиненным, он с ним дружил. Сели за стол. Сережа говорит ему:
— Как бы у нас не получилось, как с Рудем… Нормы не выполняем, Иван Ефремович. Все вон какие цифры дают!
Перед этим как раз Эйхе просил Сережу за каких-то бывших троцкистов. Успенский хотел всех арестовать, а Мироша приказал их не трогать. С одним из них Мироша был хорошо знаком. Мы встретили его на улице. Сережа ему:
— У тебя троцкистские взгляды!
— Я давно от них отказался!
— Ну, то-то же! — пригрозил ему Сережа пальцем, но не рассмеялся. Вроде бы шутка была, но на деле — угроза.
Вы говорите, что партийным секретарям разрешено было сохранять бывших троцкистов, если они нужны были в промышленности. Ну, может быть, может быть, это Эйхе не просил, а просто передал свое распоряжение, знаю только, что Мироша их не арестовал.
Арестовали их позже.
14.
И вот еще была у нас размолвка с Сережей. Вдруг вызывают его срочно в Москву. Я всегда с ним ездила. А он, бывало, рад. Но на этот раз сказал мне:
— Оставайся. Мой вагон к тому же на ремонте. Он будет готов не раньше завтрашнего дня. Я полечу самолетом. — И тут же — в машину и на аэродром.
Я к начальнику вокзала:
— Вагон Миронова завтра будет готов?
— Завтра? Будет.
— Я хочу поехать в Москву.
— Вам его приготовить?
Там ведь надо было обеспечить топливом, постелями, то-се.
Мои «фрейлины» узнали, что я еду, — и ко мне: возьмите и меня! И меня! И меня!
Им это было выгодно. В Москву поездом ехать — билет надо брать, деньги платить, а тут бесплатно. И прокатиться, проехаться. А в Москве по магазинам пошастать. Я, конечно, согласилась.
Дома «подхалимы» приготовили питание, на станции подготовили вагон. Поехали. На улице стужа лютая — февраль, а в вагоне сильно топят, тепло. Мы и зимы не замечали. И как сели мы в первый же день за покер, так до самой Москвы и дороги не видели. Комендант нашего вагона, сопровождающий, оказался молоденький мальчишка. Он с нами ввязался в игру и проигрался до последней копейки. Мы только перед Москвой спохватились, как его обставили, переглянулись, поняли друг друга, что надо дать ему отыграться, и стали поддаваться. А он и вправду возомнил, что ему везет, глаза горят, таким гоголем перед нами!
И вдруг Москва, а мы и не заметили! Вещи не сложены, все раскидано. Впопыхах давай собираться.
На перроне — Миронов, ему дали знать из Новосибирска. Лицо суровое, без улыбки. Я к нему. Он — тихо:
— Зачем ты приехала? — Кивнул в сторону женщин: — И этих привезла.
Я — молчок.
В гостинице «Москва» шикарный номер — гостиная, спальня. На столе ваза с виноградом, большие сочные груши. Секретарь Осипов говорит мне:
— Сергей Наумович просил достать для вас свежих фруктов. Я постарался. Вы довольны?
Ага, думаю про Сережу, значит, ты меня ждал!
Входим в спальню. Миронов тихо:
— Умер Орджоникидзе. Ты только никому не рассказывай. Говорят, что это самоубийство. Официальная версия — сердечный приступ.
И опять:
— Ну вот, теперь ты понимаешь, когда ты приехала? Да еще с ними, еще такие развеселые. Небось, резались всю дорогу в карты? Ну зачем, зачем? Я же тебе говорил — сиди дома! Ну зачем ты приехала? Что я скажу, если меня спросят?
Я сделала скорбную, трагическую мину.
— Ты скажешь, — и вздохнула, — что приехала разделить скорбь о великом вожде!
Ну тут Миронов не выдержал, расхохотался. Так я это курьезно сказала.
А мне тогда, и правда, знаете, до Орджоникидзе этого было, как теперь говорят, «до лампочки» — тогда говорили «начхать». Все эти вожди-«возжжи» мне были безразличны, я в них не разбиралась.
Миронова я рассмешила, отвлекла, я всегда умела это делать, и уже через полчаса он говорил мне:
— Ну что бы я без тебя делал? Что Агулька, что ты… Баловница, шалунья. «Луч света в темном царстве».
Это он из книги, но тут и вправду это было к месту.
Как я ничего не понимала! Но для Миронова это, вероятно, и было хорошо.
А я не понимала. Аресты шли за арестами. Всех ягодинцев подряд арестовывали. Арестовали Шанина, Буланова, Агранова. Я хорошо знала Валю Шанину. Ее муж был заместителем Ягоды. Она недавно умерла. Но мы с ней уже после реабилитации виделись, и она мне рассказала, как арестовали ее мужа. Незадолго перед арестом я была у них в гостях. Было невесело. Они жили в тревоге, в ожидании.
Валя была активной, на партийной работе. Вернулась с работы домой, домработница говорит про мужа: «Он спит». Он болел язвой желудка, лечили от язвы в те времена люминалом. Она вошла в спальню. Легла. Вдруг вваливаются — полно мужчин в форме НКВД, сразу к его кровати, хвать за руки (боялись оружия). Он проснулся, пытался вскочить. «Вы арестованы!» Попросил позвать домработницу, посовещались, позвали. Он ей — дать такие-то теплые вещи, такое-то белье. Его увели. Валя оделась, вышла в другую комнату, а там Фриновский — сам он не хватал, только привел своих. Он ручку ей поцеловал: «Как поживаете?» В насмешку? Нет, ничуть нет, просто проявил «галантность».
Затем ее послали в партийную командировку в Астрахань. Она взяла необходимые вещи — чемоданчик. Предчувствия не обманули: недели через две ее арестовали в Астрахани. Когда пришли ее брать, она подошла к окну, они сразу к ней кинулись, она им: «Не бойтесь, я из окна не выброшусь!»
Говорят, что выбросился Черток и еще кто-то, другие успевали застрелиться… Уже потом мне говорили, что за один тот год было уничтожено свыше трех тысяч ягодинцев. Ну уж а про троцкистов и всяких других правых-левых и говорить нечего.
После реабилитации Вале дали персональную пенсию 120 рублей — это за ее заслуги. Шанина не реабилитировали.
В Новосибирск, когда мы вернулись из Москвы, приехала к нам какая-то комиссия во главе с однофамильцем Сережи — тоже Мироновым. Миронов этот[5] был начальником экономического отдела НКВД, ведал всякими инженерными делами. Он был помощником Ягоды, допрашивал в свое время Каменева. Сталин был недоволен, что Каменев у него не признался… Но, в общем-то, он высоко взлетел, этот Миронов. Одно только, что теперь у Ежова числился ягодинцем.
Он приехал к нам с целой свитой. Все какие-то любезные офицеры, ручки дамам целуют, умеют танцевать превосходно. Сережа устроил для них прием. Зима, а у нас свежие парниковые овощи, из специальных оранжерей Новосибирска. Они все накинулись на эти овощи… ну и фрукты, конечно…
Миронова-гостя посадили на главное место, а он, как увидел нашу Агулю, ей тогда было четыре года, так уж и не смог от нее оторваться. Посадил ее на колени, гладит по голове, шепчет что-то, и она к нему приникла… Странно это мне как-то показалось — не к дамам поухаживать, не к мужчинам — выпить, поговорить, а к ребенку за лаской…
Я потом говорю Сереже:
— А Миронов-то был грустный…
Он встрепенулся, с вызовом:
— Что ты выдумываешь? С чего это ему быть грустным? С таким почетом принимали.
А через неделю и гость наш Миронов и вся его свита были арестованы. Их нарочно отослали из Москвы, чтобы арестовать тихо. Так часто тогда делали.
А сейчас я думаю: неужели это Сереже было поручено арестовать их? Принять у себя, ввести в семью, а потом — хлоп — приказ арестовать, тайно доставить в Москву? Неужели Сережиными руками?
Я этого не знаю…
15.
Зима… Мне нравилась сибирская зима, особенно к весне, когда солнца прибывало. Мама ведь моя была сибирячка, правда, я выросла на юге, но сухой морозец, когда снег поскрипывает под ногами, здорово это было! Бодрило!
Я увлекалась лыжами. Там была лесная станция, мне давали лыжи и ботинки, сам заведующий, бывало, подбирал по ноге. Меня туда отвозили на машине. Ходить на лыжах я научилась быстро, почти сразу отмахивала большие расстояния. Хорошо! Снег блестит, скрипит, мохнатые ветви елей с тяжелым грузом снега до земли клонятся, голубая лыжня между ними.
Инструктор заметил, что я убегаю далеко, сказал:
— Я вижу, вы увлекаетесь лыжами, но хочу вас предостеречь: снег часто подтаивает к весне снизу, и можно провалиться в такую пещеру. У нас несколько человек провалились в лесной балке, и их долго не могли найти, они погибли.
Но я не слушала, и инструктор стал ходить на лыжах со мной… Теперь-то я понимаю: они там все страшно боялись, как бы со мной чего не случилось, — боялись Мирошу.
А Сережа… Сережа тоже боялся.
Как все у него напряжено внутри в страшном ожидании, я поняла не сразу. Но однажды… У него на работе был большой бильярд. Иногда, когда я приходила к Мироше и выдавался свободный час, мы с ним играли партию-две. И вот как-то играем. Был удар Сережи. И вдруг он остановился с кием в руках, побледнел… Я проследила его взгляд. В огромное окно бильярдной видно: во двор шагом входят трое военных в фуражках с красными околышами.
— Мироша, что с тобой? — И тут же поняла. — Да это же смена караула.
И действительно, разводящий привел двух солдат сменить стражу в будке у ворот. Он просто зачем-то завел их во двор.
Я говорила, как нас принимал Эйхе на даче-дворце в лесу. После этого мы встречались с ними не раз. У них была еще дача, меньше той, но тоже роскошная, только уютнее, милее.
Однажды мы приехали туда вдвоем. На даче — только Эйхе и его жена (слуг я не считаю). Она в ярко-розовой пижаме (я дома тоже ходила в пижаме, только голубой), по-домашнему. Мы там очень хорошо провели время. Их двое, нас двое. Они были дружной парой, и мы тоже были очень дружны с Мироновым.
И уж было не так, как в первый раз, а иначе, хорошо, просто, по-семейному. Правда, Эйхе своего отношения ко мне не изменил, вероятно, продолжал думать: ну что она такое, интересуется только тряпками, совсем не то, что моя жена, которая два факультета кончила и теперь на большой партийной работе, — он Еленой Евсеевной очень гордился. Тогда он мне таким представлялся — вельможа, высокомерный. Сейчас я, может быть, иначе его оценила бы. Вот вы говорите, вам о нем рассказывали, что он был очень честный, принципиальный и даже голос не побоялся поднять против репрессий, тем самым попал на заметку к «гениальнейшему» и подставил себя под удар. Но всего этого я не знала, а мне казалось, что он презирает меня.
Нам отвели комнату на втором этаже, роскошную, только, правда, холодноватую, но там были медвежьи шкуры, мы ими накрылись поверх одеяла, и отлично можно было бы выспаться, — хорошо спится, когда свежо, а ты тепло укрыт… Но только под утро я проснулась, почудилось мне, что Сережа не спит. И правда. Проснулась — тихо. Прислушалась к дыханию — точно, не спит.
— Ты что?
Он шепотом:
— Знаешь, — говорит, — мне кажется, что мой секретарь за мной следит…
— Осипов? Да что ты!
— Приставлен ко мне…
— Ну, Сережа, ты опять, как с этим разводящим!..
И ласкаюсь к нему, стараюсь растормошить, увести…
А сама… И меня уже этот всеобщий психоз коснулся — страх. Виду не подаю, а сама думаю: неужели и к Сереже подбираются? Из головы нейдет.
Утром куда-то мужчины отправились после завтрака. Входит ко мне Елена Евсеевна — в розовой пижаме, интересная, самоуверенная, так она себя держала, как будто она мне мать. И правда, была она меня старше, но и умнее, конечно. Я ведь только гимназию кончила.
Входит.
— Что это вы, милая, не веселы?
Я взглянула на нее и как разрыдаюсь!.. Она даже испугалась, присела ко мне, в лицо заглядывает.
— Что с вами? — участливо так, хочет успокоить, утешить.
Я говорю:
— С Мироновым поссорилась.
А она удивленно:
— Совсем непохоже. — И смотрит проницательно, доброжелательно, но с недоумением.
Вот вы спросите — почему бы мне ей не признаться? Вы не представляете себе, что за время было. Признаться в таком — значит, вызвать у нее подозрение. Все друг друга подозревали, только дай повод.
Я взяла себя в руки, успокоилась, предложила пройтись на лыжах… Ну потом — ведь я по характеру веселая, легкомысленная — все как-то само собой пришло в равновесие.
Ах, Елена Евсеевна, Елена Евсеевна, встретиться бы нам сейчас! Все бы я вам рассказала. И что утаила тогда. Теперь бы мы друг друга поняли!
16.
Откуда мне было знать тогда, что и они — Эйхе — боялись! И как боялись! Может быть, после того самого пленума, о котором вы говорили. Как они боялись, я это поняла только теперь, когда вспомнила обстоятельства того времени.
Сереже по прямому проводу сообщили о новом назначении. Куда, почему, он мне не сказал, но было ясно — повышение. За нами должен был прийти специальный поезд.
Что сделалось с Эйхе! Я вдруг увидела совсем не того Эйхе, который торжественно принимал нас в своем загородном дворце или даже по-семейному ласково-снисходительно в интимной атмосфере лесной дачи… Я увидела вдруг заискивающего, подобострастного человека — и это при его-то гордости! Он стал бесконечно любезен, предупредителен даже со мной, внимателен. За столом сел рядом, заговорил со мной о политике, о Китае, о Чан Кайши. И когда я чистосердечно призналась, что все эти китайско-японские фамилии путаю (тем самым расписавшись в полном своем невежестве), ни тени презрения или высокомерия не пронеслось по его лицу, он тотчас переменил тему и стал спрашивать мое мнение о каком-то кинофильме, который и я видела. Он так хотел найти со мной общий язык, контакт и, надеясь, что я передам Миронову, все повторял мне, что он очень жалеет о нашем отъезде. Что мы тут так подружились, что они с Мироновым сработались… И я уже тогда поняла: он все это говорит потому, что внезапное повышение Миронова означает какую-то его силу, мощь. Если Миронов идет в гору, то может оказать покровительство, стать какой-то точкой опоры в этом вокруг всех рушащемся мире… Это был подхалимаж? Но как мне осуждать человека, когда дело шло действительно о жизни его и его жены?! Он уже чувствовал себя на тонкой-тонкой ниточке над пропастью. Что нужды, если вскоре его сделали на короткий срок наркомом земледелия, — тем сокрушительнее было падение.
Мироше было приказано: собраться за три дня. Никаких громоздких вещей не брать — только чемоданы. Часть пути придется ехать на машинах, дорога будет трудная. Поэтому я не могла взять с собой маму — она была парализована.
— Ты меня бросаешь, Ага? — спросила она горько.
— Но ты не выдержишь пути, мама. Бог знает, куда нас посылают.
А сама я думала еще и так: а не арестуют ли, как того, другого Миронова, вышлют подальше — и всех разом. Все могло быть. Я — уговаривать, успокаивать маму:
— Ты поедешь с Леной в Ростов. Я дала Лене пять тысяч рублей, чтобы она в Ростове обменяла квартиру на трехкомнатную. Тебе она выделит отдельную комнату.
Три дня на сборы, а вещей у нас! Я накупила всякой обстановки. У заведующего столовой одного хрусталя купила на две тысячи. А варенья! Лена взяла все, что только могла, но все-таки осталось, и мы раздавали продукты, сласти, вещи — сторожу, уборщицам, «подхалимам», — всем, кто тут остается.
Через три дня прибыл за нами поезд. Полно мужчин, видно, что все военные, но многие переодеты в штатское.
Поездом командует Фриновский. Но как он изменился! Если в Эйхе появилось что-то заискивающее, лебезящее, то Фриновский — наоборот, лоснится, самоуверен, самодоволен, еще бы: второй человек после Ежова, а выше Ежова тогда во всей стране никого, кроме Сталина, не было.
Сережу увидел, самодовольно улыбнулся, покровительственно похлопал по плечу, мол, его, Фриновского, ставленник, этот не подведет!
На Эйхе едва взглянул. Оба, и Эйхе и Елена Евсеевна, провожали нас на вокзале. И Эйхе опять повторял мне, что очень сожалеет о нашем отъезде. «Замолви за меня словечко при случае» — так и сквозило через эти дружеские излияния. Он говорил только со мной, Мироновым сразу завладел Фриновский, Эйхе даже проститься с ним толком не смог.
17.
Только в поезде я узнала назначение: в Монголию вместо арестованного за шпионаж в пользу Японии Таирова[6].
Ух! Опасность, тревога сразу свалились с плеч. Удача опять возносила Мирошу — и какая! Вырваться из тисков страха, и не как-нибудь, а взмыть вверх. Ответственная политическая задача — полпредом в Монголию в острый момент международной политики! Это ли не удача? Это ли не доверие, доверие в то время, когда хватали кругом одного за другим?
Еще как только повеяло повышением, Мироша заметно приободрился, а тут сразу вернулись к нему былая его самоуверенность, его гордая осанка, его азартная решимость, его честолюбие. Глаза сразу стали другие — залучились огоньками успеха, словно вернулись молодость, «настоящие дела», борьба с контрреволюцией, ростовские времена.
Подолгу стояли они с Фриновским — оба бывшие пограничники — над картой, думали, планировали. Тут — Внешняя Монголия, тут — Внутренняя, тут — оккупированная японцами Маньчжурия, вот отсюда они теперь метят выйти к Байкалу, отрезать Дальний Восток… Японцы уже проявили себя тогда — после расстрела Тухачевского и других командующих они тотчас затеяли перестрелку через Амур и заняли остров Большой.
Фриновский и Мироша часами изучали карту, а я… Все страхи забыла сразу, опять стало легко дышать, весело жить. Я с увлечением постигала «правила поведения советских полпредов за границей» — нам дали их для ознакомления. Как надо одеваться на приемы: фрак, манишка, запонки не из поддельного жемчуга, а из перламутра. Иностранные дипломаты — в бриллиантовых, наши, конечно, не могут, дорого это, но поддельный жемчуг — безвкусица, вульгарно, вызовет пренебрежение и смех, а перламутр — строго, скромно…
В Иркутске у нас была остановка. Местный начальник управления НКВД пригласил нас к себе — переночевать, отдохнуть. Пообедали отлично. Агуля играла с детьми, я разговаривала с женой этого начальника, мужчины куда-то ушли. Долго их не было.
Ложимся спать. Мироши все нет. Я уже и задремывать стала, слышу — пришел. Лампу не гасила. Взглянула в лицо, тотчас поняла — расстроен. И опять — ужас. Может, новый приказ? Может, хотят вернуть, арестовать? Мало ли что могло быть в лихорадочное время…
Сережа сел на кровать и вдруг закрыл лицо руками.
— Что? Что случилось?
А он, я вам говорила, какой он всегда был скрытный, а тут как прорвалось…
— Ты себе представить не можешь!
— Но что? Что? — Я уже сама не своя от страха.
И он рассказал. Вошли они с Фриновским в кабинет местного начальника НКВД, а в кабинете допрашивают. Кого, он мне не сказал. Допрашивают, а тот не сознается. И вдруг Фриновский как двинет ему в ухо! И давай его бить! На пол свалил, ногами топчет. Мироша просто опешил. Когда выходили, Фриновский весь красный, дышит тяжело, еле в себя пришел. Увидел, что Мироша потрясен, усмехнулся:
— Ты что, еще не знаешь? Секретный указ есть товарища Сталина, если б…. не признается, — бить, бить, бить…
Помните, я говорила вам, что иногда задаю себе вопрос: был ли Мироша палачом? Мне хочется, конечно, думать, что не был. Вот то, что я вам рассказала сейчас, то впечатление, которое на него произвело это зверское избиение, — это говорит в его пользу… Значит, он сам до той поры пыток еще не применял, ведь правда, так получается?
Я уже сказала, что Таирова, бывшего до Миронова полпредом в Монголии, сняли.
Однажды во время стоянки поезда мы с Агулей пошли прогуляться вдоль нашего состава. Обе в песцовых накидках, шапочка у меня была изумительная. Никого не видно, пустынно, только один какой-то домик поодаль. И вдруг слышим — душераздирающий крик, страшный, какой-то нечеловеческий крик муки. И все стихло.
— Агуля, ты слышала? Откуда это?
Агуля стала фантазировать: самолет, мол, пролетел, это с самолета кричали.
В поезде я спросила Миронова.
— Наверное, это Таиров, — сказал он. Лицо каменное.
18.
Приехали мы в Улан-Удэ. Дальше железной дороги нет. Остальные шестьсот километров — на машинах. Миронов, Мария Николаевна, я с Агулей — в закрытой машине, остальные — в открытых. Поехали. Едем, как по следам войны, — впереди нас прошел корпус Конева. Кусты, деревья поломаны, дорога танками искорежена.
Дождь, снег, ветер, даже мы намерзлись в закрытой машине, а что говорить про остальных!
Приехали на какой-то пункт в степи — несколько домиков, день езды до Улан-Батора. Сережа говорит: «Мы с Фриновским отсюда улетим самолетом — нас будет вызывать Москва, нам надо доложить, что мы прибыли в Улан-Батор. А вы переночуйте тут, ведь все очень устали, женщины больше не могут…» А я ему: «Нет, и мы поедем, мы можем!»
Созвала свой «двор» из нескольких женщин, мужья которых были с нами посланы, и еще несколько женщин служащих, спрашиваю: «Поедем?» Они все: «Поедем!» Я к Миронову: «Женщины едут сейчас!»
А мужчины уже храпят по всем углам домика. Ну я поняла, что именно мужчины «больше не могут», устали и спать захотели, им только предлог нужен был, вот они на женщин и свалили.
Миронов только махнул рукой, а я говорю:
— Пусть остаются все, а мы с Агулей с тобой поедем.
— Да ты себе представляешь, что за самолет? Он же весь из фанерок!
Но когда спросили летчика, он совсем другое.
— Долетим, — сказал весело, — как штык!
А когда я засомневалась насчет фанерок, он пояснил, что эти фанерки второстепенные какие-то, а главное — в порядке.
Но Миронов восстал. Да и я испугалась. Это только сгоряча такая отчаянная решимость была — лететь. Я самолетов и по сей день боюсь, я никогда не летала. Я уверена, что если только я полечу на каком-нибудь самолете, то самолет обязательно разобьется.
Приехали мы на следующий день под вечер, темно уже было, опять ночевали в каком-то домишке, все в одной комнате. Мы с Агулей на диване, а остальные кто где. Мужчины расстелили на полу шинели и спали вповалку.
Ну а утром… Это теперь, вероятно, Улан-Батор настоящий город с домами, транспортом, удобствами, а тогда!.. Тогда я в уныние пришла от этой «заграничной столицы», куда Мирошу «послом» назначили. Степь, ветры, всего несколько европейских домиков, остальное все — юрты. Тоска. Я в первый же день это поняла. Правда, были наши военные — корпус Конева, офицеры, но кроме них — никого.
Фриновский с Мирошей все время находились на связи с Москвой, важные какие-то были у них разговоры.
Вернувшись наконец, Миронов сказал мне:
— Мы пока в помещении полпреда жить не будем. Его жена (то есть Таирова) еще не уехала, вот она уедет через день-другой…
И повел нас в какую-то освободившуюся квартиру. Кто там жил до нас, не знаю, но там была хотя бы обстановка.
Напротив — дом полпреда, там по распоряжению жены Таирова грузили их вещи на грузовик. Она мелькнула несколько раз — распоряжалась. И меня подмывало выйти шепнуть ей: «Твой муж арестован…»
Потом мы поехали за город, на дачу полпреда, и вдруг — и она там, что-то оттуда тоже вывозила. Она была с ребенком… И поздоровайся она со мной, я бы ей, конечно, шепнула. Но она не поздоровалась, сделала вид, что не замечает меня, как предмет обстановки. Меня это даже не задело, я поняла, что она знать меня не хочет, как вытеснившую ее, но шепнуть — не шепнула… Это было мне постороннее, чужое, я нейтральна была между нею и своими. Я не понимала еще всего, не прошла еще сама своих кругов ада.
А их, Таировых, прислужница уже ко мне переметнулась и тотчас передала, что хозяйка ее в Москву не поедет, а сперва собирается заехать к сестре в Новосибирск.
Вечером у нас Фриновский с Мирошей старые дела вспоминают — Северный Кавказ, то, се. У Мироши глаза блестят, опьянены оба властью, которая им здесь дана, делами, которые вершат. И вот слышу про Таирову Фриновский говорит:
— Ну теперь мадам явится в Москву, мы там с ней поговорим.
Я тотчас поняла, о каком разговоре речь.
Что бы я сделала, если бы я была подлой? Я ведь тут же им бы сказала: «А она в Москву не поедет, она едет в Новосибирск».
А я — нате вам — не скажу вам ничего!
И она уехала.
Вот теперь Миронова не реабилитируют, говорят, что он в Монголии выполнял указания Ежова. Но как же он мог их не выполнять? Ежов был тогда «зоркоглазый нарком» (как воспевал его Джамбул), самый могущественный человек после Сталина. Да и он, Ежов, разве мог принять какое-то решение в международных делах без указания или приказа Сталина? И войска Конева ввели в Монголию, конечно же, по приказу Сталина. Войска прошли до нас, я уже говорила — мы ехали, как по следам войны.
До нас главой правительства в Монголии был Амор. Я Амора этого видела, он приходил к нам с женой. Амор — лицо жирное, глазки прикрыты, улыбается, как Будда. Миронов мне сказал — его подозревают, что тяготеет к Японии. Правительство Амора тогда сняли. Ничего больше о нем сказать не могу. Он вскоре исчез. Не знаю, не знаю, не знаю, куда он делся и причастен ли к этому Мироша. Мироша еще в поезде снял военную форму, оделся в гражданское. На первых порах все там организовывал Фриновский.
Куда Амор исчез — не знаю. Его чиновников пригласили в Москву, и они по дороге в поезде отравились какими-то консервами, ни один живым до Москвы не доехал. Что это были за консервы, теперь легко догадаться…
А Чойбалсан был наш ставленник, он окончил у нас военную академию. Не то чтобы мы ему очень доверяли, но держали в руках, ведь наши войска заняли Монголию.
19.
Теперь я вам расскажу про Монголию, какая она была в то время.
В Монголии тогда бушевал бытовой сифилис, рождаемость очень низкая. Дети ценились превыше всего. Девушка, родившая ребенка, была самой завидной невестой. Поэтому до брака девушки «крутили» с кем хотели, и чем больше, тем лучше. Если наживала ребенка, ее охотнее брали замуж.
Помню, была там девушка, которая меняла любовников непрерывно, а родители радовались. Я как-то спросила их: «Не надо ли ее скорее выдать замуж?» — «Зачем? — удивились они. — Пусть еще погуляет, может, ребенок появится!»
Один из министров Чойбалсана, помню, объяснял Миронову, почему его жена не пришла на прием. Он, министр, только что откуда-то вернулся, а жена в его отсутствие жила с цириком (солдатом). Цирик часто брал ее в свою юрту, но вот слишком часто брал, замучал. Должен был быть от этого солдата ребенок, но — огорчение какое мужу! — получился выкидыш. И она больна, поэтому и не может присутствовать у нас на приеме.
Уже был построен в Улан-Баторе театр, и там силами монгольских актеров поставили «Овечий источник» Лопе де Вега. Помните суть пьесы? Сюзерен собирается осуществить «право первой ночи». И вот когда на сцене героиня отстаивает свою честь, весь театр — монголы — хохочет. Смешно им, что она бегает от пришедших за ней кавалеров. Из-за чего такой шум? Она же должна радоваться!
Мы дружили с Коневыми. Как-то я задержалась у них, потому что Миронова не было, а я не решалась одна вернуться в советский городок: было уже поздно. И министр-монгол, а с ним еще двое предлагают меня подвезти, а я ни в какую — дождусь, мол, своей машины! И говорю жене Конева: как же я с ними поеду? Сразу пойдут разные сплетни — одна с мужчинами… А она смеется: «Да что вы! Они же этого не понимают, у них это совсем ничего не значит, с кем бы женщина ни была, они даже считают это похвальным».
Чойбалсан, как глава правительства, имел европейский дом, в котором устраивал приемы. Но во дворе этого дома стояли две юрты, где они жили с женой.
На приеме, помню, подали колбасу. Я очень старалась не портить фигуру и жира не ела. Из колбасы выковыривала жиринки, съедала только мясное. И вдруг вижу, все женщины-монголки стали выковыривать жиринки. Боже мой, думаю, да ведь это потому, что я так делаю!
Я осторожно потянула молодую жену Чойбалсана за полу халата, покачала головой, показала на себя: зачем, мол, ты в халате, надо в платье. Та отбросила рукав халата, показала запястье — очень, мол, тонкие у нее руки, слишком худые, а я ей — да это же хорошо, красиво!
Я была тогда подстрижена по последней моде и в длинном васильковом платье, а у жены Чойбалсана была замечательная коса, и в волосах — нитки настоящего жемчуга.
И вдруг на следующем приеме вижу ее стриженой точь-в-точь как я, в голубом вечернем платье! Правда, не из креп-жоржета, как у меня, его там не было, а из шелка. И все другие дамы в таких же голубых платьях. Я вдруг поняла — они не только слепо подражают всему, но мои слова воспринимают как приказ!
На лето почти все монголы выезжали из города — кочевать в степи. И Чойбалсан тоже. И вот мы навестили его в летнем стойбище, в юрте. Мы входим — он сидит, рука обнажена до локтя, на ней в ряд куски жирной вареной баранины, он их с ловкостью фокусника отправляет один за другим в рот. Кругом — роскошные ковры. Прибежала из другой юрты его жена в халате. Я удивилась — она же почти королева, а дома так одета. Неужели она домашнюю работу делает? Увидала нас — тотчас исчезла, побежала переодеться.
У некоторых аристократок прически делаются на несколько месяцев. Смазывают волосы каким-то клеем и делают два закрученных рога на голове, и вид получается надменный…
А молодые девушки прелестны — стройные, как козочки, в длинных брюках, много черных косичек, тюбетейка… Ветром от них пахнет.
Детей у Чойбалсана не было, взяли приемыша. Знакомая нам жена Чойбалсана вскоре исчезла. Он объяснил, что она оказалась враждебной Советскому Союзу, вот он ее и прогнал. Сейчас мне это такой чепухой кажется! Эта дикая кочевница, послушно подражающая мне во всем! Просто Чойбалсану она, наверное, надоела, он ее и прогнал и взял другую.
Мы все время боялись заразиться. Когда в гостях угощали, мы ели вареную баранину, обрезая вокруг, съедали только сердцевину куска, там, где никто руками не трогал.
Одна знакомая, которая все умудрялась вывозить оттуда шелковые халаты, дезинфицировала их утюгом. Халаты вообще вывозить не разрешалось, вот она меня один раз и попросила надеть на себя, когда буду уезжать, чтобы таможня пропустила. Но Миронов запротестовал, несмотря на утюг, сказал: «Неизвестно, с какого это сифилитика».
А гигиена! Кому приспичит, просто присаживается под забором на корточки, правда, халатом прикроется. Увидит меня, приветствует любезнейшим образом, а сам…
Мы старались вводить культуру. Приказ был — прогонять всех из-под заборов, устраивать уборные. Но землю-то у них копать нельзя! Это же — тело Бога.
И вот теперь я вам расскажу про самое страшное — про долину смерти. Монголы — буддисты. Будда запретил им копать землю. Они скотоводы, им копать землю для пропитания не нужно. Рыбы, собаки у них священны. Разрешается есть барана, корову. Мертвых они не закапывают. Они одевают их в саваны и отвозят в долину смерти. Солнце, ветер — тела вялятся в саванах. Я ездила туда на машине с Фриновским и Мироновым.
Это большая долина, поле там все усеяно черепами, костями. На краю поля живут страшные дикие псы, все увешанные пестрыми тряпками. Когда привозят хоронить, псов этих подзывают (а они уже приучены к этому) и вешают им на шею пестрый лоскут. У некоторых таких лоскутов не счесть — значит, они многих покойников съели…
Вот мне рассказали такой случай. Однажды монгольская девушка заболела (была эпидемия оспы). Когда умирали от заразных болезней, врачи приказывали сжигать все, к чему умерший имел касательство, — вещи, юрту. И вот родные этой девушки, боясь, что врач нагрянет и велит все сжечь, не стали дожидаться ее смерти, а одели ее в саван и отвезли в долину смерти.
Псы-трупоеды не сразу набросились на нее, а она тем временем очнулась и стала стонать. В это время проезжала машина с русскими. Услышали стоны, остановились, увидели, что она жива, взяли ее и отвезли в город в больницу. Там ее выходили.
Когда она выздоровела, опекавшие ее русские поехали в тот род, откуда она, рассказали всю историю, спросили: «Возьмете обратно?» Родичи говорят: «Да, да, возьмем!» Но когда девушке этой сказали, она — ни за что! «Они, — говорит, — меня убьют! Потому что, если я вернулась из долины смерти, значит, я — злой дух». И стала русских просить, чтобы в городе никому не говорили, что она вернулась оттуда. Так и осталась при больнице, выучилась там и стала работать медсестрой.
Русские предписали хоронить в земле. Выкопали даже глубокие рвы в долине смерти. Но никто не подчинился приказу. Ночью принесут труп и бросят — лишь бы не копать землю…
Страшное было у меня тогда впечатление от этой долины. И еще усугубилось оно тем, что рассказал Фриновский Миронову, когда мы оттуда ехали. Рассказывать при мне он не стеснялся, шофер был свой человек, да он вряд ли и слышал — сидел впереди, а при таком сильном ветре (машина открытая) слова относило назад.
Вспомнили почему-то Евдокимова. Я, кажется, уже рассказывала вам, что Евдокимов был начальством Мироши, когда Мироша работал на Северном Кавказе? Ягода не любил Евдокимова. Дело дошло до крупных столкновений, и Ягода отстранил его совсем от чекистской работы. Естественно, что Евдокимов люто ненавидел Ягоду.
И вот мы едем на машине уже обратно из долины, на душе жутко, ветер свистит, о Евдокимове заговорили, чтобы отойти как-нибудь от впечатлений, и вдруг Фриновский спрашивает Мирошу:
— А знаешь, что он допрашивал Ягоду?
И рассказывает вот такую историю. Ягода не соглашался дать нужные показания. Об этом доложили Сталину. Сталин спросил:
— А кто его допрашивает?
Ему сказали.
Сталин усмехнулся, пососал трубку, прищурил глаза:
— А вы, — говорит, — поручите это Евдокимову.
Евдокимов тогда уже никакого отношения к допросам не имел, он уже в НКВД не работал. Сталин его сделал членом ЦК, первым секретарем Ростовского обкома партии. Его разыскали, вызвали. Он выпил стакан водки, сел за стол, засучил рукава, растопырил локти — дядька здоровый, кулачища во!
Ввели Ягоду, — руки за спину, штаны сваливаются (пуговицы, разумеется, спороты).
Когда Ягода вошел и увидел Евдокимова за столом, он отпрянул, понял все. А Евдокимов:
— Ну, международный шпион, не признаешься? — И в ухо ему…
Сталин очень потешался, когда ему это рассказали, смехом так и залился…
И еще Фриновский рассказал о своих встречах со Сталиным. Сталин иногда его вызывал, благоволил к нему. Как-то вызвал его, доволен им:
— Ну, — говорит, — как дела?
Это о работе органов.
А Фриновский набрался смелости и говорит:
— Все хорошо, Иосиф Виссарионович, только не слишком ли много крови?
Сталин усмехнулся, подошел к Фриновскому, двумя пальцами толкнул в плечо, как будто отталкивая доброжелательно.
— Ничего, — говорит, — партия все возьмет на себя.
Фриновский, помните, я вам говорила, когда-то пытался за мной ухлестывать. Теперь он словно меня и не замечал, я его никак не интересовала. Они с Мироновым делали политику.
20.
Хотя Улан-Батор и был тогда просто большим кочевническим стойбищем, где в основном были юрты, но жалкие лавчонки его ломились от товаров. Английские, американские ткани, вязаные кофточки — чего только не продавалось! Там была свободная торговля. И Советы массу товаров забрасывали. Наши туфли, например, там можно было купить за полцены.
А шоколад! Мы им объелись в первые же дни. Когда женщины приходили ко мне в гости, они говорили сразу: «Ты только не ставь нам шоколада, мы его видеть не можем. Мы заметили, что каждый раз та же ваза берется у тебя с буфета и ставится на стол!»
Ну, конечно, раз никто не притрагивался к ее содержимому, та самая и ставилась.
Мне как жене посла положено было получать к каждому приему двести тугриков. Я, бывало, Миронову:
— Сережа, скажи секретарю, чтобы выдал мне деньги на платье.
— Но ведь у тебя все есть!
— Ты что, не читал инструкцию? К каждому приему нужен новый туалет.
Секретарь тотчас:
— Агнесса Ивановна, распишитесь, вот деньги на туалет.
Какие там были чудесные материи! Нашлась и портниха, которая хорошо шила. К октябрьским праздникам она сшила мне голубое с белым платье, рукава буфами переходили в стоячий «а ля Мария Стюарт» воротник. Уж такого платья никогда ни у кого не было! Забыть не могу.
Я отправляла посылки своим через дипкурьера, который ездил в Москву. В большой ящик укладывали на дно деньги, затем ткани, затем шоколад. В одну плитку «Миньона» я заложила часы для Бори и послала письмо: «Боря, плиток шоколада никому не давай, пока не пересмотришь все».
Все это зашивалось в яркую ткань, которая в Монголии шла на широкие мужские пояса. Дипкурьер привозил в Москву, срывал ткань, а ящик с надписанным адресом посылал обычным порядком по почте. Все всегда доходило.
После первой посылки я получила из Ростова такое письмо:
«От тебя долго не было известий, и мы волновались, не знали, что думать…» Ясно, о чем могли они думать, я же говорила Лене, что, может быть, отсылают, чтобы арестовать. «…и вдруг такая от тебя посылка. Она пришла поздно вечером, мы вскрыли и до утра не спали, вытаскивали вещи, одна другой удивительнее. Боря все шоколадки перещупал, нашел золотые часы, а на дне деньги…»
Не помню уже сейчас, сколько я им тогда тысяч переслала…
Я потом думала, что вот потому, что мы не взяли с собой маму, наша поездка в Монголию чуть не кончилась трагически. Всегда прежде все наши поездки с мамой были благословенны, мама была как добрый ангел для нас. А тут маму не взяли, и Агуля заболела страшной какой-то, свирепой формой скарлатины. Конечно, я сама виновата: не захотела в Новосибирске сделать Агуле прививку.
Чрезвычайная миссия Миронова в Монголии закончилась. Его отозвали в Москву, а мы поехать с ним не смогли — Агуля была при смерти. Миронов же не мог задержаться, и я осталась одна с умирающим ребенком.
Взгляд извне. Агуля:
В Монголии меня отдали в детский сад для русских детей. Помню, мне там было тошно, есть было противно, а меня заставляли сидеть за столом, пока не съем. Меня тошнило. Это, возможно, начиналась моя болезнь. Я заболела скарлатиной, а потом были какие-то страшные осложнения. Вы видите — вот тут на руке у меня следы? Это не оспа, нет. Это следы вливаний, которые мне делали, которыми меня спасли. У меня отнялись руки и ноги, я была как парализованная. Мама двое суток сидела надо мной и держала синие лампы над моими руками и ногами. Только на вторые сутки стали возвращаться движения — помню, пошевельнула пальцем.
21.
В ту первую, самую страшную ночь, когда Агуля умирала, я сидела у ее постели с лампами и молила Бога: «Если она будет жить, если она поправится, то я…» И я дала обет. До того я пренебрегала родней мужа. Я своим слала посылку за посылкой, а им — ни одной. А у него был брат в Ростове — хлюпик и неудачник, и у него жена и дети. И вот я дала обет, что и им стану помогать.
Конев созвал всех армейских врачей, но этим не ограничился — вызвал из Новосибирска профессора по детским болезням, и тот срочно прилетел на самолете. Он и спас Агулю. Я всегда буду благодарна Ивану Степановичу за это.
Как только Агуле полегчало, я выслала брату Миронова в Ростов посылку. Потом мне жена этого брата Надя рассказывала: узнав, что пришла посылка, сбежались все соседи, а когда увидели, что в ней, стали говорить Наде: «Когда Агнесса приедет, за такую посылку ты должна ей поклониться до земли».
Про этого брата Мироши я еще расскажу позже, а теперь продолжу про Агулину болезнь. Ей надо было сделать рентген. Я запротестовала категорически: не дам везти никуда! Начальник санчасти меня успокоил: «И не надо, мы привезем рентгеновскую установку к вам домой».
И правда. Привезли в огромной машине, внесли, техник налаживает, а врач-рентгенолог остановился в дверях как вкопанный, язык у него от смущения отнялся — к такой гранд-даме попал!
Еще раньше мне начальник санчасти назвал его фамилию, она мне показалась знакомой, я и говорю — узнайте, пожалуйста, не был ли он в Майкопе? Ответ: да, был. И вот когда он так в дверях остановился, я сразу ухватила семейное сходство — в той семье наших майкопских соседей все были похожи друг на друга. Я и спрашиваю:
— Мне сказали, вы из Майкопа. А вы семью Аргиропуло не помните?
Он еще сильнее смутился.
— Помню…
— Там были две сестры и брат, помните?
— Так вы Лена или Агнесса?
— Агнесса.
Сделал снимок, от смущения так и не отошел. Проявил у нас, а я тем временем вспомнила все подробности. Его родители были торговцы, богатые, имели магазин. Он был еще сопливый мальчишка лет десяти, а мы с подругами (Лена уже к нам не снисходила) — старше его на несколько лет, и хотя почти барышни, а с увлечением играли в какую-то фантастическую игру, и по ходу этой игры нам понадобилась собака-ищейка. Увидели — стоит мальчишка и с завистью на нас смотрит. «Будешь с нами играть?» — спрашиваем. «Буду!» — «Только нам нужна собака-ищейка, выловить страшных преступников…» Он тотчас стал на четвереньки и начал азартно гавкать.
Но не из-за этого, конечно, он так смутился, а потому, что я, майкопская, знала, что у его отца был магазин и что старший его брат стал жуликом, — весь Майкоп об этом знал.
Вечером я пригласила их с женой на ужин, расфуфырилась. Как же мне было не блеснуть перед своими, майкопскими! И ужин подан был с царским блеском. Теперь думаю — напрасно я им пыль в глаза пускала, они и так почти речь потеряли от смущения. А тут я еще спросила про брата (жулика этого), и доктор мой сразу как палку проглотил.
— Нет, — говорит, — никакого такого брата у меня не было, это ошибка.
Хорошо хоть про магазин я не напомнила! Мне теперь ясно, что он не очень-то в восторге был от нашей встречи. Вероятно, как на иголках провел весь вечер — не напомню ли я про магазин.
С Коневыми мы в Монголии дружили, бывали друг у друга в гостях. Когда они пришли к нам в первый раз, жена Ивана Степановича — большая, крупная, толстая, очень черно насурьмленные брови — все поучала нашу прачку, как именно надо стирать, рассказывала, что надо заранее замачивать белье, давать ему «откиснуть». Сразу видно было — мастер она этого дела, не раз самой приходилось. Мы с Мирошей подарили ей дамские золотые часы — их тогда еще трудно было достать, это была редкость…
Миронов из Москвы все время запрашивал, как мы там с Агулей, и давал знать о себе, но подробностей не сообщал, а только таинственно: приедешь — узнаешь. Как только Агулю стало можно везти, мы поспешили в Москву.
Взгляд извне. Агуля:
Обратно, помню, мы переезжали через какую-то границу. До Улан-Удэ ехали на машинах. Мы с мамой и Марией Николаевной в закрытой легковой. В Улан-Удэ нас ждал вагон, который прицепили к поезду. Мама везла из Монголии так много вещей, что весь «салон» доверху был ими завален.
22.
И вот приезжаем в Москву. Перрон Ярославского вокзала. Агуля увидела в окно Сережу, так и запрыгала: «Папа! Папа!» Он вошел в вагон, она тут же кинулась ему на шею — бледненькая, вся прозрачная после болезни.
У Мироши чудесные были глаза — светло-карие, большие, выразительные, я многое научилась по ним читать. И тут встретилась с ним взглядом, вижу: он счастлив, и не только встречей с нами… Я горю нетерпением узнать, но он — ни слова, улыбается таинственно. Вижу только, что он не в форме НКВД, а в прекрасном заграничном коверкотовом пальто.
Хлопоты о вещах, как выгружать, как доставить, все это нас не касается, для этого есть «подхалимы»… А мы выходим из вокзала, нас ждет большая роскошная машина, садимся в нее и — по московским улицам. После Улан-Батора, как в кипучий котел попали. И вот уже проехали Мясницкую (тогда уже называлась улицей Кирова), и площадь Дзержинского, и площадь Свердлова, я жду — свернем к гостинице. Ничуть нет! В Охотный ряд, на Моховую, мимо университета, Манежной… Ничего не понимаю! Большой Каменный мост… Куда же мы?
И вот мы въезжаем во двор Дома правительства. А там лифт на седьмой этаж, чудесная квартира из шести комнат — какая обстановка! Свежие цветы, свежие фрукты! Я смотрю на Миронова, он смеется, рад, что сюрприз преподнес, обнял меня, шепнул на ухо:
— Удивлена? Не удивляйся. Я теперь замнаркома иностранных дел по Дальнему Востоку[7]. Начальник второго отдела Наркоминдела. Да ты внимательно посмотри!..
Смотрю — на груди орден Ленина. А глаза блестят, я хорошо знала этот блеск успеха.
Так страшные качели еще раз вознесли Мирошу.
Кажется, в тот день мы с ним были приглашены в Большой театр на какое-то торжественное заседание…
Вы, наверное, никогда не видели Ежова близко? А я видела. Небольшой, щуплый, на лице с одной стороны крест-накрест шрамы. Ничтожество безликое. Жена его, говорят, была приличная женщина. Эренбург пишет, что Бабель, который с ней когда-то учился, приходил к ней в гости, чтобы понять, что это за таинственное могущество у этого карлика, приходил, дразня судьбу, пока сам не забился в паутине.
А могущество было дутое, но сам-то Ежов думал — истинное, и так раздулся, что его (нам рассказывали) все члены ЦК, члены Политбюро боялись. Звонит, например, секретарь Молотова, чтобы договориться о встрече, а Ежов ему высокомерно:
— Что это вы звоните? Если ему нужно, пусть звонит сам. Или приходит.
И шли. На поклон. Заискивали.
В тот вечер в Большом театре на сцену, помню, выскочил Микоян, маленький, юркий, во френче, в сапогах — они все одевались «под Сталина». Каганович даже усы отпустил такие, чтобы походить на него. Выскочил Микоян и давай восхвалять сидящего здесь же в президиуме «стального наркома», «талантливого сталинского ученика», «ежовые рукавицы», «любимца советского народа, который зорко хранит безопасность», «у которого всем чекистам надо учиться», и т. д., и т. д. Когда он закончил, что тут поднялось! Аплодисменты, овация, прямо воют все от восторга, какое-то безумие всех охватило. Ну и мы с Мирошей ладоши отхлопываем — а что делать? Еще на заметку возьмут, что нерадиво хлопали!
Такая в Москве была обстановка…
Но меня тотчас умчал другой поток: найти портниху, готовить туалеты. Ведь это тебе не Монголия, не Чойбалсан с его халатами! Приемы в особняке Литвинова для послов всех стран! Мне нельзя было ударить лицом в грязь.
Срочно, срочно обзвонила всех знакомых, нашла наконец портниху. Тут уж Мироша ничего не говорил, что мне надо поскромней одеваться, тут уж он мне разрешил «развернуться»!
Я помню, когда-то видела одну белогвардейскую эмигрантскую газету, а там фотография Литвинова с женой за границей, она вся в бриллиантах. Корреспондент пишет иронически: «Надо ли было делать революцию?»[8]
А она, Литвинова, была права. Ей надо было высоко себя держать, чтобы не вызвать насмешек за границей.
И вот прием в особняке Литвинова, и мы с Мирошей приглашены. На мне — вечернее парчовое платье, в талии затянуто, шея, плечи открыты, шлейф. Туфельки с золотым плетением, прическа высоко взбита. Меня одевают дома, затягивают, помогают — Мария Николаевна, еще одна прислужница и мама. Одели и глазам не верят, ахают восхищенно. Мама:
— Ну ты там будешь лучше всех!
А я шлейф приподняла, прошлась, нос кверху. Миронов удивляется, говорит маме:
— Вы только посмотрите, как она держится! И откуда это у нее такие навыки? Можно подумать, что родилась герцогиней!
— А она еще с детства все перед зеркалом вертелась, — говорит мама, — приделает хвост из тряпки и репетирует, как сюда стать, как туда, чтобы на «шлейф» не наступить.
— Ничего подобного, Мироша, — возражаю я, — это у меня врожденное. Я же и есть герцогиня! Ты что, до сих пор не знаешь?
Он в восторге:
— Ну белогвардейка! Как я только на тебе женился!
Приходим на прием. Все залито светом. Какие дамы! Какие наряды! Молодые декольтированы, как и я. Ожерелья, кольца, золото. Но и пожилые хороши. Одной лет пятьдесят. Красное платье, красная роза в волосах, на щеках два красных пятна — была мода румяниться.
Очень интересна была жена посла США — в черном платье, прозрачном сверху, волосы на прямой пробор. Муж тоже в черном, только аксельбанты с золотом — просто, красиво. А другие — в блестящих ливреях. Японцы с согнутой рукой, на ней — каска.
Жена Литвинова не жила тогда с ним, приемы вела его воспитанница. В зеленом платье, рыжеватая, хорошенькая, надменная.
Подошли к Литвинову, я поймала на себе его взгляд. Одобрение. Оценил меня.
А тут японец один, вредный такой, глаз с меня не спускал, как-то рядом очутился и — нарочно, видно, — наступил мне на шлейф. Но не зря я тренировалась в детстве (словно ждала, предчувствовала, что взлечу), я его чуть оттолкнула локтем и ловко, легко выдернула шлейф, обдала презрительным взглядом, а он осклабился — зубастая такая улыбка, неискренняя.
Мама сказала: «Ты будешь лучше всех». Не мне, конечно, судить, только знаю — все меня заметили, незамеченной не прошла. И я, и Миронов. Он во фраке был очень красив со своей великолепной волнистой шевелюрой (уже сильно серебрилась проседь). И вот передали мне потом, что многие на этом приеме спрашивали: «Из какой страны этот новый посол с женой?» — так мы были с Мирошей импозантны.
Шли аресты. Конечно, мы об этом знали. В нашем Доме правительства ночи не проходило, чтобы кого-то не увезли. Ночами «воронки» так и шастали. Но страх, который так остро подступил к нам в Новосибирске, тут словно дал нам передышку. Не то чтобы исчез совсем, но — ослаб, отошел. Может быть, потому, что Ежов и Фриновский были в силе и их ставленников аресты пока не касались.
Уж очень нам хорошо жилось! Мироше нравились его новые обязанности. Теперь иной раз и расскажет какой-нибудь курьезный эпизод из своих служебных дел — о «япошках», «китаезах» и прочих, с которыми ему приходилось иметь дело. Сережа часто бывал весел, много времени проводил с семьей, вечно в гостях у нас были дети, он выдумывал для них всякие развлечения, дурачился, шутил, баловал их нещадно.
Как-то Сережа заявил:
— Сегодня женский день, я все буду делать сам, а женщины пусть отдыхают.
И стал накрывать на стол, и нарочно все путает, а маленькая Агуля в восторге вокруг него носится, прямо захлебывается от смеха:
— Папа, не так! Папа, не так!
Иной раз, когда на праздники надо было надевать все ордена (а их было много, был даже монгольский орден от Чойбалсана), Мироша их доставал, любовался, гордился ими, шутил самодовольно:
— Ну вот, вы с Агулей теперь навек обеспечены. Я денег за эти ордена с книжки не беру, они для вас скапливаются.
Вспоминается мне это время, как мирное и хорошее, как какая-то остановка, передышка.
Были и неприятности. Звонят вдруг из милиции:
— Товарищ Миронов? Тут у нас ваш брат…
Тот самый брат, помните, семье которого я по обету посылку посылала. Теперь он, конечно, за нами следом в Москву притащился. Он как тень был Мирошина, проклятая тень — куда Мироша, туда и он. Пил запойно, приходил, плакал, бил себя в грудь, клялся, что больше не будет, просил устроить на работу. Мироша скрепя сердце устраивал его куда-нибудь к себе в подчиненные. А тот компрометировал его — опять, бывало, напьется так, что на человека не похож.
Или такие штучки откалывал. В Бердянске летом, помните, я рассказывала — мы там отдыхали, когда на Украине был голод? Я еще рассказывала, что там был специальный санаторий, из которого нам носили чудные обеды, а на третье прямо целиком мороженицу с мороженым. Я туда всех своих брала, чтобы подкормить их. А вот Надя, жена брата Миронова, а она вышла за этого пьянчужку только потому, что он Миронову был брат, эта Надя — она была маленькая, некрасивая, носик кнопочкой, похожа на узбечку — вот она и звонит в Бердянск с претензией: скоро ли, мол, Лена уедет? Это они сами приехать хотели.
Лена уезжает, они являются. Едят, пьют, брат Мироши, конечно, пьянствует, но вот день отъезда, он протрезвел, звонит директору санатория:
— Пожалуйста, к нашему отъезду приготовьте нам полтора пуда топленого масла.
— Кто говорит?
— Миронов. — И голос подделывает. Они и думают, что сам. Вот и несут масло в запечатанных банках.
Я не хотела Миронову говорить, не хотела разводить ссору, а когда затем сказала как-то, Миронов возмутился:
— Вот сукин сын!
Брат был на него внешне похож, тоже красивый, было в нем обаяние, милое, располагающее лицо. Надя ему во всем потворствовала. Когда напьется, она его запирала дома, чтобы не выходил, а у него такие запои бывали, что чуть не до смерти.
Вызывали врача…
И вот в то время в Москве — вы только представьте себе, когда арестовывают ни за что, — брат этот напился где-то не дома и повел антисоветские разговоры… Тут же донесли, схватили его, но не органы, а, слава Богу, милиция. А он там выпендривается:
— Как вы меня брать смеете? Да знаете ли вы, кто мой брат?! Он вас в порошок сотрет.
Вот они и позвонили — удостовериться.
Сережа взорвался, но тотчас в руки себя взял и поехал. Уж чего это ему стоило, каких нервов — не знаю, но дело как-то уладилось.
А я рассердилась — звоню Наде:
— Ты знаешь, что твой муж вытворяет? Что он болтает? Почему ты его не удерживаешь? Почему ты его дома не заперла? Ты его запирать должна, когда он пьян.
А она грубо:
— Заботься о своем муже!
— Я-то о своем муже беспокоюсь, а ты о своем, вижу, и не думаешь! — И повесила трубку.
Вот так-то она мне за посылку до земли поклонилась.
Еще Каруцкий с Абрашкой, помните, я вам рассказывала, — Каруцкий был Мирошиным начальником в Алма-Ате? Ягода перевел Каруцкого в Москву. Абрашка за ним сюда же. И опять, как в Алма-Ате, повадился этот Абрашка ко мне ходить днем, когда Мироши нет. Всякие сплетни рассказывал, например, что Сталин женился на младшей сестре Кагановича — Розе, иногда даже какие-то подарки приносил.
Я не скрывала от Мироши его визитов, а Мироша вдруг страшно стал ревновать. К уроду, к карлику! Мироша доказывал, что некоторые женщины имеют извращенный вкус, вот и нравятся им уроды. «Человек, который смеется» ему вспомнился.
Раз мы страшно поссорились…
А Каруцкий работал в наркомате на оперативной работе, пил в мертвую. Однажды после попойки с друзьями застрелился. Думаю, ждал, что не сегодня-завтра его возьмут, не выдержал ожидания…
А я, я жила, как зажмурившись. Нам было хорошо, мнилось, так и будет — мы попали на удачливый, безопасный остров. Все падают, а мы вознеслись.
23.
Как раз в это время вернулся из-за границы Алтер — Михаил Давыдович Король, двоюродный брат Мироши. Алтер — одно из имен, которое ему дали при рождении. Оно означает «старший». Он был старшим среди своих братьев и сестер, и в семье его часто так звали. Женат он был на своей двоюродной сестре Фене, родной сестре Мироши. Она была красавица, настоящая Юдифь. У них росли две дочери. Младшая, Майя, тоже красавица, вылитая мать (ей тогда было пятнадцать лет), и старшая, Бруша, восемнадцати лет, не красавица, но в лице такая «милость» (от слова «милый»), такая доброта, что невозможно было не потянуться к ней всем сердцем. У нее был удивительно мягкий характер, тонкий теплый юмор — описать трудно, ее надо знать. Вот такие две чудные девочки.
Все они были непрактичны, хозяйничать не умели. Феня работала экономистом в Госплане, пропадала на службе, девочки — на учебе и общественной работе. О вещах они не думали, Феня внушала дочкам, что думать о тряпках недостойно, что это мещанство. По характеру — настоящие, принципиальные «синие чулки», но очень милые, очень добрые.
Михаил Давыдович несколько лет прожил за границей — это была секретная командировка. Перед тем как обосноваться в США, он жил какое-то время в Европе, затем в Китае, Японии, чтобы «замести следы». Приехал он в США из Канады как еврей-коммерсант, поселился в Нью-Йорке. В США его заданием было основать фирму, доход с которой шел бы на финансирование американской компартии и на коммунистическую прессу. То есть послан он был не как шпин, а для пропаганды, агитации в пользу перемены строя.
Всего их отправили пять человек. За границей они разбились на две группы: в одной три человека, в другой двое — Михаил Давыдович и Марк Павлович Шнейдерман.
В 1938 году их всех отозвали в Москву. Когда Михаил Давыдович возвращался, ему в Париже в посольстве один знакомый сказал: «Вы возвращаетесь домой? А вы знаете, что там делается?» И рассказал, какие идут аресты. «Постарайтесь здесь задержаться хотя бы на год», — посоветовал он. Михаил Давыдович поверил, но побоялся, что в случае его задержки расправятся с семьей, да и его достанут где угодно.
И он вернулся.
Вернулся и сразу окунулся в этот ужас арестов. «Тройку», которая отделилась от них с Шнейдерманом, арестовали тотчас по возвращении, еще до приезда Михаила Давыдовича. Не успели они с Марком приехать, как того арестовали тоже. Михаил Давыдович пока еще был на свободе, но партбилет у него отобрали, работы не давали, он нервничал без дела.
Мироша его любил, но сейчас, когда он только что вернулся из-за границы, поостерегался с ним видеться. Виделась одна я, без Мироши. Алтер с семьей жил на даче в Краскове, наша с Мирошей госдача находилась в Томилине. Я люблю ходить пешком и часто приходила к ним. Лето, тепло, я в крепдешиновом сарафанчике с открытой шеей и плечами, разве что накинешь фигарошку, когда идешь по поселку.
Феня встречала меня всегда приветливо, ласково. У нее был замечательный характер. Помню, когда Мироша меня «похитил» и мы с ним по пути в Алма-Ату были проездом в Москве, никто из Мирошиных родственников не захотел меня знать — они все возмущались, что Мироша бросил Густу, которую они знали с детства и любили. Не захотел и Михаил Давыдович, он говорил резко: «На чужом несчастье счастья не построишь». Тогда «признала» меня только одна Феня. Она приехала знакомиться со мной к нам в «Метрополь» в черном бархатном платье с белым пикейным воротничком, гладко причесанная, красивая, молодая, сияющая — само дружелюбие. Она меня тогда очаровала. Мы друг другу понравились, и это ее отношение ко мне сохранилось на всю жизнь. В Краскове она встречала меня как добрая подруга.
Михаил Давыдович изнывал дома. Нельзя сказать, чтоб он был внешне красив. Если Мироша был плотный, широкий, сильный, то о Михаиле Давыдовиче вернее сказать — полный. У него всегда выступало брюшко. У Мироши густая, буйная, волнистая шевелюра, а шевелюры Михаила Давыдовича я никогда не видела — он очень рано облысел. Глаза у обоих были замечательные, но совсем разные. У Мироши — прекрасные, «сводчатые», в опахалах густых ресниц; у Михаила Давыдовича — не столько красивые, сколько умные, выразительные, вдумчивые. Человек он был интересный, начитанный, много на свете повидавший, очень умный, с юмором. Вернулся он из поездки совсем американцем — привычки, поведение. Русские слова иногда терял (все предыдущие годы ни слова по-русски, он же разыгрывал роль). Много рассказывал интересного. Например, как он выучил английский язык по учебникам и с нашими преподавателями. А когда приехал в Америку, оказалось, что никто его не понимает. В первый же день вышел из гостиницы, заблудился, спрашивает, как пройти, а все смотрят на него и плечами пожимают. Наконец обратился к чистильщику сапог, тот тоже ничего не понял, но он был еврей и вдруг догадался, что Михаил Давыдович тоже еврей, и заговорил с ним по-еврейски. Тут они друг друга поняли. Чистильщик посоветовал ему говорить по-еврейски: кое-кто тогда его все-таки будет понимать.
Михаил Давыдович купил пластинки, патефон и в гостинице день за днем громко повторял тексты. Гостиница была дешевая, через стены все слышно, живущие рядом жильцы слушали день, слушали два, потом решили, что сосед у них умалишенный, и вызвали психиатра. Ну ему Михаил Давыдович объяснил, что он — немецкий еврей, учился только по учебникам, а сейчас одолевает произношение.
Освоив язык, он основал коммерческую фирму. Но тогда этого он при мне не рассказывал…
Ему было тягостно сидеть без дела. Феня работала, зарабатывала. У них была домработница Мария Александровна, мордовка, из раскулаченных, очень им преданная, но грубая. Она души не чаяла в Фене, а когда Михаил Давыдович приехал и стал околачиваться дома без работы, она его расценила, вероятно, как паразита, который по своей охоте сел на шею ее любимой хозяйке, и стала глубоко презирать. Копилось-копилось в ней раздражение против Михаила Давыдовича и вдруг вылилось.
Как-то было мясо на обед. Мария Александровна подавала к столу — Фене, мне, девочкам, а Михаилу Давыдовичу (она ему всегда последнему подавала) — один гарнир. Он воскликнул шутливо:
— А мне мяса не дали! — Думал, она ошиблась.
А Мария Александровна как отрежет, да так резко:
— Кто не работает, тот не ест!
Михаил Давыдович взглянул на нее сперва в недоумении, но тут же до него дошел смысл, он покраснел, встал и вышел из комнаты.
Феня — сама доброта, а тут Марии Александровне:
— С завтрашнего дня вы у нас больше не работаете! — И выскочила за Михаилом Давыдовичем.
Мария Александровна потом просила, плакала, и Феня сжалилась.
Так Мария Александровна ударила его по больному месту.
Я уже говорила, что Мироша избегал к ним ходить. Встретились они с Михаилом Давыдовичем как-то у родственников… Ну тут посторонних глаз не было, пошел задушевный разговор. Отсели от всех. Мироша спрашивал, интересовался, Алтер отвечал, а потом и Алтер стал спрашивать.
У Алтера было всегда свое собственное мнение. И смотрел он прямо в глубь вещей, безо всяких лицемерных прикрас.
Что Мироша отвечал ему, не помню, помню только, что Алтер вдруг сказал ему, прямо глядя в глаза, резко осуждая его, как когда-то за картежную игру:
— У тебя, наверное, руки по локоть в крови. Как ты жить можешь? Теперь у тебя остается только один выход — покончить с собой.
— Я сталинский пес, — усмехнулся Мироша, — и мне иного пути нет!
И верно. Я вам говорила уже, когда рассказывала о Новосибирске, что Сережа, если бы даже и захотел, уже не мог бы вырваться из машины, он ее вынужден был крутить… Правда, тут, в Москве появилась иллюзия, что из той машины Сережа вырвался.
А я… Я до поры была беспечна, мне очень нравилась наша «дипломатическая» жизнь. А тут еще Сережа намекнул мне как-то, что его могут направить послом, но уже не в Монголию, а повыше. Максим Максимович Литвинов к нему очень хорошо относился…
Тогда Сереже и рассказали про Марка Шнейдермана. Я уже говорила, что его арестовали тотчас после возвращения из-за границы.
И вот через какое-то время прибегает к нам Михаил Давыдович. Это было необычно: понимая, что Мироша остерегается с ним встречаться, он обычно себе этого не позволял…
Но тут:
— Знаете, Марка освободили!
Тем самым посветлело и над его головой. Сережа — никаких комментариев.
Мы тут же собрались — Мироша снял с себя запрет — и поехали к Королям. Михаил Давыдович вызвал по телефону Шнейдермана и его жену — Веру Васильевну, и мы очень весело отметили это событие.
Уже много лет спустя Михаил Давыдович говорил мне:
— А знаешь, это Мирошиных рук дело, что Марка освободили.
Я думаю, он прав. Мироша мне тогда, помню, рассказывал:
— Меня вызывали на Лубянку, спрашивали о Шнейдермане.
— И что же?
— Попросили дать характеристику.
Я теперь думаю, что Мироша сказал мне не всю правду. Это не его вызывали, а он сам пошел, используя свои большие связи.
И еще мне кажется, то, что Алтера не арестовали, когда брали всех, кто хоть какую-то связь с заграницей имел, — тут тоже распространилась над ним Мирошина защита.
Может быть, конечно, это было в его, Мирошиных, интересах. Ему нежелательно было иметь арестованного родственника, а раз Марка взяли, значит, могли взять и Алтера, и Мироша нажал на все свои связи, чтобы Марка освободили, а Алтера не тронули.
Михаил Давыдович был очень начитан, много видел, знал, думал, любил пофилософствовать. Помню, Мироша пришел после какого-то совещания — не то в Кремле, не то в Колонном зале — и стал рассказывать о выступлении Крупской, что-то она о педагогике говорила. Мироша отозвался с пренебрежением — очевидно, отражая общее тогда к ней отношение: мол, жена Ленина, только потому и приходится ее слушать.
Михаил Давыдович горячо за нее вступился, он понимал ее приниженное положение, понимал, что она не смеет пикнуть, иначе не уцелеет («гениальнейший» ведь и с историей расправлялся; говорят, он пригрозил Крупской: если будешь рыпаться, то вдовой Ленина сделаем Инессу Арманд или Фотиеву!). И он стал доказывать Мироше, что целый ряд ленинских положений и установок — ленинских и марксистских — у нас теперь негласно отброшены.
Алтер ставил Ленина очень высоко, а это в те времена, знаете, было небезопасно, откровенно об этом говорить было нельзя, чтобы не подумали, что противопоставляешь Сталину.
Такие вот случались между ними разговоры, но, конечно, за порог дома это не выходило.
24.
Нас пригласили на дачу Фриновского на день рождения его жены Нины. Приглашен был и Чойбалсан, он тогда как раз приехал в Москву. С Чойбалсаном, кажется, хотели заключить какой-то договор, который обсуждали с ним в Наркомате иностранных дел.
На этом заседании присутствовал Миронов — как заместитель наркома по дальневосточным делам.
Сережа вернулся оттуда очень взволнованный, курил, думал. Что-то там на этом заседании произошло. Когда Агуля легла спать, он стал мне рассказывать. Сперва мне показалось, что все хорошо. Сталин несколько раз обращался лично к Мироше, спрашивал его мнение, как бывавшего в Монголии, знатока страны, даже явно выделил его. Это не могло оставить Сережу равнодушным при его-то честолюбии. Но было на этом заседании и что-то странное, удручающее. Сталин обращался ко всем — и к Чойбалсану, и к Сереже, и к Молотову, и ко всем другим, кто там присутствовал, кроме… Литвинова. Литвинов, нарком, тут же сидит, все слышит, а ему Сталин — ни слова, как будто его и не существует. В его сторону ни разу не взглянул, обходит взглядом, как пустое место, даже в тех вопросах, где его, Литвинова, в первую очередь и надо бы спросить. Демонстративно его шельмует.
Литвинов сидит бледный, но с виду спокоен. Бесподобная у него была выдержка.
Сережа сказал мне тогда, что, вероятно, недолго еще Литвинов продержится, раз так откровенно Сталин выказывает ему свое пренебрежение. А если Литвинова снимут, то могут быть в наркомате большие перемены… Я поняла, что он думал: а удержусь ли тогда и я там? что будет? паду? а может быть, может быть… вознесусь еще выше?
В общем, он был под хмельком успеха, но вместе с тем очень встревожен.
Вот вскоре после этого мы и поехали на дачу к Фриновскому. Фриновский недавно вернулся с Дальнего Востока, куда они ездили с Мехлисом «прочищать» Особую Дальневосточную. Целый поезд с ними был специальных войск. И не только армию «прочищать», — Фриновский ликвидировал и всех начальников НКВД на Востоке. Помню, Мироша сказал: хорошо, мол, что я сейчас не там, — и со мной Фриновский расправился бы. И тут же добавил:
— Только один спасся.
— Спасся? — удивилась я.
— Удрал в Японию. Люшков.
Я ушам своим не поверила. «Спасся!» И это говорит Мироша с его партийной преданностью!
Дача Фриновского — бывший помещичий дом с колоннами. Нижняя терраса открытая, перед колоннами вся уставлена корзинами живых цветов, среди них там и сям шезлонги. За ней — застекленная веранда, там нам подали потом роскошный обед.
Мы приехали раньше других гостей. Нина еще хлопотала по хозяйству. Нас принял Фриновский. Такой стал вельможный барин — не узнать! Жестом радушного хозяина предложил нам расположиться в шезлонгах.
Тотчас возник разговор о приеме Чойбалсана в Наркоминделе. Фриновский выспрашивал, все уточнял детали, зачем-то это ему было нужно. Как вел себя Сталин, что сказал, как держал себя с Чойбалсаном, с другими…
— Ну что Литвинов, — сказал он наконец Миронову. — Ты что, разве не знаешь, что Сталин его не любит?
И усмехнулся:
— Давно бы арестовали, если бы не господа капиталисты. Пока нельзя.
Я поняла — популярность Литвинова за границей! Значит, только этим Литвинов и держится.
Но зловещее это было «пока».
Потом перешли на дальневосточные дела. Фриновский подробно рассказал Миронову, как бежал Люшков, — он лично расследовал это дело. Я слышала этот рассказ и перескажу его вам.
Люшков был начальником отдела НКВД Дальневосточного края, ему подчинялись и погранвойска, и наша разведка. Когда слухи, что Фриновский громит Особую Дальневосточную армию дошли до него, он не стал дожидаться, пока его арестуют. Фриновский Люшкова не любил как соперника — оба они были друзья Ежова. Люшков, ягодинец, только потому и уцелел, когда уничтожали ягодинцев.
В рассказе Фриновского звучала хищническая эта досада — эх, а этого не схватили, не успели, ускользнул, мол, подлец!
Фриновский рассказал о подробностях побега.
Своим подчиненным чекистам Люшков сказал, что должен лично встретиться на маньчжурской границе с нашим резидентом в Японии. Поздно вечером сел в машину с шофером и двумя чекистами, приехали на самую границу. Там пограничники ничего не спрашивали — начальство, мол, знает, что делает. Люшков наказал сопровождавшим ждать его тут, на заставе. А сам ушел пешком в степь, в кусты, на ничейную полосу.
Ждут они его час, два, три — нету. Светает. Они забеспокоились, посовещались, осторожно пошли на розыски. Долго искали и вдруг обнаружили — спит в ложбине под кустом.
— Мы думали, — говорят, — что вас убили!
А он:
— Нехорошо получилось. Я, очевидно, ждал, ждал его и сам не заметил, как заснул…
А он, Люшков, как теперь ясно, просто впотьмах заблудился, а что спит, — прикидывался, наверное.
На другой день он опять говорит своим: «Поедем, у меня было назначено с ним два дня для встречи. Вчера он не пришел, может быть, сегодня придет. Я приму возбуждающее лекарство, чтобы не уснуть».
И опять ушел. Они опять его ждали, ждали, опять кинулись искать, но на этот раз не нашли, а уже днем иностранное радио передало, что крупный работник, бывший заместитель начальника секретного политического отдела НКВД — Люшков — перешел маньчжурскую границу и попросил политического убежища в Японии.
Сенсация! Пресс-конференция. Один английский корреспондент спросил с презрением:
— Что заставило вас предать свою Родину?
А Люшков ему:
— Убийства Сталина!
Конечно, это я сейчас так говорю, — Фриновский тогда так сказать не мог, да и я бы не сказала.
Жену Люшкова арестовали сразу…
Тут пришла Нина. В ней все еще сохранилось что-то от Парижа, но уже вульгарность ее природная через все проросла. Опять накрашена, как проститутка.
Повела меня показывать их сад, а сад у них был сказочный.
— А вон там дача Микояна, а там…
— А где дача Сталина?
Она сразу, как ножом обрезала:
— Не знаю.
— На ком он женился?
— Не знаю.
И даже губы поджала. И тотчас стала рассказывать, как она пыталась уговорить сына Микояна, как укоряла его за девушку, которая от него беременна. Они оба еще школьники, в одном классе. У него машина, и он эту девочку все катал на ней. Ну а потом оказалось — ребенок ожидается. Нина его укоряет, а он смеется, отказывается. «Это не я!» — говорит.
Очень, мол, избалованные у Микояна дети. Нина намеком подчеркивала, что у нее-то дети не такие.
Было у них с Фриновским два сына. Старший, Олег, семнадцати лет и младший трех лет. Нина меня повела в комнату малыша показать своего любимца. Перед входом меня заставили вымыть руки, надеть чистый халат. Комната, оказывается, была стерильная, чтобы мальчик никакой инфекции не подхватил.
Сестра Нины мне потом рассказывала, что она как-то приехала к Нине, очень спешила, в пальто заскочила наверх, в эту стерильную комнату, а Нина набросилась на нее: «Как ты смеешь?» Чуть ли не «пошла вон!» ей крикнула. Та обиделась и сразу уехала.
Когда спустя много лет сестра Нины мне это рассказывала, она только что получила письмо из тюрьмы от этого самого младшего Фриновского, которого когда-то держали в стерильной комнате. Недолго он в ней пробыл — выдернули, выкинули его из всей этой стерильности в жестокий мир. Он попал в детдом, бежал, сошелся с воровской шайкой, стал вором-профессионалом и тогда, когда мы с ней разговаривали, как раз сидел в тюрьме…
Ну а в тот день мы не очень задержались наверху. Приехал Чойбалсан. Одет по-европейски в костюм. Увидел меня — осклабился, поклонился…
Когда Мирошу не хотят реабилитировать, говорят еще вот что: там, в Монголии, был, мол, культ личности Чойбалсана. Может быть, и был, но при чем тут Сережа?
После роскошного обеда мы прошли в просмотровый кинозал, там стоял бильярд, за ним я увидела старшего сына Фриновских Олега. С ним играли два юноши армянского типа — сыновья Микояна (вот уж не знаю, был ли среди них «совратитель». У Микояна ведь было много детей).
И вдруг слышу шепот восхищения:
— Вася, Вася пришел!
Я оглянулась, на всех лицах — подобострастие. Кто же вызвал этот восторг, этот трепет? Смотрю — юноша в форме цвета хаки, бледный, волосы рыжеватые, лицо все в прыщах. Галифе, сияющие сапоги со шпорами. Видно, застенчивый. Все к нему: «Вася! Вася! Вася!» А он не знает, куда глаза девать от смущения — такое сразу к нему внимание всего общества.
Фриновский представляет его Чойбалсану, даже голос изменился, чуть не поет от удовольствия:
— А это Вася — сын Иосифа Виссарионовича!
Так вот оно что! Сразу все стало ясно.
Фриновский словно и про нас забыл. Позвал своего управляющего и ему:
— Вот завтра мы такие-то конюшни будем расформировывать, пожалуйста, проведите перед Василием Иосифовичем лошадей — пусть выберет по вкусу одну-две, каких захочет.
Вася даже покраснел от удовольствия.
Вскоре Фриновского перевели из НКВД в армию, точнее, во флот — сделали наркомом Военно-Морского Флота. Мироша завидовал.
Только одно было странно, и это Мирошу смущало, — почему заметка в газете была такая маленькая, скромненькая, вроде бы между делом тиснутая? Почему не напечатали крупно, жирно, во всю страницу, с приложением портрета, как оно в таких случаях и делалось? Раздавать славу и известность своим фаворитам Сталин обычно не скупился.
25.
Вы хоть немного имеете представление о том страшном времени? Помните, мы слышали с вами выступление генерала… Вот выскользнула фамилия! Он еще читал свои воспоминания о заседании ЦК вскоре после расстрела военных. Помните? Читал, как Ворошилов стоял на трибуне и бил себя кулаком в грудь и в лоб и повторял, все каялся, каялся: «Я дурак, я старый дурак! Не разглядел предателей, изменников!..» А тем временем комендант Кремля каждые несколько минут заходил в зал и уводил то одну группу, то другую — для ареста.
Мы с Мироновым тогда, правда, были в Монголии, но и тридцать восьмой год был не лучше. Помните, он начался с процесса Бухарина, Рыкова, Ягоды?.. Судили Запорожца, Медведя, «врачей-отравителей». Всех осудили. На собраниях выли: «Требуем смертной казни! Требуем расстрелять предателей!»
Говорят, Анна Ильинична, сестра Ленина, всю жизнь была влюблена в Бухарина и умерла через полтора месяца после его расстрела, не перенесла.
Мне Миронов говорил, что процесс над Бухариным и другими создали Фриновский и Заковский. В начале тридцать восьмого года Фриновский был в большом почете. Летом он уехал с Мехлисом на Дальний Восток, я уже говорила об этом.
Тотчас японцы, прознав про разгром Особой Дальневосточной армии, вторглись на нашу территорию в районе озера Хасан, но Блюхер сумел организовать оборону. Однако, когда японцев отбили, Блюхера вызвали в Москву и здесь уже осенью арестовали.
Миронов с Блюхером был давно знаком. Я видела Блюхера вблизи. Сильное лицо, широкие челюсти, жесткие усы, седоватые волосы. Мы с ним и его третьей женой встретились как-то в театре. (Он женился три раза, в третий раз на молоденькой комсомолке, дочери известного тогда машиниста Кривоноса — хорошенькой, розовенькой, серьезной.) Миронов с Блюхером был на «ты», но тот жену свою не представил. А может быть, она просто была его любовницей?
С тех пор прошло несколько лет. Теперь Блюхера арестовали, но никакого суда над ним не было. Говорили, что его страшно мучали на допросах, вырвали ему глаз, что Ежов застрелил его в своем кабинете.
Когда Блюхер вошел, Ежов будто бы крикнул злорадно:
— Что, не удалось удрать в Японию на самолете брата? Ах ты шпионская морда, японский шпион!
А Блюхер ему в ответ:
— А ты кто? Откуда ты такой взялся?
Ежов, который уже занесся так высоко, воображал, наверное, что вершит судьбы всех и вся, выстрелил в него, говорят, в упор — и насмерть.
Нам казалось, что Ежов поднялся даже выше Сталина.
Но… еще за два-три года до того появилась статья о большевиках Закавказья, воспевающая заслуги Сталина. Подписана была именем, которое тогда в Москве еще никто не знал: «Л. Берия» (мы-то знали!).
Теперь это имя попадалось все чаще. Мироша сказал, что Сталин вызвал Берию с Кавказа и сделал его заместителем Ежова.
И стало происходить что-то странное. Ежов сидит у себя в кабинете, а все сотрудники, вот уж действительно крысы с тонущего корабля, его избегают, как зачумленного, никто к нему с докладом не идет, все дела несут его заместителю — Берии. Ежов еще занимает пост, он еще формально во главе и сидит в кабинете наркома, но все уже от него отхлынули.
Затем его назначили наркомом речного транспорта. Он, ничтожество, не мог понять, куда, как растерялась его власть, не мог примириться, сходил с ума, психовал… В Наркомате речного транспорта его тоже все чурались, избегали. Потом его и оттуда сняли. Впоследствии он был расстрелян, но не сразу.
В Наркоминделе шли аресты. Они бывали и прежде, но не такие. Пока Фриновский был в НКВД, Мироша чувствовал себя защищенным. Но Фриновский стал наркомом Военно-Морского Флота. Начали снимать ежовцев, как прежде снимали ягодинцев… Арест следовал за арестом. Сегодня Миронов работает с подчиненным, а завтра приходит — того уж нет. Арестован!
А послы! Сколько их тогда перехватали! В эти дни Мироша стал повторять, как навязчивую идею: «Нет, я ничего не понимаю! Я ничего не понимаю!»
Я уже говорила, что у нас в Доме правительства ночи не проходило, чтобы не приехал «воронок». Кого-то арестовывали, увозили, в его квартиру вселялся новый жилец, затем через какое-то время приезжали и за ним, арестовывали, увозили, и в квартиру въезжал следующий. Теперь снимали уже третий слой.
Взволнованные домработницы в ужасе прибегали на кухню к нашей Марии Николаевне:
— Тут у нас в доме работать опасно, сюда нельзя наниматься, еще и домработницу заберут!
Одна просто впала в истерику, не помню, чья это была домработница. Ей наговорили всякого, она собиралась брать расчет. Я сказала Миронову, он пошел на кухню, постарался ее образумить.
— Зачем, — говорил он, — вы верите сплетням? Никто вас не тронет. Идите спокойно работайте.
Но сам он уже спокоен не был. Страх, и не такой, как в Новосибирске, а удесятеренный против того, теперь отравил нашу жизнь.
Как-то, возвращаясь домой, Миронов вошел в лифт вместе со Шверником, и вдруг туда же вскочил незнакомый человек в белых бурках. И Миронов, и Шверник застыли… Что они пережили за ту минуту, пока лифт поднимался! Кому из них предъявить ордер на арест едет этот явный работник НКВД? На седьмой этаж к Миронову или на восьмой к Швернику?
Он сошел на шестом этаже, и только тогда они ощутили, что еще живы. Но лишь понимающе встретились глазами, не улыбнувшись друг другу. В такой ситуации тогда не улыбались.
Мой брат Павел работал в Сухуми, в Нефтесбыте, директором которого был единоутробный брат Берии — Кварцхелия. Пуха прислал мне письмо, что этот Квара… Квара… фу ты, быстро даже не выговоришь! — должен приехать в Москву.
«Приедет к тебе мой начальник, — писал Пуха, — ты его встреть, хорошо прими. Он лечиться будет, ему будут делать протез на культю».
Я тут же телеграмму: «Жду!»
Но время идет — никого нет. Мироша каждый день домой входит, первый вопрос: «Приехал?» Я: «Нет, не приехал».
И надежда падает. Ох, как мы надеялись на этого брата! Это бы значило благоволение Берии. Это значило бы доверие.
Но прошла неделя, две, Мироша говорит мне:
— Знаешь, я думаю, он совсем не приедет!
А я все понимаю. Понимаю, что это значит. Но все-таки еще на что-то надеюсь — может быть, задержался, заболел, раздумал ехать… Запрашиваю брата: «Почему твой начальник не приехал?»
А Павел, как топором ударил: «А он уже был в Москве и вернулся». Но тут же опять надежда — Пуха пишет, что «Квара» этот ему сказал: «А я у Лаврентия остановился, он за мной машину прислал, мы с Лаврентием в рестораны, к девочкам ходили, так я и не успел зайти». Может, и правда? Так весело ему с братом было, что он и в самом деле не успел зайти?
Но Миронов не обольщался. Он говорил мне: «Если меня арестуют, я застрелюсь».
Однажды ночью он вдруг вскочил с постели, выбежал в прихожую и быстро задвинул палкой дверь грузового лифта, который подавался прямо в квартиру, затем навесил на входную дверь цепочку, но этим не ограничился. Как невменяемый, схватил комод, притащил его и придвинул к дверям лифта.
— Сережа, — зашептала я, — зачем ты?
— Я не хочу, не хочу, чтобы они пришли оттуда и застали нас врасплох! — воскликнул он.
Я тотчас поняла: он хотел, чтобы был стук, или чтобы грохот комода или треск переломанной палки разбудили его, чтобы не ворвались, как когда-то к Шанину, спящему.
— Мне надо знать, надо… когда они придут!
И я опять поняла: чтобы успеть застрелиться.
— Ты что, Сережа?!
И вдруг он истерически разрыдался, закричал в отчаянии:
— Они и жен берут! И жен берут!
Я никогда еще не видела, чтобы Сережа плакал. Я ушам, глазам своим не поверила… И вдруг понимаю — настал момент, когда мне надо стать сильнее его, утешить, успокоить. Я обняла его, стала говорить, говорить… Ну даже если и арест, то, может быть, это не конец, ты еще можешь быть оправдан, отпущен, ты же ни в чем не виноват, и еще может быть жизнь какая-то, а если ты не выдержишь, возьмешь и застрелишься, то тут уже возврата нет, это уже будет навсегда, это уже и будет конец…
Я дала ему валерьянки, и после того, как мы несколько часов проговорили, он наконец заснул…
В ту ночь мы с ним условились о шифре. Если его и в самом деле арестуют и он сможет мне писать, то подпись в письме «целую крепко» будет означать, что все хорошо, если «целую» — то средне, а если «привет всем» или что-нибудь в этом роде, без «целую», то — плохо.
26.
Но хотя я и успокоила Мирошу отчасти, он ждал беды. То того, то другого из наркомата арестовывали, уводили. Каждый день появлялись новые люди, но и тех меняли, как в каком-то калейдоскопе. Мироша ждал своей очереди…
И вдруг перед самым Новым годом звонит мне по телефону, и слышу веселый голос, озорно так спрашивает, как в прежние времена:
— Ты уже приготовила себе туалет на Новый год?
Я ничего не понимаю, он никогда этим не интересовался, принимал все влюбленно и с восторгом, но чтоб заранее интересоваться — никогда.
— Да… — говорю, — вечернее платье… для встречи в наркомате…
— А мы туда не пойдем! — радостно, как мальчик, скачущий на одной ноге. — Мы на Новый год приглашены в Кремль.
И все. Я так и села. Я чуть не расплакалась сама — такие пуды свинца вдруг свалились с моих плеч! И так весело, легко все стало, все страхи сразу отпали, показались пустяковыми, смешными, а он продолжает:
— Мы только двое приглашены из наркомата: Максим Максимович и я.
Ого, думаю, и тут же вспомнила про ту встречу с Чойбалсаном. Значит, Сталин благоволит Сереже, он оценил его, выделил… Неужели успех, новый взлет, победа, а?
Так или нет, но мы воспрянули. Ясно ведь: опалы никакой нет, это только показалось, померещилось, а что этот безногий Бериев братец не зашел, так зачем ему мы? Ему девочки нужны, рестораны…
Мироша был счастлив: «Значит, мне доверяют».
Ах, какие это были страшные качели! Только что душа скована страхом, и вдруг взмах — и ты наверху, и ты можешь дышать, жить, думать о пустяках, о всякой всячине, как о серьезном деле (это вот самое лучшее, это значит — покой души, хорошо живется), а то, что тебя сейчас новым размахом бросит вниз, ты уже не думаешь. Говорят, Сталину это нравилось — прокатить на таких качелях. Но к Мироше это, может быть, и не относилось. То есть тут, конечно, не в Сталине было дело.
Мне надо было срочно готовить новый туалет. Для встречи Нового года в наркомате мне шили вечернее черное платье с шлейфом и красной розой на боку, но в Кремль так не пойдешь, там все партейные дамы, туда надо «синим чулком», в строгом костюме, Боже сохрани плечи, шею оголить! И вот 31 декабря 1938 года. Ночь на 1 января 1939-го. Поздно вечером мы едем в Кремль.
Большой двусветный зал Кремлевского дворца. Сейчас я вам нарисую план — как стояли столы, где была елка и где кто сидел.
Среди зала большая пышная елка, связанная из трех елей. Сталин в глубине зала за широким столом. Напротив Сталина за тем же столом — жена Молотова Жемчужина и другие партийные дамы, все в синих костюмах и платьях, только оттенки разные. Слуги обносили нас — один икру, другой осетрину, третий горячие шашлыки и еще что-то. Блюда были изысканны, разнообразны, преобладала острая кавказская кухня, но было и всякое другое. Столы уставлены винами.
Сталин любил такие ночные пиры, много ел и пил на них по-кавказски — жирную баранину, кислое вино. Врачей не слушал, когда те осмеливались говорить, что в его возрасте это вредно.
Мы сидели с Сережей за боковым столом слева; если смотреть на схему так, как я вам начертила, вот тут, у самой елки. Место наше — в середине зала и не очень далеко от Сталина — указывало на наше положение: тут тщательно соблюдали субординацию. Если нам определили такое место, значит, мы в фаворе. Здесь сидели достаточно приближенные к нему люди, те, к кому он в данный момент благоволил.
Мы все бросали взгляды в его сторону, на торец «интимного» его стола, где он пировал с друзьями. Напротив него, как я вам уже сказала, сидели дамы. Жемчужина — жена Молотова — любила создавать вокруг себя свиту из лебезящих перед ней мужчин, вела себя обычно вызывающе и развязно. Абрашка мне рассказывал, что она была так уверена в их с Вячеком прочном положении и неуязвимости, что, встречая какого-нибудь знакомого, спрашивала цинично: «А вас еще не арестовали?» Это она так шутила.
Но здесь-то, напротив Сталина, конечно, она и пикнуть не смела, сидела скромнее скромного, ну и одета, конечно, была соответственно.
Но расскажу, что случилось еще до того, как мы приступили к ужину. Вход был за елкой. Смотрите на схему: вот здесь дверь, и чтобы попасть к столу Сталина, надо было близко пройти от нас. Все только стали рассаживаться, когда в дверях показался Берия — небольшой, полный, лысина, лицо серое, нездоровое, одутловатое, золотое пенсне поблескивает. Я заметила его, слегка толкнула Сережу. И вот Берия поравнялся с елкой, вот идет мимо нас, и тут прямо перед собой он увидел Сережу. Меня как ударило, точнее — все во мне словно сжалось. Глаза наши встретились, но на лице Берии ничего не отразилось. Он индифферентно прошел мимо.
И все-таки это был роковой миг. Лицом к лицу Берия столкнулся с прежним товарищем убитого им Абуляна. Он не мог его не узнать!
Конечно, я могу утешить себя, если это называется «утешением», что, снимая людей Ежова и ставя всюду своих, Берия, возможно, въедливо просмотрел все списки кадров главных наркоматов и без этой встречи выяснил бы — а что это за Миронов, не тот ли, что когда-то работал на Кавказе?
И, однако, все-таки этой встрече, тому, что мы внезапно оказались лицом к лицу друг перед другом, я приписываю все, что случилось позже. Уж очень сразу оно произошло, как причина и следствие.
Но тогда мы долго не задержались на зловещем впечатлении. Лицо Берии ничего не выразило, а то, что Мироша единственный из наркомата (кроме наркома Литвинова) был приглашен в Кремль на ночной пир, перекрывало все тревоги. После этого новогоднего приглашения все страхи и опасения нас отпустили, и мы прожили прекрасные, безмятежные шесть дней, успокоившись полностью.
27.
Шестого января у Сережи был выходной (еще была шестидневная неделя).
Мы целый день провели с детьми — Агулей, Борей, кажется, и Лева был. Днем водили детей в Парк культуры. Там каток, горка, саночки, «чертово колесо», карусель — всякая всячина. Сережа резвился, развлекая детей, и дурачился вместе с ними, как маленький. Нарочно на коньках падал и «ковырялся» на льду (хотя катался хорошо) под восторг Агули, съезжал на маленьких санках с горки и переворачивался вместе с ними на бок.
Потом уже только с одной Агулей мы пошли к нашим друзьям Колесниковым, чтобы затем вечером вместе с ними идти в цирк.
Утром в тот день, убирая постель (я уборку постели горничной не доверяла, она всегда делала не так, наколки-накидки — все это она клала не по-моему), я вдруг обнаружила у Сережи под подушкой его именной маузер. Ох, подумала я, значит, он все-таки мысли своей не оставил! Еще и в самом деле застрелится! И я спрятала маузер в шкаф между своим бельем.
Колесников работал вместе с Мирошей в наркомате. У Сережи всегда на работе завязывались хорошие дружеские отношения.
Сережа любил покрасоваться и в тот день сказал мне: «Я думаю надеть к Колесниковым военную форму». Это был френч с орденами, в петлицах — ромбы. Как и всякому мужчине, ему очень шла военная форма. Он привык к ней и скучал без нее. В наркомате-то он ходил в штатском.
Жили Колесниковы у Покровских ворот, на седьмом этаже большого дома без лифта.
Было очень весело. Вдруг раздается телефонный звонок. Сережу. Он взял трубку, слушает. Вижу недоумение на лице:
— Но там уже все было договорено.
Но с той стороны, видно, настаивают. Сережа с еще большим недоумением:
— Хорошо. Еду.
Медленно положил трубку, стоит около телефона, смотрит на аппарат, думает.
Я к нему:
— Сережа, кто?
— Срочно вызывают в наркомат насчет рыболовной концессии с Японией, возникли какие-то неполадки… Я ничего не понимаю. Все было окончательно договорено…
И шепотом мне:
— Может быть, это арест?
До самого Нового года я пыталась разрушить этот его психоз-страх, я уже привыкла к этому. И тут отмахнулась весело:
— Да что ты, Мироша! Приезжай скорей, мы тебя подождем. Постарайся только не опоздать в цирк.
Он оделся, его тревога не рассеялась, попросил у Колесникова его машину, на ней же, мол, и вернется. Я вышла проводить его на лестницу.
— Ты мне позвони, как только приедешь в наркомат, хорошо?
Он обещал.
В этот день стоял мороз, но даже в мороз Сережа не носил кашне. У меня был хороший заграничный шерстяной шарф.
— Такой мороз, — сказала я, — а ты кашляешь. Возьми мой шарф.
Он вдруг согласился. Никогда в обычное время не согласился бы, а тут сразу взял. Посмотрел на шарф, нежно, осторожно его погладил и надел на шею. Я понимаю сейчас: это ведь была моя вещь, все, что, может быть, ему от меня останется.
Затем он несколько секунд помолчал, посмотрел мне в глаза, обнял, крепко-крепко поцеловал, легонько оттолкнул и быстро, не оглядываясь, стал спускаться вниз. А я стояла и смотрела, как его фигура мелькала то в одном пролете лестницы, то в другом, как он показывался на поворотах все ниже и ниже. Не оглянулся ни разу! А потом хлопнула выходная дверь, и все затихло…
Ох, не курю вообще, вы знаете, но сейчас я выкурю пахитоску… Это с антиникотиновым фильтром. Нет, нет, не беспокойтесь! Ну, конечно, взволновалась немного, очень тяжелые воспоминания, но лучше рассказать кому-нибудь, чем носить камнем в себе…
Я вернулась в квартиру. Там весело, дети играют, а я все мысленно с Мирошей… Немного времени прошло — телефонный звонок. Я обрадовалась — Мироша из наркомата! — схватила трубку, и вдруг незнакомый мужской голос:
— Позовите, пожалуйста, Миронова.
— А его нет.
— Где же он?
— Поехал в наркомат.
— Давно?
— Уже минут двадцать будет.
Я не отхожу от телефона, жду — Мироша позвонит, веселым голосом скажет, что сейчас приедет обратно за нами везти всех в цирк… И правда — звонок!
И опять тот же незнакомый голос, те же вопросы. И опять — когда уехал?
— Да теперь уже минут сорок прошло, — говорю.
Я вышла ко всем, разговор, то-се, а звонка от Миронова все нет. Вдруг звонок в дверь. Домработница открыла. Входит в гостиную человек в белых бурках (такие тогда носили в НКВД), извиняется, очень любезен.
— Простите, пожалуйста, меня за вторжение, мне нужен товарищ Миронов. Он здесь?
— А вы сами откуда? — спрашивает Колесников.
— Из Наркомата иностранных дел.
— Миронова здесь нет. Он уехал в наркомат.
— Давно?
— Да уже часа два.
— Простите, пожалуйста, что побеспокоил…
Вежлив до невозможности. Ушел.
Колесников спрашивает меня:
— Агнесса Ивановна, вы знаете этого человека?
— Нет.
— Я знаю всех, кто работает у нас в наркомате. Он не оттуда. Он из НКВД.
Я похолодела.
Но вот опять телефон.
— Агнесса Ивановна, вас.
Я на миг ожила — Мироша!
Но… Мария Николаевна.
— Агнесса Ивановна, пожалуйста, скорее, скорее приходите домой!
— Зачем? Что случилось?
— Ваша мама больна…
Но я уже все поняла.
— Неправда, — говорю. — Мария Николаевна, скажите правду, что случилось. У нас в квартире чужие люди, да?
Молчит. Слышу, как она шепотом спрашивает кого-то: «Сказать? Можно сказать? Сказать?» Вероятно, разрешили.
Она мне только одно слово:
— Да.
— Иду.
Колесников страшно расстроился:
— Я так переживаю, я так переживаю, я не могу (чего не может — неясно), я так взволнован, я…
— Успокойтесь, — говорю, — вы переживаете, а я нет. Я еду домой.
Вызвала Сережину машину по телефону. Машина пришла быстро. Агулька ничего не понимает, скачет, веселится, шалит, нарочно не в тот рукав руку сует…
— Мы едем в цирк, да? Папа ждет нас там, да?
Мы спустились. Шофер тоже весел, как ни в чем не бывало (еще не знает). Подъехали к Дому правительства, он говорит:
— Так завтра мне в девять за Сергеем Наумовичем приехать?
Я уклончиво:
— Он вам сам позвонит.
Но он в ответ охотно (все Мирошу любили):
— Я в девять приеду.
Входим в квартиру. Их там полно. Рожи фашистов. У одного, помню, нижняя челюсть выпячена, нагло так папироска на губе приклеена, того и гляди свалится. Ждут…
А я… я никогда не теряю присутствия духа. Спокойно снимаю в передней пальто, села на стул, снимаю боты. Агулька притихла, смотрит во все глаза на чужих. Я ей:
— Раздевайся, мы домой пришли.
— А в цирк?
— У нас теперь дома цирк.
— Но я хо-чу-у…
Мама мне навстречу на костылях, кровинки в лице нет, губы дрожат.
— Ага, что это? Что это за люди? Зачем?
— Не волнуйся, спокойно ложись спать. Мария Николаевна, уложите, пожалуйста, Агулю и помогите маме.
Мама на грани рыдания.
А они в нетерпении — обыск по закону должны делать при мне, есть такая формальность. Я села за стол, оперлась на локоть, не смотрю на них. А они все перерыли в первой комнате, все перевернули вверх дном и переходят во вторую, и я с ними должна идти.
Вдруг прибегает этот тип в белых бурках, который якобы из Наркоминдела, но куда делась вся его вежливость, вся любезность, влетел и давай на меня грубо кричать:
— Где ваш муж? Вы мне все наврали! Вы спрятали его! Где вы его спрятали?!
А я спокойно:
— Я вас уверяю, что он пошел в наркомат.
А у самой радость: ага, думаю, значит, он от вас ушел! Не попался к вам в лапы!
А этот в белых бурках продолжает кричать:
— На какой машине он уехал?
— Понятия не имею.
Кидается к телефону, звонит Колесниковым, опять голос вежливый, сладкий, как сироп, как патока:
— Простите, скажите, пожалуйста, где ваша машина?
Вероятно, Колесников ответил, что не знает.
Этот в бурках звонит в гараж. Машина Колесникова, оказывается, уже там. А Мироши нет, и я радуюсь, и я счастлива — не поймали, не поймали! Свободен!
«Белые бурки» орет:
— Есть у вас родственники?
— Есть, — говорю.
— Назовите их телефоны.
Я раскрыла сумку, достаю записную книжку, он грубо вырвал ее. Так и не вернул мне ее потом. Стал звонить к брату Мироши. Мироши, конечно, там нет…
Так он бесился до двух часов ночи. В два часа я услышала длинный разговор с наркоматом в успокоительных тонах. Тогда я поняла — Сережа пришел. Кончилась его свобода.
Все они были бандиты, кроме одного. Он единственный говорил со мной по-человечески. Молодой, не хамская рожа. В кухне продиктовал мне адрес, сказал:
— Туда вы можете обращаться с запросами о муже. Там вам все объяснят.
— Завтра можно?
— Ну завтра еще рано. Через несколько дней.
— А передачу можно?
— Вам там все скажут.
28.
После обыска опечатали у нас пять комнат, только одну оставили нам. Там мы все сгрудились: мама, преданная нам Мария Николаевна, Агуля, Боря, кажется (первое время, пока я не отправила его к сестре), и я.
Через три недели после ареста Сережи мне вдруг вечером позвонили с Лубянки. Я целый день бегала по разным делам к знакомым, друзьям и даже Абрашку вызвала в сквер поговорить, что-то, может быть, от него узнать — он ведь везде отирался. Работы я пока не искала. Деньги, и немалые, были на мое имя положены в сберкассу — Мироша и это предусмотрел.
После целого дня беготни прихожу домой. Мама:
— А тебе целый день звонили.
— Кто?
— Не говорят.
И вот уже поздно, за полночь этот звонок. Очень вежливый молодой мужской голос:
— Агнесса Ивановна? Здравствуйте. Простите, что так поздно. Мы вам звонили несколько раз днем. Говорят из Наркомата внутренних дел. Не можете ли вы приехать сейчас к нам? Только не забудьте взять паспорт.
Я прямо:
— Вы меня арестуете?
— Вы боитесь? Ну, если боитесь, можете не приезжать. Но приехать в ваших интересах. Если решитесь приехать, то вам надо пройти в приемную — Кузнецкий мост, двадцать четыре. Знаете? Там вам все расскажут.
Конечно, он понимал, что я приеду. Я очень боялась, но мне необходимо было узнать, узнать о Сереже!
Я надела все теплое, что у меня было: шерстяные рейтузы, шерстяную кофточку, беличью шубку. Дома я отдала Марии Николаевне и маме всевозможные распоряжения на случай, если не вернусь.
Нас очень любил обслуживающий дом персонал — вахтеры, дворники, уборщицы, — мы всегда давали им что-нибудь из своего пайка.
Вот я выхожу, а тут вахтер и дворник — удивляются, куда я так поздно. Я сказала, что вызывают в НКВД. Дворник тут же вызвался:
— Я вас провожу, я сейчас свободен.
А вахтер говорит:
— Я не пойду домой, я вас подожду, чтобы входную дверь вам открыть.
Дворник проводил меня до метро «Библиотека Ленина». Я доехала до «Дзержинской», прошла на Кузнецкий мост. Там в окошечке приемной обо мне уже знали, выписали по паспорту пропуск и дали сопровождающего, который провел меня в основное здание НКВД.
Мы поднялись на лифте. Большой коридор, ковры, тихо. Входим в кабинет. За столом сидит очень интересный молодой человек, блондин, со мной любезен, тотчас предложил сесть. Сопровождающему вежливо так:
— Спасибо, Иван Алексеевич, можете идти заниматься своими делами.
Я сразу подумала: какими своими делами? подготовкой к моему аресту?
Молодой человек за столом себя не назвал. Но тот, что меня провожал, сказал ему: «Слушаюсь, Павел Яковлевич!» И ушел.
Я осмелела.
— Кто вы? — спрашиваю у сидящего за столом.
— Я следователь Миронова. Для вас тут кое-что есть. — И кладет передо мной письмо.
Почерк Сережи. В письме:
«Дорогая жена и друг!
Я только теперь понял, какова степень моей любви к тебе. Никогда не думал, что мое чувство к тебе так сильно.
Все благополучно, не волнуйся. Скоро во всем разберутся, и я буду дома. Крепко целую. Сережа».
Хотя почерк был его, но сперва я не поверила, что писал он, пока не увидела последнее: «Крепко целую. Сережа».
Это был наш условный шифр. Если «крепко целую» — значит, все хорошо.
— А теперь, — сказал Павел Яковлевич (это был Мешик — бериевский сподручный), — пишите ответ.
Я написала обо всех общих знакомых и о том, что хочу уехать. Павел Яковлевич прочел.
— Нет, — говорит, — так писать нельзя. Вы можете писать только о себе и о семье. И насчет отъезда не пишите.
Скомкал мною написанное и выбросил в корзину.
Я написала снова очень коротко, что все благополучно, и закончила: «Крепко целую». Он взял, сказал, что хорошо и что передаст Сереже.
— А теперь, — обратился он ко мне очень вежливо, — скажите мне, вы на что-нибудь жалуетесь?
Я сказала, что вот опечатали почти все в квартире, мы своих вещей взять не можем.
— Ну это мы уладим. — Нажал кнопку и встал.
Я встала тоже. В кабинет кто-то вошел.
— Проводите, — сказал Мешик.
Я попрощалась и вышла за провожающим. Теперь коридор показался мне темным и страшным, лифта в конце его я не разглядела. На меня вдруг напал ужас:
— Куда вы меня ведете?!
А провожающий оглянулся, и вдруг я увидела такое простое, доброе лицо русского мужика…
— Не бойтесь… — сказал он мне тихо.
Тут уж я увидела лифт. Мы спустились вниз, он проводил меня до выходной двери, где я и оставила подписанный Мешиком пропуск, дверь отворилась, и я оказалась на свободе — на пустой ночной площади Дзержинского. Я вздохнула полной грудью.
29.
Но что же было с Мирошей, почему, уйдя в шестом часу от Колесниковых, он появился в наркомате только в два часа ночи? Где он был? Что он пережил в эти последние свои часы свободы?
Я узнала от шофера Колесниковых, что от них Сережа отправился не в наркомат, а домой. Не доезжая до ворот, Сережа попросил шофера остановиться. Вышел, поблагодарил шофера, и тот больше его не видел.
Я много думала, что было с ним. И письмо, которое дал мне прочесть Мешик, кое-что мне разъяснило.
Он поехал не в наркомат, а домой, чтобы взять маузер, который, как он думал, наготове лежит у него под подушкой. Он уже понимал, несмотря на все мои заверения, что странный вызов может означать только одно — арест. Не дать арестовать себя было у него задумано давно. Но, войдя во двор, он тотчас опытным взглядом заметил шпиков в подъезде и пошел прочь — в шумные еще улицы зимней вечерней Москвы. Он ни к кому не заходил — мне бы об этом сказали. Что он думал? Уехать в неизвестном направлении? Бежать? Спастись? Но разве это было спасение? Разве его бы не разыскали? А я? А Агуля?
Покончить с собой иным способом, без маузера? Кинуться в лестничный пролет высокого дома или под автобус, троллейбус, под трамвай головой?
Были всякие способы оборвать свою жизнь. И для него это было бы легче, чем пережить то, что его ждало. Он не верил, что его могут отпустить. Слишком большая череда расстрелянных знакомых и друзей прошла перед его глазами, расстрелянных начальников, подчиненных… Балицкий, о котором говорили, что он страшно кричал, когда его вели на расстрел, Блюхер, которого застрелил Ежов, Уборевич, которого казнили сразу после вынесения приговора…
Покончить с собой? Но если он покончит с собой, скажут: ага, ты застрелился, или кинулся в провал лестничной клетки, или под трамвай — значит, ты виноват был, ты враг, ты что-то за собой знал! Застрелившегося Гамарника прокляли как «врага народа», а с семьей расправились. Так расправятся и со мной и с Агулей, если он тоже убьет себя.
И вот, спасая семью, он и пошел на физические и моральные муки, и отсюда эта фраза в письме: «Я только теперь понял, какова степень моей любви к тебе».
Что он пережил в ту ночь, перед тем как пошел и отдал себя в их лапы?
Я думала, думала над этим, над этой фразой о его любви ко мне. Пожертвовал ли он собой ради меня? Я не хочу сказать, что он меня не любил. Он любил меня так, как только мог любить другого человека — страстно, сильно, конечно же, любил! Но что причина отказа от самоубийства, настоящая причина была эта… Я думаю, что не только. Он просто внушил себе ее, ему самому так казалось, что это и только это. На деле же он слишком любил жизнь и просто не мог вот так взять и разрушить ее, уничтожить себя — здорового, полного сил и жизни, уничтожить себя, убить…
И ему помогли те мои слова, когда я отговаривала его от самоубийства, когда я доказывала ему, что даже если его арестуют, остается надежда доказать свою невиновность, добиться справедливости, слишком уж он был удачлив в жизни… Надеялся ли он выиграть и эту последнюю игру? Шанс небольшой, но все-таки шанс…
И он себя не уничтожил.
А что шанс был, я верю. Целый год вызывал меня Мешик и давал читать письма Мироши, где неизменно было написано «Крепко целую». И я отвечала ему короткими и бодрыми письмами. Иногда мне кажется: а может быть, Мироша, ведь он был такой обаятельный, сумел расположить к себе даже их, этих подручных Берии? Почему так любезен, так мил был Мешик со мной, почему нас долго не выселяли из Дома правительства и никаких попыток арестовать меня, как других жен «врагов народа», не делалось?
Или они играли с ним хитрую игру? Им нужны были какие-то его показания, и они пользовались мной как козырем. И я и моя свобода были той ценой, которую они думали заплатить ему за нужные им «признания»? Он, может быть, не верил им, что я свободна, а они показывали мои письма. Давали ему мои письма и обещали не трогать меня, если он пойдет им навстречу.
Что я знаю? Разве я могу что-то знать? Мне ведь дело его не показывают до сих пор… Что там написано? Если бы я знала! А так — одни догадки, догадки…
Вот вы говорили мне, что одного дипломата — Гнедина (правильно ли я называю?) — пытались «обломать», чтобы состряпать дело против Литвинова. Может быть, и Сережу к этому делу хотели «пристегнуть»?
Одно только ясно: мы еще довольно долго прожили в Доме правительства и меня ни в тот год, ни через год, ни через два не арестовали. Меня вообще арестовали не за Сережу, мой арест в 1942 году никак не был связан с ним.
30.
Двадцать первого января вдруг пришел «красноголовый» (так их называл Михаил Давыдович) и дал мне конверт: «Распишитесь».
Я смотрю — приглашение Миронову в Большой театр на траурный вечер по случаю годовщины смерти Ленина. Вы подумайте только, а? Были бы мы в самом деле «врагами народа», я могла бы взять бомбу — и туда…
Я говорю:
— А Миронов арестован.
— Арестован?! Вот это да! Вот это да!
И пошел вниз по лестнице. Не поехал на лифте, а пошел. И все шел и все повторял: «Вот это да! Вот это да!»
Вероятно, думал: «В какую историю я мог влипнуть!»
Я уже говорила, что пять комнат у нас опечатали. И вот стали к нам приходить сотрудники НКВД — то один, то другой. Позвонят в дверь, входят, снимут пломбу, пройдут в комнаты, побудут там какое-то время, потом уходят, опять пломбу навесят. Что-то уносят. Мы долго ничего не понимали. Однажды, когда кто-то из них пришел, я сказала:
— Там мои вещи!
— Вещи? — переспросил и покладисто так: — Ну возьмите.
Я скорее стала хватать свои платья из шкафа — вечерние, шерстяные, шелковые. Хватала, хватала, взяла одну шубу (не успела, у меня их было несколько). Тут красноголовый меня остановил:
— Довольно!
Другой раз приходит милиционер со свертком, разворачивает его, а там — серебряные ложки, вилки, ножи.
— Ваши?
— Наши!
— Пишите расписку.
Я говорю:
— Напишу, но взять не могу, так как у меня их опечатали.
— Ну хорошо, подпишите только. — И дает какую-то бумагу.
Я подписываю, а сама читаю, что там: задержан такой-то с серебряным набором… Мы потом жалели, что я отказалась взять.
А когда обыск был, орава этих бандитов полные карманы себе набила мелкими дорогими вещами — футлярами, ручками, сувенирами.
Вот так они к нам ходили в опечатанные комнаты, пока Мария Николаевна как-то не сказала:
— Агнесса Ивановна, а вы посмотрите, что у них за пломбы. Тут просто веревочка продернута. Можно ее вытащить, войти, а потом обратно вставить.
И правда. Мы тотчас так и сделали. Заперли двери на цепочку, чтобы подольше не открывать, если кто явится, и стали вытаскивать свои вещи. Делали так: брали хрусталь, а вместо него клали простую посуду (чтобы по описи сошлось). Из сундука доставали чудесные скатерти, а вместо них клали старые простыни. Брали новые платья, а вешали на вешалки старые. Так же и ткани, и все прочее.
Оказалось, что не только мы так делали. Я как-то сидела с одной женщиной в поликлинике, ожидая приема врача. Мы разговорились. Она тоже, как и я, все эти муки ада прошла. И она мне рассказала, что и они доставали свои вещи. Только способ у них был другой. Они повернули опечатанный шифоньер, вытащили сзади доску и взяли оттуда теплую одежду.
Так мы воровали собственные вещи.
Когда нас выселили из Дома правительства, нам дали комнату недалеко, через Москву-реку, в Курсовом переулке, в старом доме, фасад которого был украшен фресками Врубеля. Вы, наверное, его знаете. В нашу квартиру в Доме правительства вселили других, но и тех вскоре арестовали.
Добрые люди научили меня подать заявление, чтобы вернули конфискованные вещи моей матери. Меня вызвали по телефону:
— Вы подавали заявление?
— Подавала.
— Приезжайте.
Ехать надо было недалеко — через мост. В подвал под Домом правительства. Там меня ждал сопровождающий. У входа в подвал сидел вахтер из тех, кого мы уже знали. Сопровождающий показал ему бумажку — разрешение пройти в хранилище. Он спросил меня, какие мамины вещи. Я сказала — медвежья шкура, хрусталь такой-то, доха… Ну и прочее…
— Я сама вам покажу.
Он даже словно испугался:
— Нет, нет, не надо, оставайтесь, я принесу.
И ушел в хранилище. А вахтер сочувственно стал рассказывать, какими вещами набит подвал! До отказа! Но все время вещи эти тащат. Приходят с какими-то пропусками и выносят вещи, все выносят, выносят, а то еще — в окна. Воры взламывают решетки и тоже тащат, тащат, тащат.
Так мы говорили, вдруг возвращается сопровождающий. Ни медвежьей шкуры, ни хрусталя, ни дохи — вообще ничего не несет. Спрашивает резко:
— Мать отдельно от вас жила?
— Нет.
— Значит, жили вместе, одной семьей?
— Вместе.
— Ну тогда не получите ничего. Это вещи Миронова, они конфискованы по закону и возвращены вам быть не могут.
— Ну как же так?…
— А вот так! — И ушел.
Вахтер с досады даже шапку швырнул на пол.
— Эх! — только вырвалось у него на такое беззаконное бесстыдство.
Ну и в самом деле: если б он правду сказал, то мне сразу на заявление и отказали бы, не водили бы в подвал, где богатства «тысячи и одной ночи». А так он воспользовался поручением, поживился чем-то — и только его и видели…
А вахтеры, сторожа жалели нас, сочувствовали, говорили: «Ну что это же такое, как хорошие люди, так их арестовывают!»
Когда мы переезжали, они помогали нам грузиться на машину. Поехали уж, и тут я вспомнила: «Ой, там остался сервант!» А был он очень красивый, дорогой. Вахтер: «Я вам его принесу!» И принес на спине ночью.
31.
Все это время надежда не покидала меня. Мешик регулярно вызывал получить и писать письма, дал номер своего телефона, разрешил звонить ему. И мне по духу Мирошиных писем стало казаться, что дело его все больше идет к благополучному разрешению.
Михаил Давыдович тоже верил в «счастливую звезду» Сережи. «Не может быть, чтобы Мироша не выпутался», — говорил он мне.
Так прошел год. Тут как раз заключили договор с фашистами, вошли в Западную Украину, Западную Белоруссию, Прибалтику. Потом началась финская кампания.
И вот однажды вызывает меня Мешик и дает письмо Сережи, а там:
«Дорогая жена и друг! Я советую тебе уехать из Москвы…» Там еще что-то было, затем: «Привет всем. Сережа».
«Привет всем». Не «крепко целую» и даже не «целую».
Я расплакалась. Мешик не понимает:
— Что вы плачете?
— Да вот, — выпутываюсь я, — он же пишет: «Уезжайте из Москвы».
— А вы не хотите уезжать?
— Пока о нем ничего не узнаю, не хочу.
— Ну и не уезжайте. Я думаю, что Миронов неверно трактует события.
Через некоторое время звоню Мешику, тон его совсем изменился. Он мне холодно:
— Я больше уже не следователь Миронова.
— Но как, где мне о нем узнать?
— Обращайтесь в Лефортово. — И повесил трубку.
Я — в Лефортово. Никаких сведений.
Я опять звоню по номеру Мешика. Там незнакомый голос:
— Павла Яковлевича здесь нет. Он уже здесь не работает. А кто это говорит?
— Я жена Миронова. Я хочу узнать, что с ним.
— Здесь Миронова тоже уже нет. Обращайтесь в Лефортово.
Женщины меня научили. Вы ничего, мол, не спрашивайте, а принесите деньги и дайте. Если примут, значит, он здесь.
И еще научили не сразу давать все деньги, а разбить на два раза — тогда я два раза в месяц смогу узнавать о нем. Разрешалось передавать семьдесят пять рублей. Деньги были тогда другие, эта сумма много меньше значила, чем теперь. Вот мне и посоветовали: например, принести в начале месяца семьдесят рублей, а в середине — донести пять рублей. Я так и сделала. Деньги взяли! Значит, Мироша и в самом деле тут! И я стала два раза в месяц приносить деньги.
Лефортово. Помните, когда мы в последний раз были у Моисея Иосифовича, я все расспрашивала Поляка об условиях в Лефортово?
Поляк говорит: ему повезло, что его арестовали в 1936 году, будь это позже, он бы тут с нами не сидел… Он был в Лефортово в 1936-м — начале 37-го. В одиночке. Двери одиночек там были расположены по внутренней стороне овала, выходили на террасу, которая обнесена решеткой, чтобы никто не прыгнул вниз. В каждой одиночке — кровать, умывальник, унитаз; обед приносили на подносе, и неплохой… Только спать лицом к стене не разрешали. Чуть повернулся во сне, дежурный в глазок увидит — окрик: «Лицом к двери».
Это чтобы не удавился. Можно было задушиться полотенцем. Привязать его к ножке кровати и натянуть, отодвигая голову с наброшенной петлей.
Я удивилась, помните: «Там даже полотенца были?»
Значит, условия были хорошие. Но вы помните Гинзбург «Крутой маршрут», помните, она пишет: чем тюрьма грязнее, хуже, чем грубее персонал, теснее в камерах, чем голоднее кормят — тем безопаснее. Чем тюрьма светлее, опрятней, чем больше в ней порядка, «комфорта» заключенному — тем хуже, тем ближе к смерти.
Однажды я принесла передачу. За стеной во дворе работала какая-то машина. Подхожу к проходной будке — окошечко закрыто! Я уже в огорчении хотела уйти. Вдруг выходит из будки молодой офицер и вешает на дверь замок. Я ему:
— Ах, значит, я опоздала!
Он оглянулся на меня, поколебался недолго, потом отпер замок и вернулся в будку, открыл окошечко.
— Как фамилия?
— Миронов.
Стал смотреть по списку. Затем говорит:
— Его здесь нет.
— Как же…
Он посмотрел на меня, и тут я поняла по его взгляду, что он меня жалеет (он знал, наверное, знал правду!). Это — глазами. Словами сказал только:
— У нас уже нет. Вы пройдите на Кузнецкий мост, там узнаете.
Больше он ничего не имел права мне сказать.
И как раз в это время случилось следующее. Мы с Агулей крепко спали ночью, особенно под утро я всегда спала крепко. А тут вдруг проснулась, как будто меня ударили. Смотрю на часы — шесть часов утра, а сна — ни в одном глазу, и такая страшная тяжесть налегла на сердце. Я записала дату: «22 февраля 1940 года».
Рассказала Михаилу Давыдовичу. Я часто к ним тогда ходила. Говорю:
— Алтер, я знаю, что все кончилось.
А он мне:
— Ну что вы, что вы, Агнесса! Еще все вместе будем сидеть за этим столом, и будете с Мирошей весело вспоминать, как вы записали эту дату!
Не пришлось…
На Кузнецком мосту всем сообщили, чтобы пришли за приговорами, указали куда. Это было на спуске с площади Дзержинского у памятника первопечатнику. Там была какая-то приемная. Я тогда уже работала и смогла прийти только к четырем часам пополудни. А женщин там — сотни! Очередь, толпа. Я встала в очередь и попала в кабинет только в двенадцать часов ночи. Нас впускали сразу по нескольку человек.
Картина такая: посреди кабинета стоит немолодой мужчина в форме военного прокурора, ошалелый от усталости, ко лбу волосы прилипли от пота, душно, тесно. Смотрит по спискам и бубнящей, однообразной скороговоркой:
— Миронов… Сергей Наумович… Согласно статье такой-то… то-то… то-то… десять лет без права переписки.
И всем одно и то же: «Десять лет без права переписки».
А это в то время означало расстрел. Мы тогда этого не знали, но догадывались, и слухи, слухи уже просвещали нас.
Мы выслушивали, уходили. И никто не плакал, не рыдал, ничего не говорил… Молча.
Тогда были неудачи на финском фронте, и, как всегда при неудачах, рассвирепел наш «гениальнейший», взбесился от злости, всех, всех, всех приказал расстрелять, всех сразу. Поэтому и была там такая толпа женщин — проходило массовое мероприятие.
И опять вернусь к рассказу Поляка. Я ведь недаром, помните, его так расспрашивала! Помните, он рассказывал: там, в Лефортово, допросы вели наверху, там были ковры, даже роскошь, но был и путь вниз. Кого вели вниз, тот не возвращался.
А внизу работал мощный вентилятор. В том подвале можно было кричать перед расстрелом что угодно: «Да здравствует революция!», «Да здравствует Иосиф Виссарионович Сталин!», «Погибаю за революцию!»… Никто тебя все равно не услышит — ни голоса твоего, ни звука выстрела… Так что я могу представить себе, как это было.
32.
Уже сейчас, после моей реабилитации в 1958 году, мне нужна была справка о смерти Сережи. В прокуратуре сказали: «Получите в районном загсе».
Я туда пришла. Молоденькая девушка спрашивает:
— По поводу чего? Кто-нибудь в семье родился?
— Нет, — говорю, — мне нужно свидетельство о смерти.
Она мне дала бланк, чтобы я заполнила. А там вопросы: фамилия, имя, отчество, год рождения, дата смерти, причина смерти. Я начала заполнять, потом говорю:
— Но ведь я не знаю, когда и почему умер.
Девушка изумилась:
— Как не знаете?
А другая, постарше, тихо, многозначительно:
— Катя, это…
И вытаскивает списки.
— А! — догадалась Катя, ищет в списках, находит. Вижу — выписывает дату смерти. Она пишет, а я смотрю и уже знаю, что она напишет. Так и есть: «22 февраля 1940 года».
Графа «причина смерти» — прочерк.
Оформила свидетельство и говорит:
— Платите пятьдесят копеек.
А та, что постарше, взяла у нее бланк и пишет сверху: «Бесплатно».
Я говорю:
— Вот и заплатили мне пятьдесят копеек за моего убитого мужа. Девочки, он не умер, его расстреляли.
А они глаза опустили, молчат.
Ох, Мироша, Мироша! Меня часто теперь одолевают сны. Мне снится Ростов и время наших тайных встреч с Сережей, когда мы ссорились, расставались и вновь встречались, прощая друг другу все, в сумасшедшем счастье кидаясь друг к другу. Но встречи, сами встречи от меня ускользают. Я в Ростове, я знаю, что он здесь, но только я почему-то не встречаюсь с ним. Или я уже решаюсь уехать с ним, и вот мы на вокзале, и сейчас будет поезд, но Сережа исчезает, я уже подымаюсь в вагон, а его нет.
И просыпаюсь я после этой погони за призраком с оборванной душой…
Вот у племянника Сережи, Левы, форма головы, лоб Сережины, и волосы растут так же, такая же шевелюра. Иной раз поглажу Леву по голове, и кажется, что это Мироша…
ПОСЛЕ МИРОШИ
1.
Моим настоящим мужем был Сережа. Не Зарницкий и даже не Михаил Давыдович, перед умом и талантом которого я преклонялась.
Но Сережи уже не было. Когда сказали «десять лет без права переписки», я очень скоро поняла, что это конец. Просачивались какие-то слухи, сведения из-за каменных стен, да и Абрашка еще появлялся. Мое чувство, что Сережи уже нет, подтвердилось.
Я поняла, что Сережа никогда не вернется.
А я не могу жить вдовой, одна. Я слишком люблю жизнь.
Иван Александрович написал мне призывное письмо. Он писал, что женат, но, если я соглашусь вернуться, он разведется с женой, потому что любил все годы и любит одну меня.
Я отвечала: «Как я могу приехать к тебе, бросить мужа, когда он в тюрьме?»
Но когда Сережи не стало, я не написала Ивану Александровичу. Я уже очень часто виделась тогда с Михаилом Давыдовичем.
Голос извне. Майя:
Папа был назван по имени нашего прапрапрадеда Михаэла Алтера. Фамилию Король Михаэл Алтер приобрел в аракчеевском военном поселении. Шестилетним ребенком хапуны (аракчеевские ловчие) выкрали его у родителей, как выкрадывали и других еврейских детей. Из этих детей, оторвав их от семьи и жестоко муштруя, воспитывали солдат. Назывались они кантонистами.
Прослужив двадцать пять лет в солдатах, кантонисты увольнялись из армии навечно с посессией. Так назывался земельный надел в десять десятин, который им давала казна.
Таким же еврейским сыном, похищенным хапунами, был и отец адмирала Макарова. Еще будучи кантонистом, он принял православие, а затем, после увольнения из армии, довел свою посессию до размеров поместья и стал помещиком.
Михаэл Алтер свой надел продал. Получив в армии профессию коваля (кузнеца), он в местечке Мотыжино, недалеко от Киева, устроил кузню и почти до самой смерти (умер он ста четырех лет) зарабатывал на жизнь себе и своей большой семье кузнечеством.
Его сыновья стали кузнецами, бондарями, внуки и правнуки — учителями, приказчиками, рабочими.
Папа был двоюродным братом дяди Мироши, а мама — родной его сестрой. Тут нетрудно разобраться. Их отцы были родными братьями, поэтому все они носили одну фамилию — Король. Родом все были с Шулявки, но когда благосостояние маминой и дядимирошиной семьи возросло трудами прабабушки Хаи, которая открыла молочную на Крещатике, их семья с Шулявки перебралась, а папина — осталась. Папа был старшим сыном в этой многодетной еврейской семье. Он страстно мечтал учиться, но учиться в каком-либо учебном заведении ему не пришлось — надо было рано начать зарабатывать.
Однако от своей мечты он не отступился — стал проходить курс гимназии самоучкой, заочно, жадно и много читая. С задачником Крючковского «Сто задач для конкурсантов в политехнический институт» он иной раз останавливал на улице приглянувшегося ему студента и просил объяснить не получающуюся задачу. Ему никогда не отказывали.
Еще совсем мальчиком папу определили учеником в магазин.
— Сукно, трико, муслин, ситец, сатин! — выкрикивал он целыми днями у входа в лавку.
Но подняться на более высокую ступень торгового мастерства так и не сумел и поступил учеником к граверу по металлу. Сперва ему там не платили ничего, потом он стал приносить домой жалованье, но это были гроши.
И вот зимой 1910 года умер Лев Толстой. Папу это так потрясло, что, где-то заняв денег на дорогу, он поехал в Ясную Поляну на похороны.
Бабушка в ужасе причитала:
— Нет, вы только подумайте, сколько стоит билет! Это же надо я не знаю сколько работать, чтобы получить такие деньги! Так ему понадобилось ехать хоронить какого-то графа! Ну пусть это писатель, пусть хоть сам Господь Бог! Но я вас спрашиваю — зачем он ему? Зачем бедному еврейскому юноше какой-то русский граф?
Благодаря своей начитанности и развитию папа приобрел много знакомых среди русских и украинских интеллигентных семей.
Однажды в такой семье девушки шутя заспорили, кто же Миша по национальности: армянин? грек? болгарин?
Но вот одна высказала предположение:
— А может быть, еврей?
Другая тотчас откликнулась:
— Фу, какая гадость!
После этого папа, знакомясь, всегда представлялся так:
— Пусть вас в дальнейшем не постигнет разочарование, поэтому я ставлю вас в известность, что я — еврей. Если это вас не устраивает, то можно считать наше знакомство несостоявшимся.
Папа обладал большим чувством собственного достоинства.
Хотя папа прошел экстерном курс гимназии, к экзаменам он допущен не был. В 1912 году его забрали в солдаты. А затем началась мировая война. Вот как он вспоминает о солдатском своем бытье:
«Зима 1914–15 гг. Я марширую с ротой по печальной польской земле. Я — солдат. Впереди меня в строю потные, темные затылки, крепкие ноги. Я — часть огромного многоногого существа. Серое мокрое небо, серо и мокро под ногами. Я не чувствую усталости и холода. Что мне война и немцы, что мне беспросветная солдатская быль? У меня глубокое горе, оно больше меня и моего личного страдания. Я не раз видел, как донские казаки вешали, рубали, били моих единоверцев. Я слышал их крики и стоны, я слышал и видел бесчеловечную ненависть к ним…
В одном местечке я увидел много заплаканных лиц. Девушки прятали свои слезы в шали и платки. Солдаты отпускали грубые шутки. Слезы меня не удивляли, я видел много слез и молодых, и старых. Горе, страдание, беспросветность были обычными явлениями. Я догадывался, что Рахили, Юдифи и Эсфири плачут над своим большим несчастьем, которое им принесли война и донские казаки.
(Но я ошибся). Я застенчиво спросил:
— Что случилось, мои сестры?
Одна на меня удивленно посмотрела и сквозь всхлипывания ответила:
— Перец преставился…
Я ушел от нее. Умер Перец! Этот чудесный сказочник, поэт и мыслитель. Я любил этого писателя, поклонялся ему, как язычник. Перец связывал меня с миром красоты среди уродства, с мыслями среди бессмыслицы. Прошлое становилось настоящим…
… Прошлое становилось настоящим, и я, солдат русской армии, переносился в мир своих предков, стоящих смиренно перед своим Богом и спрашивающих его о смысле жизни…
Перец умер, а мои товарищи пели „тары-бары-растабары“. У них не было вчера и нет завтра. Они живут только сегодня, а завтра можешь стать трупом. Сегодня надо поесть, поспать, если можно, — выпить и — верх блаженства — женщина.
Стой, девица, стой, стой, С нами песню пой, пой, пой…Я не осуждаю моих бедных друзей. Я люблю эту простую прелесть, и наивность, и правдивость. В этом больше смысла жизни, чем в любой риторике. Но мое состояние не было созвучно этой радости жизни на виду у смерти…»
Затем папа был тяжело ранен. Выздоровев, он попал на фронт, получил Георгиевский крест.
В 1915 году вступил в Еврейскую рабочую партию (ЕРП). «Мое вступление в эту партию, — пишет он в автобиографии, — результат зверского антисемитизма, который я прошел на фронте».
Февральская революция застала его на фронте под Двинском, его стали всюду выбирать — в батальонный комитет, на армейский съезд Первой армии и т. д. Он был среди наступавших добровольцев в июльских сражениях, получил тяжелую контузию, попал в госпиталь. После Октября добрался до Киева, при Деникине руководил подпольем ЕРП, при красных стал начальником охраны города, командовал первой ротой коммунистического полка в Киеве, был секретарем правобережной организации ЕРП.
Это все я вам цитирую по его автобиографии, сама я мало что знаю об этом периоде его жизни, знаю только, что он кинулся в революцию с головой, всего себя отдав ее идеям. Они ему казались идеями правды, справедливости, всего того лучшего, светлого, о чем мечтал в юности… Агнесса вам рассказывала о Мироше. Так же и Михаил Давыдович. Евреи настрадались от антисемитизма, от погромов и презрения. А революция с антисемитизмом покончила. Это была их революция.
Но вернусь к автобиографии.
Отец стал сотрудником Разведывательного управления Украины. В 1920 году его нелегально послали в Польшу — организовывать там «красное подполье». Человек смелый, он любил риск. В подполье он продержался семь месяцев. Затем попался, чуть не погиб, военно-полевой суд приговорил его к повешению. Но вмешалось наше посольство, и папу посадили в тюрьму, потом в концентрационный лагерь. Подпольщики помогли ему бежать.
Вернулся он в 1922 году, организовал конференцию ЕРП, где уговаривал всех самораспуститься, вступать в компартию… Затем вошел в комиссию по приему в РКП, членом которой сам уже был.
С 1923 года стал работать в Политуправлении РККА, потом в редакции «Красной звезды», потом редактором «Военного Крокодила». Написал очерков, фельетонов, несколько книг и брошюр.
С 1930 года по 1934-й был начальником Главного управления кинематографии и ответственным редактором газеты «Кино».
С 1934-го по 1938-й — в Разведуправлении РККА и в спецкомандировке…
Таковы данные из его автобиографии…
Нам, девочкам, мне и Бруше, папа казался некрасивым. Роста он был среднего, склонный к полноте, иной раз даже просто «пузатенький». Большие, очень выразительные глаза, брови с изломом, нос крупноват, губы тонкие. Я иной раз удивлялась, как мама, такая красавица, вышла за него замуж?
Но стоило ему начать говорить… У него была прекрасная дикция, много юмора, богатейшая эрудиция — не заслушаться его было невозможно.
Человек увлекающийся, он очень любил цирк. Далекий от спорта, он тем более ценил всякую физическую доблесть, что сам чувствовал себя в этой области пасующим. Его влекло то, что казалось ему недостижимым, удивительным, каким-то почти геройством. Он преклонялся перед ловкостью и силой цирковых артистов, объясняя нам, какого бесконечного труда тренировок это им стоит, и призывал всех нас чтить и уважать их труд.
Но больше всего на свете папа любил книги. Книги папа покупал безостановочно, все время. Их становилось некуда класть, и тогда надстраивали и пристраивали стеллажи. Из-за книг папа воевал с фикусом, который поставили к нему в комнату, вспылив, кричал, что фикус его выживет (фикус, наглец, чувствовал себя превосходно и разрастался), что из-за фикуса ему некуда уже класть книги…
Когда Бруше исполнилось десять лет, он подарил ей «Дон Кихота» Сервантеса. Не читать — значило обидеть папу, и Бруша заставляла себя читать. А он ее жадно спрашивал:
— Интересно?
— Интересно… — отвечала вежливая Бруша с постной миной, и папа погасал.
Да, мы не раз заставляли его испытывать разочарование. Бруша училась на «очень хорошо» (тогда «отлично» еще не ставили). Как-то, когда она была в старших классах, папа спросил ее, кто такая была Екатерина Вторая. Бруша отчеканила по учебнику:
— Выразитель интересов помещичье-крепостнического класса, продукт самодержавия.
Папа пришел в ужас, схватился за голову, отправился в школу к учительнице и стал возмущаться:
— За что вы ей ставите «очень хорошо»? Она же ничего не знает!
Папа был горяч, раздражителен, вспыльчив, очень эмоционален, ревнив. Но его идеалом были спокойные и сдержанные люди, и он всегда старался держать себя соответственно своему идеалу, но — увы! — это ему не всегда удавалось!
Ревность он считал самым гадким пороком и страстно осуждал Отелло — если не можешь пережить, то убей себя, зачем же убивать тобой любимую?
Папа обладал большим чувством собственного достоинства, я уже говорила об этом. Он никогда не стыдился того, что он еврей. Возмущался нами, что мы совершенно не интересуемся прошлым своего народа, не делаем попыток узнать его… что уж говорить о языке! Мы и понятия о нем не имели.
Папа водил нас в еврейский театр, мы там ни слова не понимали, но игра Михоэлса, его темперамент захватывали нас.
Родители отца, наши дедушка и бабушка, до войны были еще живы, папа возил нас к ним в Киев.
Бабушка говорила мне:
— Если выйдешь замуж за гоя, я тебе приданого не дам. Не дам ни подушки, ни пуховой перины, и одеяла не дам.
Мне было тринадцать лет, я смеялась. Она обижалась… затем показывала мне содержимое заветного сундука, которое предназначалось нам с Брушей в приданое.
Родителей своих папа почитал, материально им помогал аккуратнейшим образом. Каждый месяц, как только он получал «большую» зарплату, мама первым делом шла на почту и отправляла довольно крупную сумму. Братья и сестры папы помогали периодически, а брат Боря даже и вовсе не помогал, мотивируя это тем, что старики религиозны, а он — коммунист и в Бога не верует.
В семье почитали папу как старшего, и он естественно, с давних пор нес это «звание», отсюда была его наибольшая помощь старикам и то, что никогда никого из братьев и сестер он не упрекал за недостаточную им помощь. Он считал, что должен поддерживать семью в первую очередь — как старший.
Папа был очень общителен, всегда окружен родными, друзьями. У нас часто бывали гости, говорили о международном положении, литературе, искусстве, театре, истории, философии. Очень много играли в шахматы. Папа хорошо играл, научил Брушу, она даже получила разряд.
Но вот папу стали готовить к «спецкомандировке»… Возможно, Агнесса вам об этом уже рассказывала, тогда извините меня, если я что-то повторю.
Папу стали готовить к отъезду в США. У нас появились талоны в торгсин, и мы смогли кое-что купить и папе, и себе. А до этого (папа был тогда в нынешнем генеральском чине — бригадный комиссар) у него с соседом, таким же, как он, высокочинным голодранцем, были одни форменные галифе на двоих…
Папу стали учить не только английскому, его учили еще манерам и западным танцам — фокстротам, танго.
Хотя нас тоже готовили, но папа уехал один. Нам, девочкам, сказали, что он едет на Дальний Восток. Укладывая вещи, мама положила ему грубое зеркало из зеленоватого стекла (других тогда не было) и сказала: «Я суеверна. Ты должен привезти его обратно». Забегая вперед, скажу, что папа выполнил ее просьбу — безобразное зеркало это проделало с ним все его странствия. Ворчал: «И такую дрянь я всюду должен был таскать с собой!» Папин маршрут оказался сложным. Ему предписывалось так прибыть в США, чтобы след его пути затерялся в переездах. Сперва он отправился в Китай, оттуда — в Японию, здесь он чуть не погиб. Как говорится теперь, их «вычислили», но опоздали и обстреляли их самолет, уже когда он поднялся в воздух.
Из Японии путь их был в Европу — во Францию, в Германию. Потом — Канада, и уже оттуда под видом немецкого еврея-коммерсанта — в Нью-Йорк. Папа был вдвоем с Марком Шнейдерманом, они делали много оплошностей. Например, из экономии сняли один номер на двоих в дешевой гостинице. Так никто из коммерсантов (достаточно обеспеченных) никогда не делал. Но тут им тоже повезло: их просто сочли гомосексуалистами.
Мама заставляла меня писать папе письма по-английски. Я писала о том, чем жила, что казалось мне интересным, например: «У нас в Кракове открылся пионерский лагерь». Мама проверяла письмо.
— Это, — сказала она, — вычеркни.
Я опять написала что-то про пионеротряд — мы с Брушей ведь были активистки! — а мама опять — вычеркни!
— Но что же мне писать?
— А вот, что ты здорова, что лето теплое и вы купаетесь, вот всякое такое, ни про пионеров, ни про комсомольцев писать нельзя.
Я, конечно, ничего не понимала. Не понимала и того, что вокруг происходит, а наступили 36-й, 37-й, 38-й годы… Мама-то хорошо понимала! Она произвела подробнейшую чистку папиных книг, среди них оказались те, что у нас издавались в двадцатые годы, — Троцкий, Бухарин, Радек и другие. И на всех был папин экслибрис. Книги эти мама собрала, перевязала, сложила в кладовку, чтобы при первой возможности сжечь на даче.
Но как же я любила какао с молоком и запивать холодной водой! А на Тишинском рынке в бакалейной палатке покупали бумагу для заверток. Вот я и снесла туда ненужные книжки, продала, купила какао и — упивалась!
Мама взглянула в кладовку и обомлела: где книги?!
Я призналась.
Что мама пережила!
— Дурочка, — говорила она, — неужели я бы тебе не дала на пачку какао? Ты понимаешь, что теперь нас всех могут арестовать?
Несколько месяцев она ждала ареста, этого страшного ночного звонка в дверь… Но — сошло.
И вот 1938 год. Папа возвращается! Мы встречаем его на вокзале. Зима, морозный день. Я ожидаю увидеть папу, а выходит из вагона хорошо одетый, подтянутый иностранец, и чемодан у него с каким-то удивительным запором («молния»)…
Узнал нас, обнялись, расцеловались, папа заговорил, и мы опять перестаем его узнавать. Сильный акцент, иногда затруднения, подыскивает слова или вдруг заменяет английскими… Он не говорит «багаж», он говорит:
— Груз придет отдельно.
О, этот «груз»! Упакован он был в огромные чемоданы «кофры», это были настоящие шкафы с вешалками для одежды. Все-все помню, что папа привез, но не буду перечислять, скажу только, что привез он очень много, но мама, относясь к вещам беспечно, презирая приверженность к ним и считая, что дорожить вещами — мещанство, раздавала, раздаривала направо и налево. Папа пытался ее остановить: «Что ты делаешь? У тебя же растут две дочери!» Но она весело и беспечно отмахивалась. Думать о вещах — ведь это было наследие проклятого капиталистического прошлого! Так она считала сама и так воспитала нас. Но мы, увы, были более суетны!
Еще помню папины рассказы о чудесах другого мира, о шкафах-«рефрижераторах», которые есть уже почти во всех квартирах, о «молниях», которые заменяют пуговицы, и т. д., и т. д.
На нас папа с первого же дня напустился: мы совсем не следим за своей фигурой! Обжираемся и никакого спорта! Ни гимнастики, ни зарядки!
В Штатах, рассказывал он, никакая женщина не может работать учительницей, если она весит более шестидесяти килограммов. Дети засмеют.
— А ты сколько весишь? — набрасывался он на меня.
— Шестьдесят пять, — отвечала я виновато.
Папа никак не хотел учитывать мой высокий рост и все повторял, что мы должны следить за своим весом. В США только очень необеспеченные люди за весом не следят, потому что им приходится есть дешевую мучную пищу, от которой разносит!
На нас-то он шумел, но сам, приехав подтянутым и даже стройным, располнел очень быстро!
Помню, весной после его приезда мы как-то втроем шли по улице: папа в середине, мы с Брушей по обе стороны от него, все в иностранных «шмотках». И вдруг проехал грузовик и обдал нас водой из лужи. Папа взорвался, стал было говорить, что он подаст на него в суд, но вспомнил, что он не в США и что такого рода дела здесь в суд даже не примут. Говорил нам, что в США за подобное хамство судят, точнее, за тот материальный ущерб, который такое хамство нанесло, испортив одежду.
Вернувшись, папа не только не получил никакой работы, но у него даже забрали партбилет (вернули через год). Он сидел дома, нервничал, сходил с ума от безделья.
Арестовали Марка Шнейдермана. Папа каждый день ожидал ареста. Жили туго. Папа страстно настаивал, что если он сидит дома, без работы и не может обеспечить семью, то мы должны продавать вещи, но только его вещи!
Это была тяжелейшая полоса нашей жизни.
Заболела мама — рак груди. Оперировал сам Герцен. Операция прошла успешно, папа говорил маме в больнице:
— Птичка моя, ты только поправляйся, я буду носить тебя на руках!
Отношения между отцом и матерью были близкие, нежные.
Вероятно, операцию сделали поздно. Пошли метастазы. Мама тяжело болела — увеличивалась печень, появились боли, тошнота.
Я не понимала тяжести ее состояния. От меня скрывали приговор. Бруша, старшая, знала.
Перед смертью мама иногда впадала в беспамятство. Но вот она пришла в себя и попросила пить. Бруша подала чашку с водой, но мама не сумела удержать ее и выронила, а Бруша (измученная дежурствами около мамы, настрадавшаяся от горя) потеряла сознание и упала на ковер.
— Доченька, что с тобой?! — смогла еще воскликнуть мама. Это были ее последние слова. Сознание ее ушло, до самого конца она уже ничего не говорила.
Мне было пятнадцать лет. В день маминой смерти, вернувшись с прогулки, я увидела «скорую помощь» у нашего подъезда. Вдруг стало тревожно: «К кому? В какую квартиру?» Назвали наш номер. «Там женщина умирает».
Я кинулась наверх, увидела умершую маму и в ужасе закричала.
Окончив школу, я подала заявление в медицинский институт. К экзаменам меня готовили товарищи Бруши и Бори — Брушиного возлюбленного. И Бруша и Боря были уже студенты.
И вот экзамен. Подруга, которая со мной училась в школе на равных и так же, как и я, средне сдала экзамен (а было по девять-десять человек на место — конкурс немалый!), и не беспокоилась. Ее мать, имеющая связи, позвонила куда надо, попросила кого надо…
Я — к папе:
— У тебя тоже есть знакомые! Позвони, попроси, чтобы меня приняли!
Надо было видеть его в этот момент! Он отъехал на кресле от стола, резко откинулся, вскинул на меня возмущенные глаза и загремел:
— Как! Чтобы я за тебя хлопотал? Как ты могла только такое подумать? Ты хочешь, чтобы я унижался из-за того, что ты плохо училась? У тебя были все условия, чтобы хорошо учиться! Все-все условия ты имела!
И твердо:
— Не пройдешь по конкурсу — будешь работать на заводе. В твоем возрасте многие девушки давно работают, стоят у станка. Вот так. А я унижаться не буду.
Меня приняли.
До отъезда в Америку папа работал заместителем председателя Совкино. Он был редактором фильма «Чапаев». Сохранилась надпись авторов на сценарии фильма, адресованная отцу:
«Нашему дорогому Королю верноподданные авторы. В.Васильев, С.Васильев. Надеемся, что после просмотра фильмы не велите казнить!»
Все, кому приходилось иметь дело с отцом, его очень любили.
Незадолго перед смертью киносценарист Каплер подарил мне книгу о своей жизни с надписью: «Дочери нашего дорогого Миши».
Выйдя из тяжелой полосы, когда его никуда не принимали на службу, отец опять стал работать в кино — рецензировал, участвовал в написании сценариев. Работал он с увлечением, в работе находил выход его литературный дар. В этот период он написал сценарий о дружбе американского и советского народа, о любви американского юноши к русской девушке. Впоследствии, когда отец стал критически относиться к своей литературной деятельности, этот сценарий он считал единственно путным, что он сделал в литературе. Но сценарий «не пошел».
Вспоминаю еще такой случай. Это было перед самой войной, в 1940 году. Папа переводил на английский дикторский текст к документальному фильму о профессоре Филатове — офтальмологе. Фильм предназначался для США.
Филатов был глубоко верующий человек, перед каждой операцией молился, чтобы операция прошла успешно. В фильме есть место, где мать ребенка, которому Филатов вернул зрение, горячо благодарит его. А Филатов в ответ:
— Не меня, а Его благодарите!
И указывает пальцем вверх, на небо.
Наш режиссер в этом месте дал заставку — крупным планом портрет Сталина. Дескать Филатов советует сказать «спасибо» Сталину.
Папа воспротивился:
— Заставку надо снять. Американцы не поймут, при чем тут Сталин.
Режиссер нахмурился:
— Это что ж, значит, вы Сталину не верите?
Возможно, это припомнили папе при аресте.
Папа работал с увлечением, но теперь уже не бесплатно. Это была договорная работа, папа стал хорошо зарабатывать. Он был выгодным женихом. Мама была еще жива, но все уже знали, что больна она безнадежно, и две наши хорошие знакомые (одна из них была Густа — первая жена дяди Мироши) и тетя Ага всячески старались помогать в уходе за ней.
Когда мама умерла, тетя Ага «смела» своих соперниц…
2.
Между мною и Михаилом Давыдовичем стали завязываться отношения с волнующим подтекстом. Но Михаилу Давыдовичу казалось невозможным наше сближение — я словно отгорожена была от него судьбой Сережи.
Потом из лагеря он писал мне длинные прекрасные письма[9], я вам читала, помните, когда мы только с вами познакомились? Читала отрывки из них. Правда, может быть, именно любовные места не читала… И вот в одном письме он пишет… Но лучше я вам прочитаю письмо. Сейчас найду… Вот, слушайте.
«Первый раз я тебя увидел, помнишь, в гостинице в Москве. Ты не произвела на меня впечатления: что-то красивое, приятное, но не запоминающееся. Потом я с тобой встретился у тебя дома в Днепропетровске. Я танцевал с тобой. Ты мне понравилась, но это… было как казенные суммы: там ни одной копейки нет моей, я должен хранить эту сумму, и только. В 1938 году ты была у нас в Краскове, я проводил тебя к электричке. Мы с тобой много говорили… На этот раз ты меня привлекла не своим красивым лицом и фигурой, а другим. Ты показалась мне очень интересной, привлекательной. Я неохотно расстался с тобой. Возвращаясь на дачу, я думал о тебе, и мне было грустно. Ты задела во мне различные чувства, но — ты запретна, ты — табу. И когда я тебя встречал после этого, я бывал с тобой любезен, но табу помнил. В 1939 году мы встретились с тобой в больнице у Фени, вместе возвращались домой. Я предложил пойти пешком, ты с какой-то радостью согласилась. Я с тобой болтал, старался быть интересным собеседником, и это как будто мне удавалось. Я видел, что ты довольна и держишься со мной как с хорошим другом. Но табу оставалось.
И только первый раз было нарушено табу, когда я тебя усаживал в трамвай. Я чуть-чуть задержал свои руки на твоей талии. Ты это почувствовала и обернулась ко мне. В глазах у тебя было: да, можно.
Я был смущен. Но табу должно остаться, нельзя.
И лишь через несколько месяцев, когда между нами стояли брат и сестра, дорогие нам, но уже не существующие, я в первый раз осторожно целовал твои волосы, не снимая табу. Я искренне тебя успокаивал, целовал твое лицо, мокрое от слез, остро чувствовал твое горе.
Когда я на следующий день пришел к тебе, ты меня радостно встретила, подошла ко мне и поцеловала с такой непринужденностью, что я понял твою близость. Этот поцелуй и был нашим бракосочетанием. Ты стала моей женой».
Михаил Давыдович Король
после возвращения из лагеря
Его любовь ко мне была такой красивой! Помню, мы как-то ехали вместе в метро и вдруг, нагнувшись к моему уху, он стал шептать мне прекрасные слова.
«Две тысячи лет назад, — шептал он мне, — я, житель Афин, проходил как-то через оливковые рощи цветущего Пелопоннеса. Впереди меня синело теплое Средиземное море, а оливы цвели, и сладкий дурманящий их запах пьянил меня. А я был философ, я старался не давать власти над собой прелестям жизни, быть выше этого, всюду видеть сущность, глубокий смысл, а не внешность. И я думал: вот мир прекрасен, но это лишь соблазн. Оливы отцветут, отплодоносят, поблекнут, а потом и они исчезнут. А еще раньше того исчезну я. Надо ли привязываться к столь скоротечной жизни?
Но вот, выйдя из оливковой рощи, я попал в зеленый виноградник и увидел прекрасную эллинку, которая ухаживала за лозами. Я подошел к ней, она подняла на меня глаза, взоры наши встретились, и вдруг я понял, что вся моя философия — ничто, все мои размышления и выкладки гроша ломаного не стоят и что только и есть на свете важного — она и я. И пусть любовь наша будет лишь коротким мигом в вечности, но в ней одной смысл всей жизни…
Так, еще две тысячи лет назад твоя античная красота победила меня».
Мы стали мужем и женой. Если с Сережей мы были веселыми товарищами — ребячились, дурачились, как дети, то к Михаилу Давыдовичу отношение у меня было другое. Он был на тринадцать лет старше меня, но не в этом было дело, а в его авторитете и уме. Он был для меня как любимый отец, учитель, я глубоко уважала его и почитала за его знания, за его таланты, за его мудрость.
А он любил меня пылко, как юноша.
Он ревновал к прошлому. Его привязанность к Мироше сменилась бессознательной неприязнью. Однажды я нашла его письмо, адресованное Сереже на тот случай, если Сережа все-таки уцелел и еще вернется. В душе он не смел желать ему смерти, но возвращение Мироши было бы смертью для счастья самого Михаила Давыдовича.
Он писал Сереже, объясняя ему, почему он на мне женился. Он писал, что я была беспомощна и несчастна и что издавна существует у евреев обычай, закон, когда живой брат берет на себя заботу о семье умершего, женится на его вдове. Михаил Давыдович, мол, и последовал этому обычаю. Он объяснял, а не оправдывался. Тон письма был сухой, недружелюбный. При всех его удивительных качествах Михаил Давыдович не мог скрыть того мужского эгоизма, который им, мужчинам, присущ. Все они собственники. «Это мое!» — говорят они. Сережа теперь уже был ему не близким двоюродным братом, а только соперником.
Мы стали мужем и женой, никому не говоря об этом. Мы продолжали жить врозь, только часто ходили друг к другу. Это потому, что у меня была Агуля, не забывшая Мирошу, а у него — дочери-девушки, которые могли болезненно принять его «измену» матери, они могли ревновать. И ревновали.
3.
Взгляд извне. Майя:
Агнесса говорила вам, что папа любил Мирошу? Но несмотря на родственные чувства, частенько случалось папе резко осуждать его. Например, за картежную игру. Был даже такой случай, когда дядя Мироша пригласил нас всей семьей на лето к себе в Днепропетровск и мы с мамой поехали, а папа — нет.
Папу коробила та среда, в которой вращался Мироша.
Дядя Мироша был талантливый человек, у него был военный дар. Меньше чем за год он в царской армии поднялся от солдата до поручика. И в Красной Армии быстро пошел в гору. Если бы он остался в армии и дожил до войны, он, возможно, стал бы маршалом. Впрочем, могли еще до того расстрелять, как Тухачевского. Наверное, то, что он стал чекистом, продлило ему жизнь на несколько лет.
А я дядю Мирошу хорошо помню. Какой он был красивый! Я, бывало, глаз не могла отвести от него, говорила ему с восхищением:
— Дядя Мироша, какой вы красивый!
А он мне в ответ:
— Возьми мою красоту, отдай мне свои тринадцать лет.
Вот папа пишет, что давно любил Агнессу. Но я помню, когда она приходила к нам на дачу в Красково… Дядя Мироша не ходил, опасался. А тетя Ага — чуть не каждый день. Они с Мироновым жили недалеко, в Томилине, и она могла приходить пешком и часто приходила, нарядная, откровенно демонстрируя свое великолепное тело. Яркие крепдешиновые сарафанчики в обтяжку, грудь приоткрыта, ноги из-под длинной по моде тех времен юбки на высоченных каблуках. Умеренная косметика. Прибежит, бывало, оживленная, веселая, разговорчивая. Мама встречала ее — сама доброта. А отец, помню, посмеивался, называл барынькой, бездельницей, и нам казалось, что он как-то неодобрительно относится к этим визитам.
Они часто виделись после маминой смерти, я не придавала этому значения. Только отзывы папы об Агнессе изменились. Теперь он говорил:
— Это такая труженица! И такая красавица, как мама!
Он даже находил внешнее сходство с мамой.
Но вот соседки по дому стали нашептывать, встречая меня:
— Бедные, бедные сиротки, — качали головами, — еще тело матери не успело остыть…
«Что это они?» — недоумевала я.
Или еще прямее:
— Плохо, плохо вам будет с мачехой!
— Какая мачеха?
— Ты что, не видишь? Тетя эта ваша, которая все приходит…
Я смотрела на них с недоумением. Я не вмещала такой нелепости — тетя Ага и папа? Что за чепуха?
Но вот 22 июня. Двенадцать часов дня. Взволнованная речь Молотова по радио… война!
Папа тотчас пошел в военкомат. Ему было больше пятидесяти лет, но он доказывал, что здоровье у него отличное и что, имея опыт первой мировой войны, он может стать очень полезным на фронте. Ему отказали. Он ходил повторно, ему опять отказали. Вероятно, из-за той тени подозрения, которая в те времена ложилась на всех побывавших за границей.
В первые дни войны я однажды открыла ящик письменного стола — мне нужны были какие-то документы — и вдруг наткнулась на брачное свидетельство… с Агнессой Ивановной Мироновой! Я глазам своим не поверила. Пришла Бруша, я ей говорю:
— Ты это видела?
А она только улыбнулась:
— Я давно знаю.
Вот такая она была, как мама, — сама доброта, все человеческое понимала и прощала.
А может быть, еще и потому она отнеслась так, что собиралась замуж за Борю и вся была уже в новой своей жизни, а от нашей семьи отошла…
Отец еще раньше положил на книжку Агнессы двадцать тысяч, а нам с Брушей — по пяти тысяч. И еще «золотой заем» — тете Аге в руки.
Его материальное благополучие… Может быть, и оно оказало влияние на ее выбор. Она ведь была женщина, которая умела устраиваться.
Бруша расписалась с Борей, но не решалась сказать папе. Она иногда задерживалась у Беркенгеймов (в семье Бори), оставалась там ночевать, понемногу переносила туда то одну, то другую вещь… Но как сказать папе? Я посоветовала ей: «А ты не говори, что вы уже расписались, ты скажи: йХотим расписатьсяк. Или еще лучше — попроси разрешения…»
Но Бруша ответила: «Я не умею врать».
И объяснение состоялось.
Бруша мне потом рассказывала его начало. Когда она сказала папе, его лицо застыло и он проговорил холодно:
— Не вижу необходимости высказывать свое мнение. Я не имею к этому никакого отношения, я человек посторонний…
Я уже вам говорила, что он был очень ревнив.
О чем они говорили дальше, я так и не узнала. Только просидели они, закрывшись в папиной комнате, часа полтора, а вышли оттуда оба заплаканные и умиротворенные…
В те времена никаких свадеб не устраивали. К тому же шла война, враг захватывал у нас город за городом. Бруша и Боря готовились к эвакуации, они должны были ехать с военным заводом, где Боря, окончив институт, работал и где имел бронь. Уезжала вся семья. Бруша и Боря в Новосибирск, родители Бори (отец его был известный ученый-химик) — в Молотов. Было не до свадьбы!
Но как только Агнесса узнала о Брушином браке, ей загорелось — свадьбу, обязательно свадьбу! А у нас в доме все уже делалось так, как хотела Агнесса.
Свадьбу устроили в нашей большой квартире. Впрочем, она была уже не такая большая. После маминой смерти одну комнату у нас забрали, туда подселили жильцов, и мы оказались в коммуналке.
Но как Агнесса сервировала стол! Какая была посуда, салфетки, скатерть, фужеры! Агнесса где-то достала даже свежих роз и засыпала ими стол. Вероятно, ей хотелось праздника, увести себя и нас от совершающегося, еще раз блеснуть, как в Мирошины времена, глотнуть того воздуха…
Молодым она торжественно подарила одеяло из верблюжьей шерсти, привезенное еще из Монголии.
И сама она была в парчовом блистательном платье, с открытой шеей и плечами, как она любила, и с обнаженными руками. Борин отец — Борис Моисеевич Беркенгейм — стал целовать пальчики, а затем выше, выше, обцеловывая в упоении ее прекрасные белые руки… Опомнясь под взглядом жены, он потом говорил ей дома об Агнессе: «Омерзительная баба!»
Ох, не так ли говорил и папа, когда называл маме Агнессу барынькой?
Бруша была заполнена своей жизнью молодой жены, а я… Для меня папин брак был несчастьем, горем…
Агуля:
Горем этот брак был и для меня…
Нас переселили из Дома правительства в дом напротив — на той стороне реки, в Курсовом переулке. Это приметный дом, вы, наверное, его знаете. Он из красного кирпича с узором из кирпича другого цвета. На одном из его углов — большой фонарь-эркер. Вот в этой комнате с фонарем мы и жили. Из-за фонаря она казалась много больше, чем была.
Я не могла забыть папу, все мечтала, что он вернется. И когда Михаил Давыдович стал так часто к нам приходить и оставаться даже до утра, я начала понимать, что что-то тут не то, и чувствовать к нему неприязнь. Бывало, он придет к нам, принесет всякие сласти, а я — не беру! Не ем! Смотрю на него исподлобья.
Была в этой комнате большая ниша, которую завешивали ковром, чтобы она казалась частью стены, а перед ней стоял сундук, тоже застланный ковром. Когда Михаил Давыдович приходил, я садилась на этот сундук спиной к нему и к маме, ногами в нишу. Я не желала их видеть. Демонстративно.
В 1941 году в начале лета мы с мамой поехали в Сухуми на море, к дяде Павлу, который там работал и жил. И вдруг — война! Люди толпятся у репродукторов. Мы тут же попытались выехать в Москву, но все кинулись на поезда и мы сумели достать билеты только на двадцатый день.
В Москве с июля начались бомбежки. Мы, дети, ночевали в бомбоубежище, в подвале. Нас часто отводили туда прямо с вечера, даже до объявления тревоги. Однажды утром, когда мы поднялись наверх, двор был усыпан слоем битого стекла. В нашей комнате все было сдвинуто, как будто вещи сами съехали к стене, противоположной окну, стекол в окне не было, вышибленная рама болталась снаружи на петлях. Недалеко упала бомба, и все это натворила воздушная волна.
Из письма Михаила Давыдовича Агнессе:
Лагпункт Спасск, 22 апреля 1955 года.
Чудесный мой друг!
Я только что вернулся с прогулки. Видел восход солнца, видел, как оно поднялось из-за вышки и начало разбрасывать свое золото кругом. Сваи, на которых стоит вышка, неожиданно загорелись в золоте солнца. Послышался гул моторов — это пошел из Караганды пассажирский самолет. Неожиданно моторы заглохли — или мне показалось, — это было мгновение, и опять загудели. Это мгновение напомнило мне другое время и заставило глубоко заглянуть в одно явление.
Существует прекрасная легенда, созданная в Древней Греции, о птице, которая вечно возрождается из собственного пепла. Почувствовав приближение старости, она сжигает себя и из пепла себя возрождает. Она бессмертна и вечно молода. Не так ли и наша память, подобно легендарной птице, возрождает из пепла прошлое, все, что было жизнью, нашу любовь и радость, наше горе, и кровь нашего сердца, и мысль нашего мозга?
Сентябрь 1941 года. Воздушная тревога. Я отправил детей — Агулю и Майю — в бомбоубежище, а сам остался с женой в квартире.
Я очень любил свою жену и всегда был рад остаться с ней наедине. Мы недавно поженились — всего полтора года, и я любил ее не молодой крылатой любовью, а отстоявшейся, крепкой и глубокой. И я и она не были молоды, мы оба знали жизнь. Я ее любил давно, но это было глубоко запрятанное чувство, которое никогда не прорывалось и крепко сидело под замком совести. Время безжалостно убрало дорогих нам людей и освободило совесть от тяжелой службы. Я пришел к ней как врач и утешитель, а освободившееся чувство любви привлекло ее ко мне. Я стал ее мужем, любящим и постоянно наблюдавшим за ней. Не было большей радости для меня, как держать в своих руках свою возлюбленную, свою Агнессу, и неустанно следить за ней, наблюдать ее. Зрелый возраст и большой опыт жизни развили во мне эту страсть рассматривать человека, проникать в его душевное царство и видеть блеск душевного алмаза. Удивительное это было занятие — тонуть в счастье любви и видеть все кругом. Не менее удивительна была и моя Агинька! Человек вообще всегда интересен, и никогда наше знание не исчерпает его. Великие художники берут только часть человеческой души, ту часть, которая им созвучна или интересна. Агинька была самым благодатным человеческим характером и для наблюдений! Домовитая хозяйка, сама домовитость и одновременно — циркачка, работающая на трапециях под куполом цирка или в клетке с хищными животными…
Накинув свою беличью шубку, она хозяйственно идет со мной на чердак снимать белье и бережно его уложит и чинит. И тут же я вижу ее в клетке на арене цирка в короткой гофрированной юбке, с блестками и в сапожках, со стеком в руке командующей львами, послушно выполняющими ее отрывистую команду: «Алис!» Да, она могла быть укротительницей! Ее большие глаза не были миндалевидной формы, а почти круглые. Это придавало ее лицу какую-то жесткость, даже хищность. Тонкие сжатые губы содействовали этому впечатлению. Но она была доброй и чуткой душой. Пожалуй, жестокость не покидала ее, когда она стремилась к цели. Но основа ее характера была независимость. Казалось, что эта женщина никогда не может быть возлюбленной и мириться с ролью компаньонки, делящей свою волю с волей другого человека, подчиняющей себя добровольно любимому человеку. И верно: чувство независимости никогда не покидало ее, и, любя, она оставалась сдержанной и застенчивой. Если сдержанность удерживалась ее независимостью, то застенчивость была покрывалом, в котором она ревниво прятала свое тело, оберегая свою независимость. Если бы Агинька жила в Древней Греции, на родине красоты, она бы принимала участие во всех играх и празднествах, чтобы показать свое тело, грацию, и сама наслаждалась бы этим зрелищем. Она участвовала бы в вакхических играх, вакханка по своей природе, зажигала бы все кругом своим огнем красоты и любви, а сама оставалась бы холодной и следила бы за эффектами, которые она вызывает. Огонь и лед, вакханка и девственница.
В этой холодной жрице огня было еще одно свойство, которое она сама редко обнаруживала. Она радовалась и боялась этого свойства. Это материнство. Она любила свою дочь и всегда носила в душе своей еще не родившегося ребенка. Она себя хорошо чувствовала в обществе девочек, и они с ней. Ей не надо было играть перед ними, как взрослые это делают, и она играла с ними в куклы не «понарошку», а на самом деле, по-настоящему. Она сама была девочкой. Крепко сколоченная, с телом женщины Рубенса, среднего роста, живая, с удивительно приятным голосом, она всегда была чисто одета, аккуратно прилажена и уютна. Да, уютна! Вокруг нее всегда была атмосфера порядка и налаженности. Это уют, делающий жизнь приятной и привлекательной. Я ее любил со всеми ее особенностями, ясными для меня и туманными, и постоянно читал ее, наблюдал ее — это интересное человеческое существо. Но разве можно исчерпать знание, в особенности если любишь свой предмет? Каждый день открывается новое и ставит перед тобой новые загадки. А если твой любимый предмет — женщина, которая берет тебя, умного исследователя, в свои объятья, то ты теряешь свою объективность и беспристрастность ученого.
Но эпизод воздушной тревоги открыл мне многое в моей Агиньке и во мне самом. Только годы и расстояние помогли мне разобраться и понять пережитое тогда вместе с моей чудесной, любимой подругой…
Мы стояли обнявшись у открытой двери балкона и тревожно глядели на опустевшую площадь, когда гул моторов неприятельских самолетов приблизился. Ударили наши зенитки. Осколки сыпались на крыши. Вдруг роковой грохот прекратился. И мы услыхали свист скользящих крыльев — мы знали, что это такое! Раздались взрывы упавших бомб. Мы вздрогнули и крепко обнялись, в собственных объятьях мы нашли защиту от грозной опасности. Раздался взрыв где-то близко. Агинька спрятала свою голову у меня на груди. Дорогие мне глаза были широко раскрыты, но страха в них не было. Лицо раскраснелось и было покрыто легкой испариной. Она посмотрела на меня полузастенчиво и привлекла к себе. Угроза смерти вызвала у моей любимой огромный прилив жизни, который идет из рода в род, от матери к дочке, от Евы до наших женщин. Ты всем своим существом, биологически протестовала против смерти, призывала жизнь победить смерть. Я почувствовал твое вечное призвание создавать жизнь и утверждать ее. Я, рожденный женщиной, проник в тайну женственности и ярко увидел тебя, мою возлюбленную, мою мать и мою дочь. Женщина — начало жизни, любви и красоты. Я поцеловал твои глаза, обнял тебя и почувствовал, как твое желание утверждения жизни среди грохота и смерти входит в меня. Ты открыла мне закон вечной жизни, данной Богом, закон, которого никогда нельзя понять, а лишь в отдельные счастливые мгновения можно только почувствовать… Вот это случилось со мной во время бомбежки, когда я возле тебя, родная, прикоснулся к вечности…
4.
Майя:
16 октября, когда немцы прорвали фронт, в Москве началась паника. Папа позвонил мне:
— Срочно собирайся, бери самое необходимое и приезжай на «Мосфильм», не задерживаясь. Мы уезжаем на грузовиках, они ждать не будут.
Я была бесхозяйственна. Мама нас с Брушей ни к чему не приучала. Она рассуждала так: я намучилась в детстве, а они пусть этого не знают.
И мы занимались только учебой и общественной работой. Общественная работа — это было очень важно тогда.
Мы были феноменально непрактичны. Стряпать я научилась, только когда вышла замуж. Первую курицу я сварила с потрохами, предварительно, правда, выщипав пинцетом перья.
После маминой смерти наша домработница Мария Александровна, осмелев, стала подворовывать у нас активнее — она и прежде это делала, хотя была очень преданна маме. У нас был сундук, полный белья. Мы, девочки, знать не знали, что там есть. Теперь, когда я в него заглянула, он был пустой…
Я стала быстро хватать, что под руку подвернулось, и совать в рюкзак. Белые папины валенки, его бритву, пальто, старую, из каракулевых лапок шубу и демисезонное пальто на себя, а про ноги забыла, так и осталась в туфлях.
У меня было четырнадцать чемоданов с вещами, из них три — ценнейших. Грузились мы торопливо, впопыхах. Машины «Мосфильма». Все возмущаются, ворчат: «Людей некуда посадить, а тут вещами все забили». Михаилу Давыдовичу было неловко, он сказал мне: «Давай несколько чемоданов поставим на другую машину». Пришлось их перебросить туда. В одном из тех, перекинутых, чемоданов были мои туфли на микропорке, сама же я надела теплые, домашние. Одна сотрудница предложила что-нибудь оставить у ее тетки в Москве. И еще оставили мы у Нади — жены Мирошиного брата.
Мы поехали. Всюду пробки. Это был «исход из Москвы». Люди шли с узлами, с детьми. Я смотрела на них и думала — мы-то на машине, надо за то благодарить судьбу, а они вот как идут… Было их очень жаль. Что там мои вещи! Но так и получилось, как я боялась: когда мы приехали, на второй машине моих чемоданов не оказалось!
Майя:
Агнесса не могла пережить потери вещей, пилила папу, что он позволил перебросить чемоданы на другую машину и что оставили в Москве у кого-то. «Я была богатая женщина, — говорила она отцу, — а теперь у меня ничего нет».
Но что он мог? Была паника, раздражение, истерики, люди с «Мостехфильма» кричали, что наша машина вся завалена вещами, что другим некуда грузиться, кричали: «Сбросить!»
Когда мы ехали на пароходе, Агнесса еще не остыла и только и знала, что говорила об этих вещах. (Это были вещи, привезенные из Монголии, она все-таки многое сумела сохранить после конфискации.) Досадовала.
На этом пароходе оказалась Густа — первая жена Миронова, дважды соперница, у которой Агнесса отбила Миронова, а потом папу; конечно, она нашу тетю Агу, мало сказать, недолюбливала… Агнесса и ей — жаловаться, расписывать, какие были вещи и что пропало…
Мы стояли на палубе. Агнесса сошла вниз, я осталась с Густой. Я ее хорошо знала. Как жена Мироши — папиного двоюродного брата — она тоже была наша тетя. У Густы детей не было, она была одинока. Она и говорит мне:
— Маечка, поедем со мной в Казань, будешь моей дочерью, будешь учиться. Ну ты же сама видишь, что она (то есть тетя Ага) из себя представляет, какая мещанка. Такая война идет, а она — о вещах.
Уговорила меня. Я спустилась вниз в третий класс (где мы ехали) и говорю отцу, что поеду с тетей Густой. Отец спокойно:
— Как хочешь, Майя, это твое дело.
Но потом улучил минуту, когда мы оказались вдвоем, и спрашивает:
— Почему ты хочешь уехать с Густой? Тебе трудно с Агнессой?
— Нет, не трудно, но я там буду учиться (я уже имела один курс мединститута).
— Но ты и в Куйбышеве сможешь учиться.
Я поняла, что ему тяжело со мной расставаться, и поехала с ними в Куйбышев.
Там нам на несколько семейств дали одну комнату в шестнадцать-восемнадцать метров, бывший кабинет в служебном помещении студии хроникальных фильмов. В комнате стояли канцелярские столы, на одном из них — письменном — мы с Агулей спали. Отец с тетей Агой спали на полу, рядом с ними — другие пары. На столе спать было тесно, я во сне сдвигала Агулю, а она в ответ щипала меня.
Рядом с отцом и Агнессой на полу спали Караваевы. Их сын был недавно убит на фронте, мать находилась в депрессии, а глава семьи — игрун по женской части, маленький, юркий, как обезьянка, — ночью все подталкивал Агнессу, вызывая на сближение, она сердито отшибала его.
Папа презирал Караваева за то, что, будучи в прошлом дипкурьером и объездив весь мир, тот ничего из своих поездок не вынес, кроме впечатлений о вещах, тряпках, модах.
Был там еще один «киношник», который стал приударять на два фронта — за Агнессой и за мной. Но мне было семнадцать лет, я была девушка, и он решил, что Агнесса должна быть более сговорчива. Ух, какой она дала ему отпор, как отчитала, надо было только послушать! А когда через короткое время и отец включился, этот «киношник» быстро испарился из нашей комнаты.
Кроме Караваевых жили с нами еще Генины и Синявские. Каждую ночь Синявский приходил пьяный и принимался петь «горящей Каховкой идем», доходил до слов «ее голубые глаза» — и рыдать. Вероятно, в гражданскую войну у него была какая-то девушка.
Вот так мы жили. Начиналось все мирно. Ни у кого ничего хозяйственного не было…
У нас был кипятильник, который мы опускали в кастрюлю и варили суп. Вы говорите, опасно кипятильником, им можно кипятить только воду? Не знаю, но суп у нас сваривался и ничего не случалось. Кастрюлька была одна на всех. Я ее купила на рынке. Она была эмалированная, запаянная. Варили все по очереди.
Майя:
Как только мы кое-как устроились в Куйбышеве, папа пошел в военкомат вновь настаивать, чтобы его послали на фронт, где его опыт мог пригодиться. Ему опять отказали. Папа воспринял это болезненно. Нервничая, стал добиваться возвращения в Москву.
Я поступила работать помощником киномеханика на студию хроникальных фильмов в просмотровый зал. Днем там бывали просмотры из фронтовых хроник, ночью — правительственные просмотры этих хроник и художественных трофейных фильмов. Когда приходили наши правители, зал был наводнен телохранителями, а все комнаты заполняла военизированная охрана.
Киномеханика-мужчину сменила женщина. Мужчину сняли за то, что он перепутал части фильма о Кирове и показал наоборот: сперва Кирова хоронят, а потом он говорит речь. Его не только сняли, но арестовали, дали 58-ю статью и отправили в лагерь.
Женщина, которая его сменила, была пуганая-перепуганная. И вот однажды, когда мы крутили фильм, в нашей кинобудке оказался довольно интересный мужчина. Моя начальница послала меня в подвал за коробками фильмов, они были тяжелые. Я, в полной уверенности, что неожиданный гость оказался здесь из-за моей «несказанной красоты», говорю ему, как делаю одолжение: «Пойдемте, помогите мне». И он пошел, и таскал коробки, а я с безмятежной душой эту его работу принимала, не понимая только, почему на моей начальнице лица нет и она мне делает какие-то ужасные глаза. И только когда он ушел, она воскликнула:
— Что ты наделала! Это же начальник всей охраны!
А ему тоже могло влететь по 58-й, что отлучился, да и мне.
Но — сошло.
Было и такое приключение. Однажды я шла по улице, а зима, холод, и вдруг какая-то дверь в полуподвале отворилась — кто-то выходил, и на меня так и пахнуло теплом. Я и заглянуть успела, а там — продуктов! Какой-то закрытый магазин для избранных.
Я рассказала об этом в нашей комнате, и все тотчас решили меня приодеть пошикарнее и дать мне свои карточки — отоварить. Стали собирать что у кого есть лучшего в одежде — кто соболью шапку, кто шубку из шиншиллы, кто изящные ботинки. Я надела все это и пошла. Подхожу к двери с независимым видом, швейцар увидел такую элегантную девушку и распахнул передо мной дверь — пожалуйста!
Я — к прилавку. Продавец взял кучу моих карточек, посмотрел — и очень вежливо: «У вас карточки еще не прикреплены. Вы пройдите, пожалуйста, в соседнюю комнату, там вас прикрепят». А я взглянула на ручные часы (кто-то дал золотые) и небрежно так: «Ох, знаете, я очень спешу, вы отоварьте, пожалуйста, сейчас, я завтра обязательно прикреплю». И он отоварил.
Как-то я заскочила в ювелирный магазин посмотреть. А шла я за хлебом. Выхожу из ювелирного магазина, хочу достать карточки — а их нет! Вспомнила: какой-то тип в магазине вертелся около витрины, заглядывал, да так близко, что запотевало стекло, я была недовольна — не видно. А он все терся, терся… Ну ясно — вытащил карточки! А что такое была потеря карточек в войну — только пережившие это могут себе представить.
Но еще теплилась слабая надежда, а вдруг я дома оставила? Возвращаюсь домой, лихорадочно ищу там, сям, а Агуля — проницательный бесенок — она меня тогда ненавидела, соперница, что ли, рисовалась ей во мне, до того ведь росла она у Мироновых единственным ребенком, избалованным донельзя, — Агуля тотчас все поняла. Сидит на куче какого-то тряпья и мне — со злорадным восторгом:
— Что — карточки потеряла? Не нашла? Вот хорошо! Как я рада! Как я рада! — Ликует, заливается.
Я теперь ей рассказываю, а она не помнит, удивляется: «Неужели я была такая вредина?»
Я потеряла карточки. Что делать? На пристани продавали коммерческий хлеб, но за ним надо было стоять ночь и полдня. Давали в одни руки одну большую круглую буханку серого хлеба.
Я выстаивала с вечера до утра. На руке анилиновым карандашом писали номер. А холодно! В подъезд дома напротив хоть как-то согреться жильцы не пускали, запирали подъезд. Я стала ютиться под балконом, все-таки не такой ветер. Вечером мальчишки сверху это заметили, стали кидаться, потом воду лить. Прыгали, бесились от восторга, когда попадали. И вдруг весь этот балкон вместе с мальчишками обрушился на меня… К счастью, никто не пострадал.
Ночью или рано утром приходил папа: «Иди, погрейся», сменял меня. Агнесса не приходила. Я думала, если бы была мама… Потом папа уехал в Москву. Мне было так обидно, так горько, так тяжело жить!
Единственная моя отрада была — написать Бруше. Кому я могла излиться, как не ей? И я писала, изливалась.
Но, конечно же, по беспечности своей написала письмо и бросила где попало. Тетя Ага прочла. Я ждала, что будет буря, взрыв. Ничего подобного. Мне очень понравилась ее реакция. Она сказала добродушно, с иронией:
— Я прочла, как ты всех нас чихвостишь. Валяй дальше в том же духе!
И все. Ни слова больше. А дальше как ни в чем ни бывало.
Майя Михайловна Король, 1955 год
Я, конечно, к ней была пристрастна. Она никак не была «злой мачехой» из народных сказок. За нашу семью она стояла горой.
Помню, как-то Синявская в раздражении, что я никак не могу расчесать волосы, заворчала:
— Что ты тут патлами своими трясешь, своим вороньим гнездом?
Надо было видеть, как взорвалась Агнесса!
— Это у нашей-то Майи патлы? — воскликнула она, как разъяренная тигрица. — Это у нее воронье гнездо? Это у вашей Маши «два волоска и все густые», а у нашей Майи прекрасные волосы, любая позавидовать может!
Агнесса всегда старалась возвеличить мои «таланты». Однажды я что-то рисовала, она увидела и пришла в восторг:
— Как ты хорошо рисуешь, Маечка, тебе надо обязательно учиться рисовать!
И так как я стала отнекиваться, трезво оценивая свои «дарования», она сама разыскала эвакуировавшееся в Куйбышев Художественное училище, расхвалила там меня, договорилась, что я приду «на пробу», и стала меня настойчиво убеждать не упускать этой возможности.
Кроме желания добра лично мне, она считала: женщина не должна уступать мужчине ни в чем, все, что ей дано, нужно использовать, не позволяя заглохнуть в себе, надо себя утвердить.
Она опекала меня, как женщина опытная опекает женщину неопытную, точнее, молодую девушку. У меня была плохая осанка, я сутулилась. Агнесса говорила мне: «Зачем ты держишься так? У тебя ведь есть все возможности. Надо голову высоко нести, как царица».
Потом меня мобилизовали. Но еще перед моим отъездом мирная жизнь наша с соседями стала осложняться. Сперва это было из-за кипятильника. Но вот Агнесса со свойственной ей энергией и практичностью продала что-то на толкучке и купила керосинку. Таким образом семья наша от этого злополучного кипятильника отошла.
Но соседи стали просить разрешить и им готовить на нашей керосинке в нашей кастрюле (они все не управлялись с одним кипятильником, да еще какое напряжение было! Порой даже электрическая лампочка не горит, а только калится красным).
Тетя Ага разрешила, делилась. Но стали страшные очереди за керосином, мы ходили их выстаивать. И Агнесса сказала соседям: «Керосинку и кастрюлю буду давать, но за керосином давайте ходить все по очереди».
Они ленились ходить за керосином. Тогда я не дала керосинки. Старуха Генина (противная была старуха) стала клянчить: «Дайте, дайте нам! Мы завтра принесем керосин!» Я не выдержала, уступила. Но на следующий день никакого керосину никто не принес, а она опять просит: «Дайте!» Тут уж я не дала.
Майя:
Мы с дочерью Синявских — Машей — подружились. В мае 1942 года мы обе получили повестки. Отец Маши (тот самый, что по ночам, рыдая, пел «Каховку») был секретарем парторганизации Московского филиала Куйбышевской студии кинохроники. Он сказал Маше, что может освободить ее от мобилизации.
— Или нас вместе с Майей, — ответила Маша, — или никого. Иначе я не смогу смотреть в глаза ее отцу.
Двоих Синявский освободить не мог, и нас послали в Саратов, в школу морзисток при училище связи. Родные провожали призванных девушек на пристани. Матери плакали, выли, обнимали своих дочерей. А меня провожали тетя Ага и Агуля. Тетя Ага надавала мне продуктов на дорогу, Агуля все ныла:
— Мам! Ну пойдем! Пойдем! Скоро ли эта Майка уедет!
На пароходе в каютах ехали офицеры. На палубе было холодно. Офицеры стали звать девушек к себе в каюты. Все пошли, только мы с Машей остались — предпочли мерзнуть.
В училище сенсация: девчонок привезли! Ребята все балконы облепили, из окон чуть не вываливаются.
Нас — в санпропускник. Мы разделись, белье сдается в окошко, а там — летчик! Мужчина молодой, бравый. Девчонки завизжали, поприжимались к стенам, в углах. А он спокойно:
— Да что вы, девчата? Сейчас же война. Я в отпуск приехал, просто жену сменил, она пошла пообедать, я тут принимаю вместо нее.
Только мы намылились, объявляют — сейчас сюда придет мыться рота новобранцев. Мы мыльные так и полетели в раздевалку.
Таковы были мои первые впечатления об училище.
Я уже рассказывала, что папа положил мне и Бруше на сберегательные книжки по пять тысяч. Он хотел, чтобы это осталось на «черный день», и до войны все время проверял — не взялись ли мы тратить?
Бруша своих денег тогда не трогала. А я, бывало, не выдерживала. Папа возмущался моим легкомыслием, но аккуратно докладывал на счет взятое мною.
Когда меня мобилизовали, Агнесса предложила перевести мои деньги на ее имя. «Маечка, — сказала она мне, — так вернее»…
И я перевела.
В дорогу Агнесса мне дала четыреста рублей. А когда приехали в училище — там на заем подписка. И такой патриотический подъем — кто выплатит сразу? Я сразу и отдала все четыреста…
Не стану рассказывать, что там было после, как мы учились. Расскажу только о Маше.
Она была очень принципиальная. Стала сержантом — нашим начальством.
Как-то, помню, она выдавала нам трусы. А там были с резинкой и без резинки. Я прошу ее: «Маша, ты мне с резинкой оставь!» Куда там!
— Вот подойдет твоя очередь, — говорит, — какие окажутся, такие и дам.
Когда мы кончили школу морзисток и нас распределяли, мы могли попроситься вместе в одну часть, но Маша из гордости (или принципиальности?) не попросила. Я тоже была гордая. И нас направили в разные части.
Потом мы долго не виделись, а когда встретились…
Почему меня арестовали, мы долго гадали. Я узнала это только при реабилитации.
Мы проводили Маечку и остались с Агулей. А соседки по комнате — Караваевы, Синявские и особенно старуха Генина, — они завидовали мне страшно. Чему завидовали? Что нос не вешаю, что энергично добываю средства к существованию. Сами были они рохли, как что надо сделать — даже не представляли, ну а что я представляю себе это и активно действую, — это их из себя выводило.
Хоть и много вещей пропало при эвакуации, но кое-что из монгольских мы все-таки привезли. У меня оставался подарок Чойбалсана — голубой шелковый отрез с желтыми и оранжевыми цветами. Я резала его на куски-платочки и красиво подрубала, художественно, это я умею. Такой платочек шел за двести рублей.
Посмотрели на это соседки по комнате, скроили свои тряпки, что у кого сохранилось, стали просить меня подрубить. Я подрубала. Но им никто столько не давал, и они возгорелись еще более лютой ненавистью.
А тут еще керосинка. Я уже говорила об этом. Разве я была не права? Приносите и вы керосин, говорила я, мы на всех настояться в очередях не можем.
Я и укрываться своими пледами им давала. У меня из Монголии было несколько великолепных шерстяных пледов.
Хоть я и доставала кое-что, но из-за неприязни, тесноты и по многим еще другим причинам жить нам в Куйбышеве стало невмоготу. Немцев от Москвы отогнали, вот я и стала писать Михаилу Давыдовичу, проситься, чтобы вызвал нас, тогда ведь нужен был вызов, пропуск.
Михаил Давыдович пошел в милицию хлопотать нам с Агулей пропуск.
А в то время на фронтах — неудачи, наши опять отступают, начали со злости опять «прочищать», «подчищать», хватать и сажать. И когда Михаил Давыдович поднял вопрос о моем пропуске, внимание пало на меня. И что я была жена Миронова, «важного государственного преступника» (с насмешкой), в глаза кольнуло. Поэтому меня и арестовали. Так мы думали до самой моей реабилитации.
За мной явились в нашу с Агулей небольшую комнату (к тому времени нас из кабинета студии хроникальных фильмов уже расселили). Соседи — все те же Генины, Синявские, Караваевы — были понятыми.
Явились два форменных бандита. У меня были запасы. Я выручала деньги за продажу платочков и покупала продукты на «черном рынке», как теперь говорится, а тогда всюду эти «черные рынки» были, только «черными» мы их не называли. Наоборот, для некоторых это единственная надежда была не умереть с голоду, у кого хоть какие-то вещи сохранились. Но еще скажу к слову: наехали в Куйбышев какие-то люди — начальники-директора или кто их там знает — с чемоданами денег, наверное захватывали во время паники государственные. Они взвинчивали цены, не жалея денег. Цены росли день ото дня. А они, «богатеи» эти, жили с «черного рынка» припеваючи.
Но я отвлеклась. Пришли делать обыск. В мой шкафчик. А там у меня баночки с топленым маслом и несколько бутылок водки (это на обмен тоже). Один бандит другому на водку кивает, а тот ему — брови нахмурил, головой трясет: нет, нет… Стали выходить, первый опять подмигивает… Ну если бы соседей в комнате не было, взяли бы они и масло и водку. Но соседи стояли и глядели во все глаза, мне показалось тогда — злорадствовали.
Одиннадцатилетняя Агуля осталась одна. Целый месяц она с этими соседями прожила, им ее кормить приходилось, пока Михаил Давыдович за ней не приехал…
И вот проходит много лет, много черных лет — тюрьма, лагерь, годы бесправия — и вдруг реабилитация!
Помню, на Арбате это было, кажется, там, где табличка «Военный трибунал». Принял меня генерал, он «гениальнейшего», как и я, ненавидел, крепко пострадал тоже.
Смотрит мое дело.
— Не понимаю, — говорит, — за что вас арестовали!
— Я тоже не понимаю… Может, за то, что я жена Миронова?
— Может быть, может быть… — говорит рассеянно, неуверенно, листает дело… Ищет. Не нашел ничего о Миронове. Но вот вдруг на что-то наткнулся, промычал неопределенно: «Гм… да… вот». И быстро поднял глаза на меня.
— Не будем ворошить старое… — говорит примирительно, — подпишите вот тут вот, что получили реабилитацию.
И дает мне «дело». Мое «дело»!
И я вдруг вижу бумажку — донос! Мелькнуло «антисоветские разговоры», я жадно дальше — подписи: «Караваев, Генина, Синявская»! Мои соседи по Куйбышеву!
Тут уж я вцепилась в «дело», читаю, читаю, а там на меня написано: говорила то-то и то-то, что «электрическое напряжение плохое, что ничего нигде не купишь, что водопровод замерз…», и т. д., и т. д. Вот и получились «антисоветские разговоры»!
Генерал пытается осторожно у меня «дело» забрать, а я — не даю.
— Я им этого не оставлю!
Он тогда мягко:
— Агнесса Ивановна, знаете что? Вас реабилитировали? Реабилитировали. А это… — И махнул рукой — бросьте, мол, зачем вам это?
Михаил Давыдович тогда уже был дома, он тоже мне говорит — оставь, не надо, пусть живут. Откуда мы знаем, может быть, их заставили на тебя написать?
Ну я и не стала связываться.
Но иногда ночью вдруг проснусь, как током прошьет. Караваев, та обезьяна, что ночью ко мне под одеяло лазал, Генина, которая керосинку выпрашивала, Синявская, которой я давала пледом укрываться!.. Прошьет так током, и начинает точить мысль — неужто они благополучной жизнью наслаждаются?
Так они мне отплатили за все.
Вот и выходит, что меня арестовали за керосинку.
Майя:
А когда мы снова с Машей встретились, я уже знала про донос. Маша Синявская очень мне обрадовалась: «Майя, милая, дорогая!» А я смотрю и думаю: знаешь ты или нет? И понимаю, чувствую — ничего не знает.
Она была спокойный, уравновешенный, очень принципиальный человек. Пьющего отца она стыдилась, жалела. Когда в 1943 году был приказ о демобилизации девушек-студенток (а она была студентка истфака), Маша демобилизоваться отказалась: «Идет такая страшная война, — сказала она, — сейчас надо не учиться, а воевать». И пошла на фронт.
Она меня затащила к ним. Ее мать — та самая — ко мне целоваться: «Маечка, Маечка!» И расспрашивать: «А как там Агнесса Ивановна поживает? Как мы с ней дружно жили!» Прямо поет, глаза льстивые. Мне бы ей сказать, чьих рук это дело, а я… не смогла. Стыдно мне за нее, неловко. Я смолчала. И сделала вид, что ничего не знаю.
Но с Машей я больше не встречалась. Хотя Маша-то здесь была ни при чем.
Когда отец узнал, что Агнесса арестована, он стал отчаянно «стучать головой в закрытую дверь». Куда только не писал — и в прокуратуру, и самому Берии — добивался приема. Если удавалось куда-то пробиться — доказывал, что это ошибка, что она ни в чем не может быть виновата. Берии он писал, что, мол, если она виновата, «то и я — враг народа»! Он был вне себя, он был слеп.
Мой муж, Никифор Зиновьевич, потом говорил мне с укоризной о папе: «И как он не подумал о детях, о вас с Брушей? Зачем он всюду выскакивал, добивался, писал эти письма Берии? Неужели он не понимал, что если его арестуют, это же будет страшное пятно на дочерях, на внуках? Как он не подумал о вас?»
Но папа ни о ком и ни о чем не думал, не мог думать. Он был одержим Агнессой, он видел ее, ее одну и любой ценой хотел спасти. «Если она виновата, — писал он, — то арестуйте и меня».
И его арестовали.
Часть II КТО ВОЗДАСТ?!
В РАБСТВЕ
1.
Из Куйбышева меня — важную «государственную преступницу» — повезли в Москву. На вокзале от «воронка» к вагону сопровождали трое: впереди офицер МГБ — нес мое дело, справа и слева — вооруженные солдаты. Три здоровых мужика заняты были охраной одной ни в чем не повинной женщины, когда шла такая война и враг рвался на Кавказ.
На Лубянке, как и в Куйбышевской тюрьме, окна закрыты «лотками», только сверху щелочка — свет едва сочится. Днем темно, ночью — ярчайшая лампочка.
Я была в красной шерстяной вязаной кофточке с белой пушистой чайкой на груди. Вдруг ночью грохот, врывается баба-надзирательница: «Встать!» — Все вскочили, срывают повязки с глаз (без них невозможно было спать при этом свете). Разъяренная надзирательница — ко мне. Орет: ах ты, такая-сякая, спать в красном! На нервы действует! Вот так-то. Пришлось мне кофточку снять. А знаете, почему ей «на нервы действовало»? Красный — это цвет крови, а она следит в глазок, чтобы ничего над собой не сделали. На другом фоне кровь видна, а на красном — нет. А может, так: взглянула в глазок, увидела яркое красное пятно, и в первый момент ее ударило ужасом, почудилось — кровь! Залита кровью! Разобралась, конечно, что это кофта, но пережитое потрясение яростно выместила на мне.
Я еще не успела на Лубянке осмотреться, как к нам в камеру втолкнули тоненькую растерянную женщину. Она села на свободную койку, пытаясь в дневном полумраке разглядеть, есть ли тут кто. Наконец глаза ее привыкли. Заметив, что мы все на нее смотрим, она пролепетала: «Власова».
Нам в первый момент фамилия ее ничего не сказала (имя и отчество ее я теперь забыла). У нее был мешочек с черными сухариками, она всех угощала, и мы брали сколько хотели, пока не растащили все. Она была к этому индифферентна: ей не хотелось есть, она и от обеда отказывалась. Точнее сказать: ей еще не хотелось есть. В первые дни после ареста это с большинством бывает — есть не хочется. И мне не хотелось. Новенькие еще не знают, что их ждет голод. А если и знают, то все кажется безразличным — так силен шок от ареста.
Новенькая рассказала свою историю. Муж ее был известный генерал, тот самый Власов, о котором только и слышали еще до того, как узнали фамилии Рокоссовского и Жукова.
В эвакуации она жила у своих родственников в колхозе. Была очень неприспособленна, но привезла много денег, и родственники относились к ней с подобострастием, и она не знала забот. Муж присылал ей богатые посылки с продуктами, часто писал. А затем письма вдруг оборвались. Ни писем, ни посылок.
И вот в деревенскую распутицу, меся снежную слякоть, приезжает подвода, а на ней — два офицера.
— Здесь живет жена генерала Власова?
— Здесь.
— Собирайтесь, поедем в Москву.
— Зачем?
— Ваш муж просил доставить вас туда в целости и сохранности.
Она обрадовалась: значит, жив, здоров, скоро будем вместе! Они ей:
— Вещи забирайте все. Вы сюда не вернетесь.
Поехали через грязь на станцию, там вместе сели в поезд. На пересадке офицеры принесли ей вареную курицу, пирожные. Где только достали в такое время? Оба офицера — сама любезность, не знают, как и услужить. Она принимала как должное, еще бы — жена такого славного генерала! Она к такому отношению привыкла.
Но по мере того, как подъезжали к Москве, отношение офицеров менялось. Сперва — сама любезность, потом они стали равнодушно-холодны, потом грубы. В Москве на вокзале ее посадили в «черный ворон». Лубянка, обыск, осмотр, отпечатки пальцев, и т. д., и т. д. Затем втолкнули к нам.
Она была растеряна, беспомощна. Избалованная любимая девочка-жена, богатая чтимая родственница — и вдруг такое. Она ничего не понимала.
Ее стали вызывать на допросы. Возвращаясь, она рассказывала. У следователя на столе горка отнятых у нее при обыске писем мужа. Следователь:
— А ну говорите, где то письмо, которое вы спрятали?
— Какое письмо?
Он издевательски:
— Вы знаете, какое.
— Муж мне полгода не писал, он давно перестал писать.
— Лжете! Сознавайтесь! Вы письмо уничтожили? Что было в нем?
— В каком?.. Я не понимаю…
— Не валяйте дурочку! Письмо вы, конечно, уничтожили, но вы нам расскажете, что в нем было…
Вот так мучали ее, а она ничего не понимала. Я не знаю, что случилось с ней дальше. Расстреляли? Сгноили в лагере? Я сама тогда ничего не понимала, мы же в тюрьме не имели никаких известий. Я тогда думала, что Власова арестовали, как Миронова, как и всех других наших мужей. Только уже в лагере встретила я двух заключенных, спросила: «Кто вы такие?» Они ответили: «Власовцы». Вот я и начала о чем-то догадываться.
2.
Меня почти не водили на допросы, всего два-три раза. Следователь, ознакомившись с делом, спрашивал какие-то пустяки. Может быть, как и тот генерал при реабилитации, он был в недоумении, за что меня посадили. Но потом он нашел в деле, что я была женой Миронова — ага! — тут ему вроде бы стало ясно… Затем он как-то кричал на меня, но я так и не поняла, чего он от меня хочет. Вдруг меня опять вызывают. Окошечко-глазок приоткрывается:
— Кто тут на «мы»?
— Я.
— Как фамилия?
— Миронова.
— Выходите!
Я выхожу. И меня ведут, но… не в кабинет следователя, не теми коридорами, не той дорогой. Миновали лестницу вниз — слава Богу, не в подвал! И мы поднимаемся и вступаем в широкие коридоры, застланные коврами. Тишина, чистота, красота. Туда, куда я ходила по вызовам Мешика… Но еще дальше, еще шикарнее.
Вводят в большущий кабинет, на стене портрет Сталина во весь рост, в глубине — стол, за ним кто-то, даже различить трудно, так все обширно, грандиозно. А я, как песчинка в море, — несчастна, ничтожна. И вдруг ласковый голос:
— Агнесса Ивановна, если не ошибаюсь? Подойдите, пожалуйста, поближе, сюда вот, к столу. Садитесь, пожалуйста.
Ну, чудеса! Я ушам своим не верю. Это после всех шмонов, обысков. Задний проход, передний проход…
Подхожу. За столом сидит человек приятной внешности. Перед ним какая-то бумага, он в нее смотрит, словно проверяет что-то.
— Ваша фамилия, имя, отчество?
Я говорю. Он молчит, смотрит в бумаги, что-то неопределенное произносит: «Гм… да…»
А я тем временем огляделась. В приоткрытую дверь соседней комнаты вижу: там стол накрыт белоснежной скатертью, а на ней расставлены закуски, вы бы знали, какие! Увидеть это после двух месяцев тюремного «брандахлыста»!
Я сижу так, что свет падает мне в лицо, поэтому мне не очень хорошо видно. Человек за столом участливо начинает расспрашивать, как, когда, за что меня арестовали. Я говорю, что не знаю, за что, но как, когда, и где — рассказываю подробно (он требует подробности, точнее, не требует, а вежливо просит рассказать все-все). Затем он опять что-то уточняет.
— Кто был ваш муж? Какую он занимал должность? Я имею в виду Миронова.
— Начальник второго отдела Наркоминдела.
— Угу… гм… да…
Взял телефонную трубку, набрал что-то коротко. Заминая, замалчивая (чтобы я не поняла), что-то говорит, поясняет насчет Сережи.
Ну, думаю, сейчас начнет меня допрашивать о Мироше, начнет меня терзать. А он:
— Извините, пожалуйста, вы свободны. — Нажал кнопку, и меня увели.
Для меня до сих пор все это загадка. Я много над ней думала, пыталась разгадать. И сейчас мне кажется, что разгадала.
Помните, я вам рассказывала об однофамильце Миронова — начальнике экономического отдела НКВД, который был у нас в гостях в Новосибирске, а потом его там же арестовали? Так вот, они приняли меня, вероятно, за его жену. Она была Алла. Значит, А.Миронова. И я А.Миронова. Она была красавица. Но этого мало. Рассказывали, что она была как Мессалина и что из-за нее у мужчин всегда происходили жестокие конфликты.
Берия любил женщин и, вероятно, узнав, что у него на Лубянке находится А.Миронова, поручил кому-то из ближайших своих помощников выяснить точно — та или не та. А стол был накрыт для пира с нею, если окажется она. Он же был сластолюбец — Берия. Потом мой следователь обронил фразу:
— Вас вот сам нарком допрашивал!
Что он хотел этим сказать? За столом сидел не Берия — это точно. Возможно, что сидящий за столом звонил Берии, я даже уверена теперь, что так. А может быть, Берия подглядывал незаметно? А я в тюрьме очень плохо выглядела. Я почему-то пожелтела, меня прозвали «японец». Так что я могла ему не понравиться.
Может быть, наконец, мой следователь оговорился? Не «сам нарком допрашивал», а «сам нарком интересовался»? Так устроили мне на Лубянке «смотрины».
3.
Меня приговорили к пяти годам ИТЛ.
Везли нас в столыпинском вагоне. В купе набили двадцать три человека — вы представляете? Наверху лучшие лежачие места заняли, конечно, уголовницы, а мы — 58-я — внизу на лавках впритычку, впритирку. Так восемнадцать суток мы просидели в давке, спали кое-как, сидя. Помню, мечта была напиться вволю! Нам дали соленой рыбы, скверной селедки. Неопытные, мы ее и съели сразу, а потом: «Пить! Пить!» Конвой как глухой, будто и не слышит.
Утром вышел в коридор начальник конвоя, в брюках с подтяжками на расхристанной рубахе — сонный, толстый, морда тупая, самодовольная. Уголовницы к нему угодливо, просительно:
— Гражданин начальничек, нам пить хоцца, прикажите нам пить принести, воды нам не дают, уж мы просили, просили!..
А он стоит лицом к окну, спиной к нам, даже не оглянулся. Потом рыкнул:
— Тра-та-та, вашу мать! Надоели вы мне! Тудыть вас — растудыть!
Там вообще ругань такая — с утра до вечера, непрестанная, мерзостная, убогая. Сперва мне казалось, что я нахожусь по горло в блевотине. Но потом я привыкла — такой уж у них язык, иначе они и говорить не умеют.
Среди уголовниц одна отличалась особенной наглостью. Фамилия ее была, как и у жены генерала Власова. А у меня был голубой чайник. Это же какая ценность: наберем в него утром воды и потом пьем из носика. Но вот сверху стали просить: «Дайте напиться! Ну дайте, один глоточек! Все, так твою мать, в роте пересохло!»
Мне противно было (пили ведь из носика), но как можно, если у тебя есть вода, а люди просят пить, — не дать напиться? И я дала.
Власова взяла чайник и нахально, грубо:
— Мой будет.
Я — возмущаться. Тут проходит по коридору начальник, я — к нему:
— Гражданин начальник, наш чайник вот сверху взяли…
А Власова, тут же сменив грубость на вкрадчивость:
— Гражданин начальник, неправда это. Она мне за пайку хлеба чайник этот выменяла еще в тюрьме.
Мы — спорить, доказывать. Сверху в ответ ругань: «Тра-та-та!» Гвалт, крик, жалобы.
Начальник:
— Тудыть вашу мать, разбирайтесь сами! — И ушел.
Власова спустилась и туфлей меня по лицу, по лицу… А наверху гогочут. Я только руками лицо закрыла, униженная, бессильная, не могла же я с нею драться!
А жажда у нас доходила до того, что, помню, когда переходили мы из вагона в вагон, одна женщина схватила по пути кусок льда, черного от угля и копоти, и давай его грызть, сосать, лизать… хоть как-то освежить пересохший, стянутый рот! Другие заметили и к ней: «Дай! Дай!» И все изо рта в рот стали кусок этот жадно облизывать…
Конвоиры кутили, пьянствовали всю дорогу. Напьются, наедятся и идут по женским клеткам женщин выбирать. В нашу повадился начальник. Подойдет, станет у решетки, какое-то время смотрит пристально, взгляд с лица на лицо переводит, курит… Но вот тыкнул папиросой в молодую женщину:
— Вот вы! За что вас посадили?
А она быстро, охотно, с вдруг вспыхнувшей надеждой:
— Да сама не знаю… я была учительницей…
Ведь он, как-никак, а власть, вдруг он что-то для нее сделать сможет. А он:
— Может быть, помоете у меня полы?
Женщины:
— Иди, иди, они хлеба дадут!
Звяканье ключей, открывается решетка, выбранную уводят. Время идет. Ночь. Все кое-как, вытянув ноги, спят. Среди ночи опять звяканье ключей… Возвращается, лезет через людей, через ноги на свое место. Под пальто — буханка — это мы носом чуем. И вот тихо из темноты:
— Дал хлебушка!
А ведь все знают, за что она получила этот хлеб!
«Начальник обещал мне мое дело отложить, — шепчет она мне. — Отложить отдельно, похлопотать». Власть. Какая-никакая, а власть. А надежда хватается за все.
Но вот приехали в Долинку. Голое место, песок, пустыня. За дюнами не видно было низких бараков и проволочных ограждений. Как только вышли, мы тут же легли на землю, на песок — растянуться наконец-то, вытянуть ноги, расправить измученное за восемнадцать суток сиденья занемевшее тело. А я вспомнила учительницу и наблюдаю — выделит ли начальник ее дело? Нет, пока нет. Команда: «Строиться!» Пошли. Начальник впереди несет стопку наших дел. Дошли до ворот, и он сдал дела — все вместе, как будто и не обещал ей ничего… Конвой сложил с себя ответственность и обратно на поезд — ехать назад за другими. А она так и осталась — оплеванная…
И на что ему она? Будет другой поезд, опять выбор будет велик — чистых, скромных, интеллигентных женщин, таких, какие в другое время и смотреть бы на него не стали.
4.
В Долинке нас переписали — кто какую имеет специальность. Я записалась «медперсоналом» — кончила, мол, два курса мединститута.
В больнице я проработала недолго, перевели меня в полустационар. Это был огромный барак на триста человек. Не больница, но там были лежачие больные, те, что от слабости уже ходить не могли.
Рядом с полустационаром была комната «доходяг». Там все было белое — стены, простыни, столики, двери. Только лица и руки больных мертвенно-желтые. Они уже и не ели, лежали вытянувшись, с отсутствующим взглядом.
Отсюда и из полустационара каждое утро выносили по шесть-восемь трупов. Была зима. Оледеневших мертвецов ставили стоймя около уборной. Затем освободили сарайчик и стали складывать штабелями туда, но и там места не хватило, тогда — на террасу у выхода. Складывали голыми, кое-как прикрывши сверху. Навалили столько, что дверь плохо открывалась, приходилось на нее нажимать, чтобы выйти. Некоторые лежали «раскорякой» — то затвердевшая рука высунется, то нога. Проходя, заденешь. Или надо перешагивать.
Ко всему этому мы скоро привыкли. Иной раз выхожу, мертвецов дверью отжимаю и думаю с удивлением: «Что это со мной? Это же мертвецы, а я их не боюсь, как будто это дрова». Перешагну через ноги, руки и иду как ни в чем не бывало. Подумала: «Если бы это в нормальной жизни, то я не поверила бы, что так жить можно. А я тут не обращаю внимания и живу. И я все перенесу и не умру! Я не умру, не умру, со мной этого не случится!»
5.
В полустационаре давали «усиленное» питание, то есть сверх похлебки три четверти стакана молока и «витамины», а это — две столовые ложки (и не больше!) винегрета, то есть немного картошки, вареной свеклы, лука и чуть-чуть подсолнечного масла.
Мне надо было это раздавать, делить.
Когда я пришла в барак, меня моя предшественница Тамара научала: «Льешь молоко, недоливай чуть-чуть, вот тебе и останется».
Я попробовала, но вы не представляете, как они смотрят, когда им наливаешь! Нет, я не смогла недоливать, не сумела.
Жила я в каморке, где кроме меня еще были четыре санитарки. Одна из них жила с начальником вохры. Конечно, это строго воспрещалось, но тайно происходило повсеместно. Звали эту санитарку Клава.
В первый день, когда я пришла и моя предшественница передавала мне свое «хозяйство», Клава эта при мне обратилась к ней: «Тетя Тамара, мне что-нибудь поесть осталось?» И та дала ей молока.
Тамара ушла на другую работу, ее заменила я. Cперва все шло спокойно, но вот как-то вечером эта Клава и ко мне обратилась:
— Там у вас поесть мне не осталось?
А у меня не было ничего. Не получалось у меня недоливать, я уже говорила. Да и чего ради я бы ей давала? Я ведь тогда еще ничего не понимала…
И вот однажды с вечера, помню, я помыла голову, накрутила волосы на папильотки, постирала белье и спокойно легла спать. Вдруг — в два часа ночи — вызывают Миронову: собираться с вещами! Что такое? Куда? Зачем? — В этап.
На дворе темнота, колонну строят по шести, и — «шаг влево, шаг вправо, — конвой стреляет без предупреждения!..» — пошли на станцию. Там стали проверять дела, а моего нет. Значит, так наскоро все обстряпано было, что даже дело не успели положить. Пошли за ним. Все ждут. Принесли.
В тупике на запасном пути стоял товарный вагон, нас — в него. Нар нет, мы впритирку сели на пол, вагон снаружи заперли на засов, и поезд тронулся.
6.
Наутро мы уже приехали. Открыли дверь теплушки — ярко светит солнце, зеленая степь, красные тюльпаны. Был апрель, в это время в степи все цветет. Тепло.
Вели нас недалеко — к украинской хате-мазанке в одну комнату среди степи. «Здесь будем пока жить», — сказали конвойные и приказали строить в этой хате нары.
Комнатка небольшая, а нас сорок пять человек, но построили нары и втиснулись впритык.
В первый день конвой выдал нам только хлеб, мы стали возмущаться, тогда на следующий день они дали пшена, лук и бутылку подсолнечного масла. Это на три дня на сорок пять человек. Продукты эти оказались тут же, на «базе». Я еще накануне заметила небольшую пристройку к хате, вероятно, крестьянский сарайчик для птицы, но сейчас там птицы не было, жила там худая, бедно одетая женщина. Она была уже вольная. Срок отбыла, но шла война и поступил приказ: задерживать до конца войны. Вот она и устроилась здесь «завхозом».
Когда выдали продукты, она сказала нам: «Люди добрые, выберите двух женщин, кто варить будет».
Наша партия была разношерстная. Были интеллигентные люди, были простые крестьяне, девушки с Западной Украины и мальчишки лет шестнадцати-семнадцати из ФЗУ — их судили за подделку продуктовых карточек или за мелкое воровство с голода.
Готовить вызвались две крестьянки. Варили на дворе, там была глиняная печь-плита под навесом, как делают на Украине, чтобы стряпать летом. Сварили. Можно есть, а почти ни у кого посуды нет. Своя посуда — это очень важно в лагере. Если у тебя есть своя посуда, ты получаешь первым вершки — а жир-то весь сверху; последнему остается одна муть. Другие ждут, пока освободится твоя посуда. Поел — передаешь другому, тот — третьему. Только следи в оба, у кого твоя посуда, чтобы не «испарилась». Негигиенично? Грязно? Какая там грязь! Какая гигиена! На это не обращали внимания.
Я уже поняла, что значит своя посуда. Незадолго до этого я как раз выменяла на хлеб поллитровую эмалированную кружку в виде усеченного конуса, малым основанием вниз. (Я все это рассказываю вам подробно, чтобы вы поняли, как я спасла свою жизнь.) С кружкой этой я, конечно, получала одна из первых. К тому же я сделала игольник — отрезала кусочек подкладки от шубки (я ведь свою беличью шубку там в лагере не снимала ни зимой, ни летом, ни на миг с ней не расставалась; пусть она уже и вида того не имела, что прежде, но служила мне верно) — так вот отрезала я кусочек розовой шелковистой подкладки маленьким перочинным ножиком, который ухитрялась прятать во время «шмонов», нащипала из разных своих вещей ниток синих, желтых — каких где возможно, из юбки, из трико, из чего только смогла, набила кусочком ваты, который у меня был, и сшила шестилепестковый «цветок», подрубила его двойной ниткой и вышила его ярко и красиво.
Когда игольник был готов, я постучала в пристройку к «завхозу». Та дверь приоткрыла, грубо:
— Чего тебе?
Я ей показываю игольник:
— Вот этого вам не надо?
Она увидела, сразу выражение изменилось. Очень ценилось такое у женщин в лагере, всем хотелось хоть немного, хоть какой-нибудь красоты, иллюзии домашнего уюта. «Завхоз» расплылась:
— А что тебе за него?
— Хлеба…
— Нет у меня хлеба. У конвоя хлеб.
— А я без хлеба дать не могу. Я голодная.
— Я понимаю. А если пшена?
— Давайте!
И она насыпала мне полкружечки пшена. Я попросила еще и щепотку соли.
Варят на плите нашу баланду, а я говорю: «Буду следить за огнем». И стала подкидывать щепочки разные и солому, а на край скромно и осторожно поставила свое пшено в кружке, до краев налив ее водой. Поставила и думаю, что они скажут? А ну сейчас прогонят с плиты?
Пшено вскипело и стало разбухать, и вот уже полезло из кружки. Я сняла, чуть остудила и стала есть огрызком гребенки — ложки у меня не было. Ем его, а оно горячее, густое! Я съела. Сварилась баланда, и я протянула кружку одна из первых. Все косятся, но молчат. Съела я все это и чувствую в желудке тяжесть, сытость. Давно я такая сытая не ложилась спать.
Помните, у Джека Лондона рассказ «Кусок мяса»? О боксере, который не смог перед рингом купить этого мяса и проиграл? Так вот у меня, правда, не кусок мяса, а полкружки пшена было, но эти полкружки меня спасли.
Утром, помню число — 23 апреля 1943 года, нас погнали дальше. Было солнечно, но такой сильный встречный ветер, что идти против него не было сил. Я говорю вохре:
— Нас же ветром свалит!
— Но идтить надоть, так твою мать.
— Так не в такую погоду. Можно еще здесь пожить.
— У нас приказ. — И опять «тра-та-та».
Идти тяжело, жарко. Я на себя надела все теплое свое, ну и, конечно, в шубке. Снисхождение: «Кому тяжело, кладите вещи на подводу!» Все стали класть. И я положила часть вещей.
Облегчение, но ненадолго. Ветер страшный, все усиливается, по небу пошли темные тучи, начался дождь. Сразу образовались лужи, дорогу развезло, она стала, как грязная река. Месим грязь, спотыкаемся. Дождь сменился градом — лупит по спине, в лицо. Все от дождя промокли, к тому же стало холодать. Мокрая одежда замерзает, мех моей шубки оброс льдинками — если бы не ураганный ветер, слышалось бы, наверное, как они звенят, — как подвески. Повалил густой жесткий снег. Пурга такая, что в трех шагах человека не видно — где конвой, где мы. Все перемешалось, конвой исчез. Молодежь наша ушла вперед, старики отстали, я где-то посредине. За воем ветра ничего не слышно (может, кто-то кричит?), дышать нечем, ветер забивает дыхание. А надо идти, преодолевая страшную снежную стену, — только впереди спасение. А сил нет…
Около меня люди уже падают и не встают. Была с нами рослая красавица полька. На воле осталось у нее четверо детей. Одета она была только в ватные брюки и телогрейку на голое тело, всю одежду с себя она променяла на хлеб. Ватное на ней промокло насквозь, теперь оледенело. Она шла недалеко от меня. Я видела, как она упала. Остановиться, помочь? Надо, надо! Не сделаешь, потом затерзаешь себя. И тут же мысль — если только остановлюсь, помогу ей, уже не встану и я…
Идти, идти, идти! И мечта — хоть бы какая-нибудь стенка от ветра и бури! Прилечь за ней, привалиться, спрятаться от бурана и замереть, не шевелясь! Чтобы больше не выскакивало сердце! Но как хорошо, что такой стенки не оказалось! Стоило бы мне упасть, лечь, — и я бы уже не поднялась.
Иной раз заряды снега вдруг стихали. На короткое время прояснялось. Тогда сбоку, чуть сзади меня, я видела на горизонте под темными тучами узкую светлую полоску неба — тот солнечный день, от которого мы ушли. Я нет-нет, да и видела ее, эту полоску, оглядываясь. Я молилась ей, как будто там был Бог, она меня поддерживала. Дойти, дойти! Господи, если Ты есть, если Ты только есть, сделай так, чтобы я дошла! И я дошла.
Как животное, я вдруг учуяла запах дыма и поползла, потащилась на этот запах, преодолевая новые заряды снега. Вот впереди, мне показалось, высоко взметнулся огонь! Стены! И тут буран стих как обрезанный. Я оказалась в грубой пастушьей глиняной постройке для овец. Посредине на полу горел костер, дым выходил в дыру крыши. Вокруг костра наш конвой (они бросили нас, спасая себя), собаки, девушки с Западной Украины, фэзэушники.
Там был плетень, разгораживающий кошару: одна из частей ее была, вероятно, для овец. Плетень ломали, кидали в огонь. Кидали и гнилую солому, которая была здесь же.
Еще не чувствуя, не воспринимая ничего, я поползла к огню, к чудесному спасению человека — к огню! Я села близко, я протянула руки к огню. Я была спасена!
Потом я сняла шубку — она внутри оказалась сухая! — повесила ее сушиться на жердь; льдинки, сковывавшие мех, таяли, капало. Я пододвинула к костру ноги — ботинки мои в дороге разбились, разорвались, спадали с ног, я их потеряла. Конец пути я по снегу шла в носках… Но ноги были живы, они уже чувствовали жар огня.
Вохровцы пререкались, вероятно, посылали один другого идти назад, приводить отставших. «Ты иди, так твою мать. — Иди сам, тудыть тебя!» — такой шел между ними мрачный диалог, а ведь они были в шапках-ушанках, в тулупах, в рукавицах!
— А Сеня? Сеня где? Он же рядом шел! — встревожились девушки с Западной Украины. Сени — мальчишки-фэзэушника — не было. Девушки стали просить конвойных сходить за ним (о стариках они не беспокоились…) Просить конвой — только нарваться на злую ругань. Тогда девушки, молодые, сильные, решили идти сами. Тут уж один вохровец охотно выступил советчиком:
— Возьмите головешку, в дверях ею махайте. Ведь совсем темно, ночь.
Девушки не приняли совета:
— Не надо, нам костер в «трубу» видно.
Они ушли. Молодцы! Крепкие, сильные, они принесли Сеню. Он был без движения. Опоздали? Замерз? Его положили у огня, стали растирать. И вот через какое-то время ресницы его дрогнули и он ожил.
А я, сняв шубку, завернулась в шерстяной платок. Вдруг чувствую, кто-то тянет меня. Оглянулась — мужчина в мокром белье пытается залезть под мой платок. Я отпустила край, он завернулся, обняв меня, а рукой взял за пустой мешочек моей левой груди. Мне было все равно. Так мы и сидели рядом, прижавшись друг к другу под моим платком, не шевелясь, ничего не желая. Кто он, как его звали — я так и не знаю. Потом я его не встречала. Мы не говорили друг с другом, мы не могли. Мы были, как два несчастных животных, приползшие к теплу, прижавшиеся к теплу, спасающиеся теплом.
В полузабытьи мы провели ночь. Только станет костер пригасать, — кто-нибудь подойдет, подбросит. Весь плетень сожгли.
Утром яркое солнце над обледеневшей степью. Трава, цветы — ничего этого не было видно под снегом и льдом. Откуда-то на тачанках примчались еще вохровцы. Кричали. О чем — не помню.
Поехали с подводой собирать недошедших. Привезли пятнадцать трупов. На телеге лежала та рослая красавица-полька в ватнике, около которой я не остановилась. Рука ее свешивалась с телеги, жестко вздрагивала при толчках.
Кто-то у нас стал возмущаться, вохровцы отвечали — констатировали спокойно, флегматично: «Это у нас кажный год так».
Умершие, замерзшие, погибшие их не очень беспокоили. Лишь бы число сошлось. Соответствующие начальники вычеркнут из списков, закроют дела. Вот если побег, — тут они отвечают! Тут они звереют. Я еще расскажу об этом.
Теперь вам должно быть понятно, почему я так подробно рассказывала о кружке, игольнике, шубке? Они спасли меня. Я была сыта, у меня появились силы, а шубка не пропустила воду к моему телу.
Я говорю о вещах. Но ведь я молилась, я горячо, страстно молилась: «Господи, если Ты есть, если Ты только есть, сделай так, чтобы я дошла». И я дошла.
Мама учила нас, детей, молиться, верить в Бога, ходить в церковь. И я верю, хотя в церковь и не хожу. Бог есть, есть что-то, милая Мира, — поверьте мне!
А наши вещи, которые мы на телегу положили, пропали. Нам сказали, что телега в буране перевернулась, и никто собирать вещей не стал. Врут, наверное, себе взяли. Там пропала и моя кружка.
7.
Мы снова пошли. Еле передвигались после вчерашнего. Мне пришлось ноги замотать бельем и надеть войлочные домашние туфли (они оказались в рюкзаке, с которым я не расставалась).
Шли мы долго. Только к вечеру оказались в Аратау — центре овцеводческих ферм. Тут не переписывали, у кого какая специальность, — всех послали на общие работы. А большинство, в том числе и я, ничего не умели делать.
Мы должны были полоть хлебные поля, вырывая сорняки руками. Огороды мы тоже пололи, но там хотя бы тяпками. Затем сенокос и уборка хлеба. Были косилки, но мы должны были вязать снопы и складывать их в скирды. А зимой мы ходили за овцами — доставали из-под снега сено, кормили, доили, чистили стойла. Доить было трудно, туго. Молока не пили, делали сыры (не себе, конечно!). Иногда зимой овец выгоняли в степь, они вырывали траву из-под снега.
Мы голодали там страшно. Если находили в поле пршлогоднюю картошку (в ее «яблочке» сохранялся белый крахмал), бросали ее в наш брандахлыст — крахмал загустевал, и получалось сытно.
Я стала как скелет, меня называли бабушкой. От голода и грязи у меня сделался кровавый понос, и я попала в больницу. Там после выздоровления мне удалось задержаться, правда, не сразу. Сперва меня послали работать лекпомом на пятую ферму. Все фермы были в степи. Бараки для заключенных большие, с русской печью. Отдельно в казармах жила военизированная охрана. Я обслуживала ферму и все ее летовки.
Летовка — от слова «лето». В степь вывозят человек десять зэков — пасти овец и ухаживать за ними; летовку старались устроить около сопок: хотя сопки и невысоки, гряда их все-таки защищает от ветра. Делают шалаши из соломы. Под навесом очаг — вмазывают в глину котел для варева. Живут здесь без охраны, вохра только наезжает с проверками. Хлеб привозят на несколько дней.
Все хотели попасть на летовку после голодных зимы и весны. Там доили овец и пили овечье молоко: учесть его было трудно. Иногда закалывали — тайно, разумеется, — овцу. Закалывали и ночью быстро варили, в первую очередь — внутренности. Наедались. Сразу все съесть не могли, оставшееся прятали. Делали так: около очага вырывали яму, туда клали мясо, сверху прикрывали досками, а на них — куски свежего дерна. Получалась полная иллюзия нетронутого травяного лужка. Заявляли, что волки унесли овцу. Когда налетала вохра для расследования, их таратайки мы видели издали (в такие дни кто-нибудь дежурил на сопке и предупреждал повариху, что едут; пока они доезжали, все следы успевали убрать). Шум, ругань — они же понимали, что их обманывают, а обнаружить ничего не могли. Все утверждали, что это волки, вели в кусты, показывали предварительно разбросанные там обглоданные кости, даже разбрызгивали кровь. Собаки кидались на кости, кидались они и к очагу, но на это никто не обращал внимания, это казалось понятным — там же пища. Все зэки дружно говорили одно и то же, стояли на своем — волки унесли! Так вохра и уезжала ни с чем; посмотрят, что едят — обычное пустое варево, ни намека на мясо, — и все гладко, шито-крыто.
Еще легче было во время отела. Хоть приблизительно и знали, сколько должно быть приплода, но все-таки не точно; тут легко удавалось перехватить ягненка. Все это, конечно, делали изредка.
Ко мне относились хорошо, моего прихода на летовках ждали, иногда встречали восклицанием:
— Лекпомша, иди скорее, мы тебе сердце, печень оставили!
Я стала поправляться. Теперь меня уже не называли бабушкой, как весной.
8.
Как-то пришла я на одну летовку. Там вохра. А под кустами лежит человек, как затравленный, худой — один скелет. Лежит без движения. Стряпуха мне шепчет: «Это птицелов».
Человек этот ловил птиц силками и относил начальству. Несколько дней назад он пропал. Потерялся? Но слух был, что не так уж безобидно он ловил птиц: каждый день отходил все дальше. И вот однажды не вернулся. Его сочли беглым, объявили розыск.
На летовку прибыла вохра. И вдруг птицелов вышел из кустов, вероятно, на запах дыма, к людям, голод загнал… Увидел вохру, но никуда уже идти не мог, свалился без сил и лежал.
Тут как раз сварилась баланда. Я говорю стряпухе: «Покорми». — «Ой, боюсь!» — «А я не боюсь!» — Взяла свою миску, стряпуха мне налила, и я пошла к птицелову. Вохровец увидел:
— Зачем даешь, это же беглый, так твою мать!
— Это еще неизвестно, — отвечаю спокойно и сую миску. Птицелов глаза открыл, встрепенулся, как ожил, стал жадно лакать. Вохровец миску ногой выбил, но мне — ни слова. Они на меня реже орали, чем на других.
А тут мчится еще таратайка, уже за беглым — сообщили на ферму, что птицелов тут. Вохровцы соскочили с таратайки и давай его бить — разъяренные, ненавидят они беглых, им же за каждого из них пятно по службе. Бьют его ногами, топчут. А он и так еле дышит. Сперва еще стонал, а потом замолчал. А они все пинают его ногами и бьют, бьют.
Как будто это меня били — я не могла на это смотреть, ушла в шалаш, а другие смотрели с полным тупым равнодушием, словно так и надо. Избили они его в кровавый комок, потом привязали к своей таратайке сзади, и привязали не просто, а свернули, как младенца в утробе матери, веревками переплели и вертикально привязали так, что он почти по земле волочился, и все препятствия, которые на пути встречались, по нему били — камни ударяли, кусты хлестали. Сели и погнали лошадей.
Мне потом рассказывали, что на ферму его привезли еще живого, но там опять били и забили насмерть. Я уже вам говорила: если забивали насмерть или застреливали, это считалось в порядке вещей, за это могли дать только благодарность. Но если убежал, тут уж подымалась буря…
9.
На ферме я жила в каморке, отгороженной от барака. В бараке спали мужчины, а в отделенной, обнесенной дощатой перегородкой части — женщины, их было немного, всего человек пятнадцать. И еще была каморка для меня. Печь топилась из барака, но в мою каморку она выходила небольшой плитой: считалось, что мне надо кипятить инструменты, но вы сами понимаете — какие там инструменты! Не было даже шприца с иглами, не было лекарств: марганцовка, йод, какие-то, вероятно, давно устаревшие порошки от головной боли. Вот и все, чем я могла «лечить». Еще термометры — ставить тем, кто просит освобождения от работы.
За тонкой фанерной перегородкой моей каморки в бараке спал один заключенный. Он все старался мне угодить, что-то было у него вроде влюбленности. Печку подтапливал для меня, кизяки крал, ну и сам, конечно, от этого выгадывал — тут в тепле около меня пристроился.
Украл он как-то пшеницы, принес, я наварила — наелись. А тут розыск, вохра схватила его, страшно избила. Вернулся он в кровоподтеках, но хорохорится, смеется с презрением. Надо было слышать, с какой издевкой произнес он слово «из-би-ли!». Мол, вот чем хотели унизить, припугнуть, а он, как настоящий мужчина, плюет на это…
Но какое счастье — горожанам не понять — зимой вернуться с пурги в теплый барак! Барак этот — грязный, вонючий — казался лучше дворца! Помню, я ходила на другую ферму и надо было возвращаться домой. Дорога санная едва видна, стало засвистывать, я тороплюсь: если пурга застанет — погибну! Поземка метет, надо спешить, пока дорога еще как-то видна. Иду, иду, вспотела, из сил выбилась совсем. А ветер все сильней лупит снегом в лицо, дыхание перехватывает, ну не дойду! И вдруг все поднялось, завертелось — конец! Но я была уже рядом, что-то темное — стена! Толкнула дверь… Боже мой! Как в другой мир! Горит коптилка, светло! (Что так светло, мне после мрака показалось.) Люди мирно спят, две натопленные русские печи…
Вошла вся в снегу, а тут дед восьмидесятипятилетний — он жил у входа — мне навстречу, он не спал, ждал меня, тревожился:
— Вот хорошо! Агнесса Ивановна пришла, Агнесса Ивановна пришла!
Счастлив, что я не погибла. А мне тоже хорошо, что меня ждут.
Он, этот дед, был ко мне очень привязан, я ведь жалею стариков и всегда жалела, разве что в юности не понимала. У деда этого было семеро родных на фронте: пятеро сыновей и два брата. Они не боялись, все ходатайствовали о его освобождении. Но — как в глухую стену…
10.
Я вам рассказывала о есауле Петровском? Неужели не рассказывала? Это же очень интересно! Но подождите, я сейчас: найду вам журнал… Вот он. Смотрите, журнал «Вокруг света», номер два за 1978 год. Вот тут на четвертой странице начинается рассказ «Нас водила молодость в сабельный поход». Все это о нас, о Майкопе, о есауле Петровском!
Он был моей первой любовью.
Когда красные стали подходить к Майкопу, их командование предложило казачьему атаману генералу Данилову и его ближайшему помощнику есаулу Петровскому сдать город. Данилов и Петровский согласились, но поставили условие: красные беспрепятственно пропустят белые части в Грузию.
Почему они сдали город? Думаю, понимали, что красные все равно город возьмут, и не хотели напрасного кровопролития. И еще у Данилова в Майкопе была семья, он не хотел подвергать ее опасности из-за боев. Ну, а Петровский… не из-за меня ли?
Вы хотите прочитать сами? Я вам дам журнал, только, милая Мира, обязательно верните мне его. Обязательно, хорошо?
…У нас два года стояли белые. Жили мирно. Всю страну под красными белые называли Совдепией. Сперва надеялись ее взять, победить красных.
Белые офицеры ухаживали за Леной. Один из них устраивал для нее верховые поездки, и мы научились ездить верхом. Ездили мы вчетвером. Сперва Лена, ее поклонник и есаул Петровский, а потом стали брать для Петровского, как пару, и меня. Я училась тогда в шестом классе гимназии, мне было шестнадцать, потом семнадцать лет. Лена уже кончила гимназию — восемь классов — и училась в педагогическом классе, чтобы получить право преподавать в младших классах.
Стали брать меня «для счета», чтобы получилось две пары. Вот так Петровский и обратил на меня внимание, хотя для него я была слишком юна: ему, наверное, около тридцати было — совсем уже сложившийся человек, дворянин, до войны кончил в Петербурге физико-математический факультет университета. Очень интересный — подтянутый, стройный, в черкеске с аксельбантами (это ведь были казачьи части).
Я в него влюбилась без памяти. Знаете, как это в юности случается? Поэтично, самозабвенно. Видела его я редко, он бывал часто занят, возможно, и не очень стремился форсировать наш роман. Жениться на мне он не собирался, а соблазнить такую юную девушку… на это он пойти не мог — он был очень порядочный человек. Отсюда, вероятно, и эта как бы отстраненность некоторая, ну холодность, что ли… А я, я только и мечтала о встрече с ним! Только и искала предлогов. И Лена знала, я ей говорила, как я его люблю.
Когда она вышла замуж, у нее бывали «светские приемы». Помню, в день ее рождения должны были быть офицеры и обязательно Петровский. Я мечтала увидеться с ним в гостях! А Лена — как всегда нечуткая — сказала мне: «Ты не приходи, а то будет тесно за столом, тут и свекра со свекровью надо пригласить (родители ее мужа были майкопские), человек двадцать будет… куда я тебя посажу?» Я не пошла. И проплакала весь вечер.
А теперь ей скажи, что так было. Она ответит: ничего подобного, ничего этого не было. Она не помнит.
Но мы с Петровским все-таки стали встречаться. Сперва как будто случайно, в парке. Какую я испытывала гордость, какое ликующее счастье, меня словно бросало внезапно в волшебную сказку. Вы себе только представьте. Мы гуляем с подругами в парке, с гимназистками, такими же, как я. И вдруг вдалеке вижу — идет он. Появился, приближается, и все знают — идет ко мне, к девчонке, как волшебный принц. Высокий, стройный, интересный, затянутый в белую черкеску. Подходит, здоровается со всеми, но смотрит только на меня. И мы с ним отходим и гуляем по парку, по дорожкам, по аллеям, и он со мной весело разговаривает, и все видят нас вместе. Потом темнеет, пора домой, мы находим моих подружек, вместе идем их провожать (как же они мне завидовали!), а последней он провожает меня, и там, возле нашей калитки, в темноте он целует меня… Потом мы стали назначать встречи.
Как-то, гуляя, мы зашли на кладбище, там были памятники погибшим белым офицерам. Петровский сказал с грустью:
— Что красные сделают с этими памятниками!
— А что они могут сделать? Ничего не сделают.
— Ничего? Да они здесь камня на камне не оставят!
— А будут они здесь?
— Надеюсь, что нет.
За городом, на пикнике, помню, я была рядом с ним. Он лег на траву навзничь, смотрел на небо. Я тогда близко увидела его лицо. Мелкие-мелкие морщинки и ясные голубые глаза.
Когда мы долго не виделись, я скучала, тосковала. Как-то, помню, очень долго его не было, я написала ему письмо: почему он не показывается? Я так скучаю… Он прислал мне записку — назначил встретиться в парке. Там на лавочке мы сидели рядом. Про мое письмо он ни слова не сказал (хотя я точно знала, что он его получил), спрашивал только: «Что ты делала это время? Тебе было скучно, ты обо мне скучала?» И ласково обнимал меня, заглядывая в глаза.
Потом на какой-то вечеринке у Лены он сидел на диване, а я — рядом с ним, близко. С моей стороны в кобуре у него был наган. Я осторожно расстегнула кобуру, вытащила наган, открыла его (я это умела, Петровский научил меня стрелять из нагана; он учил нас с Леной этому за городом), а там в магазине — семь пуль. Я вытащила две, наган положила обратно в кобуру, так что Петровский и не заметил. Я взяла их на память.
Белые все надеялись, что красные не придут и, наоборот, это они оттеснят красных и дойдут до столицы. Но вот на карте флажки фронтов начали к нам приближаться, смыкаясь. Долго не было весточки от Петровского. Я опять писала, но ответа не последовало.
Помню, я пошла в баню. Возвращаюсь в платке, одета буднично, не так, как для него старалась одеться. И вдруг — Петровский! Неожиданно. Но только не в черкеске, а в светло-серой шинели с эполетами. Увидел меня, смеется: «Кого я вижу? Кто это?» Я смутилась оттого, что я в таком виде, хотела прошмыгнуть мимо него, а он все обратил в шутку: «Кто это — не узнаю! А… из маскарада?» (Так мы называли баню.) Но быстро посерьезнел:
— Вот ведь какие дела… Приближаются красные. Хочется надеяться, что боев здесь не будет. Но все может случиться…
Он спешил, шутливо отдал мне честь и ушел. Это было в последний раз, что я его видела. Теперь я понимаю — как раз тогда, вероятно, они с Даниловым начали переговоры с красными командирами, чтобы оставить город без боя… Ему действительно было не до меня. Когда белые ушли, подруги меня спрашивали:
— Петровский простился с тобою?
А я лгала:
— Конечно, простился. Прискакал на лошади, соскочил, простился и уехал.
Но он не простился.
Тогда у них была достигнута договоренность с красными: все белые офицеры, что пожелают остаться в городе (были там майкопские, которым война надоела), остаются, сдают оружие и будут жить мирно — красные обещали их не трогать.
Остался и муж Лены, он тоже был майкопский и страстно любил Лену, он не мог от нее уехать. Некоторое время красные соблюдали соглашение. А потом увезли всех этих офицеров на север и там расстреляли.
Вы спрашиваете, не сыграли ли роковую роль для Петровского те две пули, которые я незаметно вытащила у него из нагана на память? Нет, к счастью, нет. Петровский остался жив. Когда мы с Сережей были в Монголии, там среди старых иностранных журналов попадались и русские белогвардейские, вероятно, еще двадцатых годов; и вдруг в одном из них я наткнулась на фотографию: Петровский на верблюде, а рядом стоит Данилов. И подпись под фотографией: «Кавалеристы пересели на верблюдов. Русские офицеры на службе во Французском легионе».
Чтобы удостовериться, что не ошиблась, я взяла себе этот журнал, показала его Лене и спросила: «Кто это?» — «Да это же Петровский!» — воскликнула она.
И вот прошло четверть века… На ферме, я уже говорила, вохровцы жили отдельно, но часто толклись в нашем бараке, мы только и ждали, когда же они уйдут, чтобы хоть что-то сварить (если удавалось достать). И вот среди них был один такой Денисов, уже немолодой, лет пятидесяти с лишним, семейный. Среднего роста, слегка сгорбленный, на лице много мелких морщин, а глаза голубые, ясные. Я когда увидела его в первый раз, даже замерла — так он мне показался похож на Петровского, ну, конечно, постаревшего. Правда, моя память рисовала мне Петровского высоким, но это могло мне казаться в сравнении с коротеньким генералом, так что я могла ошибиться. Да и годы легли на плечи Денисова, ссутулив его. А чертами лица Денисов этот был ну прямо Петровский!
За это удивительное сходство я и приметила этого вохровца. Я старалась его «разговорить». Сперва он был полон презрения, пренебрежения ко мне — «врагине народа» (так я толковала его холодность), но постепенно стал поддаваться, смягчаться, рассказывать про себя все откровеннее. Стал заходить ко мне в каморку. Сядет на табурет и рассказывает, например, про то, что он почти никакого образования не получил и что выучился он вместе со своими детьми: им зададут что-нибудь в школе — он с ними задание выполняет.
Он говорит, а я, бывало, смотрю на него, и, наверное, был у меня какой-то особенный взгляд. Думаю иной раз — уж не Петровский ли это? Знаю, что невозможно, а иллюзия непреоборимая.
И вдруг пришла к нам проверка, просто неожиданный «шмон», как в лагере говорят.
Была там одна женщина, которой все давали прятать свои вещи, Пронина. Она вроде бы за это даже какую-то мзду получала. Может быть, спрятано у нее было что-то недозволенное, только когда это нашли, разнос устроили страшный, и ее посадили в карцер.
А мне тоже приносили вещи, чтобы я сохранила, думали — у меня целей будет: каморка моя запиралась.
И вот шмон, и нашли у меня эти вещи.
— Это что?
— Это не мое! — говорю.
Ну и давай на меня орать: такая-сякая! Начальство орет и Денисов, подобострастно, в тон ему — чтобы угодить.
— А она, как Пронина, — говорит, — в карцер захотела.
Я слушаю и ушам своим не верю: запросто, по мелочи — ну было бы еще что-то серьезное! — взять и предать меня так подло, так походя!
Поорали-поорали, вещи чужие забрали, но в карцер меня не посадили. На следующий день я выхожу во двор. Идет Денисов. Я обычно всегда приветствовала его: «Доброе утро!» — и он отвечал мне. Но на этот раз я ни слова, даже не посмотрела в его сторону. Он, конечно, это заметил и, думаю, понял — почему.
И вот в тот же день я была на ближней летовке. Вдруг на подводе мчится Бынчукша, жена нашего начальника, и ко мне:
— Ой, Ивановна! Поихалы швыдче — Денисов застрелился!
Я не поверила:
— Денисов? Не может быть!
— Ой, ничего не знаю! Тильки швыдче, швыдче!
Приезжаем. Лежит в холостяцкой казарме. Выстрелил себе в рот из винтовки, часть черепа сзади снесло, все залито кровью.
— Ну, — говорю, — тут мне делать нечего, тут и смерть констатировать не надо — холодный труп. — И ушла.
Чувствовала я себя так, будто это в меня выстрелили. Я была озадачена, сражена. До сих пор не понимаю этой смерти… Может быть, это было как-то связано с его малодушием накануне, во время обыска? Или, может, совпало с чем-то другим?
Не знаю… Мне мерещится иногда, что и вправду это был Петровский — что-то невозможное, мистическое… Чем не сказка, а? Вот такой странный случай.
11.
В последний год перед освобождением я уже работала в больнице в Аратау медсестрой. Там я подружилась с заключенной Валей Шефер.
Шефер была замужем за сыном того министра Временного правительства (министра торговли?), который фигурирует в «Беге» Булгакова под фамилией Корзухин. Я все хочу узнать его настоящую фамилию, мне называли ее, но я забыла. Ну а раз забыла, то так и буду называть — Корзухин.
Сын носил фамилию отца. Он женился на Вале, и у них родился мальчик Коля; он тоже носил фамилию отца — Корзухин. А Валя оставила свою девичью — Шефер.
Во время войны мужа ее призвали на фронт; он пропал без вести, а ее арестовали как жену такого пропавшего и дали ей восемь лет. Валя совершенно не умела приспосабливаться, а без этого в лагере пропадешь. Ее назначали на самые тяжелые работы. Однажды зимой ее послали в лес за хворостом — она должна была добыть его из-под снега, нарубить, сложить на сани и привезти на волах. В лесу ее застала пурга, и утром Валю нашли засыпанной снегом, без сознания. Однако признаки жизни она еще подавала, и ее отправили в больницу. Там она пришла в себя, но ноги отнялись. Позже ноги понемножку ожили, но сделался у нее тяжелейший полиартрит.
Когда я стала работать в больнице, она уже лежала там, и всякий раз, как речь шла о выписке, наш врач-зэк Андрей Андреевич и врач-вольнонаемная Панна противились этому.
— Ей нельзя, — говорили они, — ей надо лежать.
Так они спасали ей жизнь, понимая, что если она опять пойдет на общие, то погибнет. Ее продержали так два года, а когда она поднялась, то оказалось, что ходить она не может — суставы уже необратимо деформировались. И только кое-как, с костылями, она начала ползать. Андрей Андреевич говорил мне потом:
— Если бы в свое время мы дали ей ходить, заставили бы, суставы восстановили бы подвижность, и она не была бы инвалидом.
Но что было делать? Вопрос тогда стоял так: жизнь с инвалидностью или смерть. И они выбрали для нее первое. Мы с Валей дружим и поныне. Она теперь совсем не может передвигаться, даже и с костылем; она прикована к постели, за ней нужен уход.
Тогда же в больнице лежал латышский писатель Эн В. Это такое имя — Эн, и я буду его так называть. Эн страдал острой формой туберкулеза, болезнь зашла далеко, и мало было шансов, что он выживет. Он очень любил со мной беседовать. Однажды он говорит мне с грустью:
— Завтра мой день рождения, а никто не вспомнит…
Ночью я дежурила. Со мною вместе дежурила санитарка. Раньше она была женой секретаря обкома Одесской области, но теперь без памяти была рада, что санитарка. Она мне все, бывало, говорила: «Ах, Агнесса Ивановна, как я не умела прежде жить!» Я ей сказала: «У В. завтра день рождения. Надо сделать ему подарок. Попросите, пожалуйста, у поварихи мою завтрашнюю хлебную пайку».
Она принесла, мы написали записку: «Поздравляем дорогого Эна В. с днем рождения», положили пайку и записочку на ветку арчи, и я послала санитарку позвать Эна. Был час ночи, но больные в палате не спали. Санитарка сказала Эну:
— Вас просит зайти сестра.
Он оделся, вышел ко мне. Я ему говорю:
— Там на окне что-то для вас есть.
Он подошел к окну, прочел и так растрогался, что по щекам у него потекли слезы. Спрашивает дрожащим от волнения голосом:
— Чья это пайка, чья?
— Это безразлично, — отвечаю ему. — Неважно — чья. Садитесь, пожалуйста, расскажите, как вы прежде дома отмечали свой день рождения. Расскажите нам во всех подробностях, а мы послушаем и будем переживать вместе с вами.
Так мы просидели до утра.
Потом пришел в больницу приказ, чтобы всех больных-хроников перевести в специально отведенные для них бараки. Наши хроники были в смятении, подавлены, думали, что их переводят, чтобы они скорее умерли, что их уничтожат.
И вот мне передают письмо от Эна. Прощальное. В нем была просьба. Эн писал, что «скоро вы выйдете на волю, ваш срок кончается. Не можете ли вы вынести мою рукопись? Это пьеса. Я сам ее вынести уже не надеюсь…» Он ждал смерти. И еще в письме была просьба. «Я, конечно, знаю, — писал Эн, — что вам, возможно, будет неприятно, но все-таки решаюсь написать. Я очень хотел бы, чтобы вы, прощаясь, меня поцеловали… Но если это вам неприятно, как я предполагаю, то не надо, тогда просто проститесь со мною за руку».
Мне, действительно, было неприятно. Но на другой день, обходя больных, я подошла к нему и тихо сказала: «Я прочла ваше письмо и с удовольствием выполню вашу просьбу».
И вот наступил момент прощания, их увозили. Это было во дворе. Я подошла к нему. Он замер, я чувствовала, как все в нем напряглось — поцелую или нет? Я обняла его и крепко поцеловала в щеку.
Его рукопись я спрятала.
12.
Главврачом был у нас Андрей Андреевич Ованесов, осетин, человек темпераментный, черноглазый, с пристальным горячим взглядом. У него на воле — в другой жизни — осталась семья: жена, дети. Ну а в нашей жизни, конечно, он был одинок, как и все мы.
Очень впечатлительный, нервный, откровенничая с нами, он говорил, что был рад, когда его арестовали, точнее — испытал большое облегчение. До этого он все ждал ареста, каждую ночь его охватывал ужас, жил он, как говорится, под дамокловым мечом. А тут, когда его арестовали, это ожидание разом кончилось, меч опустился, все стало ясно, не надо было больше ждать, цепенея от страха.
Однажды навалило много снегу. Надо было его убирать. Мне как раз прислали варежки с раструбами — тогда это было модно. Я их надела и стала весело орудовать лопатой, а кто проходит мимо — в того сыпучим снежком. В Андрея Андреевича тоже — бросила ему снежок, как вызов. А он остановился и говорит: «А я не знал, что вы такая кокетливая женщина!»
Потом мы встречали Новый год у себя в пристройке. Развели спирт водой, припасли к этому дню кто что смог достать из продуктов. Мне Валя Шефер как раз связала из шерсти свитер и шапочку. Мы покрасили их зеленкой — такой яркий сочно-зеленый цвет получился, мне очень шло. Все на меня смотрели, Андрей Андреевич больше всех — взгляд черных глаз был жгучий, пристальный. «Я хочу, — говорит он, — сидеть рядом с Агнессой Ивановной! Только рядом с ней». Его со смехом посадили рядом со мной…
Весной к нам в больницу с диагнозом «дизентерия» поступила девятнадцатилетняя девушка. Она была с Западной Украины, участвовала там в какой-то молодежной демонстрации против ввода советских войск — какое-то там у них было Сопротивление. Их всех арестовали и отправили в лагеря — в Сибирь, Казахстан.
И вот вижу, Андрей Андреевич ушел с ней в степь. Их не было полтора часа. И мне это ой как не понравилось! Вернулись. Я говорю Андрею Андреевичу:
— Так вам девятнадцатилетние нужны?
Он почему-то стал оправдываться:
— Да я ей все рассказывал… она хочет санитаркой работать… я объяснял, какая работа…
— Ну, смотрите!
Он вдруг насторожился:
— А вас это задевает? — Посмотрел на меня внимательно и — тихо: — Вы только слово скажите… я ее оставлю.
Я смеялась. Шутка-шуткой, а дала ему понять, что «может быть». Из всех, кто был там в лагере, только один Андрей Андреевич мог как-то стать мне парой.
И вот тою же весной сидим мы однажды у барака больницы. Уж очень хорош был вечер. Сидели допоздна — несколько врачей (среди них и Андрей Андреевич), моя напарница Августа и я. Сидели, шутили, я пикировалась с Андреем. Потом Августа ушла на дежурство, а я вернулась в свою каморку.
Только легла — стук в дверь. Открываю: Андрей Андреевич.
— Вы говорили, что страдаете бессонницей…
— Да, плохо сплю. Не достанете ли мне люминала?
Он ушел, его долго не было, затем приходит с люминалом. Положил на стол и вдруг как схватит меня, обнимает!
— Что вы, что вы, Андрей Андреевич!
Он отпустил меня; сощурив глаза, говорит:
— Но все ваше поведение…
— Так это же были шутки.
— Ах, шутки! — рассердился он. — Ну ладно же, я вам покажу шутки!
И схватил меня снова…
Мы стали встречаться. В дежурство Августы он приходил ко мне. В другие дни, когда живший вместе с ним врач был на дежурстве, иногда приходила я к нему.
Когда я вышла замуж за Зарницкого, я не хотела детей и сделала несколько абортов. А потом уже детей у меня не было. Ни от Зарницкого, ни от Мироши. А тут вдруг стало меня поташнивать, и я поняла, сама себе не веря, что беременна.
Что делать? Ну, конечно, другого решения у меня и не могло быть — я не могла, не должна была родить. Вы себе представляете, что стало бы с Михаилом Давыдовичем? Это исключалось. Значит, аборт. А ведь специальных инструментов в нашей больнице нет, гинекологического отделения тоже.
Так вот — инструментов нет, но что же делать? И вот вообразите себе такую картину. Ночь. Темно. Горит в каморке только свечка, пламя неровное, по стенам мечутся тени. Мы, двое рабов, с которыми могут расправиться как угодно, насторожены: ждем, что в любой момент загрохочут в наружную дверь с проверкой. Андрей Андреевич пытается сделать мне аборт рукой, намазанной йодом, без инструментов. Но он так нервничает, так волнуется, что ничего у него не получается.
Боль не дает мне вдохнуть, но я терплю без стонов, чтобы кто-нибудь не услышал… «Оставь!» — говорю наконец в изнеможении, и вся процедура откладывается еще на двое суток… Наконец все вышло — комками, с сильным кровотечением.
Так никогда я и не стала матерью.
13.
А срок мой кончается — уже считаю дни до освобождения. Я уже всей душою на воле.
Куда проситься? В Москву не пустят — нам туда нельзя! Лена жила в Клайпеде, у нее — Агуля. Если бы разрешили к ним!
А Андрей Андреевич все мрачней.
— Агнесса, — говорит он мне наконец, — как же это мы вот так расстанемся? Может быть, когда я освобожусь…
— Нет, нет, Андрейка, не надо. У тебя семья, дети, у меня — муж. Ты человек кавказский, ты здесь еще себе найдешь.
— Ах, Агнесса, все это было до тебя, а теперь… Я буду тебе писать и… может быть…
— Нет, нет, и писать не надо. Простимся миром, по-хорошему, расстанемся друзьями.
— Я буду писать.
— Не пиши. Я все твои поручения выполню, но переписываться нам не надо.
Это было накануне освобождения. Уже пришли ко мне сказать: «Завтра ваш срок кончается», — так всегда говорят перед освобождением. А на другой день освобожденного выводят, распахивают ворота в колючей проволоке: «Выходи»…
Я уезжала на подводе: обросла всякими вещами в последнее время. Подводу мне устроила Панна. Рукопись Эна я зашила в подушку, туда же и шерстяные кофточки, которые связала в больнице. При выходе мои вещи осмотрели поверхностно, и вот я уже вышла, погрузилась на подводу, но вдруг вслед мне один вохровец из начальства спохватился:
— Стойте. Миронову надо как следует обыскать: она из больницы белые халаты увозит. — И вышел за мной. И еще один с ним.
Я стала доказывать, что халат у меня свой собственный, что я его получила из дома, это мой студенческий халат. Но они не слушают. Тот, начальник, схватил подушку и давай ее мять.
Панна и Андрей Андреевич вышли за мной (он был частично расконвоирован). И Панна, и он от волнения изменились в лице. Панна не выдержала, выхватила подушку из рук охранника и бросила ее обратно на подводу. «Довольно вам!» — крикнула она в сердцах.
Возница цокнул, и лошади тронулись. Панна и Андрей Андреевич пошли с двух сторон, потом побежали. Панна держала меня за одну руку, Андрей — за другую. Лицо у него было бледное, от смуглоты казалось даже зеленоватым…
Через некоторое время Панна приехала ко мне на станцию, я еще раз увидела ее, а Андрея Андреевича — никогда… Он был раб, на станцию ему уже не разрешалось.
14.
Барак для освобожденных был настоящим вертепом — мат, карты, вши, воровство. Мне посоветовали снять койку в поселке, и вот мы объединились с одной женщиной, тоже освобожденной, и сняли койку на двоих за пять рублей в сутки. Капитан, который выписывал бумаги, разговаривал со мной доброжелательно, предлагал ехать под Москву: в Петушки, Малоярославец или Александров (городки чуть дальше ста километров от Москвы — ближе нам жить не разрешалось).
Хорошо, что я не согласилась: всех, кто туда попал, потом выслали снова.
Я попросилась в Литву — в Клайпеду: там, мол, у меня сестра. Он взял карту и развернул. «Сюда нельзя, — сказал он, указывая на Литву. — Вот сюда можно», — и ткнул пальцем в деревню на границе Литвы. Я согласилась.
Паспорта мы получали в бараке для освобожденных, они уже были выписаны для нас заранее. Пришел казах, весь в оспинах, стал выкликать по фамилиям. Дошло до меня. Я взяла паспорт, читаю: «Паспорт выдан на полгода, на основании того-то и того-то, пункт 39-й». Читаю и понимаю, что это не паспорт — это волчий билет. Я тому казаху так и высказала. А он: «Не надо было делать преступлений!»
Этот самоуверенный, в оспинах урод меня поучает! Такого им натолкли в голову.
…В Москве более трех дней мне оставаться было нельзя. Я пошла в железнодорожные кассы и думаю: дай рискну! Спрашиваю в кассе:
— До Клайпеды можно без пропуска?
— Не знаю, спросите в той кассе.
А «та» касса закрыта. Родственница, которая была со мной, напустилась:
— Что ты делаешь! Тебя же снимут с поезда, опять дадут срок!
— А я скажу, что у меня все украли.
Тогда я могла кого угодно в чем угодно убедить.
Назавтра опять прихожу к кассе, которая накануне была закрыта.
— Можно билет до Клайпеды?
— Пожалуйста. Вам какой — плацкартный?
И дали! А по дороге — ни одной проверки!
ВОЗВРАЩЕНИЕ
1.
Я приехала к сестре Лене и ужаснулась — как же они нуждались! Теперь мне стало ясно, куда девались мои «монгольские» вещи. А я ведь в лагере удивлялась, почему мне их не присылают в посылках. Оставалась еще и часть моих вещей в Москве — у матери сослуживца Михаила Давыдовича (помните, я вам говорила, что мы два чемодана у нее оставили?) и у Нади — жены брата Мироши, того самого пьяницы, который всегда Мирошу порочил. Я в Москве заходила к ним, но — увы! Моих вещей уже не было. Мать сослуживца раскудахталась, что их у нее украли, а Надя просто на меня напустилась: люди с голоду умирали, а тут чьи-то вещи беречь… Ну, ясно.
Агуля была у Лены, выросла, вытянулась, от меня отвыкла, сперва дичилась. Михаил Давыдович в свое время успел отвезти ее к Лене в Ростов, и как раз успел — вскоре и его арестовали. Васю призвали в самом начале войны, и Лена осталась одна с детьми, прятала их от артобстрелов как могла, ежеминутно ожидая смерти. Из Ростова они перебрались в Кисловодск, но и туда пришли немцы. Наконец война откатила на запад, Лена с детьми вернулась в Ростов. Демобилизовали Васю. Дом их разбомбили, и им выдали ордер на пустующий домик, хозяйка которого умерла. Но вернулся ее сын, разыскал документы, что дом принадлежит ему, выбросил их вещи в проходную комнату, а остальные занял.
Они голодали страшно. Павел, брат наш Пуха, который тоже жил одно время с ними, уехал с новой своей женой в Литву и взял с собой Агулю. Оттуда Агуля написала Лене: «Здесь на рынке есть картошка и сало». И все поехали в Литву.
Устроились с жильем, но было очень тесно: Лена, ее дочь Ника, Агуля, Вася и прежний муж Лены — Сухотин, который, отбыв срок в лагере, тоже приютился возле них. Боря окончил танковое училище, попал на фронт уже в Германию, там был ранен и теперь тоже жил у Лены. Было им очень голодно — работал один только Боря, заработки у него были маленькие. Сухотин так и остался очень неприспособленным человеком, а Вася уже начал болеть. И вот теперь явилась к ним еще и я.
Я срочно стала искать работу. Пришла в больницу, спрашиваю робко: не надо ли вам медсестры? Надо, но — «сперва пропишитесь». А тут был заколдованный круг: чтобы работать — нужна прописка, а чтобы прописаться — надо было работать!
Агнесса Ивановна после освобождения из лагеря
А паспорт у меня волчий: «выдан на основании пункта 39-го» и т. д. На работу с этим не брали, и разрешения у меня не было жить в Литве. Но я знаю по опыту лагеря — всегда надо действовать смело и решительно, можно сказать, нахально даже: или пан или пропал. Только тогда можно у нас выиграть. Я ничего не боюсь, даже смерти. Что бы ни случилось, главное — не терять голову. Я и Агуле говорила: ничего не бойся, действуй, не зная страха, — только тогда можно чего-то добиться.
И я попросила Лениного мужа Васю (он хорошо рисовал, был настоящий художник) подделать мне паспорт… И вот что он сделал: там, где значилось «выдано на основании пункта 39», он бритвой снял тушь со слов «пункта 39» и вписал такие же буквы, какие стояли у него в паспорте, какие-то там Щ, П, Ш или что-то там еще. Совершенно незаметно, только на просвет можно было увидеть, что подчищено.
И я пошла в милицию на прописку. В первый раз начальника не было — я даже облегчение почувствовала, так волновалась до этого. Узнала часы приема… И вот пришла еще раз. Нарочно выбрала день под праздник — 4 ноября. Я знаю, под праздник у них много забот-хлопот, не до посетителей, все ловят каких-то «антисоветчиков», а некоторый контингент даже арестовывают на несколько дней до конца праздников.
Я надела Ленино платье и ее шляпку с вуалеткой, перчатки, под мышкой — домовая книга. Иду и думаю — а ну как начальник посмотрит мой паспорт на свет?
Зашла в забегаловку, купила сто граммов водки. Пятьдесят выпила, остальное вылила. (Из дома я взяла закусить.) Почувствовала уверенность — «трын-трава и море по колено». И — в милицию.
Перед кабинетом начальника за пишущей машинкой — молодая девушка, секретарь, вероятно. Я — к ней. «Милая девушка, — говорю вкрадчиво, — вот мне надо прописаться, я приехала из эвакуации к дочери…»
А тогда в Клайпеде была масса «темных» лиц — эвакуированных, дезертиров, воров, бандитов, каких-то неизвестных… Но я сумела расположить ее к себе, она сказала доброжелательно:
— Сейчас начальник занят, вы подождите. — (А у меня опять отлегло — ну хоть не сразу!) Потом взяла мое заявление, домовую книгу, мой паспорт — и к начальнику в кабинет, положила ему на стол.
Дверь в кабинет она за собой не закрыла, мне все было видно. У начальника сидели какие-то милицейские чины, о чем-то с ним спорили. Вот разговор стал заканчиваться, чувствую — он спешит; отклонился от стола, обращается к девушке:
— Там ко мне кто-то еще есть?
— Да, на прописку.
— Пусть заходит.
Я зашла. Только стала рассказывать, что я из эвакуации, он перебил нетерпеливо:
— Зачем вы сюда приехали?
Я опять: вот, была в эвакуации под Карагандой, у меня здесь дочь, я к дочери. (Он, вероятно, подумал, что дочь взрослая.)
— А жить у вас есть где?
— Есть! У меня и работа уже есть!
Взял мое заявление, на паспорт почти не посмотрел (спешит) и сбоку подмахнул: Прописать. Начальник милиции такой-то…
Я — лицо каменное, как будто иначе и быть не может. А внутри ликую! Взяла домовую книгу — и домой.
А дальше уже зять сам все сделал в домоуправлении, чтобы я поменьше глаза мозолила. Я уже могла не волноваться: теперь, раз есть резолюция начальника, домоуправленческие и милицейские работники сделают все автоматически.
Так я прописалась в Клайпеде.
Вот так смело всегда и надо действовать.
Сразу расскажу дальнейшее, что сталось с моим паспортом. Его выдали на полгода, а потом его надо было продлевать, и еще, и еще — и каждый раз я трепещу. Наконец я решила, что пора мне попробовать получить настоящий паспорт. Пошла в милицию и опять обратилась к служащим: «Милые девушки, мне надоело все время продлевать, нельзя ли получить настоящий паспорт?»
— А метрики у вас есть?
— Нету. Но вы запросите Майкоп, я там родилась.
Они запросили. Пришел ответ, что все документы во время войны пропали. Мне в милиции сказали: с этой бумажкой идите в загс. Там опять девушки, и опять я к ним. Сумела их расположить к себе, они посовещались, но что-то колебались и сомневались, а потом говорят:
— Ну приходите завтра.
А назавтра выдали мне справку, что по имеющимся в загсе сведениям такая-то родилась тогда-то в Майкопе и т. д. И мне выдали настоящий паспорт! Безо всяких «статей» и уже без подчисток! Вы себе представить не можете, как я была счастлива! Валя Шефер со своим волчьим паспортом мне завидовала. А потом еще было с пропиской — это уже когда я перебралась в Богородское под Москву, а потом и в Москву. Там, надо сказать, тоже все получилось.
Но я забежала вперед.
Пока я устраивала в Клайпеде все эти дела с паспортом, пропиской, работой, я была между небом и землей и на письма из лагеря не отвечала. А письма шли. Я и рада им была, и боялась: ведь обратный адрес на них лагерный. Потом, когда уже все утряслось, я написала объяснение, почему не могла отвечать. А они очень беспокоились, думали, что меня опять «загребли». Андрейка даже телеграммой запрашивал, что со мной.
Они там все скучали обо мне. Августа мне писала, что после моего отъезда Андрей Андреевич очень затосковал. Придет, бывало, к ней в каморку, когда ее новая напарница на дежурстве, сидит у нее допоздна, и они вспоминают меня. Он говорил ей с грустью: «Я лишился друга…» Стал часто повторять, что там ему все опротивело и он переведется в другое место. (Это было нелегко, но врачу — можно.) Он очень тосковал, и у него появились боли в правой части живота. Все думали — печень, даже какую-то диету ему сумели устроить, но какая там могла быть диета! Когда боли стали резкие, острые, его отвезли в больницу, где делали операции, а там — сразу на операционный стол. Андрей Андреевич все просил: «Только сохраните мне жизнь! Сохраните мне жизнь!»
Вскрыли брюшную полость, и оказалось — прободение язвы! Язва! Она ведь возникает на нервной почве. А тут еще начался перитонит. Через два часа после операции Андрей Андреевич умер. Жалко Андрейку.
2.
Я поступила работать в больницу. Там существовало резкое разделение: русские врачи и сестры держались своей группой, литовские — своей. Русский врач оперировал только с русскими ассистентом и сестрой, литовец — с литовскими. Я, конечно, попала в «русский лагерь».
Я очень старалась: приходила рано, уходила поздно, иногда работала во внеурочное время, всех, кто просил об этом, подменяла, делилась опытом (я его приобрела в лагере, в больнице — меня Андрей Андреевич многому научил). Показывала, как это делать, как то…
И вот подходит ко мне как-то старшая сестра терапевтического отделения — она у нас была шибко партейная, как инквизитор, — подходит и говорит:
— Агнесса Ивановна, знаете, нам тут надо двух человек выдвинуть в партию, порекомендовать. Литовок этих я не хочу, а решила вас — я за вас поручусь.
Я давай юлить: «Я очень благодарна вам за доверие, все это для меня большая честь, но, знаете, возраст у меня уже не тот, в молодости я была комсомолкой, но теперь… недостойна, не чувствую себя готовой к такому шагу…», и т. д., и т. п. Еле отбилась.
Я засобиралась в Москву. Но еще до моего отъезда умер Вася. Перед смертью он сказал Боре: «Ты теперь остаешься единственным мужчиной в доме».
Позже Михаил Давыдович писал мне о том времени, когда хлопотал обо мне в Москве: «Ты меня в сердце своем осудила, полагая, что я отказался от тебя, забыл тебя, ты не знаешь теперь, что тогда было. Я пытался что-то сделать… Я не хочу говорить о своих чувствах, о том, как жил тогда, о моем желании умереть. Но я никогда не забывал тебя и переносил это как свое несчастье. Я получил облегчение, когда меня „призвали“. Я освободился от страшной тяжести быть не тем, кем был, и прикидываться…» (14 июля 1955 года).
Следователь «пришил» Михаилу Давыдовичу участие в военном заговоре Гамарника, и Особым совещанием (ОСО) он был приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей.
В лагере его сперва гоняли на общие работы в шахту, но он стал подолгу болеть. Тогда его определили в лагерный клуб. Срок кончился. Михаил Давыдович был сослан в село Явленку Ленинского района Северо-Казахстанской области.
Еще из лагеря Михаил Давыдович писал, что Майя продала дачу в Краскове и часть денег предназначается мне.
Осенью Агуля поступила в Москве в институт, ей дали место в общежитии. Я получила от Майи деньги за проданную дачу и решила ехать жить к Михаилу Давыдовичу в Явленку. Он писал, что очень ждет меня: «Была бы крыша над головой, тепло и ты».
И вот у меня уже все готово к отъезду, все куплено по списку, я укладываюсь. Купила в предварительной кассе билет и послала телеграмму: «Встречай такого-то, поезд и номер вагона такие-то. Сообщи получение».
Ответа нет. Что такое? Почему?
Шлю повторную телеграмму.
На этот раз ответ пришел: «Король выбыл Петропавловск».
Слово «выбыл» нам объяснило все…
3.
А было так. Михаил Давыдович жил ожиданием моей телеграммы. И вдруг к нему приходит человек в форме ГБ: «Вас вызывают в Петропавловск». В страшной тревоге и с нехорошим предчувствием Михаил Давыдович поехал, а там — был арестован.
Арестовали. Михаил Давыдович несколько дней был как безумный, не мог смириться с мыслью, что все разбито. Позже он писал мне об этом времени:
«8 июля 1955 г.
Милый друг мой, Агинька!
Три дня назад исполнилась годовщина того памятного дня, когда я попал под лавину и полетел в пропасть. Это — страшная годовщина.
Я жил в горах в глубоком одиночестве. Вокруг меня был мрак, бессмыслица, жадность, тупость и много жестокости. Я сжался: ушел в себя от реальной действительности и жил в фантастическом мире теней, отображавших какие-то былые образы и выдуманные моей тоской видения. Это было полное одиночество, почти беспросветное. Единственное звено, которое меня связывало с жизнью на этой земле, с реальным миром, с живой действительностью, была она. Я ее ждал, она обещала приехать ко мне. Весь смысл жизни, моей мрачной жизни, был собран в одном желании: увидеть ее.
Едва ли голодный так желает пищи. В ней было мое спасение. Я считал дни, я жил ее приездом. Мечтательность и активная деятельность сочетались между собою в приготовлениях к ее встрече. Я снял домик, веселый, чистый домик с просторной кухней и домовитой русской печью, с одной солнечной комнатой с деревянным крашеным полом. Я спешно уплатил за два месяца вперед и выпил с хозяином „магарыч“ в этот памятный „духов день“. Купил топор и кочергу, а рогач одолжил. Горшки заготовил, и маленький рукомойник блестел своей смешной раскраской. Погребок в кухне, большие сени и кладовая были пусты. И я придумывал разные декоративные украшения, чтобы художественно оформить мой домик к ее приезду.
От этой активной практической деятельности я переходил к активной мечтательности, которая казалась мне более обязательной, чем весь материальный мир… Я слежу за медленно проходящими вагонами… Вот она, смущенная, как будто виноватая, рот чуть приоткрыт… и глаза грустные.
Да, где достану цветы для нее? Куплю в городе. Один букет поднесу ей на вокзале, а другой отдам шоферу спрятать. Когда мы приедем домой через восемь часов, цветы уже будут на столе. И банька будет протоплена. И утка зажарена…
Я подымался по склону горы, где не было троп, я бодро вдыхал снежный воздух и видел ее. Эта великая радость поднимала меня, я легко шагал, пел, улыбался и… как это случилось — не помню, но я полетел вниз.
Меня подхватила лавина и бросила стремительно в пропасть. Я глядел незрячими глазами, слушал слова, не понимая их смысла. В ушах свистело от стремительного падения, и не было страшно. Я ее потерял, ее больше не будет. А мой полет в бездну вечен. Тоска по несбыточному, скорбь по распятом человеке, о странностях жизни тихо охватила меня, и я читал стихи поэта: „До свиданья, догорели свечи, мне не странно уходить во тьму, ждать всю жизнь и не дождаться встречи, и остаться ночью одному“. Не только о себе, но и обо мне плакал поэт. Весь мир людей в одиночестве, в ночном одиночестве…
Четверо суток длилось мое падение в бездну и одинокая ночь. Я достиг дна бездны и не разбился. Со мной возились, пытались привести в себя, какой-то врач — очень милая женщина — участливо лечила меня. Потом другая, случайно встреченная, крепко взялась за меня. Падения и ушибы долго давали о себе знать. И только тогда я понял, что случилось со мной: в ожидании ее я был доведен до предельного накала и неожиданно мгновенно опущен в ледяной раствор. Я потерял сознание…»
4.
Обвинение было такое: в двадцатых числах февраля 1950 года в столовой сельпо села Явленки Михаил Давыдович, его соквартирант Синицкий и никому не известный портной вели якобы антисоветский разговор.
Михаил Давыдович никогда не ел в столовой! В двадцатых числах февраля он был болен, не мог передвигаться, лежал в больнице. Наконец, что за портной? В Явленке всего четыре портных, найти нужного ничего не составляло, но никто и не искал. Прокурор издевательски сказал Михаилу Давыдовичу: «Как мы можем его найти, если вы не называете его фамилию?» Заправлял всем делом областной прокурор Жигалов, сам проводивший допросы, или они шли по его указанию.
Вот такое было дело, и состряпано оно было очень грубо. Михаил Давыдович говорил, что если в Москве иной раз работали виртуозы фантазии, то на периферии шили такими белыми нитками, что уже один просмотр дела говорил все: било в нос явной липой. Приведу только один пример: допрос «свидетельницы»-библиотекарши. На нее напирают:
— Подсудимый занимался антисоветской агитацией?
Она лепечет испуганно:
— Я не знаю…
Нажимают крепче. Она:
— Он знает иностранные языки…
И вдруг ее осеняет:
— Он мне говорил, что дружил с Гитлером!
Ну уж тут — дальше некуда. Судья смутилась: «Садитесь, садитесь, свидетельница!»
Такая комедия была на суде… Но миновали двадцатые годы, когда Зарницкий умом и логикой сумел победить все нелепые обвинения. Теперь, какими бы кричащими ни оказывались нелепости, победы быть уже не могло. Михаила Давыдовича надо было засудить, еще до начала суда решение о нем было принято. Приговор: десять лет лагерей строгого режима.
5.
Зимы в Северном Казахстане лютые, ветры страшные. 14 декабря 1957 года Михаил Давыдович записал в своем дневнике:
«14 декабря — дата в моей жизни. В этот день меня изувечили и довели до такого состояния, в котором я нахожусь. Грудная жаба и гипертония делают свое дело… После шести с половиной месяцев тюремного заключения, голодая и холодая в сырых камерах, я был перевезен в „столыпинском“ вагоне в Караганду. Поезд пришел ночью 11 декабря.
Утром нас повезли в „воронке“ в лагерь — Новый Майкадук — и поместили в БУР (барак усиленного режима), который почти не отапливался. После трех суток такого содержания нас вывели из лагеря и погрузили в открытую грузовую машину… Сколько градусов мороза было, я не знаю, но не менее тридцати.
Не менее трех часов добирались мы до Спасска… Когда прибыли, я не мог сойти с машины. Меня сняли и поволокли. Ночь провели в бане. Я отогрелся, но был „испорчен“.
Когда меня перевели в барак, я все время лежал. Мне было холодно, я никак не мог согреться. Фельдшер, обходивший бараки, заметил меня и повел в амбулаторию: давление у меня было 240/120».
Михаил Давыдович долго лежал в полустационаре. Ну, что такое полустационар, я хорошо знаю: и какие там доходяги бывают, и сколько каждое утро выносят трупов, чтобы где-нибудь поблизости сложить штабелями… Все это я видела, могу себе представить.
Как только Михаил Давыдович смог писать, он послал открытку. Она начиналась: «Дорогая моя!» Открытка была адресована мне, но я прочла Майе и Бруше «Дорогие мои!», чтобы им не было обидно… Там была такая фраза: «Теперь смогу написать только через полгода…» — это потому, что в «режимном» лагере можно было писать и получать письма только два раза в год.
6.
У Вали Шефер — помните, я вам рассказывала, как врачи спасли ей жизнь ценой инвалидности, как она ногами заплатила за свою жизнь? — у Вали был родственник, а у него в ста с небольшим километрах от Москвы, в Богородске, — дача, где Валя и жила, потому что с ее волчьим паспортом ей не разрешалось жить ближе к Москве. На даче было несколько комнат, и я поселилась там. Агуля училась в Москве, жила в общежитии. Я поступила работать — вела занятия музыкой в детском саду. Заработок — считайте, что никакой, едва-едва на хлеб хватало.
Зимой 1952 года началось «дело врачей». Мы, как услышали о «кремлевских отравителях», сразу сникли. Ну, думаем, опять начнется, будут хватать и сажать с удвоенным рвением.
И вдруг узнаем по радио — Сталин болен! Ну уж раз у нас об этом сообщили, значит, дело идет к тому, что… мы и верить не смели! Он — и отец всего прогрессивного человечества, и великий вождь мирового пролетариата, и великий ученый, и гениальнейший, и… ну, так и думали — бессмертный!
Но читает Левитан скорбно… бюллетени! Теперь мы уже радио не отключали, с жадностью ловили каждое известие: «Упадок сердечной деятельности… дыхание Чейна — Стокса…» Неужели?..
И наконец! «ЦК с прискорбием сообщает, что сегодня в пять часов столько-то минут утра при явлениях острой сердечной недостаточности и т. д.»… Скончался!
Я схватила метлу и давай выплясывать канкан. И Валя пустилась бы в пляс, если бы не ноги; она только притоптывала в восторге и напевала.
И вдруг — стук в дверь. Открываю. Соседка из ближайшего дома, лицо опухло от слез, глаза красные:
— Какое несчастье! Какая беда для всей страны! Что мы теперь будем делать? Как мы сможем жить без него? Все пропадет, все рухнет, враги нас задавят! Любимый наш, дорогой наш… — И в слезы.
Мы сделали постные лица, поддакивали ей. Слава Богу, окно было высоко над землей — она не могла видеть, как я отплясывала.
7.
А затем хлынули письма от Михаила Давыдовича — это был разлив, половодье писем. Режим пал, теперь уже можно было писать сколько угодно. Настрадавшись, намолчавшись за годы режимного лагеря, Михаил Давыдович спешил рассказать, поделиться с нами… Иногда он писал по нескольку писем в день, и чаще всего цензура их уже не проверяла.
Михаил Давыдович жил в бараке с такими же инвалидами, как и он сам, на работы не ходил. Он был болен, но радость ожидания счастья перекрывала все его недомогания…
Радость ожидания! Могли ли мы думать тогда, что она превратится в пытку? Что целых три года свобода будет только дразнить, не даваясь в руки! Чего только не было! Михаила Давыдовича актировали, а потом отменяли актировку[10]. В 1954 году он написал заявление Генеральному прокурору СССР; одновременно написала и Бруша. Был получен ответ, что дело Михаила Давыдовича пересмотрено, наказание снижено до пяти лет, следовательно, он подлежит амнистии со снятием с него судимости. Такое решение означало немедленное освобождение. Но в Спасский лагерь это решение все почему-то не доходило. Только в конце года Бруше сообщили, что постановлением Верховного суда Казахской ССР (но почему Казахской, если вопрос был уже решен в Москве?) с Михаила Давыдовича сняты обвинения в групповой агитации и десятилетний срок ему снижен до шести лет! До шести! А это означало, что Михаил Давыдович не подлежит амнистии и ему остается «досиживать» еще больше года. А потом что? Опять ссылка, опять Явленка?
Затем был указ об освобождении инвалидов и больных. Их должны были направить в дома инвалидов, а направили на работы в совхоз, так что, слава Богу, этого Михаил Давыдович избежал.
По первому делу (участие в заговоре Гамарника) он был реабилитирован, а по второму («глупая и безграмотная провокация», как говорил о нем Михаил Давыдович) разбирательства так и не было.
Михаил Давыдович писал мне:
«Скажу тебе глубокую правду: освобождение меня измучило, отняло у меня сердце и нервы. Я стараюсь не думать о ненавистной свободе, считаю свою жизнь нормальной арестантской жизнью. Но не удается. Тянет к вам, а это тяжело…
Я тебе перестал писать задушевные письма, как писал раньше, и это все от освободительной пытки. Я уверен, что стоит мне сойтись с тобой, и я найду опять душевный покой, обрету работоспособность и радость, которые меня всегда поддерживали. Но, Господи ты мой, до какой степени трудно владеть собой!..
Еще говорят, что мы будем проходить суд для фильтрации. Я не верю в это. Они могут все сделать и без ритуала, заочно. Иногда спрашивают на суде, осознал ли человек свою вину. Если мне зададут этот вопрос, я никуда не поеду».
Михаил Давыдович во всем этом видел происки областного прокурора Жигалова, его личную месть за умственное превосходство Михаила Давыдовича, за его юмор на допросах — чего малокультурный, чувствующий свою неполноценность Жигалов простить ему не мог.
И вот наконец-то!
«10 января 1956 года.
Моя милая Агочка! Я еду в Москву! Мне сообщили определение Верховного суда и выдали справку, что „дело пересмотрено за отсутствием доказательств состава преступления“. Мне выдали паспорт. Уже сфотографировали.
Я ждал отправления в Явленку под конвоем, и вдруг такой поворот!..
Через неделю я собираюсь обнять тебя, моя любимая, и больше не расставаться с тобой! Я верю, что мы начнем с тобой сызнова жить и обеспечим себя.
Но чтобы сильно не предаваться радости, я сдерживаю себя и жду новых осложнений и изменений».
Мы все встречали Михаила Давыдовича на вокзале: Майя, Бруша, его братья, племянники, родные, друзья.
Это было 19 января. Снег шел крупными хлопьями. Мы стояли у вагона, люди выходили, выходили из него, а Михаила Давыдовича не было. Я вглядывалась в лица выходящих — все не он! Тогда я потеряла терпение, влезла против течения и пошла по проходу. Заглядываю в купе — в первое, во второе — они уже опустели. И вдруг в третьем… стоит совсем уже старичок, рот ввалился, углы губ скорбно опущены, вытянутый старый свитер, старая телогрейка, пыжиковая шапка (из посылки Майи) — сразу видно, из каких палестин. Я тут же поняла — страшно волнуется, не может совладать с собой, подбородок вздрагивает, не решается первым меня обнять, в глазах — тревожный вопрос… Я виду не подала, какое он произвел на меня впечатление, крепко обняла, расцеловала.
— Ты — первая… — тихо прошептал он, приникая ко мне.
Потом он мне говорил, что нарочно задержался, так как только и мечтал об этом — чтобы я вошла первая. Он загадал на это…
Первое время после своего возвращения Михаил Давыдович наслаждался тем, что он дома, с нами. Он не хотел никаких новых переживаний, нервотрепок. Отойти от всего, отключиться душой от пережитого и жить, только жить среди любимых и друзей…
При реабилитации Михаилу Давыдовичу дали пятнадцать тысяч (дореформенных) рублей, но он понимал, что эти деньги быстро разойдутся… Хотя он и мечтал, что, вернувшись из лагеря, сможет писать не для продажи, и иронизировал над теми утилитарными сценариями, заказы на которые ему приходилось брать, но пока никакой серьезной работы не предвиделось, а без дела Михаил Давыдович не хотел сидеть, и он взял договорную работу — написать сценарий «Техника безопасности в сельских электроустановках».
Михаила Давыдовича восстановили в партии без перерыва партийного стажа. Но генерала ему не дали.
— Вы давно в запасе, — сказали ему в военкомате и не аттестовали.
И пенсию ему определили маленькую, а очередь на квартиру была длиннющая до безнадежности… Жили мы пока в комнате Майи (сама она переехала к мужу).
Но Михаил Давыдович не унывал. Вставил зубы — скорбные морщинки в углах губ расправились. Радостное, приподнятое настроение не оставляло его.
В лагере его любили, и в конце срока у него там оказалось очень много друзей. Теперь они к нам приходили, когда попадали в Москву, останавливались, ночевали вместе с нами в нашей одной комнате, жили некоторое время. Мы для них делали что могли — кормили, давали одежду, иногда денег.
Сперва давали мы, потом к нам стали приходить посылки. Вдруг — посылка с балыком и черной икрой из Астрахани. Было лето, с балыка течет… Вспомнились мне времена с Зарницким, только тогда у нас был сарай, куда мы могли этот балык повесить, а тут у нас сарая не было, и я раздавала родным, друзьям, соседям.
Когда у нас гостили лагерные друзья или когда мы бывали у Моделей[11], — начинались лагерные воспоминания. Было весело. Сейчас, издали, та жизнь уже не казалась страшной. Лагерь не вспоминался таким, каким он был: зона, обнесенная колючей проволокой, вышки с пулеметами, нацеленными внутрь, замерзшие сторожевые собаки темным зимним утром воют от мороза, а ты иди на этот лютый мороз, на лесоповал или снегоочистку в рваном бушлате… Нет, это не вспоминалось.
Вспоминались «блюдечки». Помните, как Моисей Иосифович Модель нам рассказывал про них? К одному зэку должна была приехать на свидание жена, и он по всему лагерю разыскивал блюдечки: она, мол, очень любит чай пить из блюдечка. А жена встретила на станции хахаля-военного и не поехала к мужу. Вот уж все потом над этим зэком потешались, все спрашивали: ну что блюдечки? Вспоминая об этом, Модель, озорник Модель, даже теперь заливался смехом.
Или подтрунивали над тем, что у нас любят «спец» слова: спецконтингент — зэки, спецкорпус — тюрьма, спецгруз — мертвец, спецящик — гроб. И забывали, что не всегда была такая роскошь, как гроб.
Михаил Давыдович рассказывал, какой у него был разговор перед самым отъездом из Спасска. Идет он как-то по зоне и слышит, как баба, жена вохровца, ругается на чем свет стоит. Он спросил ее, на кого она так сердится.
— Да, вам хорошо, — яростно отвечала она, — вот вас выпустят, вы все пойдете работать, где и прежде работали, а мой-то что делать будет? Куда ему податься?
— Ну, уж тут я вам никак не могу посочувствовать! — развел руками Михаил Давыдович.
Бывало весело, но я иногда сердилась. Михаилу Давыдовичу и капли нельзя было пить спиртного, а друзья всегда пытались угостить его, не слушали никаких доводов, и он сам охотно их настояниям поддавался. И волноваться ему нельзя было, но он не мог. Все, что происходило, касалось его очень близко. Помню, мы были в одной семье в гостях. Михаил Давыдович заспорил с хозяином о Сталине — тот Сталина защищал, говорил: теперь легко все валить на мертвого. И они поссорились. На другой день Михаил Давыдович позвонил в тот дом, к телефону подошел хозяин, но с ним Михаил Давыдович разговаривать не стал, даже не поздоровался, а попросил позвать хозяйку. Он сказал ей:
— Извините, что испортил вам вечер!
Но когда я стала ругать свою подругу, которая порвала нашу дружбу, как только арестовали Мирошу, Михаил Давыдович за нее заступился.
— Будь снисходительна, — сказал он мне, — она не виновата, слишком страшное было время тогда, маленький человек запутывается в тумане и не понимает уже, что дурно, что хорошо.
В своем дневнике он писал:
«Ненависть не может быть руководящим чувством, а только любовь. Любовь роднит людей… Даже во имя освобождения от гнета не должно воспитывать в себе ненависти. Место одних угнетателей займут другие. Победившие угнетателей станут еще худшими угнетателями и будут требовать плату за свой подвиг, борьбу и самопожертвование… Я изгнал из души своей ненависть к моим угнетателям, оскорбителям и палачам. Они несчастны, а я обрел душевный покой и равновесие…»
Но «равновесие» продолжалось недолго. Если первое время все перекрывалось для Михаила Давыдовича розовым облаком праздника возвращения, то вскоре из этого облака стали вырисовываться безобразные детали нашего быта. Подходящей работы не находилось. Опять, как и после возвращения из Америки, он сидел дома. Но тогда он был полон сил и энергии, а теперь с трудом взбирался по лестнице на третий этаж, и ощущение физического бессилия усугубляло его моральное состояние.
Я работала в поликлинике. Михаил Давыдович старался как мог помогать мне по хозяйству. Сидя дома, он поневоле погрязал в хозяйственных мелочах: то пойдет сдавать бутылки — а их нигде не принимают; то испортится унитаз — а в жэке невозможно добиться нового, так что приходится соседям по коммуналке «сбрасываться» и покупать у слесаря ворованный; то проводка испортится — опять надо давать электрику на водку… Все это выводило его из себя.
Единственной отдушиной был дневник. Еще в лагере, когда режим облегчился, он записывал в него:
«И вот через десятки лет я — седой человек — сижу за проволокой как преступник против общества, которое люблю, против государства, которому я отдал все свои силы, не жалея и жизни, и как враг партии, которая была моя „святая святых“…»
Теперь его записи изменились.
«Благословен день ареста моего, — писал он, — как начало очищения и подготовки к новой жизни. Благословляю свои одиннадцать лет тюрем и лагерей — как начало моего возрождения. Без этих испытаний я бы прожил свою жизнь с душевной мутью, в тумане, с неясными мыслями и ошибочными заповедями!»
Но прояснение не наступило.
К сороковой годовщине октябрьской революции 25 октября 1957 года Михаил Давыдович записал:
«Около года я вожусь с двумя гвоздями, которые торчат в моем мозгу, и я не могу избавиться от них. А надо кончить!
…Гвоздь номер один: как могло случиться, чтобы миллионы ни в чем не повинных людей подвергались пытке и страданиям только потому, что один человек имел скверный характер и нарушал законность? Или такое явление было законным и неизбежным, или я должен допустить, что в системе социализма такие явления врываются извне, то есть, опять-таки это результат системы. ЦК и XX съезд партии мужественно это вскрыли и ликвидировали, но мне этого мало: я должен знать, почему это случилось. Дело не во мне, а в более важном — в социализме. Если при социализме такие явления возможны, то что такое социализм?..
Начну с главного. Когда я сидел в спецлагере с номерами, я был уверен в том, что я прав, а неправы те, которые меня посадили. Я был убежден, что моя посадка и страдания многих миллионов людей вызваны отходом некоторых ведущих деятелей от тех основ, которые продолжали быть сутью моего миропонимания. Я и дожил, что моя уверенность подтвердилась. Это сделал XX съезд партии и Хрущев.
Да, но в последний год моя былая уверенность в моей правоте исчезла…
Второй гвоздь: антисемитизм…»
8.
Наконец Михаил Давыдович нашел работу по душе! Генерал Хрулев, начальник нашего тыла во время войны, писал мемуары, но у него не клеилось, и Михаил Давыдович стал ему помогать. Это были очень интересные мемуары. Михаил Давыдович мне о них рассказывал.
Хрулев знал очень много, материал часто был скандальный. Например, о полном отсутствии у нас тыла в начале второй мировой войны. Неподготовленность была такая, что взяли инструкцию, составленную еще царскими генералами при Николае Втором, до первой мировой войны, — взяли ее за основу для организации нашего тыла в сорок первом году.
Кроме того, Михаил Давыдович стал вместе с Саневичем писать книгу о Фрунзе.
Увлеченностью этой работой частично заглушалось унижение, на которое Михаилу Давыдовичу пришлось пойти. А унижение было такое. Договор с издательством был заключен от имени Гамбурга, Хорошилова, Саневича, Струве и Брагилевича. Они выступали в качестве авторов, а Михаил Давыдович, как теперь говорится, был у них негр — то есть ему надо было работать, а плоды своей работы отдать им. В число авторов книги фамилию Михаила Давыдовича не включили. Саневич, конечно, обещал за работу какую-то мзду, а Михаил Давыдович так тяжко переживал отсутствие всякого заработка (его мучало, что он недостаточно обеспечивает свою семью)! И он, переломив гордость, пошел на это.
Ему вообще было трудно морально. Он отвлекался работой, но все чаще чувствовал себя отжившим, выброшенным за пределы жизни. В дневнике он записывал:
«23 января 1957 г.
Вчера пришел ко мне А.И.Биневич, чтобы проведать меня и посоветоваться по поводу затруднений, которые имеются у него с пенсией. Он мне сообщил следующее. Он имел беседу с одним членом бюро партийной организации Министерства сельского хозяйства по этому вопросу. Тот ему ответил в присутствии еще двух товарищей, что незачем поднимать хлопоты по этому вопросу, а надо уйти с дороги и не мешать.
Тут один из присутствующих при беседе сказал:
— Куда уйти? Куда же ему еще дальше уходить? Он пенсионер, нигде не работает.
И тот член партбюро отчетливо ответил:
— Надо умереть.
Я не поверил Биневичу и стал его расспрашивать подробнее. Он поклялся, что ответ был именно такой: надо умереть.
Мне кажется, что этот член партбюро говорит вслух то, что и другие думают. Славин мне рассказал примерно то же — ему сказали: „Вы — отработанный пар. Отойдите и не свистите“.
Я лично выслушал от одного из устроившихся холуев в не менее грубой форме то же самое.
Что это — линия или проявление самодеятельности? Я знаю, что многие люди считают наше освобождение ошибкой, что нам надо было умереть там, а не быть среди живых в новой жизни. Они считают законной такую смену поколений и считают, что воскресение мертвецов и ввод их в жизнь не полезное дело. Мертвецы должны быть на кладбище».
В 1958 году Михаил Давыдович ездил в Киев повидаться с родственниками и побывать в Бабьем Яру — на месте упокоения своих родителей. Как ни старалась я отвлекать его от тяжелых мыслей, они его мучали все сильней. Как ножом резало его воспоминание о суде в Петропавловске, о прокуроре Жигалове. Он стал узнавать насчет него, выяснять, где он и наказан ли. Все это было безуспешно. Тупые жирные рожи отвечали ему равнодушно:
— Ну что же, это было нарушение социалистической законности.
Вероятно, Михаилу Давыдовичу не надо было все это ворошить, слишком дорого обходилось. Но он уже не мог. Эта внутренняя заноза стала нарывать, терзая его непрекращающейся мукой, и мука эта перекрыла первоначальное умиротворение и равновесие…
Летом 1959 года мы сняли дачу в Кратове на весь сезон. С нами там жил еще брат Михаила Давыдовича — Митя, приезжали его жена Мария Васильевна и дочь Таня.
Мы старались жить весело и иногда вечерами даже танцевали под патефон. Михаил Давыдович очень хорошо танцевал. Как-то он пригласил на танец Марию Васильевну и шутя напомнил ей, как с нею учился когда-то танцевать, когда его «дрессировали» перед поездкой за границу. Давно это было! Михаил Давыдович вспомнил это и весело и уверенно повел свою даму. Я смотрела на них и вдруг заметила, что Михаил Давыдович пересиливает себя, старается преодолеть, скрыть одышку. Внезапно явилась ясная мысль, что он танцует в последний раз… Я испугалась, прогнала эту мысль, как будто именно она может нанести ему вред.
Туда, к нам на дачу, приехал Эн. Помните, я вам рассказывала о нем? В больнице Аратау, латышский писатель, больной туберкулезом, который попросил меня поцеловать его на прощание?
Когда я вернулась из лагеря, то переслала рукопись его сестре. Он был холост, и сестра подумала, что у нас с ним любовь, стала мне очень дружески писать, приглашала приехать в Латвию. Но я объяснила ей, что у меня есть муж, — я хотела, чтобы иллюзии рассеялись.
Эн выжил, вернулся из лагеря на родину. Я как раз тогда запросила его сестру — жив ли он? И вдруг сам Эн горячо ответил. Прислал мне письмо, странное по бурности чувств. Михаилу Давыдовичу письмо не понравилось. Я старалась доказать ему, что между нами ничего не было, что Эн мне только друг и ему показалось, будто тут было нечто большее.
И вот когда мы жили на даче в Кратове, к нам приехал Эн. Мы все поужинали с коньяком, Эн чудно разговорился с Михаилом Давыдовичем, и у того не осталось никакой неприязни, никакой ревности — они были товарищи по беде, два бывших лагерника, испытавших одно и то же. Между ними сразу возникла та откровенность и дружба, о которой я вам уже рассказывала.
Эн был драматургом, Михаил Давыдович — редактор; договорились, что Михаил Давыдович отредактирует его пьесу… ту самую. Она ведь не пошла в первоначальном виде…
Михаил Давыдович увлекся, разговорился. Он был счастлив, что еще кому-то нужен, он воспрянул, почувствовав свою силу и значимость.
9.
Несколько дней потом Михаил Давыдович был еще в приподнятом настроении, но затем мысли о Жигалове снова начали одолевать его. Он стал составлять заявление в Генеральную прокуратуру СССР, очень разволновался, потерял сон… Письмо он отослал и ждал ответа.
Одышка становилась все сильнее, он все чаще задыхался, появилась синюшность губ, и он все чаще заговаривал о смерти. Говорил, что смерти не боится, знает, что она неизбежна, что она скоро к нему придет, и он ждет ее спокойно.
Из Прокуратуры пришел ответ, что Жигалов снят с работы и понес должное наказание. Но Михаил Давыдович не верил: с работы, может быть, и снят — именно с этой работы, но перевели куда-нибудь и живет он себе припеваючи, а может быть, на пенсии — получает высшую, или военную, или персональную, и ордена носит, наверное, бесстыдно.
Михаил Давыдович не поверил, хотя другие реабилитированные говорили ему, что никого из прежних судей, прокуроров и следователей уже не осталось. Но это казалось Михаилу Давыдовичу недостаточным, он считал, что у нас должен быть проведен второй Нюрнбергский процесс над преступниками.
Он все чаще возвращался к тому, как это могло случиться, мучительно искал объяснения, какого-то смысла, оправдания происшедшему. Он стал набрасывать письмо в ЦК и сверху написал: «Передать после моей смерти». Там он пытался найти этот смысл, развивал целую теорию, что лагеря наводнили нашу страну, так как в такой бедной стране нужны были армии рабов для строительства, которое было затеяно, нужна была дешевая рабская сила, и Берия (ну, конечно, Берия — иначе нельзя было писать!) воспользовался опытом Древнего Египта и Рима и все наше население разделил на зэков и красноголовых (работников НКВД — МГБ с красными околышами на фуражках), но с увеличением класса красноголовых эта система стала экономически невыгодна.
10.
В последние месяцы жизни Михаил Давыдович впал в глубокий пессимизм. Сердечные приступы стали учащаться.
За неделю до смерти Михаила Давыдовича пришла Майя и рассказала, что была у общей знакомой, увидела у нее фотографию своей матери, Фени — на пляже, в купальном костюме, совсем как живая. Майя выпросила эту фотографию и теперь принесла Михаилу Давыдовичу.
1 декабря 1959 года Михаил Давыдович умер.
Я не разбирала его архив три года — мне было тяжело. Я только посмотрела, что лежало сверху, и открыла его дневник. И вдруг я увидела там на первой странице эту фотографию: Феня, море, пляж… И меня словно ударило в сердце: это ты пришла его забрать!
Спустя время я рассказала Бруше — ей ведь все можно рассказать.
— Я никогда не ревновала к твоей матери, но…
Бруша стала меня уговаривать:
— Что вы, что вы, тетя Ага, это случайность, это совсем не то!
Но я-то знаю, что то.
Провожало Михаила Давыдовича на кладбище очень много народу. И из «Красной звезды», и работники кино, и родственники, но больше всего было друзей — бывших лагерников. На поминках (на квартире Майи) все говорили о Михаиле Давыдовиче: какой он был прекрасный друг, надежный товарищ, бескорыстный человек, как он умел сходиться с людьми всех национальностей, на всех уровнях. Был там и Моисей Иосифович Модель. Он поднял рюмку и сказал: «Дорогой Миша, я старше тебя, я должен был умереть, а не ты…» И расплакался…
Вот некролог в «Красной звезде»:
М.Д. Король
Умер один из работников советской военной печати и кинематографии Михаил Давыдович Король.
Солдат царской армии, прошедший с нею всю империалистическую войну, активный участник гражданской войны, Михаил Давыдович работал до 1922 года в политуправлении Красной Армии. С начала издания «Красной звезды» он стал в редакции заведующим отделом и являлся одновременно редактором журнала «Красный Крокодил».
Позднее партия направила Михаила Давыдовича на работу в кинематографию. В качестве заместителя председателя правления Совкино Михаил Давыдович Король приложил много сил для выпуска фильмов, повествующих о гражданской войне, о героизме, проявленном в ней нашим народом. В частности, он принял участие в создании такого шедевра советской кинематографии, как «Чапаев». В последние годы жизни Михаил Давыдович был связан с киностудией «Мультфильм».
Все знавшие Михаила Давыдовича навсегда сохранят память о нем, как о превосходном организаторе, талантливом публицисте и скромном, глубоко преданном партии товарище.
Группа товарищей
И ни слова, ни слова о том, что он был репрессирован и жестоко пострадал, — ни слова об истинной причине смерти!
Взгляд извне. Автор:
Я дружила с Агнессой до самой ее смерти, то есть больше двадцати лет.
За это время карий цвет ее глаз, который я еще застала, превратился в мутно-серо-голубой со склеротическим блеском. Появились морщины; поседевшие волосы она стала красить в золотистый цвет. Но как ни портила ее наступающая старость, былая красота проглядывала через все. И подтянутая фигура, и умение держаться гордо и прямо, и большое чувство собственного достоинства, — все привлекало к Агнессе общее внимание. В эти поздние годы находились у нее поклонники. Где-нибудь в очереди вдруг какой-нибудь представительный старик, посмотрев на нее, говорил с поклоном:
— Вы, наверное, были очень красивы в молодости!
Нет, она не хотела сдаваться перед годами. Еще из Монголии привезла она специальную каталку, при помощи которой каждое утро в любое время года, открыв настежь окно, нагая, делала массаж всего тела. Потом шла зарядка, а затем после очень легкого завтрака — прогулка пешком, часто на другой конец Москвы, по какому-нибудь нужному ей делу. Эту утреннюю физическую нагрузку она считала обязательной. Она никогда не позволяла себе лишний раз полежать, говоря, что секрет молодости в том, чтобы не распускаться ни на минуту, никогда не поддаваться желанию расслабиться, не горбиться, не сидеть на стуле «плюхой». Все всегда должно быть подтянуто — иначе кости в позднем возрасте примут старческую форму, и тогда уже не восстановишь выправку.
Агнесса преклонялась перед красивыми женщинами прошлого, чувствуя с ними солидарность красоты. Еще до того как многие принялись оправдывать и обелять Наталью Гончарову, она уже стояла за нее горой. Она говорила мне, что ей больно смотреть, с каким пренебрежением относятся к могиле Натали: могила была запущена, на памятнике написано только «Ланская» — и ни слова о том, что она была женою Пушкина. Агнесса понимала ее поведение и оправдывала ее целиком.
Так, сама прожив жизнь красивой женщины, она находила в прошлом аналоги себе.
Агнесса очень много читала, особенно любила исторические книги. В Ленинграде муж Агули достал мемуары Витте и, не читая, поставил красоваться на полку, и Агнесса мечтала, что когда зять уедет в длительную командировку, она привезет эту книгу в Москву, чтобы прочесть. Она подробнейшим образом пересказывала мне исторические романы Мережковского, прочитанные ею еще в юности. А когда попалась ей изданная еще в начале века книга воспоминаний князя Долгорукова, о судьбе молодой жены Петра Второго и других исторических лиц бироновской эпохи, она не могла расстаться с этим томом несколько недель.
Ей глубоко запали в душу слова Михаила Давыдовича о необходимости у нас второго Нюрнбергского процесса, и в заветной ее записной книжке был подробно выписан приговор, вынесенный в 1946 году.
Настрадавшись в недавнем прошлом от доносов и преследований, многие реабилитированные боялись любой огласки. Одна Агнесса не боялась ничего. Она была пылким агитатором. В метро, трамвае, в очереди, если начинали оправдывать Сталина и осуждать репрессированных, она тут же со свойственными ей красноречием и страстностью вклинивалась в спор и чаще всего побивала своих оппонентов тем, что сама была в лагере и знает правду не понаслышке.
Я любила приходить к ней на 4-ю Тверскую-Ямскую. Михаил Давыдович не дожил до получения квартиры, и Агнесса оставалась в коммуналке, в той комнате, куда Михаил Давыдович приехал из лагеря. Соседи менялись, Агнесса оставалась…
Входишь в парадную, по крутой лестнице наверх, в третий этаж, квартира тринадцать. Дверь тотчас открывает ожидающая тебя Агнесса, всегда приветливая, веселая, подтянутая, чуть подкрашенная — во всеоружии. Зимой в бледно-розовой шерстяной кофточке. Мне нравилась эта кофточка; все, что она надевала, всегда казалось очень красивым, и поэтому хотелось и для себя найти такую же одежду…
Затем перестук, шепот, шуршание бамбуковой занавески, и я — в комнате. Большое окно справа еще светлое, но солнце, нагрев и обласкав здесь все, уже ушло. Вечереет.
Мои пирожные — на круглом столе в центре комнаты. Агнесса и рада и в ужасе: «Что вы со мной делаете, милая Мира, ведь меня и так разносит!» Но она не удержится, чтобы не есть пирожных, она их очень любит!
На столе появляются яства — немного, но разнообразные; иногда же — просто поджаренные гренки. И всегда мы пьем чай.
О, этот круглый столик! Он был старенький, веселая клеенка скрывала его возраст. Старенький, плохонький столик, за которым мне столько было рассказано!
11.
Знаете, я хочу выйти замуж, я этого не скрываю. Женщина должна быть замужем, я всегда так считала. Как в Евангелии сказано: «Муж да прилепится к жене своей». Это очень мудрые слова, милая Мира. Вот у Агули есть подруга, кандидат наук. Была замужем, разошлась, любовники всякие временные… Ну что это? Была мужняя жена, а теперь кто? Девка!
Я этого не одобряю. А в моем возрасте особенно нужен друг. Мне очень нужен близкий человек, чтобы можно было, как с Михаилом Давыдовичем, поговорить, понять друг друга… Знаете, какие одинокие бывают иногда вечера?
Ах, милая Мира, в карете прошлого далеко не уедешь!..
Мы долго переписывались с директором консерватории в городе… Он когда-то служил у Миронова и был очень в меня влюблен. Но и тут сорвалось: он вдруг женился на молоденькой. Видно, придется доживать одной. Ну что же, вы ведь меня знаете — я никогда не унываю. Нет друга, но зато сколько друзей кругом! Будем жить.
А жить, конечно, нелегко. Пенсию я получила. Я боялась, что станут спрашивать: как же у вас в паспорте нет отметки, что вы были осуждены, вот этого самого пункта 39? Ведь Вася мне его вытравил. А я нигде о лагере не писала. Но в собесе даже не спросили, взяли справку о реабилитации и сказали только: «Прибавьте лагерный стаж» — и все. Так что это прошло гладко.
Но пятьдесят рублей — на это трудно прожить, вы знаете. Вот Михаил Давыдович написал вместе с генералом Хрулевым его мемуары. Если бы их напечатали, Хрулев поделился бы со мной, дал бы мне что-то из гонорара. Но их не печатают, потому что теперь надо все скрыть-скрыть-скрыть! И как обмишулились в начале войны, — это теперь мы только герои, победители! Им нужна ложь, а Хрулев писал правду.
Спустя некоторое время после смерти Михаила Давыдовича Хрулев звонил мне, хотел со мной повидаться, приехать ко мне. Я ждала, ждала, а он… умер. Теперь уж мемуары и вовсе не напечатают.
Книга о Фрунзе вышла в 1962 году. Авторы: Гамбург, Хорошилов, Саневич, Струве, Брагилевич.
Саневич подарил мне экземпляр, написал на титульном листе длинную дарственную, где расхваливает Михаила Давыдовича и указывает, что в книге такая-то глава целиком принадлежит ему. Только фамилии Михаила Давыдовича в числе авторов нет… Сколько души он вложил в эту книгу!
А что теперь делается?
Вот в одной пьесе я слышу диалог. Парню говорят:
— Но ведь твой отец сидел восемнадцать лет!
— Ну и что из того, что сидел, — весело отвечает сынок, — его реабилитировали, а теперь он получает пенсию.
Или: «Подумаешь, двести-триста человек арестовано было! Что тут такого!»
А то еще: «Не будем растравлять раны». Чьи раны? Палачей? Нет, я не могу всего этого слушать спокойно. Все ложь, ложь. Все хотят замазать, замолчать — будто ничего и не было!
Вот «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург. Я теперь самиздат опасаюсь хранить, а у меня его накопи-и-илось! Я весь его уничтожила, только с этой рукописью не могу расстаться — с Евгенией Гинзбург. Пусть что хотят делают, хоть опять сажают. Эта книга обо всех нас, таких, как я, обо мне…
12.
Конечно, где могу, я пытаюсь подработать. Не только на жизнь, — вы знаете, мне так хочется купить пианино! Какое-нибудь подержанное, дешевое… Мне так не хватает музыки! Ах, милая Мира, радио — это не то, там тебе навязывают; а сесть за пианино и сыграть самой то, что тебе в данный момент хочется!
Правда, недавно словно угадали мои мысли. Утром делала уборку в комнате. Подставила стул и с тряпкой полезла вытирать пыль с шифоньера. На глаза попался проигрыватель, который лежал там наверху, аккуратно завернутый. Я хотела снять его и поставить любимую пластинку — «Грустный вальс» Сибелиуса. Но нет, отложила это: поленилась возиться, снимать, разворачивать.
Поздно, в двенадцать часов, стала готовиться ко сну. Включила настольную лампу у изголовья, надела ночную рубашку. Радио уже умолкло, тишина… И вдруг аккорд. Я сразу узнала — Сибелиус! Тихо, печально, грустно запели скрипки и весь оркестр. Разлился нежный, таинственный вальс по моей комнате… И опять воспоминания жизни были со мной…
Сейчас я нашла себе работу, вероятно, очень долгую и постоянную. Родственница Михаила Давыдовича Шарлотта попросила ухаживать за ней. Она хронически больна и не может обслуживать себя: я буду при ней сестрой-сиделкой, буду заботиться о ней. У нее ведь в целом свете никого нет.
— Не бросайте меня, Агнесса! — умоляла она меня. — Не бросите?
— Я вас никогда не брошу, — обещала я. — До самого вашего или моего последнего часа.
Кто из нас умрет раньше, милая Мира, не знаю, ведь мне уже тоже семьдесят семь лет…
13.
Милая Мира, как долго мы не виделись! Целых полгода! Вы спрашиваете, какие у нас новости? Неужели вы не видите: у меня же пианино! Теперь я могу играть, что хочу и когда хочу… Я вам сыграю после чая. Вы любите Шопена? Бетховен и Шопен — эти великие музыканты сопровождали меня всю жизнь…
Пианино… Вы не спрашиваете, откуда? Я ведь разбогатела. Да, грустно, конечно. Умерла Шарлотта — спокойно, не мучалась. И она завещала мне все свои сбережения. Я получила наследство! И я не «засолила» его в сберкассе. Если деньги есть, — надо жить, жизнь ведь так коротка!
Не на долгий срок жизнь давалася, За единый час миновалася…Сперва я раздала всем близким мне людям по сто рублей — Агуле, Тане, Майе, Боре, Нике и всем другим… А затем… Я ведь давно мечтала совершить «путешествие в юность», проехать по родным местам — Майкоп, Ростов, кавказское побережье. Я встретила там тех, кто еще помнит… их очень мало осталось в живых… Но еле узнала места — как все изменилось! Земля повернулась в вечном пространстве не один раз… и людей тех нет. Нет и нашего с Мирошей заветного тополя, я даже того спуска к реке не нашла…
А еще до того мы поехали на Черное море к Верочкиным родным. Я «угощала». Я повезла своих на море — Нику с сыном и Агулю с детьми. Мы поехали в Сухуми. Верочкины родные взяли с нас за жилье дешевле, чем с других. У нас была комната на втором этаже, кухня внизу. Питались во дворе, под открытым небом, там ведь тепло! Моя молодежь целыми днями жарилась на пляже, а я днем к морю не ходила, сидела в саду. Купалась только рано утром, когда еще не жарко и на пляже мало народу. Вот уже трудно стало переносить жару. А как когда-то я ее любила! Ведь юг, море, зной — это мое родное!
14.
А Сережу все не реабилитируют! Из Прокуратуры мне ответили: реабилитировать нельзя, так как он превысил свои полномочия в Монголии. Но ведь у него на все были приказы из Москвы. Он привел к власти Чойбалсана, на могилу которого все наши, кто там бывает, привозят цветы. И Цеденбал, которого почитают, — это же преемник Чойбалсана!
Агнесса Ивановна в возрасте 78 лет
Мироша, Мироша! Как часто я о нем теперь вспоминаю! Меня одолевают сны, я вам уже говорила об этом. Мне снится Ростов во время нашего «подпольного стажа»: как мы ссорились, расставались и опять бросались в объятья друг другу…
Я жила с Зарницким, там были мама, Лена, Боря, потом Павел, малышка Павла… Но вот шесть часов… Сколько хитрости, уловок! — я была мастерица на это. И вот бегу и уже издали вижу: под тополем он…
Так было. Так в душе, в памяти. Но не во сне. Что-то есть в снах такое, благодаря чему подпольное, подспудное, о чем не хочешь думать, что хочешь отбросить, от чего ищешь забвения, — именно оно накладывает на тебя свою тяжелую длань.
И я во сне бегу к Мироше на свидание, вижу тополь, спуск к реке, но… Мироши нет. Я ищу его, надеюсь, верю, что он сейчас придет, заставляю свой сон, свое сознание дать мне реальность встречи — увидеть его, коснуться живого, прежнего… Но безжалостная действительность проступает сквозь сон, отравляя его, и я ловлю призрак, слабые очертания, которые уходят от меня, тают…
Или — я уже рассказывала вам — мы едем на машине вместе, вот мы на вокзале, и сейчас будет поезд, но Миронов исчезает, я ищу-ищу, а его нет…
Сны эти мучают меня несбывающимися поисками, неутоленностью. Я просыпаюсь, и нет радости от воспоминаний сна. И Ростов, и залитая солнцем улица, и юность моя, — все это ожило передо мной, все это во сне повторилось, все было вновь, не было только Мироши…
А может быть, это потому, что нет его могилы? Что нет места, куда бы я могла прийти и побеседовать с ним?
Весной я пошла на кладбище к Михаилу Давыдовичу в день поминовения и забрела на могилу Зинаиды Райх. Там я увидела памятник Мейерхольду — большой черный обелиск, наверху выбит профиль Мейерхольда, имя, год рождения, примерный год смерти, а внизу — о ней. Так теперь многие делают: ставят памятник, хотя неизвестно, где на самом деле тлеют тела убитых. Ставят, чтобы не бесследно сгинули в Лету.
Если бы Мирошу реабилитировали, я бы тоже так сделала: выбила бы его имя на семейном памятнике Королей. И было бы и для Сережи место на Земле, где можно было бы мысленно обратиться к нему…
Когда я завожу разговор о своих похоронах, Майя и Бруша говорят мне, что, конечно же, надо будет мою урну похоронить рядом с Михаилом Давыдовичем, а я возражаю.
— Нет, милые девочки, нет. Пусть Михаил Давыдович будет с Феней. Она пришла за ним, она его увела с собой.
— Тетя Ага, вы ревнуете, — говорят они.
— Нет, нет, милые девочки, я не ревную, но зачем я там буду третьей? Женой Михаила Давыдовича была Феня — ваша мама, а моим мужем был Сережа Миронов, и если уж нельзя нам быть вместе, то замуруйте мою урну в колумбарии там же, на Ваганьковском кладбище, чтобы вам в два места не ходить в наши поминальные дни. Если уж нам нельзя быть вместе с Сережей, пусть и я тогда буду отдельно.
Можно было бы, конечно, просто выгравировать имя Сережи, не дожидаясь реабилитации, только тогда в кладбищенских ведомостях Мироша числиться не будет. Но Бог с ними, с ведомостями. Не разрешает племянница Михаила Давыдовича — не хочет, чтобы в семейном захоронении появилось имя палача… Ох, я теперь хорошо понимаю, что это и есть настоящая причина, почему его не реабилитируют, — никакая не Монголия, все это ерунда…
Но был ли Сережа палачом? Я не могу себе этого представить. «Я — сталинский пес, и мне иного пути нет», — сказал он как-то Михаилу Давыдовичу. Попав однажды в эту страшную машину, он уже не мог не крутить ее, а чего ему это стоило, знаю только я… Но что бы он ни переживал, он не мог не выполнять приказы и не выносить приговоров. «Гениальнейшему» все было мало, мало. Молоху нужна была кровь, кровь, кровь… Чтобы спасти себя, Сережа не мог не проливать ее.
И эта кровь — на Сереже…
Где хоронили расстрелянных в Лефортове, в какой братской могиле, в какой свалке? Этого я не знаю. Знаю только, что никогда не будет места, куда бы я могла прийти и оплакать Мирошу. И это ему посмертная кара.
Взгляд извне. Автор:
Ни одного раза в жизни, даже в самых трудных тюремных и лагерных условиях, Агнесса не пропускала своего дня рождения. Она отмечала его везде и всюду, как могла. Конечно же, не пропускала она его и здесь, на Большой земле. И как бы ни мала была ее пенсия, свой день рождения она всегда отмечала богато, тем более после того, как получила наследство: пекся традиционный «наполеон», делался «лунник», селедка «под шубой» и т. д.
При своей неудержимой общительности Агнесса подружилась с молодыми соседками по квартире, которые помогали ей обычно готовиться к традиционному торжеству. Но в последний раз они обе были заняты, и она готовила все сама. Она потешно рассказывала, как раздобыла свежую рыбу, чуть не подравшись с каким-то нахалом, который вздумал оттеснить ее из очереди. Ей исполнялось семьдесят девять лет.
Эту дату мы отмечали необыкновенно весело. Пятнадцать приглашенных — и роскошный стол, какого еще не накрывалось никогда! Какой это был веселый праздник! И, выходя за рамки обычного режима, Агнесса выпила не половину рюмки коньяка, как обычно, а три.
Потом танцевали, Агнесса — с племянником Левой. Они танцевали старинное танго, но Лева не умел, не знал, по понятиям Агнессы, как нужно танцевать. И, затянутая в черное элегантное платье, отделанное черным кружевом, Агнесса стала показывать, как танцуют танго: муштруя, вертела Леву, вытянув руку, слитую с его рукой, шла вперед, прямо, гордо, артистично, и мы глаз не могли отвести от нее.
Это был самый веселый день рождения за последние годы.
На другой день я пришла к Агнессе. У подъезда стояла «скорая помощь».
Через две недели Агнессы не стало.
Ирина Щербакова ПОСЛЕСЛОВИЕ К СУДЬБЕ
Перед читателем этой книги прошла история весьма бурной жизни Агнессы Мироновой, с кремлевского приема попадающей пешим этапом в казахстанскую степь, из огромного особняка бывшего генерал-губернатора Новосибирска — в московскую коммуналку, из салон-вагона начальника НКВД Западной Сибири — в тюремную камеру. Но эти «качели» женской судьбы для 30–40-х годов сами по себе не так уж и уникальны. И даже редкая возможность познакомиться с провинциальным и столичным бытом верхушки ГПУ — НКВД — не самое захватывающее в книге. Главное в ней — Агнесса. Ее всепобеждающая жизненная сила, ее неукротимое желание быть победительницей, самой красивой, самой нарядной, самой любимой, ее решительность, граничащая с авантюризмом, столь поразительны, что невольно возникает литературная ассоциация с героиней романа «Унесенные ветром» Скарлетт О’Хара.
Судьба Агнессы — красивейшей девушки в Майкопе — прежде всего история ее романтических увлечений, тайных свиданий, трех замужеств. Любовь всегда присутствует в ее жизни («я не могу без любви»), но главное — чувство к Мироше, Сергею Миронову, сделавшему крутую карьеру в НКВД, оставившему жестокий след в Казахстане и на Украине, в Западной Сибири и Монголии, арестованному на посту начальника Второго отдела Наркоминдела и расстрелянному в 1940 году. Красавец чекист с «прекрасными карими глазами, породистым лицом, белозубый, черноволосый, с ямочками на щеках», — Миронов настоящий герой-любовник. Благодаря искренности и прямоте, с которыми Агнесса рассказывает о своей жизни, мы видим, как сильно она любит его, но одновременно ни на минуту не забываем, что он, по его же собственному выражению, верный «сталинский пес», прямой виновник и организатор массовых репрессий. Но рассказчица не оправдывается и не пытается оправдать своего Мирошу, — она честно вспоминает эпизоды, которые разрушают миф о том, что «мы ничего не знали». Знали. Знали про голод, про людоедство, про повальные аресты, про пытки. Отсюда цинизм и разложение и Мироши, и Мирошиной среды. Описывая свою сладкую жизнь среди немыслимой роскоши, Агнесса не лицемерит, не притворяется, что испытывала угрызения совести, наоборот, признается, что жила «зажмурившись». Но спустя десятилетия, ей, испытавшей на себе прелести системы, созданной руками Миронова, важно понять, какова степень виновности человека, которого она никогда не переставала любить. И она старается убедить слушателя в том, что, «попав однажды в эту страшную машину, он уже не мог не крутить ее», что он лишь выполнял волю тех, кто стоял над ним, — Сталина, Ягоды, Ежова.
Рассказы Агнессы вызывают доверие еще и потому, что, пользуясь всеми благами системы, она себя с ней не идентифицирует. Ей наплевать на идеологию, советская власть для нее не родная (недаром Миронов называет жену «моя белогвардейка»). Этим, видимо, и объясняется ее поразительная откровенность. Но так уж устроена эта женщина: жизнь дает, и она берет. Берет охотно и с радостью. Она искренна в приятии мира таким, каков он есть, не скрывает удовольствия, которое получает от красивых вещей, от материальных ценностей. Красота и уют для нее органичны. Агнесса привносит их и в казенную обстановку госдач, и в кошмар лагерного барака. Свои наряды она описывает с таким наслаждением и с такими подробностями, что их невозможно не запомнить, как туалеты Скарлетт: и бледно-зеленое свадебное платье с золотыми пуговицами, и черное с шлейфом для приема в Кремле, и штопаную красную вязаную кофточку, и драную беличью шубку, с которой не расставалась в лагере.
Агнесса ничуть не смущается тем, что ее главное оружие в борьбе за выживание — откровенная, почти агрессивная женственность и женский инстинкт. Именно женственность позволяла ей не только выжить, но, что еще труднее, сохранить достоинство. Правда, последнее удавалось Агнессе не всегда. Но, когда она вспоминает о прошлом, у нее хватает смелости не лгать себе и другим, что во всех ситуациях вела себя безупречно.
И еще одно — выжить она старалась не за счет других. Даже попадая в обстоятельства, выбраться из которых чрезвычайно трудно, она полагалась прежде всего на себя, внушала себе, как внушала героиня Маргарет Митчелл, что ни за что не будет думать о плохом: «Я умею себя уговорить, убедить, отбросить ужасное, страшное, уйти в другой мир… Ведь главное — в любых обстоятельствах не потерять голову. Не может мне не повезти!»
Безусловно, в книге «Агнесса» — удивительная героиня. И для автора редкая удача встретить такую личность. Но и Агнессе повезло, потому что ее историю поведала Мира Яковенко.
Мира Мстиславовна Яковенко точно фиксирует момент, когда стала записывать рассказы людей, переживших ГУЛАГ. Это началось в середине 50-х. В эти годы она часами просиживала в Прокуратуре СССР, в Верховном суде, в Военном трибунале, добиваясь реабилитации репрессированных родственников, и слушала исповеди бывших лагерников, заговоривших после долгих лет молчания. Тогда казалось, что огромный пласт нашей реальной истории запечатлен лишь в их памяти и передается в устной форме, что архивы не откроются никогда, что важны все цифры и факты, даты и названия. А Мира Яковенко порой не могла даже делать записи в присутствии рассказчика, опасаясь, что это повлияет на степень его откровенности. Чаще всего она писала дома, по памяти. Поэтому сегодня она говорит, что ее записи не исторические, что у нее собрался только литературный архив о поступках, характерах и переживаниях людей, прошедших лагеря.
Она затрудняется определить жанр и этой своей книги. Конечно, это и не мемуары в чистом виде, и не литературная запись, и не роман. Тут всего понемногу. Но для нас важно сегодня только то, что перед нами замечательный текст, который возник в результате встречи двух ярких, талантливых женщин. Эта книга — их общее творение. Героиня рассказывает о событиях своей жизни, о людях, давным-давно «унесенных ветром», автор — о времени.
В основе этого текста — услышанная жизненная история и точно переданная сказовая интонация, которая помогла передать то, что не могут зафиксировать никакие документы, — характеры, чувства, ощущения, наконец, мифы ушедшей эпохи. Словом, все то, что воссоздает историю повседневности.
Примечания
1
Е.Г.Евдокимов тогда был назначен представителем ВЧК на Юго-Востоке России (на Северном Кавказе). — Здесь и далее примечания автора.
(обратно)2
В.А.Балицкий с 1933 г. был полномочным представителем ОГПУ на Украине.
(обратно)3
Слухи о любовной пододплеке убийства Кирова, может быть, распространялись НКВД умышленно.
(обратно)4
В моей записи — Елена. По другому источнику — Анна.
(обратно)5
Миронов Л.Г.
(обратно)6
Рубен Артемьевич Таиров — одно из имен крупного советского разведчика. До ареста был полпредом в Монголии.
(обратно)7
Дальний Восток тогда: Япония, Китай, Тувинская Народная Республика и Монголия.
(обратно)8
Ошибка: Айви Вальтеровна Литвинова никогда не носила бриллиантов, одевалась очень скромно.
(обратно)9
Михаил Давыдович находился в Спасском полустационаре, куда «сбрасывали» уже «отработанных» заключенных — умирать. Но в 1953 г., после смерти Сталина режим ослаб, стали лучше кормить, и некоторые умирающие оживали.
(обратно)10
Непригодных уже к работе заключенных «списывали» по акту и выпускали из лагерей.
(обратно)11
Наши с Агнессой общие друзья.
(обратно)
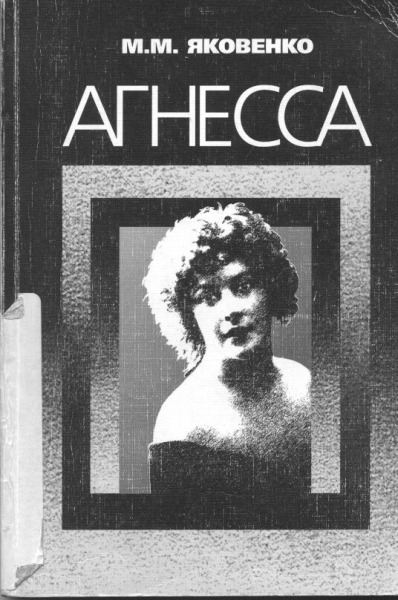



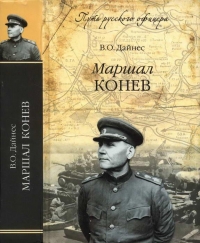

Комментарии к книге «Агнесса», Мира Мстиславовна Яковенко
Всего 0 комментариев