Иван Георгиевич Лазутин
СУДЬБЫ КРУТЫЕ ПОВОРОТЫ
К 200-летию МВД России
Изд-во «Голос-Пресс»Часть первая ДЕТСТВО
Триптих — бабушка и три внука
Есть в человеческой памяти какое-то удивительное свойство и тайная сила — освещать мелкие островки в океане жизни, на которых протекают раннее детство и отрочество. И наоборот: целые материки прожитой за десятилетия жизни, жизни тяжелой, беспокойной, а иногда и мучительной, разрушаются в глыбы, крошатся в осколки и тонут в бездонном океане нашей памяти.
Я помню себя с четырех лет. Особенно ярко передо мной высвечивается картина счастливого в моей жизни дня.
Мой самый младший братишка, Петенька, которого мама родила на 26-м году жизни, словно околдовал меня своей румяной мордашкой, взмахами пухленьких ручек и ножек. Когда мама купала или пеленала его, мне так хотелось взять брата на руки, прижать к груди и долго-долго целовать. И несколько раз мама разрешала мне это, стоя рядом, уверенная, что я не уроню братишку. Но однажды, пользуясь тем, что мама вышла на кухню подсушить у загнётка печки сырую пеленку, я тихо вошел в ее спальню, встал на цыпочки и взял на руки двухмесячного братика. Он не кричал, не плакал, мне даже показалось, что улыбнулся мне, как бы поощряя мой смелый и дерзкий поступок. Крепко прижав Петеньку к груди, я толкнул ногой дверь и вышел в просторную горницу.
Крещенский морозный день разрисовал стекла окон, нарядил их в узорчатые кружева. Я подошел к окну, и мне так захотелось показать своего братика соседским ребятишкам, катающимся на снежной горке, что я не мог удержаться, чтобы не отогреть дыханием кружочек на оконном стекле, через который мои ровесники смогли бы увидеть голенького Петеньку. И сделать это я успел. Успел и несколько раз крикнуть, чтобы они подошли к окну, но в это время дверь скрипнула и в горенку вошла мама. Я испугался, увидев ее всплеснувшиеся руки и полное ужаса лицо. Руки мои ослабли, и я уронил братишку на пол. Теперь он не только заплакал, но так громко закричал, что я метнулся в спальню деда и залез под кровать.
Мама меня не била, а лишь долго увещевала, пугая тем, что Петенька от ушибов и простуды может заболеть и умереть.
Я долго и навзрыд плакал, плакал до тех пор, пока мама, уже давно запеленав и успокоив младшенького, не принялась успокаивать теперь меня. Она говорила, что Петя не ушибся. Мальчик он крепенький и не только не умрет, но даже не будет кашлять.
После этого проступка я боялся дотрагиваться до братика, хотя мне очень хотелось погладить его реденькие волосики, коснуться розовых пяточек. Мама мне только разрешала смотреть на него. И я был счастлив, что Петя не заболел и не стал кашлять.
Часто ловлю себя на мысли, что будь я художником, нарисовал бы картину с прекрасным сюжетом: четырехлетний бутуз держит на руках голенького младенца на фоне заледеневшего окна.
Четко помнится и другая, милая сердцу картина, которая могла быть триптихом. На левом полотне я бы нарисовал бабушку, Татьяну Павловну, когда она наряжает нас в церковь к обедне. Мы, три старших брата, одетые в белые рубашки и подпоясанные цветными поясками, стоим перед ней один другого меньше, а бабушка частым роговым гребешком расчесывает наши волосы, смазанные лампадным маслом. Потом Сережа и Миша, уже причесанные, смотрят, как бабушка приводит мне, четырехлетнему пацану, головку в порядок.
На среднем полотне триптиха я бы изобразил, как бабушка ведет нас в церковь. Сережа, которому исполнилось уже восемь лет, идет самостоятельно, держась по левую руку бабушки, время от времени забегая вперед. Мы с Мишкой, схватившись за руки, что-то наперебой тараторим ей. Бабушка кивает головой и согласно улыбается. Во всей ее фигуре — высокой и тонкой, в черной и длинной, почти до земли, юбке со складками, в черной облегающей кофте, в белом платочке, проступает что-то монашеское… И обязательно я нашел бы ракурс, при котором фоном этой картины стали бы кресты и купола нашего пятиглавого собора. На правой стороне триптиха бабушка и три ее внука стоят рядом с ней перед церковными иконами. В выражении их лиц и глаз я увидел бы молитвенный зов к Господу Богу, просьбу об отпущении их пока еще маленьких, но все-таки грехов, которые выражаются в непослушании взрослым, в помыслах залезть в чужой огород за молоденькой моркошкой, в планах разорить грачиные гнезда на ветлах, что растут на берегу Пичавки…
Никогда не забуду, как батюшка исповедовал нас. Прикрыв всех троих братьев, прижавшихся друг к другу, полами шитой золотом ризы, он нараспев задавал нам вопросы, а мы, наученные бабушкой, не вдаваясь в их смысл, дружно, в один голос, нараспев, произносили: «Батюшка, грешен… батюшка грешен». И так до тех пор, пока гудел над нашими головами голос священника. Все трое мы уже знали, что после исповеди к нам подойдет в церковном облачении молоденький служитель и будет угощать из чайной ложечки сладким церковным вином. И, когда это случалось, мы, жадно смакуя божественный нектар, проглатывали его, заедая пресной просвирой.
Усердней всех из нас молился Сережа. Он мог всю обедню простоять перед лицом Божьей Матери и, не сводя печального взгляда с ее лица, шепотом просить у нее милосердия и защиты. Время от времени он вставал на колени перед образом Божьей Матери и клал земные поклоны. А озорной и непоседливый Мишка с трудом выстаивал обедню, хотя и крестился, стоя перед иконой, но то и дело вертел головой, бросал взгляд по сторонам, словно выискивая кого-то из молящихся. Я же старался походить на Сережу и, подражая ему, несколько раз вставал на колени, в душе осуждая Мишку. И не вертелся как юла, а усердно молился, прося у Господа защиты и каясь в грехах. В эти минуты мне даже казалось, что Бог слышит мои молитвы.
Не раз бабушка, вернувшись из церкви, рассказывала маме, как ее знакомые старушки и те поселянки, у которых она принимала роды, восхищались ее внуками. Особенно хвалили Сережу. Памятны мне последние недели перед Рождеством. Мои старшие братья, Сережа и Мишка, в раннее рождественское утро, пока в церкви еще шла заутренняя служба, ходили по домам соседей и родственников и славили Христа. И им давали, где копейку, где две, а где и пятак. А однажды Сереже, после Христославия у купца Зеленкова, дали даже серебряный гривенник, который он, отделив от медных пятаков и копеек, принес за щекой. Сережа — самый бережливый из братьев — не тратил эти деньги на конфеты, на резиновых чертиков, которых китайцы продавали на лотках, или на глиняные свистки и погремушки. Они были для него святые. Брат покупал на них тетради, цветные карандаши, альбомы и краски. У нас с Мишкой деньги уходили на сласти уже на второй день Рождества.
Текст моей первой колядки я выучил быстро, лежа на печке с бабушкой. Он был простой, и я запомнил его на всю жизнь.
Хлопчик, хлопчик Сел на снопчик. В дудочку играет, Христа забавляет. Открывайте сундучок, Вынимайте пятачок.Через много лет, уже после смерти бабушки, я узнал от мамы, что вечером, накануне Рождества, бабушка ходила в дома к родственникам и соседям, оставляя у них для нас где по пятаку, а где по три или по две копейки, чтобы я, похваляясь перед Сережкой, не показал ему одинаковых монеток, разоблачив тем самым хитрую бабушку. А у самой бедной на нашей улице тети Маши Шибалковой бабушка оставляла две длинные, оплетенные разноцветными ленточками конфетки и три пряника, не забыв при этом подарить ей конфетку.
Человеком доброй души была моя бабушка, Татьяна Павловна. Овдовела она рано, когда старшему ее сыну Васяне было четыре года, а моему отцу, Егорушке, только что исполнилось два. Их отец, Петр, надорвался, в двадцать четыре года. Непосильный груз поднял. Тяжелый воз с навозом вытащил из канавы, в которую заехал задними колесами, но до избы сам не дошел. Хлынувшая из горла кровь шла сутки, и фельдшер остановить ее не мог. Прошло с тех пор четверть века, но когда в Родительский день мы, братья, с мамой, отцом и бабушкой ходили на кладбище, чтобы помянуть ушедших из жизни родных, бабушка долго, в немом молчании, со скорбным лицом стояла над заросшим травой холмиком и, наверное, вспоминала. А о чем — знала лишь она одна. Не прошло после смерти ее мужа и года, как брат покойного Петра, видя безутешное горе вдовы, на руках которой остались два несмышленых сына, усыновил младшего.
Года через два, после смерти дедушки, бабушку сватал какой-то вдовец. Жил он где-то на другом конце села, плохого о нем люди не говорили. Бабушка колебалась и решила на исповеди у священника рассказать о своем житье-бытье. Он внимательно выслушал ее (а бабушке было всего 26 лет) и посоветовал не торопиться, а заняться святым делом: принимать у рожениц детей, подучившись у старой повитухи бабки Василисы — прихожанки сельского храма. Священник даже пообещал при случае замолвить за бабушку слово. Так она и поступила. Ее усердие, чуткость и прилежание бабка Василиса оценила сразу же.
А когда ее сыну, Егору, исполнилось четыре года, бабушка начала принимать роды уже самостоятельно, и никто не бросил даже малого упрека в ее адрес. Авторитет бабушки как народной акушерки рос не только в пределах села, но, случалось, за ней приезжали на рысаках из соседних сел и деревень Моршанского уезда. Прожив более 70-ти лет, замуж она второй раз так и не вышла.
И так продолжалось до тридцать первого года, года сталинской сплошной коллективизации, до «раскулачивания» работящих и крепких крестьян, их высылки на каторжные Соловки, на Колыму, в Магадан… И таких были миллионы.
В пятилетием возрасте мне отчетливо запомнилась демонстрация и митинг в связи с празднованием одиннадцатой годовщины Октябрьской революции.
Осенью, с наступлением холодов я спал с бабушкой на печке. Когда засыпал, она, стуча посудой и грохоча чугунами, еще возилась на кухне, а когда просыпался, то бабушка уже была во дворе у скотины, кормила кур, поила теленка.
Однажды, проснувшись, но еще не открывая глаз, я услышал музыку. Стал напряженно прислушиваться. С каждой минутой все громче звучал оркестр. Вбежавший в избу Мишка заскочил на предпечник и стал дергать меня за штанину.
— Ванча, вставай скорее. Идут… с Солчина и Буховки идут. Народу тьма-тьмущая…
С этими словами брат метнулся из избы. Я соскочил с печки, натянул на босу ногу сапоженки, накинул на плечи вытертое пальтишко и, не найдя картуза, выскочил на улицу.
Со стороны Буховки под уклон двигалась разноцветная людская колонна. Впереди плыл духовой оркестр. Медные начищенные трубы сверкали на солнце. Посреди первой колонны демонстрантов два здоровенных парня в буденовках и в длинных серых шинелях на штыках самодельных деревянных винтовок несли огромное чучело, похожее на человека лишь тем, что у него были две кривых коротких ноги, обутых в ботинки на высоких каблуках. Кисть одной руки засунута в карман жилета, сшитого из коричневого тряпья, кисть другой — покоится на огромном животе, на который свисает с шеи надраенная медная цепь. Галстук-бабочка из черного ситца изобличал богатого западного капиталиста. На голову чучела водрузили высокий черный цилиндр, склеенный из картона. Ниже живота висела бирка с надписью, сделанной черным колесным дегтем. Букв я еще тогда не знал, но всем существом своим скорее почувствовал, чем понял, что это очень плохой человек. И за черные дела буржуина ему воткнули в живот два штыка.
С обеих сторон колонну сопровождали ребятишки, марширующие в такт оркестру. Мы с Мишкой присоединились к ним. Мне очень хотелось узнать: кого это несут на штыках. Я пристал с этим вопросом к одному из старших, Кольке Ершову, который ходил уже в третий класс. С пониманием дела и с превосходством надо мной он ответил:
— Что, не видишь? Там написано. Чем-бер-лен!
Я недоуменно покрутил головой, и тут откуда-то из-за хвоста колонны, которую замыкала шеренга четырех кавалеристов на откормленных орловских рысаках, вынырнул деревенский дурачок Колька. Прошлым летом, где-то в июне, когда отцветали сады, я своими глазами видел, как Колька, присев у кучки золы, набирал ее целой пригоршнею и, аккуратно выбросив угольки, энергичным взмахом ладони высыпал золу в рот. Мы, ребятишки, затаив дыхание, ждали, когда дурачок станет корчиться в смертельных муках. Но Колька даже не дрогнул. Достав из сумки, висевшей на плечах, зачехленную флягу (все ребятишки знали, что ее подарил ему Георгиевский кавалер русско-японской войны дед Фрол, которому дурачок года два назад вскопал огород), он бережно отвинтил пробку и сделал несколько больших глотков, после чего вздохнул и тихонько простонал. Мы думали, Колька уже умирает. Но он обвел нас веселым взглядом, закрутил пробку у фляжки и сунул ее в котомку. Я подумал тогда, что встать-то он встал, но наверняка отдаст концы в тот же день вечером.
Поэтому сейчас я с удивлением посмотрел на дурачка. Жив ведь остался. Вот тебе на!
Поравнявшись с головными шеренгами, Колька, показывая грязным пальцем на чучело и дурашливо гыгыкая, выкрикивал что-то нечленораздельное, понятное только ему одному. Он даже попытался ткнуть своей суковатой палкой в огромный живот чучела, но парень в буденовке показал ему кулак и так грозно посмотрел на дурачка, что Колька тут же отскочил.
На подходе к площади, где должен был состояться митинг, духовой оркестр грянул марш, передние шеренги колонны под двумя красными флагами, в которых находились, в основном, комсомольцы, пошли в ногу в такт музыке.
Никогда я еще не видел столько народа на базарной площади между церквями из белого и красного кирпича.
На деревянной трибуне, сбитой из нестроганых досок, выстроилось районное начальство. Мужчины о чем-то переговаривались, поглядывая на часы. Видимо, ждали чьей-то высшей команды начинать митинг.
Четыре всадника в кожаных черных тужурках с кобурами на боку разъехались по двое и осадили своих коней у крыльев трибуны. Парни в буденовках прислонили чучело к ее деревянной стенке и, отряхнув руки, встали рядом, словно охраняя боевой пост или сокровища, которые могут похитить.
Вскоре появился на трибуне главный начальник, которого все ждали. На лацкане его черного кожаного реглана алел красный шелковый бант. Он подал условный знак человеку, державшему в руках блестящий металлический рупор, и поднял над головой руку. Оркестр заиграл туш. Когда смолкли последние аккорды, человек с алым бантом на груди, поднеся рупор ко рту, открыл митинг.
Из всего, что он говорил, я расслышал только отдельные слова — «октябрьская революция», «одиннадцатая годовщина», «мировая революция»… После первого оратора выступили еще несколько человек и все они произносили слова, похожие на те, что говорил главный начальник. Но что я хорошо запомнил, так это выступление пионерки Мани Шохиной. Я знал Маню. Она жила за Сусокиным колодцем в маленькой избушке в два окна. На распахнутой груди на фоне белой кофточки ярко пламенел пионерский галстук. Говорила она так звонко и так прочувствованно, что слова ее, хорошо слышные в толпе, доходили до каждого из собравшихся на площади. Закончив речь, она прошла на левое крыло трибуны и, обращаясь к группе пионеров, стоявших рядом с оркестром, крикнула, вскинув над головой руку:
— Юные пионеры, к борьбе за рабочее дело будьте готовы!
Снизу ей стройным хором ответили: «Всегда готовы!» В толпе зааплодировали. После выступления Мани Шохиной слово было предоставлено герою гражданской войны, но тут неожиданно наступило замешательство. Откуда-то, словно из-под настила трибуны, задевая плечом бока гнедого рысака, выскочил дурачок. В руках Колька держал железный прут. Всего три шага потребовалось ему для того, чтобы всадить его в чучело «Чемберлена». Все в толпе знали Кольку как смирного и добродушного дурочка. Толпа грохнула смехом, послышались реплики и возгласы одобрения:
— Так его, Колька! А ну еще разок!
Под гул и одобрение толпы, Колька, может, и повторил бы «казнь Чемберлена», но хлесткий удар плетки гепеушника Попова, сидевшего на лошади, исторг из груди его дикий вопль. Оставив в чреве «Чемберлена» железный прут, дурачок кинулся под настил трибуны и скрылся за базарными ларьками.
Это, пожалуй, и было моим самым острым впечатлением о торжественном митинге в честь одиннадцатой годовщины Октября. Придя домой, я спросил у старшего брата:
— Серега! А что это были за крестик и палочка, нарисованные между белых букв на красных полотнищах?
— Цифра одиннадцать, но написана не по-нашему.
— А по-каковски?
— По мировой революции.
Вот так прошел для меня этот праздник, омраченный взмахом плети и ударом с потягом по плечу дурачка, нанесенным Поповым. Жил он на нашей улице, и я хорошо знал его старшую дочь Лиду, которая училась с моим братом Сережей и, по словам его, не вылезала из «неудов».
Так я впервые столкнулся с жестокостью, которую не смог сдержать этот гепеушник даже в большой праздник.
Гербовая печать
Не знаю, живет ли у других наций и народов эта тайная страстишка, но в душе русского человека, наверное, с незапамятных времен живуч этот трепетный и всегда куда-то манящий огонек, за которым, сделай два-три шага, и перед тобой предстанет обетованный островок счастья. Кладоискательство… Еще мальчишкой, в ночном, у дымного костерка, закутавшись от мошек и комаров в лохмотья деревенской поддевки, кто из нас с замиранием сердца не слушал легенды о найденных кладах, о сокровищах, зарытых в землю, тропинки к которым и по сей день прокладывают люди смелые, которым не страшны ни мертвецы, встающие по ночам из могил, ни черти, приставленные к охране серебра и злата…
Слушая эти овеянные кладбищенскими страхами и гробовыми тайнами небылицы, которые в моем воображении отлагались как реальная правда, я и не помышлял заниматься кладоискательством, хотя бы потому, что золото и серебро и разные там жемчуга и «брульянты», о которых косой Тишка Федюньков всегда говорил с замиранием сердца, были для меня понятиями настолько абстрактными и совсем не связанными с представлением о мальчишеском счастье, что я приходил в восхищение не столько от самих в муках найденных кладов и сокровищ, сколько от смелости и мужества людей, упорно идущих к зарытым сокровищам.
Однако, как слабенькое эхо этого звона серебра и злата, к которому от рождения и до смерти искал тропинку кладоискатель, и в моей душе тлела заветная мальчишеская мыслишка найти кошелек с деньгами. О золоте и «брульянтах» я не помышлял. Если и найду, то, не могло быть и сомнения, что их отберут у меня взрослые или парни постарше… А вот кошелек!.. Кошелек, в котором будут позвякивать серебряные и медные монеты, жил в моем воображении. Я видел его непременно кожаным, коричневым или черным. Слышал мелодичный звон монет. Потрясешь — а в нем: звяк-звяк-звяк… Зримо представлялось, как все это будет происходить, когда кошелек окажется у меня в кармане.
В ларьке на соседней улице, сколько я помню, торговал продавец, ни имени, ни фамилии которого мы не знали. За его большой горб и длинные, до самых колен, руки не только мы, ребятишки, но и все в селе звали его «Горбатеньким». Между хомутов, седёлок, кусков хозяйственного мыла и прочего ходового деревенского товара в особом ящике у него всегда красовались разноцветные конфеты-подушечки с начинкой из повидла, почему-то всегда обсыпанные сахарным песком. Случалось, что завозили в ларек и дорогие «раковые шейки», но они были не всем по карману. О таких конфетах мы, братья, даже и не мечтали.
Теперь это вызывает горькую улыбку, а тогда, в довоенные тридцатые годы, когда рука об руку с карточной системой шли неурожайные годы, апрельские проточины-отталинки сельская ребятня встречала босыми ногами, на которых уже через месяц, где-то в мае, кроваво пламенели цыпки. И не потому, что совсем нечего было обуть, а просто из-за озорного желания пробежаться по мокрому снегу босиком и, по-гусиному переминаясь с ноги на ногу, постоять на отталине голыми пятками. Это говорило о ребяческом ухарстве, тщеславии первооткрывателей весны и еще о чем-то таком, чему объяснение может дать лишь веками сложившийся уклад русской деревни, где рядом с деловитой рассудительностью всегда шел и, пожалуй, еще долго будет идти безрассудный риск. Все эти составные части характера русского человека, которые просыпаются в нем с ребяческих лет, в полную силу своего неудержимого могущества проявятся в войну, когда он будет бросаться на амбразуру вражеского дзота, идти на гибельный таран с фашистским летчиком-асом, находить в себе силы молчать во время предсмертных пыток…
И не я один… Все мы, деревенские ребятишки конца двадцатых и начала тридцатых годов искали кошелек с деньгами. Бывало, идешь купаться, а глаза так и бегают. А вдруг у кого-то, кто шел здесь раньше тебя, худой карман, из которого выпал пятак или гривенник. Идем ватагой на вокзал, чтобы поглазеть на пассажиров, разгуливающих по перрону в шелковых пижамах и в модных шляпках — взгляды так и бегают по земле: а вдруг какой-нибудь рассеянный пассажир-очкарик, задержавшись на базарчике, где бабы продают молоко, соленые огурцы, вареные яйца и прочую нехитрую деревенскую снедь, в погоне за тронувшимся поездом обронит несколько зажатых в кулаке мелких монет, а то, глядишь, и рубль… Но важные пассажиры при всей своей торопливости и рассеянности денег почти никогда не теряли. Я, по крайней мере, за все свое детство на вокзале не нашел ни копейки. Правда, кое-какая пожива от останавливающихся на пару минут на нашей станции поездов дальнего следования (в первую очередь экспресса «Владивосток — Москва») была. Найдя окурки дорогих папирос «Ка-4», «Сафо», «Наша Марка», старшие тут же раскуривали их. Каждому удавалось пару раз «зобнуть» таких папирос. В наше село эти сорта даже не привозили — некому было покупать, залеживался даже «Беломорканал». Сельские служащие предпочитали дешевый «Прибой» или «Ракету», а деревенские мужики обходились огородным самосадом, да таким крепким, что от двух затяжек голова кругом шла.
Моей первой необычной находкой стала круглая печать. Тогда я еще не знал, что она гербовая и ее потеря связана с крупными неприятностями для того, кто ее обронил. Помнится, первый документ, полученный мною, — копия свидетельства о рождении — был точно с такой же печатью — ободка с текстом и оттиском ржаных колосьев, перевитых лентой, между изгибами которых над лучами восходящего солнца покоился земной шар с изображением на нем серпа и молота.
А нашел я печать совершенно случайно. Летом к нам в село из областного города приехал аттракцион: карусель и лодочные качели. Их возводили целую неделю на наших глазах. Наспех позавтракав парой-тройкой картошек с зеленым луком, съев ломоть хлеба и выпив кружку парного молока, мы, братья, боясь отстать от других, бежали на площадку перед школой, где ставили аттракционы.
Пуск карусели и качелей был намечен на последнее воскресенье июня. Как же мы ждали этот день!.. Знали уже все: сколько дней будет работать аттракцион, сколько будут стоить билеты за удовольствие прокатиться на карусели или качелях. Знали, что нам, мальчуганам, на лошадь забраться не дадут, ну а в карете — хоть до упаду. А цена что за лошадь, что за карету одна, даже обидно: пятак. На день открытия отец пообещал нам по гривеннику, и только в том случае, если мы будем себя вести «тише воды ниже травы» и не отлынивать от работы в огороде и по хозяйству.
Аттракционы! Это же целое событие в нашей ребячьей жизни! Раскрашенные гривастые кони с крутыми шеями чем-то напоминали несущихся в бешеном галопе кавалерийских коней в атаке. К каждой паре лошадей цеплялась четырехместная ярко раскрашенная карета.
Электричества в селе в те годы не было. На качелях лодки раскачивались с помощью ног катающихся, карусель приводили в движение лихие парни, состоявшие при аттракционе. К своему делу они относились также спокойно, как землекопы к рытью ям и канав, как лесорубы к повалу леса или грузчики к переноске тяжестей…
Уже в субботу все было опробовано и готово к пуску. На тонких металлических стержнях висели блестевшие на солнце три качельные лодки: «Чайка» (ослепительно белая), «Сокол» (серая) и «Волна» (голубая, как небо в яркий солнечный день). Карусель с пестро разукрашенным брезентовым куполом напоминала нечто сказочное. Волшебный шатер, от которого трудно оторвать глаз. Вокруг аттракциона, как грибы после летнего дождя, выросли фанерные ларьки для продажи мороженого, морса, парфюмерии. Над всем этим возвышалась будка с надписью «Касса».
Центр села принял праздничный вид, даже аптека и парикмахерская, которые со дня их летоисчисления ни разу не ремонтировались, и те по чьему-то распоряжению покрыли новой жестью и побелили. Базар в это воскресенье и тот был особенный. Из дальних и близлежащих деревень понаехало столько подвод, что уже рано утром все коновязи были заняты распряженными лошадьми, похрустывающими свежескошенной травой. Благодаря старшему брату я сумел достать билет на карусель. Удалось это лишь к обеду, когда аттракционные страсти — визг баб и девок, крики и подначки мужиков, следящих за взлетом лодок на качелях, достиг своего апогея. Я был безмерно счастлив, когда билетерша, наконец, надорвала на моем билете «контроль» и можно было броситься к заранее облюбованной карете, которую тащил за собой серый в темных яблоках рысак. Эту масть орловских рысаков особо высоко ценил мой отец, страстный лошадник. Со мной в карете очутились рослые девки, которые то и дело пронзительно взвизгивали и громко взахлеб хохотали.
После первых трех-четырех кругов меня начало подташнивать. Кружилась голова. Перед глазами все поплыло. Вначале я еще с трудом выхватывал в толпе голову отца в выгоревшем на солнце картузе, а потом все слилось в непрерывную серую ленту, над которой голубело небо. Но я изо всех сил крепился. Чтобы, не выходя за загородку, вторично забраться на карусель, нужно было подойти к билетерше и подать ей билет. Я так и сделал, но когда садился в карету, услышал голос отца:
— Сынок, почему ты такой бледный? Может быть, хватит?
Меня подташнивало, кружилась голова, но я все-таки нашел в себе силы улыбнуться отцу и ответить:
— Билеты назад не принимают, не пропадать же пятаку!
Отец вздохнул и махнул рукой. Он тоже не любил бросать деньги на ветер.
— Держись крепче, сынок, — услышал я его глухой голос.
Второй заезд оказался для меня еще труднее первого. Спустя годы, когда привелось служить на Тихом океане, мне не раз приходилось испытывать настоящую морскую качку. Все происходило так, как и случается в таких ситуациях: и тошнило (поморскому «травило»), и кружилась голова, и нарушалась координация движений… Но там, на море, мне не было стыдно за свое мерзкое самочувствие. Свесившись с борта тральщика, я освобождал, как все, желудок, и сразу становилось легче. Крепко держался руками за поручни на палубе — и сам черт был мне не брат. Не вечно же продолжается качка.
А здесь в раскрашенной карете, которую стремительно кружат серые «орловские рысаки», я чувствовал себя как на сцене, где нужно вести себя достойно. Отец может понять, что у меня закружилась голова, братья тоже не раз видели, как меня рвало. А вот она… Анечка Лыткарина, которую я заметил в очереди перед кассой, когда второй раз садился в карету, может расценить мою слабость совсем по-другому. Ведь я влюблен в нее с самого первого дня учебы в школе… Я уже пожалел, что второй раз забрался на карусель. Стиснув зубы, всеми силами старался подавить спазмы в животе, которые вот-вот перейдут в рвоту. Холодный пот побежал по лицу. И снова бесконечно длинная серая лента толпы струисто бежала перед глазами, и в этой толпе наверняка следила за мной Анечка. Это помогло. Я выдержал. Когда, сбавляя скорость, карета стала постукивать днищем о жердь тормоза, я понял, что муки мои позади.
После второго заезда я больше не рвался прокатиться. Но на аттракционах мы по-прежнему пропадали. С вечера отец давал каждому из нас по пятаку на мороженое, и прямо с озера мы спешили на площадь перед школой.
Однажды крупно повезло Мишке. Администраторша аттракциона предложила ребятне вымести сор под площадкой качелей, полить землю водой, чтобы во время взлетов лодок из щелей не поднималась пыль. Мальчишки охотно согласились, тем более, что обещано было бесплатное катание. Схватили метлу, веники-окомёлки и нырнули под деревянный наст. Через несколько минут, не закончив дела, мой братень вылез из-под настила. Ему почему-то расхотелось работать.
— Ты что? — удивился я. — Ведь бесплатно же катать будут!.. Сами же просили?!
Мишка многозначительно мигнул и кивком головы позвал за собой. За школьной кочегаркой, в углу, между штабелями дров, он, оглядевшись, разжал кулак, и я увидел в его ладони серебряный полтинник. В те годы эти монеты с профилем молотобойца, поднявшего над наковальней молот, были широко в ходу.
— Пойдем!.. Возьмем мороженого и конфет…
Мы так и сделали: тут же съели по две порции мороженого, а конфеты принесли Толику, который в этот день с утра отправился со своими ровесниками в камышовые плавни ставить плёнки на уток.
Находка Мишки нарушила мой сон и покой. На следующий же день, улучив момент, когда кассирша была занята проверкой билетов, я незаметно прошмыгнул в лазейку под настил качелей. Огляделся. Над головой, сквозь щели между досок голубели полоски неба. Потом мои глаза жадно забегали по земле. Я искал не что-нибудь, а именно полтинник, как будто он, словно двойник Мишкиного, где-то обязательно ждет меня. Искал я упорно, но так ничего и не нашел. И вдруг, когда уже собирался вынырнуть из-под дощатого настила, в глаза мне бросился какой-то непонятный предмет, лежавший в углу. Я наклонился и поднял свою находку. Никогда раньше я не видел ничего подобного: ведь мне не приходилось бывать в учреждениях. Однако понять-то я понял, что это такое, и почему-то вслух радостно воскликнул:
— Печать!..
Воровато оглядевшись, я спрятал ее в карман.
Вот тут я, признаться, погрешил перед старшим братом, который вчера свою находку сразу же, по-рыцарски, разделил со мной. Я и сейчас испытываю угрызения совести перед памятью моего любимого брата, сложившего свою буйную голову при освобождении древней земли новгородской.
Зажав печать в кулаке, я мчался до самого дома, не вытаскивая правую руку из кармана. Со своей находкой я связывал нечто смутное, но особо значительное и очень ценное, словно нашел ключ к спрятанным сокровищам, о которых не раз слышал в ночном у костра.
Первое, что я решил сделать — попробовать печать в работе, для чего смачно лизнул ее языком и, раскрыв где-то на середине бабушкино Евангелие, резко опустил на лист. Радости моей не было предела. В эту минуту я чувствовал себя обладателем могущественного волшебного ключа, о силе и значении которого скорее всего смутно догадывался, чем реально его оценивал. Сидя на чердаке под висевшими на жерди связками еще не просохших душистых березовых веников, которые бабушка вязала на зиму, я исступленно ставил печати на листы Евангелия до тех пор, пока не слизал языком с нее всю чернильную мастику и оттиски сделались почти незаметными. Но тут я вспомнил про химические чернила, что стояли у нас на полке в шкапчике. У каждого брата был свой пузырек-чернильница. Мой почему-то оказался пуст, и в нем на дне виднелась засохшая муха.
«Мишкина работа», — подумал я с обидой и из угла шкапчика с самой верхней полки достал его чернильницу. Только теперь меня осенило, что будет с моей богомольной бабушкой, когда она увидит на листках Евангелия печати нечистого духа. Я спрятал Евангелие за божницу, где обычно лежала книга, и в тоске посмотрел на сосновую этажерку, любовно отделанную отцом. На ней стопками лежали учебники, прошлогодние тетради и несколько книг, зачитанных до сального лоска на обложках. Мой выбор сразу же пал на самую дорогую из них — «Историю гражданской войны», подаренную Сереже за отличное окончание пятого класса. Эту книгу все мы, братья, знали чуть ли не наизусть, ее часто аккуратно и бережно листал наш сосед Петр Николаевич Федоскин, некогда служивший в Первой конной армии Буденного. Когда он, листая книгу (при этом я заметил: он никогда не слюнявил указательный палец правой руки, как это делали мы, а наловчился переворачивать листы каким-то особым, еле уловимым прикосновением пальца к обрезу книги) и разглядывая в ней картинки, доходил до портрета Буденного, то сразу же менялся в лице. Казалось, забыв обо всем на свете, он на глазах светлел лицом, розовел и, подкручивая без того лихо взвихренные усы, беззвучно шевеля губами, читал. Мы, хоть и были озорными, но в нужный момент оказывались догадливыми. Видя, что наше присутствие мешает Петру Николаевичу сосредоточиться и полностью отдаться во власть нахлынувших воспоминаний, незаметно ускользали из горенки, оставляя его одного.
И вот, макая перо в чернила, я принялся мазать им лицевой кругляш печати. Первый же оттиск на одном из последних листов книги расплылся в сплошное чернильное пятно. Второй и третий отпечатки были получше. Но буквы все равно не читались. Тогда я попробовал прибегнуть к уже знакомому мне методу: лизнуть печать языком. Лизал усердно, не дыша, опускал печать на поля страниц аккуратно, прижимал, но оттиски были почти незаметными. Даже расстроился, сличив новые оттиски с теми, что отпечатались на Евангелии.
Вот за этим-то занятием и застал меня Мишка. Он еще из палисадника заметил по моему лицу, что я занимаюсь чем-то запретным. Перед братом у меня почти никогда не было тайн, но здесь я быстро спрятал находку, чтобы не получить пару хороших оплеух за порчу бабушкиного Евангелия и дарственной книги.
Мишка поднес к моему носу крепко сжатый кулак, от которого пахло табачным дымом. Я догадался, что он только что курил.
— Говори — что делал?! — угрожающе произнес он сквозь зубы.
— Я?.. Ничего!.. Я так просто… сидел… — пролепетал я.
— Говори, или изуродую, как Бог черепаху! Зачем взял мои чернила? Зачем вытащил «Гражданскую войну»?
Тут Мишка одной рукой схватил меня за косоворотку. Это подействовало, и я уже решил открыть брату свою тайну, но он другой рукой взял меня за шиворот и поднес к лицу осколок зеркала, перед которым обычно брились отец и дядя. И тут я во всей красе увидал свой лик с чернильными губами и фиолетовым языком. Короче, я во всем сознался и отдал печать Мишке. Тот долго и внимательно ее рассматривал, заставил меня два раза лизнуть ее («Чернее язык не будет») и попробовал сделать оттиск на одной из своих исписанных тетрадей. Теперь он стал уже еле заметен, буквы совсем не просматривались.
Мишка был не только старше меня, но и, конечно, сообразительней. Положив печать в карман, он кивком головы приказал следовать за ним. Я понуро поплелся за братом, на ходу слюной и рукавом сатиновой рубашки оттирая с губ и языка чернила. В сенцах у рукомойника брат намылил мне обмылком хозяйственного мыла губы и сказал:
— Пойдем к Саньку, тот знает, что делать с этой печатью. Его дядька, когда работал в ГПУ, завсегда носил с собой такую же. Сам видел, как Санек ставил ее на тетрадке.
Санек этим летом с горем пополам закончил шесть классов и собрался податься в город в ФЗУ, учиться на слесаря.
Документы уже подал, без сучка и задоринки прошел медкомиссию и с недели на неделю ждал вызова.
Санек сидел дома один. Мать с утра пропадала в поле, куда баб увозили после утренней дойки коров. Привозили их только к вечерней.
— Ну, чего пришли? — спросил Санек, поняв по нашему виду, что мы чем-то озабочены. — Бабок взаймы не дам, заранее говорю. Топор вы на прошлой неделе так посадили, что больше не просите, насилу выровнял ваши зазубрины на точиле.
— Мы не за бабками и не за топором, — храбрясь, ответил Мишка.
— А зачем? — в упор спросил Санек, глядя на мой чернильный рот.
Его уже начинала раздражать наша таинственность.
Убедившись, что кроме Санька в избе никого нет, Мишка полез в карман, вытащил печать и положил ее на стол, застланный скатертью.
Санек молча взял ее в руки, поднес к раскрытому рту, чуть не коснулся губами, три раза дохнул, откинул обложку тетради, лежавшей на столе, и с силой опустил печать на лист. Оттиск был, хотя и бледноватый, но буквы читались. Вращая перед собой тетрадь, Санек прочитал:
— Потребительский союз. — Бросив на Мишку взгляд, в упор спросил: — Где добыл?
— Ванька нашел, — ответил Мишка, и я почувствовал на себе его цепкий взгляд.
— А не украл? — резко бросил Санек.
— Да что ты, Санек, нашел… Святая икона — нашел, — взмолился я, пуская эту божбу в самых крайних случаях, когда нужно, чтоб поверили сразу.
— Где именно?
Я, то и дело сбиваясь, рассказал Саньку, как и где нашел печать.
— Ну что ж, печать солидная, гербовая… Их у нас на селе раз-два и обчелся: в милиции, в госбанке, да разве еще в школе. Вещь дорогая…
— Как бы ее того… — сказал Мишка смущенно.
— Что значит «того»? — не понял Санек.
— Ну сплавить бы.
— Это сложно. У нас в селе с ней накроют. Да еще как! Нужно подаваться в город. Там, может, удастся выйти на покупателя.
— А сколько она стоит? — не выдержал я.
Как-никак — нашел-то ее я, а не Мишка и не Санек.
— Сколько стоит, сразу не скажу, но, думаю, можно взять деньги хорошие. Все-таки — гербовая.
Меня так и подмывало спросить, а сколько все же? Хотелось хоть приблизительно знать цену своей находки. В конце концов я не вытерпел, спросил:
— Ну хоть примерно, Санек… Ведь нашел ее я… А в город отец не пустит.
Санек не успел удовлетворить мое любопытство: во дворе истошно залаяла Розка, которая доживала свой век и лаяла только тогда, когда ей чуть ли не наступали на хвост. Мишка успел спрятать печать в карман, когда на пороге, широко распахнув дверь, появился отец. Его открытые серые глаза вначале строго остановились на Мишке, потом переметнулись на меня.
…Отец хоть и любил нас, но за прегрешения наказывал строго. Дважды и я отведал отцовского ремня. Первый раз, когда с соседскими ребятишками залез к бабке Регулярихе в огород, где мы не столько нарвали моркови (хотя своя уже поспевала), сколько нанесли порчи: затоптали в темноте грядку и поломали зеленые ботвины бобов. За эту проказу отец, зажав мою голову между коленей и спустив с меня штаны, дважды с оттяжкой полоснул по моему голому заду жестким ремнем, на котором наводил опасную бритву. Может, и третий, и четвертый раз отец поднял бы надо мной свою руку, но от дикой боли я затих, перестав орать и просить прощения. И он меня пожалел. Позже я это оценил, и отца продолжал любить не меньше. Для меня он навсегда оставался в памяти образцом справедливости, силы и доброты. С тех пор — ша!.. По огородам я уже не лазил.
Второй раз меня выпороли за курение. Докурился я в тот раз с ребятами до рвоты, как говорят, до чертиков. Мама обратила на меня, побледневшего, с расширенными глазами, свое внимание, как только я появился на пороге.
— Да ты никак курил? — испуганно проговорила она, подойдя ко мне вплотную и принюхиваясь.
— Я больше не буду, — прошептал я, испугавшись, как бы отец не услышал нашего разговора. Но он услышал.
— Сюда!..
Я вошел в горенку и замер: широко расставив ноги, отец стоял в какой-то непривычной позе и, опустив голову, исподлобья смотрел на меня. По спине у меня пробежал мороз. Мама кинулась мне на выручку, но он властно отстранил ее.
— Снимай штаны!
Я стоял неподвижно и дрожал как осиновый лист. Губы мои силились что-то пролепетать, а глаза с мольбой смотрели снизу вверх на помрачневшего отца. И на этот раз отцовская рука с ремнем дважды поднялась к потолку и дважды хлестко опустилась к его коленям, между которыми было зажато мое тело.
После этой науки с курением я покончил на долгие годы. Даже тогда, когда ровесники поддразнивали, обзывали трусом и, подсовывая папиросу, уговаривали «зобнуть» хоть раз, только «в затяг». Мирясь со словами «трус» и другими подобными из деревенского жаргона, я все же не решался «зобнуть» не только «в затяг», но даже подержать во рту не зажженную папиросу. Власть отца, его авторитет в семье, мое преклонение перед ним и нежная любовь были могущественной охраной моего детства. Я во всем хотел походить на отца. Мне даже нравился запах пота отцовских рубашек, который был перемешан со смолистым душком сосновых опилок и стружек. Втайне иногда, лежа на покосе рядом с ним, я думал: «Вырасту большой — мои рубашки будут пахнуть также»…
О строгости моего отца знал и Санек. Поэтому он, как и мы с Мишкой, выскочил из-за стола и со страхом ожидал, что будет дальше.
— У кого печать? — тихо спросил отец, но в этой его сдержанности угадывался гнев.
Мы все трое растерянно молчали.
— Я спрашиваю — у кого печать?!
Отец сделал шаг к столу и остановил взгляд на Мишке, к щекам которого прихлынула кровь. В конце концов он достал из кармана штанов печать и положил на стол. Отец покрутил ее в руках, хмыкнул и кивнул нам с Мишкой головой, показывая на дверь:
— Домой!
Улицу отец переходил быстро, словно куда-то опаздывал. До самого крыльца даже не повернул в нашу сторону голову, словно нас, еле успевающих за его широким и быстрым шагом, рядом с ним и не было.
Расспросы и допросы начались дома, у стола, на котором лежал толстенный том «Истории гражданской войны». Раскрытый на страницах, где мои отпечатки получились особенно четко, как на хороших справках.
У окна поодаль стоял Сережа, бросавший злые взгляды то на меня, то на Мишку. Он пока еще не мог понять, кто из нас изгадил его книгу, которую он так берег.
— Ты?! — в упор спросил отец, остановив на мне взгляд и пальцем показывая на книгу.
— Я…
— Где взял печать? — последовал следующий вопрос.
— Нашел.
— Где?
— Под качелями… — жалобно ответил я, тут же по голосу отца прикидывая: будет ли он вытаскивать из брюк ремень.
— Под какими качелями? Рассказывай…
Отец уже успокоился, закурив самокрутку.
Всхлипывая, я начал подробно рассказывать о находке.
Солнце уже садилось за старые разлапистые ветлы, что росли в низине на берегу речки за нашим дальним огородом. Через раскрытое окно было видно, как мама доила корову. Тугие напористые струи молока так и выговаривали: «Вжак-вжик, вжак-вжик…» Бабка Настя гоняла в огуречнике соседских кур, истошно ругаясь так, чтоб ее угрозы слышала тетка Фекла, вдова, у которой, сколько я помню, не было ни пилы, ни порядочного топора. Мои младшие братья-погодки Толик и Петя, забравшись на самую стреху сарая, слегка приспустив штаны, пускали оттуда пламеневшие на закатном солнце струйки: соревновались — чья ляжет на землю дальше. Они повторяли мое и Мишкино раннее детство. Когда-то и мы занимались этим ребячьим спортом, в котором мне ни разу не пришлось одержать верх.
Мама, как я понял, о печати пока ничего не знала, отец не хотел ее расстраивать; он вообще всегда оберегал ее от тяжелых работ и излишних волнений.
Отец стал листать книгу, время от времени бросая такой взгляд, от которого душа у меня уходила в пятки. Стояла печать и на полях глянцевого листа с портретом Буденного.
— Да за такое дело запороть мало!.. — сквозь зубы проговорил отец и, захлопнув книгу, крикнул:
— Мишка!.. Сюда!..
Затаившийся на кухне, Мишка словно ждал этой команды. Вбежав в горенку, он как вкопанный остановился перед отцом.
— Что, папань?
Отец постучал когда-то разрубленным и криво сросшимся ногтем указательного пальца по красному переплету книги, вначале строго посмотрел на меня, потом на Мишку.
— Чтоб об этих нашлепках никто не знал: ни мать, ни бабка, ни дружки-ребятишки! Не дай Бог, проведает кто из соседей. Меня из-за ваших проделок загонят туда, куда Макар телят не гонял. Понятно?!
— Понятно, — прошептали мы с Мишкой.
Отец встал, достал с полатей на кухне кусок старой, по краям изжеванной теленком клеенки, и завернул в нее книгу.
На душе у меня отлегло: настрой у отца, кажется, был миролюбивый, хотя и чувствовалось, что на душе у него тревожно. Шутка ли дело — в кармане лежит казенная печать, за которую можно угодить и в тюрьму.
Он протянул Мишке завернутую в клеенку книгу и, печатая каждое слово, проговорил:
— Хорошенько спрячь на потолке, под прошлогодний табак. Знаешь куда? Я сам туда не подлезу.
— Знаю! — ответил Мишка, готовый молнией выскочить из избы, чтобы выполнить приказание отца, но тот жестом поднятой руки остановил его.
— Спрячь в самый угол, да посмотри — не сыро ли там. Хорошенько завали табаком. Ступай.
Пока Мишка прятал книгу, отец курил и хмуро молчал, что-то обдумывая. Когда мой запыхавшийся братец вернулся, он встал и кивком головы подозвал меня к себе.
— Пойдем!
— Куда, папань? — испуганно спросил я.
— В милицию.
Слово «милиция» в народе соединялось с чем-то опасным, тревожным, неожиданным… Холодком отдалось оно и в моей душе.
— Зачем, папань?
— Сдадим. Ведь, поди, ее ищут. Ну нашел ты ее, нагадил ею повсюду, а дальше что думал с ней делать? — Видя мое замешательство, отец проговорил еще строже: —Я спрашиваю — чего собирался делать с печатью?
Отцу я никогда не лгал, особенно когда он смотрел мне прямо в глаза.
— Продать, — тихо проговорил я.
— Что?! — гулко протянул отец и отступил на шаг, словно желал получше рассмотреть меня.
— Санек так сказал… Говорил, в городе за нее большие деньги дадут.
Улыбка тронула губы отца.
— И сколько же ты хотел получить за свою находку?
— Санек не успел сказать, ты пришел, — понуро ответил я.
— Значит, я помешал вашей торговлишке, купцы иголкины? А ну, пойдем! И предупреждаю, что если в милиции будут спрашивать, где и когда нашел печать, расскажи всю правду. Понятно?
— Понятно… — Тут же в голове моей молнией мелькнул наказ отца: про оттиски на книге — никому ни слова. И я решился спросить: —А про книгу?
— Про книгу забудь! Ее у нас сроду не было! — И тут же поправился. — Нет!.. Она у нас была, но ее взяла почитать тетка Лукерья из Кривощекова и до сих пор не привозит. Наверное, вся семья читает, а не то и вся деревня, чего доброго и зачитают. Запомнил?
— Запомнил, — твердо ответил я и немного осмелел.
Наверное, от радости, что первый раз в жизни отец меня как большого включает в безобидный заговор.
Мы вышли на улицу и направились к центру села. Мама вдогонку крикнула:
— Куда?
— За кудыкину гору! — строго бросил отец и зашагал еще быстрее.
Я за ним еле поспевал. Мишка, которого отец не позвал с собой, семенил от нас сторонкой, будто бы он не с нами, с каждой минутой ожидая отцовского окрика: «Домой!» Чем-то в эти минуты брат напоминал мне собачонку, которую хозяин не желал брать в поле и уже не раз прогонял от телеги кнутом. Но она никак не хотела отставать, опасливо бежала сторонкой, то и дело останавливаясь, оглядываясь на дом и вместе с тем не спуская глаз с хозяина. Только с годами я понял: мы с Мишкой были не только братья с разницей в два года, мы были слившиеся в один неразвязный и неразрывный узел судьбы, дружбы, любви.
Проходя мимо площади, где аттракционные страсти — визги, крики, звуки гармошки… — были в полном разгаре, я остановил взгляд на качелях. Три лодки, одна за другой, круто взмывали к небу, готовые каждую минуту опрокинуться. И я пожалел, что надумал утром лезть под деревянный настил, где мне попалась эта злополучная печать. «Лучше бы полтинник или гривенник… С этой печатью только наплачешься… Опять же на кого попадешь… Иной и денег не заплатит и в милицию отведет…»
А Мишка, изредка подавая мне знаки, что он со мной, незримо для отца следовал сторонкой, обходом, за нами. Я знал, что он переживает за меня, и хотел каким-нибудь знаком или жестом успокоить брата, но не знал как. Крикнуть — услышит отец и прогонит его домой.
Милиция находилась в одноэтажном кирпичном доме старинной кладки. Окна обрамляли резные наличники. Весной этот дом утопал в кустах махровой сирени. Прохожие и сорванцы-мальчишки рвать ее боялись — решетчатые окна милиции пугали. Увядая, грозди сирени уже в июне висели поникшими блеклыми лохмотьями на зеленых кустах.
Во дворе этого казенного, когда-то, видимо, купеческого дома, у коновязи стояли четыре оседланные лошади. Они со смачным хрустом ели из торб овес. Жеребец гнедой масти, что стоял посредине, еще как следует не остыл от быстрой скачки: его мокрые бока зеркально лоснились. Он то и дело бурно вздрагивал всей кожей.
— Посиди на колоде. Будешь нужен — позову.
Отец показал мне на толстое долбленое бревно, из которого поили милицейских лошадей, поднялся на высокое крыльцо и, еще раз зачем-то оглянувшись на меня, скрылся за дверью.
Не прошло и пяти минут, как из дома поспешно вышли двое высоких мужчин в милицейской форме, прогремели каблуками по ступенькам крыльца, почти подбежали к коновязи, отвязали двух лошадей и, вскочив в седла, рысью выехали со двора. Потный гнедой жеребец, который то и дело прядал ушами и косил свой огненно-зеленоватый глаз на рыжую кобылицу, что стояла у коновязи слева от него, поднял высоко голову и разразился таким пронзительно высоким ржаньем, что у меня заложило в ушах. Через раскрытые ворота я увидел, как Мишка, кося глаза на милицейский двор, дважды шмыгнул мимо, давая мне знать, что он тут.
Про собак-ищеек я до сих пор только слышал от других, а вот самому видеть пока не доводилось. Поэтому понятна была оторопь, пригвоздившая меня к колоде, когда я увидел вывернувшуюся из-за дома настоящую ищейку — серую, огромную, с острыми и высокими, как паруса, ушами, стремительно рвущуюся в мою сторону. За ней, упираясь, еле поспевал небольшого роста рыжий веснушчатый милиционер с намотанным на руку туго натянутым поводком.
— Ну, что? — крикнул из распахнутого окна пожилой милиционер, обращаясь, как я понял, к рыженькому.
— След не взяла! — ответил тот и направился с ищейкой во двор, откуда был слышен сдержанный, переходящий на скулеж лай другой собаки.
— Давай ее сюда, есть дело! — крикнул из окна пожилой милиционер, и рыженький повернул собаку в сторону крыльца, подав ей какую-то команду.
Солнце уже село. Милицейский двор незаметно для глаз погружался в вечерние сумерки. Бока и спина гнедого жеребца у коновязи поостыли и подернулись шоколадной матовостью. Ожидание было тягостным. Всякое приходило в мою голову: а вдруг отца оштрафуют, ведь я не сразу, как нашел печать, заявил об этом в милицию, или, чего доброго, посадят. Все-таки печать-то не простая, а гербовая. По справедливости, уж если за это полагается сажать, то в тюрьму нужно тащить меня. Но я знал, что за таких как я отвечают родители.
Увидев на крыльце отца, я обрадовался, вскочил и кинулся к нему навстречу.
— Ну что, папань?
— Пойдем…
— Куда?
— Туда! — Лицо отца было хмурое, отчужденное. Он махнул рукой на дверь, из которой только что вышел. — Расскажешь все, как было, как мне рассказывал.
Коленки мои дрожали, когда я следом за отцом шел по тускло освещенному коридору, свет в который падал через узкое высокое окно. И твердил про себя: «Расскажу все, как было… Ничего не скрою… Только не про книгу, спрятанную на чердаке. Про нее ни слова. Чего доброго, посадят и отца и бабку. А книгу отберут… Серега меня забьет тогда…»
В просторной комнате за длинным столом с резными ножками сидел мужчина в милицейской форме. Как мне показалось, это был большой начальник, главнее тех, что полчаса назад вскочили в седла и ускакали со двора. И, конечно, не чета тому рыженькому, которого я только что видел во дворе с ищейкой.
Начальник взглядом показал отцу на стул, и тот сел, комкая в руках выгоревший на солнце картуз. Он побледнел. Таким я видел отца редко, когда он был нездоров.
— Садись, мальчик.
Начальник улыбнулся и показал мне на стул с высокой резной спинкой. Таких стульев я раньше никогда не видел. Считал, что лучше витых венских, полдюжину которых отец зимой привез из города, на свете не бывает. А оказывается, вон какие есть…
Я забрался на стул и положил руки на колени, чувствуя, как в груди моей учащенно ёкает сердце.
— Как зовут? — спросил начальник, прикуривая папироску.
Я назвал свое имя и фамилию.
— Учишься?
Я сказал, что еще не учусь, но все буквы знаю. И букварь весь прочитал.
Этот мой ответ отразился на лице отца светлым сиянием. Каким-то еле уловимым детским чутьем я почувствовал, что ответами своими вызвал расположение и начальника.
— Ну, а теперь, Ванюша, расскажи, когда и как ты нашел вот эту штуку? — Начальник достал из стола печать, повертел ее в руках и глубоко затянулся папиросой. — Не торопись, все по порядку, а кое-что из твоего рассказа я запишу. Так надо.
Я снова принялся рассказывать о злополучной находке. Начальник задавал вопросы, на которые я тут же отвечал. Мне почему-то даже понравилось, что в таком важном учреждении, такой большой начальник записывает подробно мой рассказ. Я почувствовал себя как-то сразу повзрослевшим.
Когда я закончил рассказ, начальник отложил бумагу в сторону, покрутил ручку черного телефона, висевшего на стене, и что-то кому-то сказал. А перед тем как повесить трубку, тихо проговорил:
— Давайте его ко мне!
Через минуту в кабинет вошел грузный человек с двойным подбородком и настолько румяными щеками, что, казалось, чуть коснись их кончиком иглы, как из них брызнет тоненькая струйка крови. На вошедшем был просторный чесучевый костюм, из которого выпирал огромный живот. Начальник пригласил вошедшего присесть, на что тот заискивающе, с легким поклоном улыбнулся и сел.
— Ну как, гражданин Савушкин, никаких дополнений к заявлению об ограблении своего кабинета не сделаете? — спросил начальник, глядя на Савушкина совсем не так, как только что смотрел на меня.
Тот вздохнул и своей мясистой ладонью провел по потному загривку.
— Нет, товарищ начальник, нового ничего дополнить не могу. Собака, как сами знаете, след не взяла. Нужно бы привезти собачку из города, там они поопытней, нюх у них лучше, сразу выходят на грабителя, а эта, как видно, молода, да и не совсем хорошо обучена.
— Тогда у меня к вам вопрос.
— Пожалуйста, — заерзал на стуле Савушкин. — Готов ответить.
— Я хочу уточнить время, когда вы обнаружили, что окно в вашем кабинете разбито, замки в письменном столе и в сейфе взломаны, и в них не оказалось гербовой печати и пачки бланков райпотребсоюза? Меня интересует точное время, когда вы, лично вы, это обнаружили?
— Я уже об этом писал. Сегодня утром. Как только пришел на работу. Как сердце мое чуяло, пришел на работу на полчаса раньше и вдруг вижу — полный разбой! На полу у окна осколки стекла, рама полуоткрыта, шпингалеты вытащены, замок сейфа покорежен, дверцы в нем раскрыты настежь, а ящик письменного стола выдвинут… На полу рассыпаны бумаги. У меня аж с сердцем стало плохо. Хорошо аптека была открыта.
— В восемь тридцать открыта аптека? — спросил начальник, время от времени поглядывая то на меня, то на отца.
— Нет… — замялся с ответом Савушкин. — Она открывается в девять… Секретарша сбегала туда, когда мы уже составили акт об ограблении.
— Где вы храните печать?
— В сейфе!.. Только в сейфе, как и предписано инструкцией! — быстро ответил Савушкин, платком вытирая пот с красной шеи.
— А не случалось по забывчивости или второпях прихватить ее домой? Или просто из чувства сохранности? Раз она при вас — душе спокойнее. Печать-то гербовая, ее ставят на документах финансовых, денежных?
— Никогда!.. Не имею привычки нарушать инструкцию!..
Свои ответы Савушкин словно печатал. А у отца от его слов все больше серело лицо.
— А как вы провели вчера вечер?
— Обыкновенно… Ровно в шесть закрыл сейф, письменный стол, ключи положил в карман — и домой.
— Никуда по пути не заходили?
— А какое отношение, товарищ начальник, имеет это к похищенной печати и бланкам?
— В нашем деле все имеет значение, гражданин Савушкин. Все-таки постарайтесь вспомнить: как вы вчера провели время после работы?
— Ну, что… — Словно что-то припоминая, Савушкин закатил под лоб глаза и почесал за ухом… — Зашел на полчасика к свояку, посидели, поговорили по семейным делам, и я ушел.
— Домой?
— А куда же больше? По гостям ходить я не любитель, а жена последние две недели что-то прихварывает.
— А на качелях вчера вечером, случайно, не качались? Припомните хорошенько.
Следователь остановил долгий взгляд на Савушкине. Тот недовольно дернул подбородком и сморщился, как от зубной боли.
— Фу ты, черт, совсем забыл! Не память стала, а решето. Уже поздно вечером зашел сосед, в райзо работает… Пристал, как банный лист: пойдем да пойдем, а то, говорит, скоро увезут качели. Ну и уговорил. Пошли.
— И покачались?
— Покачались. Здорово!.. Аж дух захватывает.
— На какой лодке? Их там три.
— На средней. На «Чайке», ее всех больше хвалят.
Начальник посмотрел на меня и спросил:
— Под ней?
И я, и отец утвердительно кивнули головой.
— В какое время это было? — обратился начальник к Савушкину.
— Поздно. В девятом часу. После нас уже и билеты не продавали.
Милиционер достал из ящика стола печать, нажал ею на штемпельную подушечку, лежавшую на столе сбоку, и, пододвинув к себе чистый лист бумаги, поставил на него печать, потом протянул лист Савушкину.
— Ваша печать?
Лицо Савушкина побагровело, руки дрожали, взгляд метался от оттиска печати на следователя и от следователя на печать.
— Нашли? — вырвался из его груди радостный крик.
— Печать нашли.
— Может быть, сейчас и отдадите, товарищ начальник?.. — заюлил Савушкин. — Завтра с утра предстоит отправить в область около десятка важных документов. А без печати никак нельзя. Подпись без печати недействительна.
— Печать пока побудет у меня. В следствии она фигурирует как вещественное доказательство.
— А грабителя, что проник в кабинет, нашли?
— Нашли и взломщика, — ответил следователь, взял из рук Савушкина лист с оттиском печати, порвал его на мелкие клочки и бросил в корзину, стоявшую у стола.
— Кто же он, если это не секрет?
На лице Савушкина угодливая робость сменилась подобострастием.
— Печать ваша оказалась вот у этого мальчика.
Не успел следователь закончить фразу, как Савушкин с криком: «Ах вот он…» вскочил и бросился на меня, но сидевший между мной и Савушкиным отец вовремя опустил свою сильную руку на бычью шею конторского служащего и водворил его на место.
Рука начальника замерла во властном жесте над столом.
— Спокойно, гражданин Савушкин… Перед вами ребенок. Я не ответил на ваш последний вопрос. Вы только что спросили — нашли ли мы взломщика вашего сейфа и письменного стола.
— Да… Да, я об этом спрашивал…
— Мы его нашли. Он сидит передо мной.
Круглая голова Савушкина медленно повернулась в сторону моего отца, который, чтобы подавить нервную дрожь, комкал в руках картуз.
— Он?! — Савушкин показал пальцем на отца.
— Нет, не он! — ответил милиционер.
— А кто же? — В голосе Савушкина звучала растерянность.
— Взломщик сейфа и стола вы, гражданин Савушкин Илья Семенович!..
Как от удара в лицо, толстяк откинул свое крепко сбитое тело на спинку стула.
— Да вы что, товарищ начальник?.. Шутите? — И без того румяное лицо Савушкина покрылось багровыми пятнами.
— Не такая у меня работа, гражданин Савушкин, чтобы шутить. — Начальник постучал кулаком по стене, и в кабинет тут же вошел милиционер, который, на ходу козырнув, подошел к столу.
— Слушаю вас, Николай Гаврилович.
— Сейчас же подготовьте постановление на арест гражданина Савушкина Илью Семеновича, завтра утром подпишите у прокурора и принесете мне.
— Основание ареста указывать?
— Можно и не указывать, но если прокурор заставит, напишите: «симуляция кражи со взломом». Пока на трое суток, а там посмотрим.
— Где будем содержать гражданина до утра? — спросил милиционер, остановив изучающий взгляд на Савушкине.
— Пока в камере предварительного заключения. И обязательно в одиночке. И еще: завтра утром вызовите ко мне сторожа райпотребсоюза.
— Он уже давал показания, Николай Гаврилович, — сказал милиционер. — Старик клянется Христом-Богом, что никто в окна райпотребсоюза не залазил.
— В свете новых данных нужно уточнить кое-какие детали. Сторож будет нужен завтра утром. Вызовите его к девяти ноль-ноль. Задача ясна?
— Ясна! — отчеканил милиционер и, встретившись взглядом с оторопевшим Савушкиным, кивнул головой на дверь. — Пойдем, гражданин, а то у меня сегодня дел невпроворот.
В глазах Савушкина заметался испуг. Пальцы рук его мелко дрожали, голос осип.
— Как же это так, товарищ начальник?.. За что же меня под арест? Я что — преступник какой?.. Что, я украл что-нибудь или убил кого?..
— Вы совершили преступление, гражданин Савушкин. Причем еще до обнаружения печати у меня было девяносто процентов уверенности, что симуляцию взлома совершили вы. Сейчас же, когда нашлась печать, которую вы потеряли на качелях, все другие версии в совершении преступления отпали. — Начальник посмотрел на часы. — В вашем распоряжении целая ночь. Хорошенько продумайте свое положение, а утром вот за этим столом вы напишете чистосердечное признание во всем, что совершили в своем кабинете прошедшей ночью. Запомните, гражданин Савушкин, только такое признание может смягчить вашу вину. — Бросив взгляд на милиционера, следователь распорядился: —Уведите!
Когда за Савушкиным и милиционером закрылась дверь, мне стало жалко этого убитого горем, крайне растерявшегося человека, которого повели, как я понял, в тюрьму. Тюрьма — ведь это так страшно. Страшнее ее в моем воображении рисовалась только смерть. А ведь у Савушкина, наверное, есть дети, жена, которые сегодня его не дождутся.
Я не мог тогда понять, почему под моими показаниями в протоколе допроса расписался не я, а мой отец. Ведь печать-то нашел не отец, а я. В мои шесть лет, меня еще никто из официальных лиц не благодарил и не жал руку, как это сделал милицейский начальник. А на прощанье, пожав руку отцу и похвалив его, что он воспитал такого честного и примерного сына, сказал мне:
— Вырастешь большой — приходи к нам работать. У нас в стране вот таких нечестных Савушкиных, — он махнул рукой на дверь, куда только что увели председателя райпотребсоюза, — что собак нерезаных.
Было уже темно, когда мы возвращались домой. Увидев Мишку, который все время, пока мы были в милиции, сидел во дворе у коновязи, отец строго бросил:
— А ты чего здесь крутишься?
— Чо, чо… А если бы посадили вас обоих — кто бы об этом узнал?
Отец ласково потрепал Мишку за вихры и положил на его плечо, свою сильную тяжелую руку.
— Молодец, сынок, я на твоем месте тоже бы так сделал. Матери про печать и про милицию — ни слова. Спросит, где были, скажите, что ходили кататься на карусели. Ей сейчас нельзя ни расстраиваться, ни волноваться.
В нашем доме ожидалось прибавление семейства. И все ждали девочку. Ее ждали, по рассказам бабушки, и после двух первых сыновей, а вместо девочки родился я.
Спустя многие годы, я не раз был невольным свидетелем маминого рассказа о том волнении, которое испытывал отец в ту ночь, когда из спальни родителей он слышал ее предродовые стоны. Стоя на коленях в углу просторной горницы, где висели освещенные огоньком лампады иконы, он клал земные поклоны и просил Господа Бога о благополучном разрешении роженицы. Поднялся с коленей лишь тогда, когда из спальни вышла улыбающаяся бабушка. Подойдя к сыну, она поцеловала его в лоб и поздравила с третьим сыном. Отец, хотя и ожидал девочку, так обрадовался, что принялся целовать бабушке не только лицо, но и руки.
Эти руки, руки моей родной бабушки, известной далеко окрест повивальной бабки, приняли и меня в этот мир, в котором я по воле Господа Бога, молитвами моей мамы, пойду потом по тяжелой, но счастливой дороге к своей заветной звезде и стану писателем.
Так на свет Божий четвертым появился Толик. А после Толика, когда мама ходила пятым ребенком, бабушка в молитвах, стоя на коленях в углу перед иконами, снова упорно просила, чтобы Бог послал нам девочку. Но как и прежде, в дождливый осенний день, рано поутру, бабушка вышла из горенки и, увидев отца, стоявшего на коленях перед иконами, сказала:
— Сынок… Пятый… — Подойдя к отцу, она подняла его с коленей, поцеловала в лоб и перекрестила. — Поздравляю, сынок. Шутка ли дело — пять орлов-соколов, а и самому-то еще всего ничего, двадцать восемь. Ступай к ней, она зовет. Поздравь ее… Горди-ись…
Мы с Мишкой лежали на полатях и все это не только слышали, но и видели, притворившись спящими. Мы тоже переживали за маму — не раз слышали горькие рассказы, ходившие по селу о том, как роженицы умирают во время родов.
Наказ отца мы выполнили. Когда мама спросила, где мы до темна пропадали, оба бойко соврали, будто бы по пять кругов катались на карусели.
— Это на какие такие шиши аж пять кругов? — встряла бабушка.
— Сегодня на контроле билеты проверяла тетя Настя Перешвынова. Она попросила нас с Мишкой помочь прополоть картошку.
А меня распирало: не терпелось рассказать Мишке о тех страхах, которые я пережил на допросе в милиции. Дома рассказывать не решился: слух у бабушки, что у кошки — мышь заскребется под полом, она уже уши навострит. Я поманил Мишку в огород, где, сидя между грядками бобов, начал с того, как кликнул меня с крыльца отец и мы с ним вошли в кабинет начальника.
Я продолжал свой рассказ, кое-где немного привирая, чтобы было пострашнее. А когда дошел до того места, где Савушкин чуть ли не кинулся на меня с кулаками, и вовсе приврал:
— Если б не отец — он задушил бы меня или убил насмерть стулом. Помог папаня. Сам знаешь, какие у него ручищи. Тот на меня — а отец его, как щенка, за шкирку и на стул кинул… Вот так! — Я ребром ладони резанул воздух перед носом Мишки.
Рассказал и про милиционера, и про собаку-ищейку, про то, как Савушкин струсил и чуть ли не плакал, когда его повели из кабинета следователя в тюрьму. Говорил бы еще, если б желтый огонек в окне Нюхи не померк и с крыльца не сошел отец.
— Ладно, остальное доскажу завтра, — сказал я Мишке и, пригибаясь меж грядками бобов, мы юркнули к сенцам, дверь которых была открыта.
Итак, первая моя в жизни находка закончилась такой вот историей…
После событий, связанных с злополучной печатью, я дал себе зарок: не искать больше кошельков с деньгами.
Раскулачивание
Каждый человек в душе своей всю жизнь несет какую-нибудь позорную деталь биографии. Причем природа этой детали необязательно должна быть присуща самому человеку. Иногда она восходит к отцу, матери, дедам, или даже к прадедам.
Десятки лет и я носил в душе своей как позорное пятно моего рода русских крестьян-тружеников память о тяжком дне июня 1931 года. Мне тогда шел седьмой год. Был я третьим из пяти сыновей. Старшему исполнилось к тому времени десять лет, младшему — три года. Отец гордился своими сыновьями. Росли мы, хоть и озорными, но старших почитали, в особенности деда.
Вот к деду… деду моему, к его памяти обращаюсь впервые без опасения быть осужденным в глазах обывателей-мещан и чиновников 30–70-х годов.
В конце июня 1931 года мой дед, Михаил Иванович, в возрасте 70-ти лет был раскулачен. Мой дед — кулак! Кулак!.. — какое страшное, позорное слово. «Кулак-мироед», «кулак-хапуга», «кулак-изверг» — какая только хула не неслась тогда в адрес зажиточного крестьянина.
И вот мой дедушка, ласковый лысый старичок, который даже ненароком не спугнул воробья со скирды снопов на гумне, вдруг оказался кулаком. Да, у него пятистенный дом под железом. А в этом доме в двух комнатах (одна из них — кухня, где стояла огромная русская печь) и двух крохотных спальнях, в которые уже поздно вечером уходили в одну — дедушка, в другую — мама с отцом, жила наша большая семья из десяти человек. Мы, пятеро братьев, спали кто на печке, кто на широкой лавке у стены, кто на скрипучей деревянной кровати. Последняя чаще всего доставалась мне.
Перед тем как заснуть, я подолгу смотрел на мученические лики святых на иконах, перед которыми мерцала фиолетовым светом лампадка, подвешенная на трех тонких почерневших цепочках. Сколько ни думал — так и не мог понять, почему боги и святые, изображенные на иконах, смотрят не на Мишу, лежавшего на широкой лавке изголовьем к окну, а на меня. Тогда мне казалось, что боги больше любят меня, чем Мишку — ведь он слыл непослушным и озорным. Меня же хвалили за послушание и за то, что я по утрам охотно умывался. А если уж приходилось полоть картошку или выгонять из огуречника чужих кур, то делал это с душой и даже с азартом. И в церкви на молитве был прилежнее, во всяком случае крестился более истово, чем Мишка. Христа славить в великий праздник Рождества бабушка меня научила уже в три года, тогда как брат стал это делать только в пять лет.
Мой дед кулак… Ну а отец? Ведь ему в тридцать первом году исполнилось уже тридцать два года… Вместе с дедом они имели двух лошадей, корову, теленка, семерых овец и два десятка кур. Одна из лошадей — выездная, серый жеребец в яблоках. Под хмельком дед часто хвастался своим Орликом на конном базаре, где он каждый четверг (в нашем селе — базарный день) пропадал с утра до вечера, толкаясь среди барышников, объезжавших лошадей. Меня всегда удивляло, почему они заглядывают лошадям в пасть. Тогда я не знал, что по зубам определяют возраст коня или кобылы.
Это уж потом, перед тем как попасть на войну, я узнал от мамы некоторые подробности и детали, связанные с раскулачиванием деда. Как сейчас вижу милое лицо матери, на которое наплыло ненастное облачко воспоминаний. Вздохнув, она тихо и неторопливо вела печальный рассказ:
— Давно это было, сынок, всего не упомнишь. Раскулачивание по селу катилось уже с самой весны. Целыми семьями зажиточных крестьян и середняков ссылали в Соловки, всех до единого. Даже стариков и детей не щадили. Думала, что пронесет нас нелегкая. Все-таки шестеро ребятишек, мал-мала меньше. Перед тем как спать ложиться, я подолгу перед иконами на коленях стояла, молитву твердила, просила заступничества у Господа Бога. Отец помалкивал, но я видела, как он нервничает. Дед стал чаще выпивать, будто сердцем чуял, что к нам крадется беда.
Мама закрыла глаза, словно вспоминая что-то очень ранимое, что в жизни никогда не забудется.
— Спасибо Федору Федоровичу. Он в ГПУ конюхом работал. Мы уже спали, когда кто-то тихо постучал в окно. У меня сердце так и упало: ну, думаю, вот она, пришла беда, которую день на день ждали. Как была в исподнем, подскочила к окну, а на небе месяц такой ясный и чистый, что хоть узоры вышивай. Федора узнала сразу, по фуражке. Открыла окно. Спрашиваю: «Что, Федя?» А он нам дальним родственником приходился, на Тепце жил. Безлошадный. Отец ему помогал, то мешок ржи даст, то лошадей на пахоту. Голос дрожит, в лице сам не свой: «Маня, утром придут». — «Кто придет? Зачем придут?» — спрашиваю. «Кулачить. Своими ушами слышал: в списках на угон в Соловки вы стоите. Так что буди Егора, до рассвета еще успеете добежать до Вернадовки, а там поезда на Ростов идут часто». Чувствую, зуб на зуб не попадает, спрашиваю: «А зачем в Ростов?» — «Да там кругом шахты. На шахты всех принимают. Давай буди, некогда разговаривать». Перед тем как ему отойти от окна, я успела спросить: «А деда? Как с дедом-то? Тоже на Соловки?» — «Нет, — говорит, — деда, наверное, оставят, ему уже за семьдесят, не дотянет до Соловков, туда и здоровые не доходят — мрут по дороге как мухи. По полгода идут пешком и плывут на баржах».
Первого разбудила отца. Он спросонья никак не мог сапоги натянуть. Все из рук валилось. Потом пошла к деду, рассказала ему, о чем Федор предупредил: утром придут кулачить.
На этом месте рассказа мама горько вздохнула и замолкла, словно выложила мне все, что помнила.
— Ну а дальше, дальше-то что было? — просил я, душой чувствуя, что самое главное в рассказе впереди.
— А дальше, сынок, как говорится, «ни в сказке сказать, ни пером описать».
— Что дед-то, когда ты его разбудила? Встал?
— Дед сказал: пусть будет все так, как будет, на то Божья воля. С самой весны он хворал, а потом так занедужил, что с трудом поднимался, ходил с палкой, еле волочил ноги, жаловался, что в поясницу вступило… Так и не поднялся.
— А папаня? Папаня-то что? Ведь ему Соловки грозили? — не выходила у меня из головы тревожная мысль.
— Отца я собрала в дорогу быстро: пару белья, хлеба буханку и кусок сала. Деньжонки, что у нас были, разделила пополам и часть отдала ему. Проводила до выгона, простились мы с ним…
Голос матери снова дрогнул, она замолкла и поднесла к глазам фартук. Молчала с минуту, а когда справилась с прихлынувшей к сердцу болью, тихо продолжала:
— Дед так и не встал. Вас будить не стала. С бабушкой вдвоем вынесли швейную машинку, собрала в узел кое-чего из добра подвенечного, две скатерти, шаль оренбургскую, два платка… Все это отнесли к Гринцевым, поплакали с сестрой Таней и вернулись домой. Слышу из горенки голос деда: «Иконы… Отнесите к Перешвиновым иконы, да заверните хорошенько… Не забудьте лампаду…»
При словах «иконы» из глаз мамы полились слезы, задрожали губы. Всем своим видом она выражала обиду и скорбь.
— Господи, да ведь перед этими старинными иконами молилась моя бабушка, еще в прошлом веке! Спасибо, что дедушка вспомнил о них. Люди потом говорили, что когда кулачили Зеленка и Паршиных, то все иконы топором разрубили, а серебряную лампаду и позолоченные оклады забрали.
Я уже не торопил маму со своими вопросами. По лицу ее видел, что она теперь не умолкнет до тех пор, пока не выплеснет из себя всю всколыхнувшуюся в ее душе боль воспоминаний.
— Отнесли к Перешвиновым иконы и лампаду. Тут и вы с Сережей и Мишей проснулись. Хоть и маленькие были, а понимали, что в дом стучится беда. А дальше — ты должен сам помнить, небось уже семь годочков стукнуло. Ты очень плакал, больше всех. Особенно рыдал, когда к телеге гепеушники привязывали Орлика и нашу корову. Майкой мы ее звали.
Орлик… Я и сейчас, стоит закрыть глаза, вижу серого в яблоках жеребца. Высокий, статный, он был гордостью нашего деда и отца. Купили его жеребенком-сосунком у проезжих цыган. Купили не так дорого. Дед, понимавший в лошадях, сразу определил, как говорила мама, что жеребенок орловских кровей. И не ошибся. Когда Орлик подрос, дед сам ездил с ним в ночное, из ладони прикармливал его хлебом, чуть не каждый день купал и чистил особой щеткой. Холил, как ребенка.
Пол-улицы собралось поглазеть, как нас кулачили. Соседи и даже дальние от нас жители пришли на этот скорбный спектакль вместе с ребятишками, стариками и старухами. Одни, лузгая семечки, не сводя глаз наблюдали, как выводили со двора скот, другие, тронутые плачем и причитаниями мамы, бабушки и пятерых ребятишек, охали, вздыхали, крестились, обращаясь к гепеушникам с заклинаниями побояться Бога… Но никто из тех, кто кулачил, Бога не боялся. Их приучили к лозунгу — «Плюй на все, Ванька, бога нет!» Командовал всей процедурой конфискации движимого и недвижимого имущества наш, живший через три дома, сосед — Василий Иванович Иванов. Его новый, только что выстроенный дом под железом, с высоким крыльцом, заметно выделялся среди серых обветшалых изб, крытых соломой и сгнившими нижними венцами срубов, отчего окна опустились к земле так низко, что в нижний глазок рам мог заглядывать петух.
На голенищах шевровых сапог Василия Ивановича играли солнечные зайчики, ремень и портупея, облегавшие его стройную фигуру, при резких движениях скрипели. А когда он давал распоряжения своим подчиненным, размахивая руками, то и дело пуская в ход слово «Быстрей!», мне казалось: нет на свете человека более могущественного и властного, чем гепеушник Иванов. И тут одна из баб в глазеющей толпе что-то шепнула ему. Иванов подошел к моей матери и громко спросил:
— А где швейная машинка?..
— Какая машинка? — испугалась мама.
— Как какая? Ножная!.. Зингерская!.. Говори сразу, у кого припрятала, все равно найдем!.. — И тут же окинув взглядом присмиревшую толпу, крикнул так, чтоб все слышали: —А те, кто прячет кулацкое добро — ответит по закону! Предупреждаю. Чтоб потом не пеняли на других.
Зингеровская ножная машинка… Это было еще бабушкино приданое, перешедшее потом к моей маме. На ней она обшивала свое большое семейство, шила рубахи и штаны ближним соседям и родственникам. Эта машинка с ножным приводом и темным закопченным футляром-колпаком будет еще многие-многие годы самым ценным из всего того, что мы имели. Добрые люди надежно припрятали, не выдали машинку. Через год следом за семьей машинка перекочует багажом в Сибирь, где верой и правдой будет служить свою безотказную службу в нашей разрастающейся семье. А о том, что она немецкая и что ее изготовила фирма «Зингер», я узнал, когда учился в шестом классе и начал изучать немецкий язык. Сколько я помню эту машинку — ее ни разу не ремонтировали, однажды лишь сменили приводной ремень.
Когда выводили со двора нашу корову, пуще прежнего заголосила мама, вторя ей, запричитала бабушка. Уж какие слова мольбы и заклинания она обращала к Иванову, показывая на нас, внуков, испуганных табунком сбившихся у крыльца и не понимающих: за что, собственно, нас раскулачивают?..
— Ты хотя бы их-то пожалел! — тянула бабушка в нашу сторону свои натруженные руки. — Ведь их вместе с младенцем шесть человек… Что им, по миру теперь идти?
Она пыталась вырвать из рук рослого, как верста, милиционера колодезную веревку, которая была калмыцким узлом накинута на рога нашей Майки, но другой, низкорослый рыжий, с расплющенным носом милиционер грубо оттолкнул ее и при этом сказал что-то обидное. В глазах бабушки застыл ужас. Я как сейчас вижу плоское конопатое лицо этого дебила, на котором маленькие, опушенные желтыми ресницами глаза альбиноса ничего, кроме тупого подчинения своему начальнику, не выражали.
И тут вдруг, откуда не возьмись, из толпы зевак вывернулась припадочная Нюрка-Чичава, наша душевнобольная шестнадцатилетняя соседка, единственная дочка у скатившейся до нищенства вдовы, тети Маши Шеболчихи. Подбежав к рыжему милиционеру, она повернулась к нему задом, нагнулась и, задрав почти до пояса подол грязной юбки, чуть было не толкнувшись косматой головой в землю, хлопая грязной ладонью по голому заду, заорала что есть духу хриплым голосом:
— Вот тебе Майку!.. Накося, выкуси!.. Вот тебе Майку! — Прошлой весной, когда Нюрка простудилась на речке и долго хворала, наша бабушка каждое утро приносила ей махотку парного молока и, как я помню, при этом всегда ласково приговаривала:
— Ты уж смотри, Нюруха, поправляйся, молоко от Майки лечебное. Даю тебе с молитвой к Богородице.
В толпе кто сконфуженно отворачивался, кто брезгливо сплевывал, а кто одобрительно ухмылялся.
Неизвестно, до чего бы дошла Нюрка, если бы перед ней не выросла грозная фигура самого Иванова. Под его суровым взглядом ее тут же сразил припадок, и она упала прямо в ноги Иванова, цепляясь длинными ногтями за его до блеска начищенные хромовые сапоги. А когда он брезгливо отошел от нее, Нюрка уже билась в конвульсивном жестоком приступе. Глаза ее широко раскрылись, косматые волосы разлетелись по земле, изо рта повалила белая пена. Подоспевшая мать Нюрки вместе с бабами, скрутив несчастной руки и ноги, уволокли ее домой. Благо, что припадок случился в каких-то десяти шагах от крыльца Нюркиной избы.
Никогда раньше я не видел на спокойном, строгом лице деда слез. Но в ту минуту, когда гепеушники вывели из конюшни красавца Орлика и стали привязывать повод уздечки к задку телеги, заваленной перинами, подушками, ватными одеялами, хомутами и лошадиной сбруей, — я увидел, как рот деда скорбно искривился, губы задрожали, а седые брови, сойдясь у переносицы, низко опустились на глаза, почти закрыв их. На его дряблых морщинистых, как в рытвинах, щеках сверкнули на солнце слезы.
Дедушка!.. Милый дедушка, христианин и труженик-крестьянин Божьей милостью. Прошло уже более полвека после того летнего дня, а я как сейчас вижу тебя в черной длинной приталенной поддевке на скамье рядом с крыльцом. Провожая взглядом то, что наживал ты годами честным трудом, что хотел оставить сыну и внукам, которых по-крестьянски сдержанно, без излишней ласки любил. Но ты достойно поборол свою слабость. Не все заметили твои слезы при виде двух телег, нагруженных нашим добром.
Когда к деду подошел Иванов, я своим детским разумом скорее почувствовал, чем понял, что ему не понравилось спокойствие деда, который, не проронив и слова, сидел на скамейке, опершись на дубовую палку. Хорошо помню слова, с которыми Иванов обратился к нему:
— Крепок же ты, Михаил Иванович, крепок. Ничего не просишь, не требуешь.
Во взгляде, которым дедушка ожег гепеушника, была не мольба. В нем застыло проклятье.
— Свои слезы я выплакал давно, еще в молодости, когда тянул бурлацкую лямку на Волге. Шесть лет ее тянул. Слезы мои мешались с потом. Смешались и высохли.
— Ты бы встал, дед Михайло, когда с тобой начальство разговаривает. — Иванов чувствовал, что каждое его слово толпа ловит с жадностью, а поэтому старался не сказать лишнего. — Не по своей воле мы это делаем.
— А по чьей же? — с трудом выдавил из себя дедушка.
— По воле партии, советского правительства и личному указанию товарища Сталина.
— Ну что ж, грабьте, раз на этот великий грех есть ваша воля. Только тебе я скажу и о своей воле и думе, что сейчас всколыхнулись в душе моей. Хоть грех на душу беру, но жалею… Ох, как жалею…
Дедушка замолк и неторопливо высыпал из пузырька в ладонь добрую щепотку нюхательного табака, заткнул пузырек пробкой, набрал табак в троеперстие, а подносить к носу не торопился. Все глядел и глядел молча снизу вверх на Иванова, кисть правой руки которого то и дело нервно касалась кобуры нагана.
— О чем же ты жалеешь, дед Михайло? — громко, словно любуясь собой, спросил Иванов.
Дедушка ответил не сразу.
— Жалею, что в девятьсот четвертом году, этот год я запомнил на всю жизнь, после простуды из-за тебя чуть Богу душу не отдал. Спасибо жена покойная выходила.
Он поднес к носу табак и шумно, подняв голову, с присвистом втянул его в ноздри.
— С чего бы это из-за меня? — спросил Иванов.
— Зря я тогда во время ледохода вытащил тебя из Пичавки, когда ты уже ко дну шел. Один тогда был на берегу. Никто не видел, что ты тонешь. А я разделся до подштанников и кинулся за тобой в ледяную купель. Вытащил. С полчаса маялся на берегу, пока не выкачал из тебя воду. А потом на руках отнес домой и отвез в больницу. Твой покойный отец, после того как продал лошадь и земельный надел, лежал в запое, а мать твою трясла лихорадка. Вот с тех пор, после простуды, и маюсь поясницей. Встал бы перед большим начальством, да не могу. — Дедушка правой рукой коснулся поясницы. — Вступило.
— Так выходит жалеешь, что спас мне жизнь? — с каким-то злорадным надрывом спросил Иванов.
— Жалею… Не скрою перед Богом, что жалею. Не твоими бы руками делать это греховное дело. Не боишься ты кары небесной.
Толпа напряженно безмолвствовала: экую дерзость сказал дед Михайло. И кому?!..
На лице Иванова застыла ухмылка.
— На Соловках, говорят, много церквей, дед Михайло. Вот там-то и попросишь боженьку наказать меня за великие прегрешения.
— И попрошу, если живым довезут меня до Соловков твои ворованные кони. И анафеме тебя предам за деяния твои. На коленях буду молить Господа Бога, чтоб наказал тебя… Великий грех берешь на душу. Я свой век уже прожил, а вот тебе стоило бы подумать, как дальше жить.
Вдруг неожиданно истошно завыла наша собака. Я никогда еще не слышал, как она воет. И вообще такого надрывающего душу собачьего воя мне еще никогда не приходилось слышать.
Когда со двора выводили впряженных в телеги лошадей и таскали из чулана сбрую и дуги, а потом выводили на веревке корову и в овчарне вязали по ногам овец, наш Пестрик, до предела натянув гремящую цепь, исходил истошным лаем. Но вот двор опустел. По нему, оглашенно кудахча, как очумелые носились перепуганные куры, а под крышей конюшни зигзагами черных молний летали встревоженные летучие мыши (у нас их в конюшне было несколько гнезд, и дедушка всегда успокаивал маму, которая их боялась. Он утверждал, что когда в хозяйстве водятся летучие мыши, то это к добру, к достатку и прибыли). И тут Пестрик, присев на задние лапы и задрав к небу морду, завыл. Да так завыл, что его, наверное, было слышно на краю села.
Проклятье моего дедушки, его угроза предать гепеушника анафеме, слившись с леденящим душу собачьим воем, повергшим в оторопь присмиревшую толпу, окончательно вывели Иванова из себя. Он судорожно схватился правой рукой за кобуру, из которой чернела торцевая грань рукоятки нагана.
— Заставь эту скотину прекратить вой!.. — крикнул он, обращаясь к дедушке. — Иначе я ее пристрелю!
— Попробуй!..
Впервые на лице деда я увидел нечто похожее на волчий оскал.
— Что-о-о? — протянул сквозь зубы Иванов.
— Пристрелишь Пестрика — отравлю твоих немецких овчарок. Своими руками отравлю. И яд на это дело найдется.
По толпе пробежал затяжной вздох, перешедший в немой гул.
— Ах, ты, кулацкая твоя морда!.. Угрожаешь?!. — с трудом сдерживал ярость Иванов, выискивая глазами кого-то из своих подчиненных. И, найдя его, громко крикнул: — Жиганов, ты слышал, что он сказал?
— Слышал! — гулко отозвался лет тридцати мужик, подтягивая чересседельник на лошади, впряженной в первой подводе с домашней утварью и сбруей.
— Когда сдашь все кулацкое имущество — доставишь этого деда в ГПУ!.. Ясно?
— Ясно…
И снова толпа глухо ахнула, потом загалдела: всем было жалко моего деда, я это видел по лицам баб и стариков, по приглушенным репликам, брошенным с боязливой украдкой. Видя, что в приступе остервенения Иванов, чтобы не осрамиться перед глазеющими односельчанами, может пристрелить Пестрика, дедушка поманил к себе пальцем меня и Сережу. Мы подскочили к нему. Так, чтобы не слышал Иванов, он велел нам отвязать Пестрика, отвести его в землянку, запереть наглухо дверь и накинуть большой замок.
Пока мы отводили разъяренного пса в дедову землянку и возились с навесным замком, две груженые подводы, к которым были привязаны Орлик и Майка, уже свернули с нашей улицы в переулок, ведущий на церковную площадь.
Я видел, как Иванов зажженной свечой плавил сургуч, как ставил печать на вязкую горячую массу. Все это он делал молча, с каким-то особым, только ему понятным значением, строго и четко выполняя чью-то высшую волю. А дедушка все сидел на скамье, положив свою костистую кисть руки на дубовую палку, вырезанную им два года назад в Громушкинском лесу, когда мы ездили на Гнедке собирать сухие еловые шишки и облетевший с сосен сушняк. (С дровами в наших безлесных тамбовских краях было плохо, топили, в основном, соломой, сушеным кизяком и редко-редко дровами, сбереженными на черный день и на престольный праздник, когда два дня подряд шла стряпня на целую неделю.)
Когда дом был опечатан, Иванов подошел к дедушке и строго предупредил:
— Дед Михайло, советую тебе язык держать за зубами, а то попадешь не на Соловки, а туда, куда Макар телят не гонял. У нас и на это есть право.
Дедушка отрешенно махнул рукой и горестно покачал головой.
— Дальше нашего кладбища у меня теперь дороги нет. А туда люди добрые проводят по-христиански, я зла никому не причинил.
Когда в церковном переулке скрылась третья подвода, груженная мешками с овсом и рожью, Иванов легко, пружинисто, с какой-то особой кавалерийской лихостью вскочил на оседланного гнедого жеребца, привязанного к перилам у крыльца, и, круто осадив его, попятился на деда. В душе у меня все захолонуло. Я думал, что он хочет смять его конем.
— А насчет сына скажу тебе — дальше Моршанска или Вернадовки он от нас не уйдет. Туда уже дали сигнал. Не сегодня-завтра привезут как миленького под охраной. А там сушите сухари для всего семейства. До Соловков дорога дальняя. Детей туда тоже ссылают. Для всех найдется работа. Тайга у нас веками не хожена, реки не меряны, земля везде ждет рабочих рук…
Эти слова Иванов произносил торжественно, словно с трибуны обращался сразу ко всем: к деду, к нам, детям, и к поредевшей толпе.
Пестрик, запертый в землянке, выл до прихода деда. Замолк лишь тогда, когда тонким собачьим чутьем уловил запах своего хозяина, отпирающего амбарный замок на дубовой двери с чугунными накладками.
Больше всего я боялся, чтобы деда не увезли в ГПУ. Ведь Иванов пригрозил сослать его в Соловки. Но деда в этот день не забрали. Я ни на шаг не отходил от него. Вместе с дедушкой щербатой деревянной ложкой хлебал вчерашние щи, вместе с ним ходил к самогонщице Жиганихе, которая в это утро выгнала целый жбан самогона. Дедушка пришел к ней с четвертью, аккуратно завернутой в холщовый мешок из-под муки.
За два литра «первача» она запросила с него цену, которая вначале рассердила деда, но после того, как он плеснул самогон на стол, поднес к нему зажженную спичку и увидел голубоватое пляшущее пламя, что-то хмуро пробурчал под нос, вытащил из кармана поддевки вытертый кожаный кошелек, достал из него две слипшиеся трешницы и бросил на стол.
— Сперва налей-ка мне, Анюта, вон ту черепушечку.
Жиганиха тряпицей протерла кружку и, глядя на дедушку, начала медленно лить в нее из четверти самогон.
— Не много ли, дед Михайло? — спросила она, когда вылила в кружку почти четвертинку.
Злая, нехорошая ухмылка исказила лицо деда. Ткнув луковицей в солонку, он поднес кружку к самому носу и глубоко втянул в себя воздух.
— Сегодня не много. Помирать так с музыкой. А деды наши говаривали: «У орла мать померла, другая народилась!»
В свою землянку дедушка вернулся уже заметно хмельной. Проходя мимо крыльца и глядя на опечатанную сургучом дверь, он с минуту постоял молча, потом положил ладонь мне на голову и тихо, как бы успокаивая, проговорил:
— Ничего, внучек, Бог все видит, во всем разберется.
Хлеб, соль и оставшуюся от обеда вареную картошку в землянку к деду принес Сережа.
Всю последующую неделю дедушка глушил боль души самогоном. Неотлучно с ним в землянке находился Сережа. Носил ему хлеб, воду и кое-какие продукты, что передавала бабушка.
Нас, детей, развели по соседям и родственникам. Младших братьев, Толика и Петеньку, которому шел четвертый год, и маму с грудной трехмесячной Зиной приютила у себя ее родная сестра, тетя Таня Гринцова. Она жила на нашей улице, в домах десяти от нас. Первые два дня нас с Мишкой держала у себя соседка, тетя Маша Шеболчиха. Покосившееся крыльцо ее ветхой, подгнившей избенки, два окошка которой сравнялись почти с землей, смотрело на наше высокое резное крыльцо, как бы безмолвно жалуясь на свое сиротство, нищету рано овдовевшей хозяйки. Сережа ютился с дедом в землянке. Мама наказала ему, чтобы он в оба смотрел за ним, боялась, как бы старик не сгорел от самогона. О четверти «первака», принесенного дедом от Жиганихи, Сережа ей рассказал.
Первую ночь мы с Мишкой почти не спали. Прислушиваясь к каждому шороху из угла избы, где на полу, под почерневшей иконкой спала припадочная Нюрка, я был готов каждую минуту соскочить с печки и дать стрекача. Живя рядом, мы не раз видели, как билась она на земле в тяжелых конвульсиях припадка.
По бедности тете Маше не было равных на всей нашей улице: ни коровы, ни лошади, ни овец, ни поросенка, ни кур. Овдовев, когда Нюрке было два года, она кормилась тем, что получала в больнице, где работала уборщицей. Отец наш и дедушка ее жалели. Осенью, после уборки урожая, сваливали на ее крыльцо мешка два ржи и несколько мешков картошки. Уже под утро, нас, измученных напряженным ожиданием, сломил сон.
У тети Маши мы провели две ночи. Нюрка уступила нам свое место на печке, откуда мы напряженно следили за ней и засыпали лишь после того, как припадочная переставала ворочаться на полу у окна и начинала равномерно посапывать. Мама, узнав о постоянных ночных страхах своих младших сыновей, взяла нас в бабушкину избу, где мы и прожили до конца августа…
В тот недобрый памятный день, когда нас раскулачивали, мне было жаль и деда, и маму, и бабушку, обливающихся слезами и заламывающих руки перед Ивановым. Жалко Орлика, на которого меня уже несколько раз сажал дедушка и обещал осенью, когда его любимец «остынет» («Уж больно горяч и норовист», — не раз повторял он, глядя на Орлика, когда тот взвивался на дыбы, не желая чувствовать узду стальных удил в зубах), разрешить мне прокатиться на нем от околицы села до выгона. На Гнедке я уже в прошлое лето скакал галопом, и дедушка хвалил меня, даже пророчил карьеру лихого кавалериста… Жалко мне было и Майку, привязанную за рога к задку телеги. В ее больших глазах стояло столько прощальной тоски и печали, что я и сейчас вижу этот отрешенный взгляд. Спустя много лет, когда я вырасту и в руки мне попадет томик стихов Сергея Есенина, то в нем я найду строки, которые унесут меня в тот горестный день моего детства, когда уводили с нашего двора кормилицу Майку…
Я видел их, я подсмотрел: Глаза печальнее коровьих…Колдун — Есенин, пророк — Есенин. И я в свои шесть лет печаль в глазах Майки прочитал по-своему, как знак последнего, предсмертного прощания.
Жалость к себе, жгучую, стискивающую жалость я почувствовал через неделю, когда мы, ребятишки с нашей улицы, купались в кишащей пиявками и надрывно курлыкающими лягушками Пичавке. Мы, братья, жили дружно, иногда ссорились по мелочам, но дрались редко. Однако стоило кому-нибудь из соседских ребятишек обидеть одного из братьев, словно по чьей-то команде (очевидно, диктовала кровь родства) сплачивались стеной и тогда обидчику от нас доставалось троекратно. Ровесники с нами считались, по-своему, по-ребячьи уважали, а временами, в моменты раздора, даже побаивались.
А тут как будто все, что возводилось годами, рухнуло и распалось. Это чувствовалось и в косых взглядах наших ровесников, и в ехидных подначках, в которых нет-нет да прозвучат слова «кулак» или «лишенец». То, что нас перестали бояться, мы, братья, поняли быстро. И вся эта затаенная неприязнь к нам прорвалась, наконец, как больной саднящий нарыв.
День стоял жаркий, солнечный. Наша, уже к середине лета изрядно обмелевшая Пичавка, о которой дедушка как-то однажды насмешливо, но образно выразился — «галке по сикалке, воробью по колено», наполнилась криками и возгласами плюхающихся в ней ребятишек. Мы, четыре брата — не разлей вода (Сережка, Мишка, я и Толик) тоже кувыркались и ныряли в мутном омутке. Все шло как по заведенному сотню лет назад обычаю детства российских ребятишек. А там, где купание, там почти обязательно «салки». До сих пор не могу уразуметь: с какой стати, за какие прегрешения нужно «салить» последнего вылезшего из воды мальчишку, забрасывая его, голого, водорослями, песком и речной грязью, пока он доберется до своих штанов и рубашки. Я, по характеру обидчивый, очень боялся стать предметом насмешливых улюлюканий, а потому всегда опасался последним вылезать из воды. Плаваю, ныряю, брызгаюсь, как все, но ухо держу востро. Стоило только двум, трем мальчишкам выскочить из воды — как я тут же держусь поближе к берегу. Как мне кажется теперь, этой же чертой характера были наделены от природы и мои братья. Но тот случай я никогда не забуду. Когда мы, все четверо, вылезли на берег, в речушке еще барахтались четверо. Я, прыгая на одной ноге, выливал набравшуюся в ухо воду, кося глаза на свою одежонку. И вдруг Степка Жалнин, старший из нас, хрипло скомандовал:
— Салить кулаков!..
Одеться мы еще не успели. И тут началось… Нас окружили плотным кольцом растелешенные ровесники, с кем дружили с дней первых вылазок на огороды, стрельбы из рогаток по воробьиным гнездам в соломенных крышах кирпичного завода, с кем вместе ходили за орехами и грибами в Громушкинский лес. Нас было четверо, а их десятка полтора, а может быть, и больше. За что на нас накинулись?.. И почему каждый норовил попасть шматком грязи в Мишку. Я видел бледное лицо отбивающегося брата.
Среди своих ровесников на нашей улице по смелости и отваге ему не было равных. Во время весеннего ледохода только он осмеливался первым переходить разлившуюся Пичавку, прыгая с одной льдины на другую. Только он мог забраться на самую вершину вековой ветлы и заглянуть в грачиное гнездо, чтобы узнать, сколько лежит в нем яиц. Гнезд он не трогал, в отличие от других ребятишек, которые особым шиком и ухарством считали их разорение. Добрым, с нежным и чувствительным сердцем рос он, но там, где требовалась смелость, в душе его мгновенно вспыхивали искры отваги и удали. Эту черту характера и заряд души он унаследовал от отца. Никогда не забуду, как по дороге в лес за ягодами, проходя мимо кладбища, на котором был похоронен наш двухлетний братишка, сгоревший в скарлатине (по-деревенски «глотошной»), Мишка, стыдясь своих слез, отставал от всех и плакал чуть ли не навзрыд. Мы, братья, и бабушка, которая при этом всегда крестилась, бросая взгляд на кладбищенские кресты, делали вид, что не замечаем Мишу, которому судьба уготовила в дальнейшем нелегкий жребий.
Первым в стайке «сальщиков» наступал на нас Степка. Рыжеволосый, с конопатым лицом, на котором под бесцветными бровями сверкали злые маленькие глаза, он уже плевал на все запреты старших. Почти открыто курил, отсыпая табак из кисета у деда, лазил по чужим садам и огородам, по делу и не по делу матерился, с наслаждением мучил пойманных кошек и щенят, разорял воробьиные гнезда, когда птенцы еще не оперились. С каким-то садизмом, напоказ перед ребятишками зажимал тоненькую шейку голыша между средним и указательным пальцами и, подняв перед собой руку, резким рывком опускал ее вниз. И победно улыбался, когда голова птенца оставалась в его кулаке, а тельце воробьишки глухо ударялось о землю.
Я только раз видел эту мерзкую картину казни крохотной птахи, которая еще не успела ни разу взлететь, но на всю жизнь возненавидел Степку.
Не знаю, сколько еще преследовали бы нас обидчики, если бы не вышедший из-за гумна дедушка. В руках он держал длинные дубовые вилы, высоко подняв их над головой. С руганью кинулся он нам на выручку. И не успокоился даже тогда, когда преследователи испуганно бросились к речке и, хватая по пути рубашки, побежали к Ершовскому саду. В селе дед слыл сердитым стариком, и мальчишки его боялись. А когда дедушка повел нас к воде смыть грязь, даже тех мальчишек, кто нас не «салил», сдуло как ветром.
С той ночи, когда отец тайком ушел на Вернадовку, чтобы податься на шахты Донбасса, о чем знали только мама и бабушка, от него не было никаких вестей. Очевидно, писать он боялся: ходили слухи, что беглецов ловили и отправляли на Соловки.
Мишка по секрету сказал мне, что мама и тетя Таня написали письмо в Сибирь, где за Новосибирском, на берегу Оби, жили их старшие братья Егор и Алексей, а также сестры Наталья и Лукерья. Они уехали на привольные сибирские земли еще до Первой мировой войны, обзавелись семьями и пустили корни. Крепче всех, судя по редким письмам, зажил в Сибири Егор, страстный охотник и заядлый рыбак, который занимался охотничьим и рыболовным промыслом на Убинских озерах. Больше всех сестер он любил младшую — мою маму. Ему-то и написали о всех наших бедах, прося совета и помощи: нельзя ли и нашей семье перебраться на житье в Сибирь. Ответа ждали с тревогой и надеждой. Бабушка стала молиться еще истовей.
Чтобы прокормить нас шестерых, мама варила и продавала на базаре мыло. Тайком с бабушкой, не нарушая сургуча на опечатанной двери, они под крыльцом, через подполье пробирались в дом, плотно занавешивали окно в кухне и ночами варили мыло. Для помощи брали кого-нибудь из старших братьев, чаще всего меня или Мишку. Разговаривали таинственным шепотом, словно совершали что-то преступное.
Мне и сейчас видятся эти серые нарезанные балалаечной струной куски мыла, которые в базарные дни бабушка и мама продавали из-под полы. Копили деньги на дорогу.
Сережа пытается продолжить учебу
Какие только вести не доносились из центра в российскую глубинку. По селу прокатился слух, что кулацких детей, окончивших четвертый класс, в пятый принимать не будут. Однако Сережа, имевший «Похвальную грамоту» за окончание начальной школы, этим слухам не поверил. Положив в сумку учебники, табель и грамоту, он пошел в школу. Я, мама и Мишка проводили его до проулка.
— В час добрый, сынок, — напутствовала его мама. Все валилось у нее из рук, пока она ожидала сына из школы. Мы с Мишкой тоже переживали и целый час ждали его у калитки. Наконец Сережа появился в проулке. По его понурой фигуре и опущенной голове мы поняли, что дело плохо.
Перешагнув порог избы, он мрачно произнес:
— Кулаков в пятый не записывают.
— Так и сказали? — тревожно спросила мама.
Сережа молча отдал маме сумку с документами, которые она тут же спрятала в сундук.
В этот вечер дедушка с горя выпил лишнее. А на следующее утро пришел в избу, сел на скамейку, сосредоточенно о чем-то думал, долго молчал.
— Ты что, папаня, — тихо спросила мама.
— Вся надежда на Моршанск, — не сразу ответил он.
Бабушка, которая чистила картошку, выронила нож. Она сразу поняла мысль деда.
— К Фросе? — спросила бабушка.
— Они примут, они люди добрые, мы их не раз выручали.
Двоюродную сестру бабушки, Фросю, выдали замуж в город где-то в конце прошлого века. Муж ее работал на табачной фабрике. Жили небогато, муж прихварывал по слабости легких. Их единственная дочь, оставшись без кормильца, погибшего на гражданской войне, одна воспитывала сына, который, по расчету бабушки, был года на два — на три старше Сережи. Жили они в старом деревянном домике на окраине Моршанска. Последнее письмо от сестры, в котором Фрося жаловалась на здоровье, бабушка получила где-то год назад.
Вторник и среду мама и бабушка собирали Сережу в дорогу. На машинке, спрятанной до поры до времени у тети Тани, мама сшила ему сатиновую рубашку, штаны из черного мелестина, прокатала на рубеле холщовое полотенце, достала со дна сундука новенькие хромовые ботинки, которые весной купил дед с наказом надевать только в школу и церковь. Письмо сестре бабушка писала долго, поднимая голову, о чем-то отрешенно думая и шевеля губами. Боясь помешать ей, мы с Мишкой вышли из избы.
Сережа с дедушкой обрывали желтые помидоры, которые они наловчились доводить до спелости за два дня, укладывая их под железной горячей крышей каменного амбара. К базарному дню они должны быть готовы к продаже. Урожай огурцов в это лето был небывалый. Длинненькие, пупырчатые, полосатые, они вызывали на лице деда улыбку, предвкушение прибыли. Зная толк в торговле, дед отбирал для продажи самые лучшие, те, что похуже, начинающие желтеть и крючковатые — оставлял бабушке для засола.
Рано утром в четверг дед нагрузил две корзины огурцов и помидоров. Потом постучал в окно нашей избы:
— Ванец, быстро поешь — и на базар.
Наспех выпив кружку молока с хлебом, я выскочил на улицу. Седую голову деда я увидел в проулке, а когда прибежал на базар, дед уже рядился в овощных рядах с покупателем.
— Пятак — помидор, на рупь — двадцать пять, — нараспев, громко, так, чтобы слышно было окрест, отвечал дед на вопрос женщины, в которой я узнал учительницу младших классов. Застеснявшийся Сережа отошел от деда и спрятался за подводу: ему было неловко торговаться. К своим корзинам он подошел лишь после того, когда убедился, что учительница, купив два десятка огурцов и с десяток помидоров, ушла с базара.
Дед оставил нас с Сережей у корзин, а сам пошел искать моршанских мужиков.
— Ну, торговля пошла, цену я вам сказал.
Через полчаса дед вернулся, и не один, а с двумя мужиками. Первое, на что он бросил взгляд, были почти опустевшие корзины с овощами.
— Молодцы! — похвалил дед и, положив руку на плечо Сережи, посмотрел на рыжебородого высокого мужика. — Вот он, мой старший внук. Уж больно хочет учиться дальше.
Рыжебородый поддакнул деду:
— Ученье дело хорошее. Ученье свет, а неученье — тьма.
— С ним завтра поедешь, — сказал дедушка, обращаясь к Сереже, и строго спросил, протянув перед собой ладонь: — Выручку…
Сережа вытащил из одного кармана бумажки, а из другого мелочь и отдал деду. Мелочь дед положил в карман, а бумажки сосчитал, сунул в нагрудный карман длинной черной поддевки и, склонившись, взял из корзины три огурца и три помидора. Засунул их в разные карманы и, погладив меня по голове, сказал:
— Ждите, я скоро приду. У вас дело хорошо идет.
Когда все трое ушли, Сережа сказал:
— В шинок отправились.
На старом российском базаре испокон веков существовала традиция: при встречах друзей, хороших знакомых и близких сердцу людей считалось скаредностью не выпить по шкалику, а то и по два. При крупных куплях-продажах ставили четверть…
Когда довольный дед с мужиками вернулся, овощей в корзинах оставалось на донышке. Но тут настроение у него испортилось на целый вечер. К нам подошел слывший на все село как беспробудный пьяница и мелкий воришка Никита Клюшкин. Ни одно раскулачивание не проходило без него, активного члена комбеда. Года три назад он проиграл в очко свою масластую клячу и теперь вынужден был отдавать надел земли в аренду. На его лице сияла блаженная улыбка, в которой сквозило какое-то злобное превосходство.
— Что, Михал Иванович, с торговли орловскими рысаками перешел на огурцы с помидорами? — хихикнул он так, словно вопросом своим «угодил в яблочко».
Эти слова затронули у деда самое больное место, он даже побагровел лицом, не сразу найдя ответные слова. Но, в конце концов, жестокие, полные праведной злости, они пришли сами собой:
— Зато тебе повезло, ворюга безлошадная. Из вонючей норы с клопами и тараканами перешел в крестовый дом священника с шестью окнами и застекленной террасой. Но не радуйся, Бог все видит, он во всем разберется. Лафа твоя уйдет, как и пришла. А вот меру пшена и мешок муки, которые я два года назад дал тебе, чтобы спасти от голода — ты мне вернешь. Этому есть свидетели.
Упоминание о старом долге словно раздавило комбедовца. Он как-то сник и попятился назад.
Из толпы, где мужики выторговывали у цыган пегого мерина, кто-то громко бросил:
— Дед Михайло, а ты не узнаешь на нем картуз раскулаченного Степана Паршина? Степан покупал его перед тем как ехать к венцу.
Тут Клюшкин не выдержал и юркнул в толпу, скрывшись за ларьками.
Оставшиеся десятка два огурцов и помидоров дедушка высыпал в мешок рыжебородого моршанина:
— А это вам завтра в дорогу.
Как и условились с вечера, дедушка с Сережей пришли в избу из землянки в начале шестого утра. На шестке уже парила из чугунка каша-сливуха.
Ложась спать, мы с Мишкой попросили бабушку, чтобы она разбудила нас: уж больно хотелось проводить брата в город. Однако заслышав скрип двери и кряхтенье деда, мы сами соскочили с печки, кое-как умылись. Мама позвала всех за стол, посреди которого уже стояла большая обливная чашка, куда бабушка вывалила из чугунка кашу. Из кучки деревянных ложек, высыпанных бабушкой, я успел выхватить отцовскую, за которой мы с Мишкой всегда охотились. Не крашеная, длинненькая, глубокая и ухватистая, она заметно отличалась от остальных. Дед зачем-то взял щербатую. Мишка удивился:
— Дедунь, зачем же берешь эту щербатую, вот сколько хороших?
Дед хмыкнул:
— Каша не щи, не вытекет.
С этими словами он поддел из чашки большой оковалок каши. Ел неторопливо, дуя на горячее. Мы с Мишкой обжигались, боясь отстать друг от друга.
Теперь, уже на восьмом десятке лет, когда я вижу, как жена уговаривает маленькую внучку съесть очередную ложку каши или супа — не могу не вспомнить без улыбки, с какой скоростью работали мы ложками за обеденным столом в нашей многодетной крестьянской семье. Какие там уговоры! Время от времени слышался лишь сердитый отцовский возглас: «Не торопись…»
Первым из-за стола встал дедушка. Вытерев ладонью рот, он расправил под пояском рубаху, трижды перекрестился, глядя на образ Божьей Матери, перед которой бледным огоньком мерцала лампада.
— Ну, с Богом.
Маленькая стрелка старых, засиженных мухами ходиков показывала шесть часов. К дому уже должны подъехать подводы моршанских мужиков. Сережа, который все время нетерпеливо поглядывал в окно, вскрикнул:
— Едут! — и, подхватив котомку, собранную мамой в дорогу, выскочил из избы.
Мать с трудом сдерживала слезы, глядя на сына, усевшегося на телегу рыжебородого Данилы. Перебивая друг друга, мама и бабушка напутствовали его, целовали, предостерегали. Рядом с Сережей сел дедушка. Мы с Мишкой вскочили на телегу, когда лошади уже тронулись.
Зная моего деда как страстного лошадника, любителя быстрой езды, Данила нахлестом ременных вожжей перевел гнедого на рысь.
С версту мы ехали молча. А когда выехали на пыльную проселочную дорогу, уже недели две не видевшую дождей, по обе стороны которой начинали колоситься зеленые разливы ржи, дед крикнул Даниле:
— Стой!
Тот круто осадил гнедого, и мы с Мишкой соскочили с телеги. Дед слазил медленно, жалуясь на поясницу. Подойдя к Даниле, он протянул ему бутылку водки, вытащив ее из котомки Сережи. Когда он успел ее туда положить, мы и не заметили.
— Еще раз прошу, Данила, помоги моему внуку, когда он устроит свои школьные дела. Пристрой с кем-нибудь из знакомых мужиков, кто поедет в Пичаву.
Слово «знакомых» он произнес с каким-то нажимом, и, кажется, до Данилы это дошло.
— Все понял, дед Михайло, сделаю по совести.
— Скажи этому человеку, что дед Михайло в долгу не останется.
Попрощавшись с Данилой, дедушка подошел к Сереже, долго молча смотрел ему в глаза, поцеловал в лоб и дрогнувшим голосом сказал:
— Не робей, Ломоносов… тот тоже деревенский был.
Мы стояли посреди дороги до тех пор, пока подводы не скрылись за выступающий клином громушкинский лес. Прислонив ладонь ко лбу, заслоняя глаза от яркого солнца, дед еще долго смотрел в сторону, где в верстах трех находились наши делянки: три десятины ржи, добрый клин гречихи и длинная полоска проса.
Я не знал, о чем думал дедушка в эту минуту, но теперь уверен, что его мучила тревожная мысль: придется ли ему в этом году убирать урожай с поля, которое он засевал своими руками. Что-то горькое, какое-то прощальное чувство отражалось в его повлажневших глазах, когда он повернулся к нам.
— Ну, а теперь домой. Если хотите — дуйте одни, а я потихоньку…
— Нет, деда, мы с тобой, — сказал Мишка, и я его понял. Он, как и я, боялся кладбища, мимо которого проходила дорога. После обеда дедушка повел нас с Мишкой на гумно, наказав при этом маме, чтобы она не говорила Петьке и Толику, куда мы пошли.
— А ты-то зачем туда, папаша?
Дед пристально посмотрел в глаза мамы.
— Не догадываешься?
— А-а-а, — протянула мама.
Подойдя к гумну, дед огляделся и, убедившись, что нас никто не видит, отодвинул от кустов бузины обмолоченные снопы ржи. Мы с Мишкой с удивлением увидели потайной лаз, о котором раньше не знали.
— А ну, давайте побыстрей, — сказал дед и пальцем показал на лаз. Мы с Мишкой юркнули в него, как мышата. Следом за нами, кряхтя, вполз в гумно и дед. Он заткнул снопами лаз, отчего в гумне сразу стало темно. На ощупь дед отыскал висевший на жердине переносной фонарь и зажег его. Я не понимал, что задумал дедушка, и был заинтригован окружавшей его действия тайной. Это же чувство, как мне казалось, томило и Мишку. Догадка промелькнула у меня в голове лишь после того, как дедушка отбросил вилами кучу соломы и начал простукивать землю.
— Клад, — шепнул мне на ухо Мишка, когда вилы стукнулись о что-то твердое.
Дедушка повернулся к нам и улыбнулся:
— Не клад, а добро.
Затаенно, почти не дыша, мы наблюдали, как дедушка, стоя на коленях, счищал с деревянной крышки землю и отодвигал ее в сторону. Показался край большой железной бочки. Когда он поднял крышку и лист, лежавший под ней, Мишка разочарованно протянул:
— Пше-но…
Дед резко повернулся к нему:
— А ты что, ждал золота?!
Мы с Мишкой с трудом держали мешки, в которые дед насыпал ковшом пшено, шепотом отсчитывая каждую меру. Наполовину наполненные мешки оттаскивали в сторону и подставляли новые. Последний мешок дедушка насыпал уже лежа, с трудом собирая пшено со дна бочки.
С коленей он поднимался тяжело, покряхтывая. Стерев со лба и висков рукавом рубахи мелкие капли пота, присел на чурбак.
— А теперь отдохнем и поедем дальше.
— Куда, дедушка?
Дед усмехнулся и положил на плечо Мишки ладонь.
— В твои годы это уже надо понимать. — Он показал на пустую бочку. — Кто-то из нас будет ее заделывать, она еще пригодится, жизнь-то вон какая пошла!
Тайник дедушка закрывал неторопливо, что-то прикидывая в уме. Накрыв бочку круглым железным листом с загнутыми краями, который чем-то напоминал огромную сковороду, положил на нее тяжелую плиту, сбитую из почерневших дубовых досок, и тяжело встал.
— Ну а теперь я все это засыплю, а вам придется поплясать.
Маскировка тайника закончилась лишь после того, когда мы с Мишкой до пота наплясались на россыпи земли, а дед присыпал ее мякиной и ржаной соломой.
Довольный собой, дедушка отошел в сторону и, улыбаясь, спросил:
— Ну как?
Мы запальчиво выразили свой восторг. Дед стряхнул с рубахи и штанов приставшие мякину и остья соломы и протянул Мишке ключ, который достал из поддевки. Показав пальцем на лаз, сказал:
— Перед тем, как открывать замок, хорошенько оглядись, чтоб никто не видел.
С проворством ящерицы Мишка юркнул из гумна. Не успел дедушка задуть фонарь, как из-за ворот послышался его звонкий голос:
— Дедушка, никого!
Через проем распахнутой дверцы в ворота ворвался яркий сноп света. С такой же тщательностью дедушка заделал старновкой лаз в стене гумна.
В этот вечер мы с Мишкой, лежа на печке, играли в «сороку-дуду». Не знаю, живет ли сейчас на Тамбовщине эта примитивная бесхитростная детская игра. Играют двое: один зажимает в ладонях горох, бобы или орехи (не больше пяти) и говорит: «Сорока-дуда», второй отвечает: «Я по ней». «Сколько коней?» — спрашивает первый. И вот тут вся хитрость состоит в том, чтобы угадать, сколько горошин, бобов или орехов зажато в ладонях. Мне и на этот раз, как всегда, не везло, одолевало желание больше выиграть, а потому я называл предельные цифры: четыре или пять, а Мишка, зная мою жадность, прятал в ладонях не больше трех горошин. Не угадавший должен был отдать столько горошин, сколько он назвал. Горох, который был у меня, я уже почти проиграл, когда послышался вдруг грохот в сенях. По звуку я понял, что упало железное корыто, висевшее на крюке, вбитом в стену. Как ветром нас сдуло с печи. Мы выскочили в сени. И то, что увидели, нас озадачило и испугало. Дедушка стоял на приставленной к стене лестнице и принимал из рук мамы ведро с пшеном, которое он высыпал в гроб. О том, что бабушка еще два года назад приготовила себе гроб и он стоял на чердаке, задвинутый в глубину, мы, братья, знали, а поэтому до ужаса боялись лазить туда.
Отряхнув ладони, дедушка подал матери пустое ведро и сказал:
— Все. А это на еду, — и он показал пальцем на оставшиеся полмешка пшена. Даже пошутил, обращаясь к согбенной и пригорюнившейся бабушке. — Ну, вот, Павловна, помирать тебе теперь нельзя, домовина твоя занята.
Я с ужасом подумал, как же мы будем есть кашу из гроба.
Бабушка робко и виновато спросила:
— Михайло, а не грех ли прятать пшено в гробу?
Словно ожидая этот вопрос, дедушка ответил:
— Греховно прятать в гробу золото, а пшено и хлеб в пожары и войны хранят даже в храмах. Потому что это — хлеб. А хлеб — всему голова. Греховно, когда вот они, — дедушка показал пальцем на меня и на Мишку, — будут умирать от голода. А вы, сорванцы, — он обвел нас строгим взглядом, — держите язык за зубами.
Выпив почти одним духом медную кружку холодного кваса, он крякнул и вытер ладонью усы:
— Храни вас Бог! — произнес он и, больше ничего не сказав, ушел к себе в землянку.
После проводов своего любимого внука дедушка затосковал. По его расчетам, Сережа уже должен был вернуться. В четверг он долго искал на базаре моршанских мужиков, с которыми отправил внука, но напрасно. А когда пришел с базара, то твердо заявил маме и бабушке, что если Сережа не вернется к воскресенью, то с попутными подводами сам отправится в Моршанск. Его тревога передавалась и нам.
Вряд ли за семь лет своей жизни я испытал такую радость, которая овладела мной, когда по пути к дедушке в землянку вдруг увидел идущего навстречу мне Сережу.
— Дедушка, Сережа пришел! — крикнул я и что есть духу кинулся навстречу брату.
За плечами Сережи висела котомка и связанные шнурками ботинки.
— Записали? — это было первое, что я спросил у брата.
По печальному выражению его лица я скорее догадался, чем понял, что его поход в город оказался неудачным. Острее, чем я, это почувствовал дедушка. Выпрямившись и подняв голову, он стоял посреди стежки, лицо его было суровым. Когда мы подошли к деду, Сережа ткнулся лицом в его грудь и горько заплакал. Первый раз я видел старшего брата плачущим. Сентиментальный по природе и мягкий по характеру, залился слезами и я. Дедушка прижимал нас к себе и, молча, своими узловатыми руками гладил выгоревшие на солнце головы.
— Ничего, Бог милостив, дойдут до Него наши молитвы.
Уже дома, когда собралась вся семья, Сережа рассказал, что бабушка Фрося умерла за день до его приезда в Моршанск. Похоронили ее два дня назад на Митрофановском кладбище и дали в Печаву бабушке Тане телеграмму.
Бабушка горько всплеснула руками:
— Как же так, никакой вестки мы не получали, отчего она умерла-то?
— Сказали, от разрыва сердца.
— Ну, а как тетя Наташа? — после тягостного молчания спросила мама.
— Тоже хворает, все кашляет, на табачной фабрике работает.
— А Колька? — добавила бабушка.
— Колька на поминках напился, еле отходили, он уже курит, в школу не ходит, работает с матерью в одном цехе, живут бедно.
— Ну, а ты-то как, в школу заходил? — спросила мама.
Сережа, словно не расслышав, угрюмо молчал.
— Тебя спрашивают, в школу-то ходил?
— А что ходить-то… после похорон тетя Наташа сказала, что они сами еле концы с концами сводят.
Только теперь мама заметила мозоли на грязных босых ногах сына.
— Господи, да что с ногами-то у тебя, поди пешком шел?
— Пешком… Полдороги, до Кутлей, в ботинках, а потом босиком.
Бабушка вышла в сени, принесла таз с водой и поставила к ногам Сережи.
— Вымой хорошенько, а я тебе подорожник привяжу.
— Ничего, сынок, не горюй, дождемся письма из Сибири, может, и уедем отсюда. Там учиться будешь, там, говорят, другие правила, всех в школу берут, — утешала мама Сережу.
За разговорами никто не заметил, как Петька и Толька за спиной деда, сидевшего на табуретке, выпотрошили котомку Сережи и разложили на полу ее содержимое: три коробки цветных карандашей, гребенку, роговой частый гребешок, коробочку нюхательного табака и четыре разноцветных резиновых чертика.
— Кто вам разрешил? — рассердился Сережа, поднял с пола свои гостинцы и положил их на стол.
— Это тебе, мама, — протянул он гребенку матери. — А это, дедушка, тебе. Колька сказал, что нюхательный табак в таких красивых коробочках посылают в Москву Михаилу Ивановичу Калинину. Говорят, он тоже нюхает.
Довольный подарком, дедушка притянул к себе Сережу и поцеловал его в щеку.
— Молодец, внучек, уважил, давно слыхал о таких коробочках.
Нам с Мишкой досталось по коробке цветных карандашей, на которых стояли инициалы наших имен: М и В.
— А это, — Сережа положил ладонь на третью коробку, — моя, не смейте трогать.
Затаив дыхание, мы, младшие братья, не сводили глаз с чертиков, нервно ждали.
Но Сережа не торопился.
— Вот, бабушка, что я купил для тебя в самом главном магазине Моршанска. Больше нигде не продают.
И он протянул гребешок радостно улыбнувшейся бабушке.
— Вот уж угодил-то, полгода нигде не могу купить, — сказала бабушка и, склонившись над внуком, поцеловала его.
Когда дошла очередь до младших братьев, те аж затанцевали у стола. Сережа взял красного чертика, надул его, а когда отвел ото рта, изба огласилась пронзительным визгом, в котором отчетливо слышалось: «Уйди, уйди, уйди»… Звук этот повторялся до тех пор, пока резиновый шарик выпускал воздух.
Восторг и счастье светились в наших глазах.
— Зовут эту игрушку — чертиком, — сказал Сережа, протягивая младшим братьям по красному чертику, — а теперь дуйте.
Бабушка заткнула уши, когда изба огласилась визгом чертиков.
— Будет, анчутки, эдак можно оглохнуть, бегите на улицу, там и дуйте, ишь, разбудили Зину.
— А эти кому? — спросил Толька, протягивая руку к синему чертику.
— А эти потом, пока спрячу.
До самых сумерек слышалось через раскрытое окно с улицы разноголосое «уйди, уйди, уйди».
Когда ребятишки выскочили на улицу, Сережа достал из кармана узелок, развернул его и положил на стол.
— Вот все, что вы мне давали в дорогу.
— На что же ты гостинцы-то покупал? — спросила бабушка.
— На свои.
— Откуда они у тебя? — спросила мама.
— В Рождество Христово наславил. Два рубля семьдесят три копейки.
— А два серебряных рубля откуда? — удивилась мама и, не дождавшись ответа, взглянула на деда. — Ты, папаша?
— Я, — ответил дедушка, — на тетради и учебники давал.
Мама взяла со стола два серебряных рубля и протянула их деду.
— Спасибо, папаша.
Дедушка отстранил ее руку.
— Пусть оставит себе. На пустое не потратит, а учебники и тетради покупать все равно придется.
За ужином бабушка предупредила нас, братьев, что завтра поведет в церковь, к обедне, исповедоваться и причащаться. Петьку, который еще ни разу не был на исповеди, бабушка наставляла:
— Не забудь, Петюнька, когда батюшка накроет вас всех ризой и будет спрашивать, говори одно и то же: «Батюшка, грешен, батюшка, грешен». А потом вас причастят.
Уже засыпая, я с печки слышал отчетливый шепот Петьки: «Батюшка, грешен, батюшка, грешен».
Первое, что я увидел, проснувшись утром, — аккуратно сложенные на широкой лавке стопочки одежды. Я сразу вспомнил, что сегодня мы идем к обедне. Бабушка хлопотала у шестка, мама, сидя на табуретке, кормила грудью Зину. Сережа уже пришел из землянки и протирал свои ботинки. Младшие братья и Мишка еще спали. У Толика из-под щеки торчал красный чертик. Увидев, что я проснулся, бабушка сказала:
— Буди Мишку, Ваня, да поскорей умывайтесь и одевайтесь, маманька до полночи колготила с вашими рубашками и штанами.
Когда мы все были одеты и обуты, бабушка смазала наши головы лампадным маслом, причесала гребешком. Она уже одела длинную кашемировую юбку и темную кофту, которые приготовила для того, чтобы идти в церковь.
— Ну, милые мои, теперь пошли, — сказала она.
— А завтракать, бабаня! — возмутился Толька.
— Запомни на всю жизнь, перед причастием есть грех, — сказала бабушка, повернулась к иконе, перед которой мерцала лампада, трижды перекрестилась. Глядя на нас, старших братьев, младшие тоже стали креститься, путая левое плечо с правым…
И вот теперь, вспоминая волнения моих младших братьев перед первой исповедью, я с горечью сожалею, что она была для них не только первой, но и последней. Мы еще не знали и не ведали, что в Москве, на монетном дворе уже чеканят миллионы маленьких значков, на которых будет три буквы «С. В. Б.», что означало «Союз Воинствующих Безбожников», не знали, что недалек тот день, когда наши учителя, снимая с нас крестики, приколют к рубашонкам эти значки и назовут нас «октябрятами». Будут настойчиво убеждать, что молиться и ходить в церковь октябрятам нельзя. Что Бога нет, а есть Владимир Ильич Ленин, его верный ученик Сталин и великая партия большевиков, которая поведет нас к светлому будущему, к коммунизму.
Пожалуй, с этих горьких дней гонения на христианство и ее Православную церковь и началось в детских душах разрушение ростков веры в Господа Бога, в нравственное учение Христа, выраженное в его заповедях…
Была какая-то торжественность и строгость во всем облике бабушки, когда она вела своих внуков в церковь. Я это заметил давно. Мне казалось, что она молодела лицом, своей еще не старческой статью, даже в голосе, когда она отвечала на приветствия и поклоны встречных, звучали нотки счастья и довольства собой. Если раньше она водила в церковь троих внуков, то теперь шла в окружении пятерых, чистеньких, румяных, причесанных. И мою детскую душу наполняло чувство гордости за бабушку, которую все знают, уважают и которой кланяются.
— Бабушка, а что это за дяденька с тобой поздоровался и снял картуз? — спросил Мишка. — Наверное, и его деток ты принимала?
— Да не только его деток, но и его самого.
Проходя мимо нищих, сидевших на паперти, бабушка остановилась и бросила в шапку юродивого медный пятак, тот в знак благодарности низко склонился и произнес что-то мне непонятное.
Очень жалею, что не могу испытывать теперь тех чувств божественной одухотворенности и какой-то неземной приподнятости, которые я испытывал в далеком детстве, когда входил в наш, известный на всю Тамбовскую губернию, пятиглавый храм. Это о его звоне колоколов, как мне казалось, десятками лет позже сказал Александр Твардовский в своей знаменитой поэме: «Здесь бухали колокола на сорок деревень…» Как-то дедушка рассказывал, что раньше в метельные зимние ночи били в самый большой колокол, чтобы путники не сбивались с дороги.
Высокие, расписанные по библейским сюжетам своды с летающими ангелами, сладкий и нежный запах ладана, печальные лики святых, обращенные на меня со всех сторон, огромные сверкающие люстры с горящими свечами — все это неизъяснимой благодатью вливалось в мою душу, растворялось в ней, наполняло ее любовью, надеждой и верой в великую силу и вечное царствие Всевышнего.
Сразу же при входе в церковь Сережа отделился от нас, купил свечку и подошел к иконе Матери Божьей Владимирской, перед которой уже молился дедушка…
Свою первую свечу, поставленную в храме, я помню и сейчас. Я не знаю, сколько мне было тогда лет, но отчетливо помню, как бабушка подняла меня на руки, зажгла свечку, оплавила ее нижний конец и, подав мне, сказала:
— Поставь ее вот сюда и скажи: «Господи, помилуй».
Мне кажется, что такое чувство радостного восхищения и ответственности я вряд ли испытал еще раз в своей жизни, какое овладело мной в ту минуту. Великий Толстой гениален как художник и как пророк. Недосягаемой вершиной его мудрости я считаю следующий его афоризм:
«Истинная мудрость немногословна. Она как „Господи, помилуй“. В эти слова христианин вкладывает бездну чувств, веру и надежду в мольбу о всепрощении, которые теснятся в его душе и не дают ей покоя»…
Бабушка зажгла две свечи и подала Толику и Пете. Потом она поочередно поднимала их на руки и помогала ставить их первые в жизни свечи. Помню лица моих младших братьев в эту минуту. В них запечатлелось что-то недетское и волнительно-тревожное, что-то светлое и непостижимо-тайное. Это выражение я увидел потом на лице младенца, сидящего на руках Сикстинской мадонны Рафаэля.
Свои свечи мы с Мишей поставили сами.
Служба длилась, как обычно, около часа. Я молился усердно, мне почему-то казалось, что кое-кто из прихожан, знавших бабушку, посматривает на нас. Мне очень хотелось, чтобы после службы, когда мы будем возвращаться домой, бабушке, как это было не раз, кто-нибудь сказал: «Какие у тебя, Татьяна Павловна, моленные внуки».
На исповедь пришлось встать в очередь. Мне, стоявшему перед отцом Аполлоном, который накрывал золотой ризой по несколько детских головок сразу, этот ритуал священнодействия был уже знаком. Младшим же братьям его предстояло пройти впервые. Они притихли, испуганно и доверчиво смотрели на Сережу, который взял их за руки и, поднявшись на амвон, подвел к священнику. Привычным движением тот накрыл наши пять голов ризой. На все его монотонные и певучие вопросы мы разноголосо, но громко отвечали: «Батюшка, грешен… Батюшка, грешен…» Даже на вопросы «Лазите ли вы по садам и огородам?», «Не обижаете ли вы родителей?» безгреховные в этом деле Петька и Толька громко чеканили: «Батюшка, грешен… Батюшка, грешен».
Причастие после исповеди Толе и Пете очень понравилось. Когда церковнослужитель подносил к их раскрытым ртам серебряную ложечку с кагором, они замирали и еще с минуту облизывали сладкие губы. Бабушка предупредила заранее, что просвирку, которую им дадут после причастия, нужно так съесть, чтобы ни крошечки не уронить на землю. После сладкого кагора пресные просвирки казались невкусными, мы их ели до самого дома, помня наказ бабушки…
Не думал я, тогда семилетний мальчишка, что на долгие десятилетия пионерия, комсомолия, коммунистическая партия, в которую я, солдат огневого взвода гвардейских минометов «Катюша» вступил в год тяжелых боев на Первом Белорусском фронте, оборвут мою связь с Божьим храмом, который начинал питать мою детскую душу чистотой и верой в силу добра.
Философия дяди Егора
Дни в июле тянулись мучительно долго. Мы ждали письма от отца, которое он по договоренности с мамой должен был прислать тете Тане, старшей сестре мамы. Тетя уже не раз ходила на почту, справлялась, нет ли письма, которое она ждет с Украины. Наконец, письмо пришло. Оно было написано химическим карандашом, который, как сказал Сережа, отец слюнявил, когда писал. А писал он о том, что пока жив-здоров, работает в том небольшом городе, где живет и шурин Андрея Ивановича Попова, что работа тяжелая, заработки плохие, так что еле-еле сводит концы с концами. Вечерами и в выходные дни прирабатывает на товарной станции при разгрузке, потихоньку скапливает на билет. «В барачном общежитии, — писал отец, — есть и земляки из соседних сел, которые, как и он, вовремя успели уйти. Где-то в середине августа думает приехать домой». Просил не беспокоиться. Сделает он это аккуратно, кое-кто из соседей по бараку уже побывал дома. Просил также отец продать его серебряные карманные часы и всю новую сбрую, которую удалось сохранить у соседей. Письмо заканчивалось пожеланием здоровья мамаше, папаше, всем своим дорогим деткам, а также родственникам. Письмо это Сережа за вечер прочитал вслух трижды.
— Папаша, где у Егора спрятана сбруя? — спросила у дедушки мама, и тот, словно ожидая этого вопроса, ответил:
— В надежном месте, сам хоронил. Ты вот, достань-ка мне часы, за них в прошлом году Семен Григорьевич давал Егору жеребчика-двухлетку орловских кровей. Часы не простые, серебряные, «Павел Буре», со звоном.
— И не сменял, — удивилась мама, вспомнив, как любовался отец красавцем жеребенком в серых яблоках, когда они были в гостях у Семена Григорьевича.
— Берег как память о покойном отце. Менять грех.
— А продавать? — мама вскинула на деда вопросительный взгляд.
— Красивый жеребенок — это кураж, а спасать семью — воля Божья.
— Спасибо, папаша, — успокоенно сказала мама и достала из-под столешницы ключ от сундучка.
О том, что в нашей семье есть карманные серебряные часы, мы, старшие братья, знали, видели их, но в руках никто не держал. Велико было наше любопытство, когда дедушка, держа часы на ладони, нажал какую-то кнопочку. Серебряная крышка с легким щелчком открылась, за ней — вторая тоненькая крышка, чуть поменьше первой, и мы увидели на белом циферблате три замерших стрелки и цифры.
— Не идут, — полушепотом сказал Миша.
— Не заведены, — буркнул дедушка, бросил взгляд на стенные ходики, перевел стрелки и покрутил головку завода. — Ну вот, теперь послушайте.
Дедушка поочередно подносил к нашим ушам часы, и мы, замирая, слушали их тиканье. Мне они тогда показались живыми, а когда через несколько минут мы услышали нежный звон, восторгу нашему не было конца.
— Мама, — жалобно произнес Сережа, — может, не продавать? Может быть, обойдемся?
— Нет, сынок, не обойдемся.
Засыпая, я испытывал горестное чувство потери. Мне было жалко отца, который гордился этими часами и носил их только по большим праздникам. Эту жалость предстоящей утраты я слышал и в колыбельной песне мамы, которую она тихо пела, укачивая в люльке сестренку. Пожалуй, напряженнее всех письма из Сибири ждал Сережа. Мысли о том, что перед ним навсегда закрыта дорога для дальнейшей учебы, он даже не допускал. Его тревожило то, что он может пропустить учебный год. После неудачной поездки в Моршанск он похудел, лицо осунулось, и почти весь день он проводил с дедом. Помогал ему собирать огурцы и помидоры, которыми они в базарные дни торговали в овощном ряду. Копили деньги на дорогу. Не без труда дедушка расстался с новым хомутом и седелкой, сделанными по заказу для Орлика лучшим шорником села. В тот вечер, когда покупатель из Буховки, заплатив за упряжь неплохую цену, унес ее из конюшни, дедушка снова выпил лишнего. А перед тем как проститься с мужиком и пожать ему руку, снял с крюка ременные вожжи и бросил их ему на плечо: — Возьми, чтобы не было мне на чем повеситься.
Письмо из Сибири пришло где-то в середине августа. Оно было большое, на нескольких страницах, в словах, оканчивавшихся на согласные, стояли старославянские «яти». По почерку мама узнала старшего брата Егора…
Много интересного, смешного и любопытного нам, братьям, когда мы вырастем, расскажет мама о дяде Егоре. Страстный охотник, знаменитый на всю округу, заядлый рыбак, ловивший самых больших щук и язей в Оби и на сибирских озерах, опытный плотник, который в одиночку, без единого гвоздя и железной скобы ставил крестовый дом, раскорчевав для этого добрую десятину тайги. И мой двоюродный брат по маме в конце сороковых годов, когда я был студентом Московского университета, после выпитой четвертинки, бродя по бесконечно длинному коридору студенческого общежития на Стромынке, до глубокой полночи рассказывал мне о дяде Егоре. Судя по его рассказам, — это был прирожденный философ, который у приозерных рыбацких кострищ своей мудростью и знанием жизни завораживал рыбаков-артельщиков. Одной из любимых тем его философии была христианская религия, ее живоначальная сила и вера в вечное царствие. Загораясь, он логично доказывал, что первым коммунистом на земле был Христос и что его десять заповедей, мягко сказать, позаимствовали два ловких человека — Маркс и Ленин, перевели учение на свои языки, получив за это неплохую монету и обеспечив себя на всю жизнь.
А однажды (это было в рыбацкой избушке на Убинских озерах, чему стал свидетелем мой двоюродный брат) дядя Егор затеял спор с артельщиками о существовании Бога. Доказывая всемогущество, а также силу и величие Господа, он связал с его волей все земные и человеческие трагедии: землетрясения, наводнения, пожары, неурожаи. Все эти ниспосланные Господом беды, говорил он, наказание человеку за его грехи. Для убедительности своей аргументации он приводил примеры из истории России с ее войнами, эпидемиями, засухами и убийствами царей.
В то же время он доказывал, что к людям, несущим в душе своей свет и добро, Господь милостив. Убедительность его слов доходила до глубин и высот христианской проповеди, ему верили. И каково же было разочарование и удивление рыбаков-артельщиков, когда дядя Егор в следующий вечер на просьбу продолжить разговор о Боге ответил, что Бога нет. Слушатели возмутились и потребовали доказательств. И он доказывал. Переворачивал с ног на голову все свои вчерашние аргументы о земных бедах и трагедиях и их причину видел не в наказании Господнем, а в закономерностях развития не только Земли, но и Вселенной. Так и не могли понять рыбаки-артельщики моего дядю: верил ли он сам в Бога или не верил? Когда говорил искренне, а когда их дурачил, на оселке доверчивых крестьянских душ оттачивая свой талант рассказчика и философа из народа.
Письмо к нам дяди Егора, написанное шестьдесят лет назад, каким-то чудом сохранилось. Я 0 трудом нашел его в своем архиве и привожу здесь полностью:
«Здравствуйте, мои дорогие сестрицы Таня и Маняша.
Во первых строках своего письма сообщаю вам, что письмо ваше я получил и очень горюю, что великая напасть, которая сейчас терзает Россию, не обошла и вас. Дошла она и до Сибири. Нарым сибирский еще страшнее российских Соловков. Здоровьем похвалиться не могу. Прошлой осенью при разгрузке леса на станции на ногу накатилось бревно. С открытым переломом лежал три месяца. Потом четыре месяца шкандыбал на костылях. Нога хоть и срослась, но стала кривой и короче. Сейчас хожу с бадиком. Так что отохотился и отрыбачился в артели ваш братец. Укатали Сивку крутые горки. Но я стараюсь духом не падать. Руки целы и голова работает. Николай после армии вернулся в Чик, устроился милиционером, женился, получил при станции двухкомнатную казенную квартиру и зовет меня к себе. Не нравится ему одиночество хромого вдовца, жалеет меня. После долгих раздумий решил доживать жизнь с сыном. Так что письмо твое, Маняша, пришло вовремя, а то я уже подыскивал купца на свою хибару. Но коль уж стряслась у вас такая беда, то разговора о продаже избы и быть не может. Забирайте с Егором свою ораву, покупайте билеты до станции Убинское, это не доезжая Новосибирска двести километров. Перед отъездом дайте телеграмму по адресу: станция Убинская Зап. Сиб. края, ул. Майская, дом 4. Соколову Никите Петровичу. Это мой хороший друг, заядлый рыбак и охотник, работает конюхом в райисполкоме. У него тихая добрая жена и двое детей. Они примут вас как родню. Я вас встречу. Хотя от Убинки до Крещенки всего четыре версты, но почту носят к нам два раза в месяц. Изба у меня хоть и небольшая, но крепкая. С крестовым домом, который я построил десять лет назад, конечно, не сравнишь. Зато на русской печке в морозные дни, когда застывают на лету воробьи, уляжется вся ваша орава. Вдоль стен широкие лавки, за столом усядется добрая дюжина едоков. На деревянной кровати можно ложиться четверым поперек. Есть и перина пуда в полтора, которую я не возьму. Оставлю вам четыре подушки. Хватает и всяких чугунков, горшков и сковородок, которые в Чик я не потащу. К Егору у меня совет: пусть купит, если у вас есть там в продаже, парочку полотен кос и хороший топор. Без хорошего топора и кос в Сибири не проживешь. Мой топор, доставшийся от папашки, источился до того, что остался один обушок. Его-то я увезу с собой. Это, пожалуй, единственное, что у меня осталось от папашки. Этот топорик, Маняша, ты должна помнить. Я принес его в избу, когда на дворе стояли крещенские морозы. Он был от инея белый. И ты спросила меня: „В чем он, Егоша?“ А я сказал, что он в сахаре, и по деревенской дурашливости посоветовал тебе лизнуть топор. Ты его лизнула и с полчаса плакала, сплевывая кровь. Господи, как мне было жалко тебя, четырехлетнюю кроху. За эту мою проделку папашка отходил меня ременными вожжами. Но ты пожалела меня и заступилась, даже бросилась в ноги к папашке. Давно это было, но в память врубилось на всю жизнь.
С отъездом поторапливайтесь. С первого сентября у деток начнется школа. В Крещенке — трехлетка. Сереже в пятый класс придется поступать в Убинске. Я и о нем уже договорился с Никитой Соколовым. Изба его от школы в минуте ходьбы. Много за постой не возьмут. Привезет Егор пару мешков рыбы зимой — вот и весь расчет. Думаю, для Егора работа в
Крещенке найдется. Здесь сейчас начинают строить толевую фабрику, уже роют котлован и завозят стройматериалы. Договорился я с соседом насчет нетели. Цену просят небольшую. Думаю, что справимся. Без коровы, Маняша, с твоими детками нельзя. Огород у меня большой. Урожай в этом году хороший. Думаю, что мешков сорок картошки накопаем. Рыбы в наших озерах хоть пруд пруди, зимой на базар в Убинку возят мороженую возами, дешевле картошки. Бедствуют и голодают на берегах озер одни лишь лодыри да пьянчуги.
Передайте мой низкий поклон свекру Михаилу Ивановичу, свекрови Татьяне Павловне. Если она надумает приехать, то матушка-Сибирь примет всех. Травы у нас непрокосные, аж по грудь, леса нехоженные. Целую и обнимаю всех твоих деток, желаю им расти умными и послушными.
Остаюсь жив-здоров, чего и вам желаю.
Ваш брат и дядя — Бердин Егор Сергеевич. Письмо писано 5 августа 1931 года».Пока Сережа читал письмо, мама и бабушка несколько раз подносили к глазам фартуки, а, услышав рассказ о том, как четырехлетняя Маня лизнула принесенный с мороза топор, мама и бабушка смеялись до слез.
Письмо озарило всех светом надежды. Особенно ликовал Сережа.
— Может, все тронемся? — спросила мама, переводя взгляд с бабушки на деда. — На билеты наберем. Я продам свой оренбургский платок и золотые сережки.
Бабушка вздохнула и ничего не ответила. Дедушка встал, распрямился, прошелся по избе.
— Спасибо, доченька, платок свой побереги, он в Сибири тебе пригодится, не в Крым едешь. А мой последний приют в родимой России, за выгоном, на кладбище, где лежат мои отец, дед и прадед.
В этот вечер я долго не мог уснуть, в моем воображении рисовалось снежное поле и дорога, по которой мужики, закутанные в тулупы, везли в санях мешки с мороженой рыбой. Хотя я никогда не видел мороженую рыбу, но она мне почему-то представлялась отчетливо и ясно. Никак не поддавалась моему воображению единственная картина, как это на лету могут замерзать воробьи? Никогда не видел я на наших покосах, куда меня часто брал отец, траву, которая растет по грудь мужикам. Сибирь манила, звала меня своей магической далью и таинственностью.
Валдайский колокольчик дедушки
Подготовка к отъезду в Сибирь, которую, на всякий случай, хранили втайне от соседей, волновала всю семью. Мама с бабушкой перебрали сундук, прикидывая, что необходимо взять с собой, а что можно продать. А мы с дедушкой трудились на огороде, копали картошку, которая на рынке была в цене, собирали огурцы, помидоры. Все это готовили к субботнему базару. Дедушка договорился в трактире о продаже четырех мешков молодой картошки (она у нас в этом году уродилась крупная, ровная), за которой должны приехать в пятницу вечером. Толик и Петька нарвали ведро зеленого гороха и сказали, что торговать им будут сами.
Все ждали приезда отца, хотя об этом старались не говорить. Вечером к дедушке пришел Семен Григорьевич. Он жил на Буховке. Хотя оба знали причину встречи, но разговор о продаже часов долго не начинали. Говорили о погоде, ценах на базаре, о плохом в этом году урожае гречихи и овса, о том, что с самой весны нигде не продают керосин. И только после этого «деревенского ритуала» дедушка достал из нагрудного кармана поддевки часы, погладил их и сказал:
— Не буду тебя больше томить, Григорьевич, никогда бы не расстался с ними, если б не нужда.
Я наблюдал, как Семен Григорьевич пристально следил за ходом секундной стрелки, как несколько раз подносил часы то к левому, то к правому уху и, дождавшись, когда они начнут отбивать вальс «На сопках Маньчжурии», блаженно и глупо улыбался:
— Ну что, дед Михайло, называй цену.
Дедушка достал из кармана пузырек с нюхательным табаком, насыпал его в левую ладонь и, поднеся добрую щепоть к ноздрям, сделал две глубокие затяжки. Я замер в ожидании того, какую цену назначит дедушка. Но тот молча встал, вывел меня из землянки и сказал:
— Принеси-ка, Ванец, хлебушка, квасу да нарви в огороде зеленого луку. Мамане скажи, что у меня Семен Григорьевич. Она все знает.
Вернувшись в землянку, по цепочке, свисающей из нагрудного кармана пиджака Семена Григорьевича, я понял, что часы дедушка продал, и, судя по его довольному лицу, можно было полагать, что цену взял хорошую.
— А вот это, Ванец, тебе на конфеты, рука у тебя легкая.
Семен Григорьевич дал мне гривенник, и я пулей выскочил из землянки.
В лавку за конфетами мы помчались с Мишкой, а когда вернулись, то увидели, что у нашей избы остановилась повозка, с которой спрыгнул рыжебородый мужик с Буховки, недавно купивший у деда хомут и седелку.
— Дед дома? — спросил мужик.
— В землянке, сейчас позову, — ответил Мишка.
Пока брат бегал за дедом, мужик привязал лошадь, бросил ей охапку свежескошенной травы.
На крыльцо вышла бабушка.
— Вася, никак ты? С бородой-то тебя не узнать. Вылитый отец. Ты к кому?
— Доброго здоровья, Татьяна Павловна. Дело у меня к деду Михайлу. Внук ваш побежал за ним.
— Да вон он идет, — бабушка показала рукой в сторону огорода.
После магарыча щеки деда разрумянились, глаза поблескивали от пережитого азарта. Таким я иногда видел его на конном базаре. Увидев на гнедом жеребце свой хомут, седелку и вожжи, дедушка улыбнулся. А когда взгляд его упал на старую обшарпанную дугу, не удержался:
— Ты чего, Василий Кузьмич, лошадь-то срамишь такой дугой и мою упряжь позоришь.
— Затем и приехал, дед Михайло.
— Это за чем?
— Видел у тебя в сеннике дуга на крюке висит.
— Висит. И не простая дуга, а с колокольчиком, да еще валдайским. Куплена ни где-нибудь в Моршанске или в Тамбове, а в Москве, на бегах. Для Орлика своего старался. Да не пришлось ему позвенеть над его гривой. Теперь гепеушники на Орлике красуются. — Дедушка подошел к гнедому жеребцу и провел ладонью по его крутому загривку. — Хорош, хорош… — И, отряхнув ладонь, сказал:
— Ну что ж, пойдем, послушаем звон валдайский.
Следом за дедом нырнули в сенник и мы с Мишкой.
Мужик с Буховки снял со стены дугу, тряхнул ее, и по сеннику рассыпался нежный звон. Он стоял долго, медленно затихая.
— Ну что, Михаил Иванович, срядимся? За ценой не постою.
Дедушка сел на лавку и о чем-то задумался.
— Ладно, Кузьмич, уступлю я ее тебе, но не за деньги.
— А за что?
И на этот раз дедушка ответил не сразу:
— Помочь мне твоя нужна.
— Говори, столкуемся.
— На той неделе, але попозже, семью Егора отвезти нужно на Вернадовку. — И, чтобы избежать расспросов, дед продолжил: — Куда, не спрашивай. Загад не бывает богат. Довезем их до станции, посадим в поезд и вернемся назад. Вот тогда-то, Кузьмич, московская дуга с валдайским колокольчиком будет твоя.
Василий Кузьмич встал и протянул деду руку.
— Считай, что договорились.
— Не считай, а накрепко договорились.
— В таком случае, Михаил Иванович, договор нужно закрепить. — Василий Кузьмич достал из кармана поддевки бутылку с белой сургучной пробкой, ловко ударил ладонью о днище, и пробка выскочила аж к потолку. — Я ведь к тебе, Михаил Иванович, не с самогонкой, а с «рыковкой», так отец наказал.
— Прости мою душу грешную, о здоровье отца я тебя не спросил. Уж около года не виделись.
— Плох отец, — угрюмо ответил Василий Кузьмич. — Высох весь, доктор сказал, что никакой надежды нет. Уже всем наказ-распоряжение сделал: и мне, и матери, и внуку Андрею — только что с флота приехал, пять годов оттрубил на Тихом океане. Сбруя твоя отцу очень понравилась. Привет тебе передает. Благословил Андрея на женитьбу. Понравилась ему невеста. Из хорошей семьи. Распорядился к венцу ехать на пролетке. Договорился о ней с мельником.
— Узнаю нрав отца твоего. Он и в молодости, когда мы с ним бурлаками тянули баржы от Астрахани до Костромы, был гордым, знал всему цену. Пытались нас старые бурлаки к водке приучить, но мы с Кузьмой держались. Копили. Он — на лошадь, а я на избу.
Василий Кузьмич налил в граненые стаканы водку, разложил на холщовой тряпице хлеб и огурцы, которые принес с собой.
— Ну, будем здоровы, Михаил Иванович.
Он чокнулся о стакан, стоявший перед дедом.
Но дедушка накрыл ладонью свой стакан.
— Я пока пропущу, Кузьмич. Я сегодня уже причастился.
Василий Кузьмич единым духом опорожнил стакан, крякнул, разгладил рыжие усы и ткнул в соль огурец.
— Хороша «рыковка»! Соколом взвилась.
Не стал пить дедушка и тогда, когда гость предложил выпить за Рыкова и за вольную торговлю.
— Я, Кузьмич, уже отторговался.
На прощанье дедушка еще раз наполнил стакан Василия Кузьмича и встал:
— Езжай с Богом! Только на Него и надежда, отцу передай мой сердечный привет. Если чего, дайте знать. Я дорогу до вас не забыл.
Только теперь дедушка выпил свой стакан до дна, крякнул и запил квасом.
Ночью прогремела такая гроза, какую не помнила даже бабушка. При каждой ослепительной вспышке молнии она, вскинув голову к иконам, крестилась и шептала молитву. За окном бушевал ливень.
Удивительное чувство вызвала во мне эта гроза. Мне не сиделось на печке, куда забились все мои братья. Я испытывал какой-то душевный подъем и необъяснимый восторг при виде ярко освещенной улицы, над которой полосовали стрелы молний, сопровождаемые оглушительными раскатами грома. Бабушка несколько раз отгоняла меня от окна…
Спустя десятки лет я вспомню эту грозовую ночь и бушевавшие в моей душе чувства восторга перед силой и могуществом природы, стоя перед распахнутым окном в комнате студенческого общежития. С пяти железных кроватей с провисшими сетками на меня орали мои друзья-сокурсники с требованием немедленно закрыть окно. Я закрыл его, но, выйдя в коридор, распахнул там широкое торцевое окно. Потеряв счет времени, я стоял в коридоре, пока не кончилась гроза. Вернувшись в комнату, долго не мог уснуть. В деталях вспоминал грозовую ночь моего детства…
…Я не слушался и вновь и вновь прижимал свой нос к окну. И тут при очередной вспышке молнии… увидел мокрое и грязное лицо отца! От неожиданности я вскрикнул:
— Папаня!..
Все в доме проснулись. Начался радостный переполох. Так и не понял я тогда, слезы ли радости катились по мокрым щекам отца или стекали с волос капли воды. Он сгреб нас в охапку, обнимал и целовал.
Бабушка ухватом достала из печи ведерный чугун теплой воды:
— Ополоснись, сынок, в чулане да переоденься в сухое.
Мама кинулась собирать отцу белье, а бабушка заколготилась у самовара, прогнав нас на печку. Помывшись и переодевшись в сухое, отец занавесил оба окна и зажег керосиновую лампу.
— А папаня-то с Сережей где?
— В землянке, — горестно вздохнула мама. — Сходи за ними. Плащ твой брезентовый висит в чулане.
Сон сморил меня быстро. Прихода деда с Сережей я так и не дождался. Не знал я и о том, что ночь эту отец с мамой провели у тети Тани, где, не сомкнув глаз, обговорили все подробности отъезда в Сибирь и решили самый больной для меня вопрос: оставить меня на год у бабушки с дедушкой. Не знал я также и того, что отца я увижу только через год. Проведя день в чулане у тети Тани, на следующую же ночь он ушел из села на станцию Вернадовку, а оттуда в Моршанск, где стал ждать семью, чтобы тронуться в далекий, тяжелый, но, как им тогда казалось, единственно спасительный путь — в Сибирь.
Днем нас неожиданно посетила Мария Васильевна Шохина, учительница Сережи, которая вела его с первого по четвертый класс. Она горевала, что ее лучшего ученика не допустили для дальнейшей учебы. От мамы она узнала, что Сережа пытался в Моршанске записаться в школу, но неудачно.
— И Ване вот не повезло, — сказала мама, — почти весь букварь читает, а в первый класс не записали, не хватает двух месяцев до восьми лет.
— А где Сережа-то? — спросила учительница.
— Да он с утра до вечера с дедушкой, — ответила мама, поглаживая меня по голове.
— А это и есть ваш Ваня? — с любопытством посмотрела на меня Мария Васильевна.
— Да, третий сынок.
— А ну-ка, Ваня, неси свой букварь, покажи, как ты читаешь.
Я очень старался и даже не водил пальцем по строчкам, как это обычно делал. Прочитал текст в середине букваря и даже в конце.
— Кто же тебя так читать научил? — восхищенно и удивленно спросила Мария Васильевна.
— Сережа, — смущенно ответил я, почувствовав, что чтение мое учительнице понравилось.
— А хоть одно стихотворение знаешь?
Я обрадовался этому вопросу и ответил твердо:
— Много знаю.
— Почти все те, что учил Сережа, — вмешалась в разговор мама. — Страсть как любит рассказывать стишки.
Мария Васильевна внимательно выслушала все стихи, которые я знал.
Я понял, что Сережиной учительнице понравился, особенно когда она сказала маме, что готова взять меня в свой класс и похлопочет об этом перед директором.
— А впрочем, что откладывать, Семен Николаевич сейчас дома, он мой сосед, зайдем к нему и все решим. Захвати с собой букварь.
Мать достала чистую рубашку, заставила умыться, вытерла мокрой тряпкой мои ноги и дала ботинки, которые летом мне обычно носить не разрешали.
Мария Васильевна и директор школы жили в бывшем господском каменном доме рядом с церковью, занимая по одной небольшой комнате.
— Посиди, Ваня, я тебя позову, — учительница показала мне на скамью с изогнутой спинкой.
Ждать пришлось недолго. Не прошло и пяти минут, как учительница вышла на крыльцо и позвала меня. Слово «директор» наводило на меня страх и оторопь. Но когда я вошел в комнату и увидел перед собой невысокого, плотного, лет пятидесяти мужчину, смотревшего на меня с приветливой улыбкой, как-то сразу успокоился.
— Копия Сережи. — Семен Николаевич положил руку на мое плечо.
— Вот Мария Васильевна говорит, что ты букварь от корки до корки читаешь. Так?
— Так, — твердо ответил я.
— И стихи Пушкина наизусть знаешь?
— Знаю.
— Ну, прочитай что-нибудь.
Пожалуй, никогда с таким вдохновением и напряжением, вытянув по швам руки, я не читал стихи Пушкина. Разохотившись, я готов был читать и другие стихи. Но Семен Николаевич, сжав мои плечи в своих сильных руках, сказал:
— Достаточно, Ваня. Молодец. Будешь учиться в первом классе у Марии Васильевны.
Вряд ли когда-нибудь я переступал порог родного дома таким возбужденным и счастливым. Ведь ни кто-нибудь из учителей, а сам директор школы похвалил меня и твердо обещал, что я буду учиться у Сережиной учительницы. Но радость была недолгой. Стоило мне представить, как вся семья уедет в Сибирь к дяде Егору, а я останусь с бабушкой и дедушкой, как слезы набегали у меня на глазах. До полночи я не мог уснуть.
Я остаюсь с бабушкой и дедушкой
Вечером поздно, когда уже стемнело, приехал возчик, сложили в телегу все, что должны увезти в Сибирь, и, не разбудив меня, простились. О том, что я остаюсь у бабушки с дедушкой, я знал за неделю до отъезда родителей, братьев и сестры. Хотя меня к этому и подготовили, я так и не смог полностью осознать всю глубину постигшего меня горя. Какой пустынной показалась мне бабушкина изба, когда я проснулся на печке и не почувствовал рядом с собой ни Мишки, ни Толика. Еще не открыв глаз, я пытался найти их, протягивая руки, но они лишь падали на теплые кирпичи печки, застланные дерюгой. Потом я сообразил, что все они уехали в Сибирь, и мне стало страшно. Я остро ощутил чувство безысходного одиночества.
Во время завтрака бабушка рассказала, что будить меня не стали, не желая расстраивать и самим не травить душу. Они лишь тихо, забравшись на табуретку, поднимались на печку, чтобы поцеловать меня на прощанье. Горше всех плакал Мишка. Он не удержался и убежал в чулан, где с трудом удалось его успокоить. Горько вздохнув, бабушка добавила:
— Хоть Мишутка и самый озорной среди вас, а на слезы слабый. А все потому, что душа у него ангельская.
После этих бабушкиных слов, я, давясь картошкой, залился слезами. Чтобы хоть как-то утешить меня, бабушка достала из чистой беленькой холщовой тряпицы конфетку и протянула ее мне. Но мне было не до завтрака и не до конфет. В глазах стояло заплаканное лицо Мишки. Его слезы долго еще потом будут стоять в моем воображении и будить в душе чувство жалости к себе.
Рассказала бабушка и о том, что моих родных увез Василий Кузьмич, с которым договорился дедушка.
В Моршанске семейство ожидал отец. Он уже три дня как беглый каторжник ютился у дальних родственников. По селу ходили слухи, что некоторые из беглых раскулаченных тайком по ночам возвращаются в село, но их хватают комбедовцы и сдают в милицию.
Два дня я не находил себе места в ожидании дедушки, уехавшего провожать наше семейство. Томилась и бабушка. Чаще чем обычно она проводила время в молитвах, иногда выходила на улицу и, вскинув ладонь над глазами, вглядывалась в даль улицы. Я понимал, что она ждет возвращения деда, беспокоясь, не помешало ли что отъезду ее детей и внуков в далекую и чужую Сибирь. Когда я из окна увидел расписанную масляными красками дугу, под которой колыхался бронзовый валдайский колокольчик над крутой шеей гнедого жеребца, и рыжебородого Василия Кузьмича, я не выдержал и прямо через окно выскочил на улицу. Бабушка вслед за мной вышла из избы. Не дожидаясь, пока дед, разминая старые кости, слезет с телеги, я вскочил к нему на колени и, крепко обняв его, принялся целовать седые усы и бороду. От дедушки попахивало самогонкой.
— Ну как, проводил? — громко спросил я.
Дедушка, воровато оглядываясь, ответил тихо, зажав картуз в согнутой ладони:
— Проводил, только об этом никому ни слова, понял? Кроме бабушки.
Понятие «святая ложь» впервые я усвоил, когда уже стал взрослым. Но, пробегая по дорожкам памяти, начиная с дней детства, я твердо заключил, что эту божественную формулу я осознал всей душой уже в семь лет, когда пришлось скрывать, куда уехала моя семья. Это была ложь, но ложь спасительная.
Чувство одиночества почему-то принято считать присущим только взрослому человеку. В этом глубокое убеждение тех, кто в комплексе душевного состояния ребенка видит озорство, веселье, печаль, радость, тоску — все состояния души. О том, что чувство одиночества гораздо глубже и сильнее физического состояния голода, я испытал, когда остался один и весь жизненный ритм был нарушен. Стоило мне только проснуться и ощутить, что рядом со мной нет никого из братьев, а дедушка и бабушка уже на ногах, как я, укрывшись с головой одеялом, начинал горько плакать. Иногда эти слезы доводили меня до такого состояния, что я не мог сдержать себя и рыдал навсхлип.
Бабушка утешала меня, убеждала, что после зимних каникул за мной приедет мама и увезет в Сибирь. Но я не успокаивался, не радовали даже конфеты, которые бабушка припрятывала для меня. И, пожалуй, больше всего меня мучил вопрос: почему меня оставили, а не Мишку, Толика или Сережу? Чем я хуже их? Ведь вроде был и послушней, и старательней. Не затевал драк с озорными ребятишками. Никогда никто из соседей не жаловался на меня.
Единственной радостью и утешением была школа. Букварь я уже прочел, знал все стихи, которые изучали в первом классе. Первые недели учебы я не понимал, что ребятишки, особенно озорные, не любят отличников и выскочек. А я не мог усидеть на месте, когда учительница задавала вопрос и, весь вытягиваясь в струнку, тянул к потолку руку. При этом обижался, когда спрашивали не меня, а кого-нибудь другого. И вот эту нелюбовь, или скорее всего неприязнь, к отличникам я стал ощущать на себе все чаще и чаще. То какой-нибудь озорник толкнет под бок и тут же обзовет «отличником». Я понял, что нужно вести себя по-другому. И уже не стал тянуть руку при всяком случае и, только глазами встретившись с учительницей, с мольбой смотрел на нее и ждал, когда меня спросят. В общем, стал похитрее и поумнее. И уже никто меня не толкал, никто не щипал и не залепливал снежком в ухо.
Успехи в учебе как-то гасили мою тоску. А после письма, полученного на адрес тети Тани, в котором родители сообщали, что они купили корову и у них есть маленькая хата, я постепенно как-то успокоился. Повеселели и дедушка с бабушкой, и я уже стал отсчитывать, сколько дней осталось до зимних каникул. Как я ждал приезда мамы!
Школьные оценки в те далекие тридцатые годы были совсем не такие, как сейчас, выставлялись не по пятибальной системе. Плохая отметка в тетради или в дневнике состояла из четырех букв «неуд» — неудовлетворительно. Средняя отметка, теперешняя тройка, обозначалась двумя буквами «уд» — удовлетворительно, четверка — знаком «хор», а пятерка обозначалась — «оч. хор.» Но так как я уже со старта взял курс на «оч. хор.», то мне казалось обидным снижать свои успехи. Может быть, среди пяти-шести «оч. хоров» в моих тетрадях по письму и по арифметике попадался огорчительный «хор». Правда, дедушка меня успокаивал, утверждая, что «хор» это тоже хорошо.
Повивальные услуги бабушки в сентябре и октябре тридцать первого года как никогда пользовались спросом. Ее приглашали богатые люди и чиновники районных властей. Время от времени она баловала меня гостинцами: то конфет принесет, то пирог, завернутый в полотенце. Так что голода я не чувствовал, хотя год и был неурожайным.
И вот в это спокойное мое полусиротство вдруг неожиданно, как гром с неба, свалился случай, который надолго поселил страх в моей душе. Произошло это где-то в середине октября. Мы с соседскими ребятишками играли на выгоне в лапту. Солнце уже садилось, собрались мы по домам, как вдруг группа ребятишек затеяла новую игру: стали валить на землю друг друга. В эту кучу-малу попал соседский мальчишка, Володька Качурин, мой ровесник. Обидевшись, что я крепко зажал его шею, он начал чем-то мазать мне губы и даже что-то запихнул в ноздрю. Вначале я ничего не понял, но, спустя несколько секунд, почувствовал, что губы и языку меня горят, а в ноздрях разгорается пожар. Тут я увидел в его руке зажатый лоскут красного перца и сразу все понял.
Проворно вскочив на ноги, я побежал домой, припоминая на ходу, что где-то у бабушки на полочке лежит несколько стручков красного перца. Дома нашел их, разрезал ножом один стручок. Я успел до прихода бабушки (иначе она, конечно, мне бы помешала) сделать свое дело и кинулся на выгон. Губы мои и ноздри горели пламенем, и как я не отплевывался, легче не становилось. Я боялся только одного, чтоб Качурин не ушел домой. Но Володька был на месте. Я с ходу сшиб его с ног, повалил и, зажав за шею, принялся тереть стручком губы и даже ухитрился всунуть его ему в ноздрю и несколько раз повернуть.
Отомщенный, я вскочил на ноги и спрятал в карман перец, а когда вспомнил, чьему сыночку натер губы, мне стало не по себе. Отец Володьки по всему околотку слыл не только пьяницей, но и отпетым хулиганом. Потеряв где-то на Гражданской войне ногу, он ходил на деревянном протезе, который прикреплял к ноге в коленном суставе. Когда погода была сырая, стоило ему пройти, на земле оставался след в виде ямки. Летом и осенью носил на фуражке, а зимой на шапке засаленную красную тряпку, подтверждающую его участие в партизанской войне. Все у нас боялись Володькиного отца. Слыл он сквернословом, матерщинником и часто устраивал драки. Я еще не успел покинуть выгон, как услышал вой его капризного мальчишки, обидеть которого означало навлечь скандал на свою голову. Так оно и случилось.
Наскоро поужинав, я залез на печку и стал прислушиваться к каждому звуку, доносившемуся с улицы. Предчувствие не обмануло меня. Я услышал хриплый голос отца Володьки еще на той стороне улицы. А когда о двери наших сенок загрохотала его дубовая палка, сердце мое захолонуло. Обеспокоенный дедушка вышел из избы и тут же вернулся вместе с хромым партизаном.
— Где это ваше кулацкое отродье? — громко крикнул он и со всего размаха стукнул палкой о стол. Потом подошел к печке, сорвал с меня и бабушки ватное одеяло и принялся так исступленно колотить деревянной ногой, что бабушка, замахав руками, стала умолять разъяренного партизана угомониться. Но тот расходился все сильнее и сильнее. Каких он только угрожающих слов не наговорил в адрес кулацкого семейства, пообещал тут же натереть мне перцем не только губы, язык и ноздри, но и глаза. При упоминании перца бабушка и дедушка поняли, что я натворил. Дедушка, видимо, тоже перепугался, быстро одел поддевку и тут же спросил партизана:
— Когда проходил мимо Нюшки, не видел: свет-то у нее горит?
Упоминание о Нюшке несколько успокоило красного партизана. Нюшка, местная самогонщица, в любое время находила для выпивохи бутылку самогона.
— Только сегодня выгнала, свежий у нее, да проси первака, — хмуро произнес партизан и присел на лавку, время от времени поглядывая на печку, где я зарылся в ватное одеяло.
Дедушка пришел быстро, достал из кармана бутылку, заткнутую серой тряпицей, и поставил ее на стол. Бабушка, понимая, что нужно спасать положение, быстро достала холодную пшенную кашу, разрезала ее на несколько кусочков и положила на стол луковицу и ломоть хлеба. Себе дедушка наливал по четверть стакана, партизану по полстакана, и тот двумя огромными глотками опрокидывал самогон в широко раскрытый рот. Утеревшись рукавом, нюхал хлеб, потом откусывал кусок.
— Крепок сатана, сразу видно, что первак!
В напряжении, свернувшись как пружина, я не пропускал ни одного слова красного партизана, всем сердцем чувствуя, как он постепенно отходит и даже начинает похваливать дедушку. Только тогда я понял, что меня он теперь не убьет и глаза красным перцем не натрет.
Из нашей избы Володькин отец ушел, только опорожнив всю бутылку самогонки. И прежде чем взяться за скобку двери, он еще раз стукнул деревяшкой и крикнул мне:
— Понял, мерзавец?
Я только тихо простонал. Долго еще томило мою душу это потрясение. Когда я в школе во время переменки случайно натыкался на Володьку, то тут же старался увильнуть, с тем чтобы не встретиться с ним взглядом, не заговорить. Я стал его бояться. А красный перец, что лежал на полочке, бабушка куда-то надежно спрятала. Так что сталинский лозунг «борьбы с кулачеством на базе сплошной коллективизации» чувствовали и дети, воспринимая все происходящее довольно остро.
Перед Рождеством мы вместе с бабушкой ходили к заутрене в церковь, где исповедались и причастились. Школьникам тогда запрещалось ходить в церковь, и я старался не попадаться на глаза знакомым. Перед тем как идти в церковь бабушка, как и раньше, расчесала мне частым гребешком с лампадным маслом волосы, нашла где-то спрятанный крестик и повесила мне на шею. Хотя в школе нас заранее предупредили, что Христа славить октябрятам нельзя, я рано, когда на улице только залаяли собаки, обеспокоенные хождением людей, идущих в церковь, осторожно, крадучись пошел к тете Тане, постучался и пославил ей Христа. Она расцеловала меня и дала пятачок. Это было последнее в моей жизни рождественское христославие.
А после Нового года мне пришлось испытать еще одно потрясение. Однажды на первый урок вместе с учительницей вошла пионервожатая, высокая девушка из старшего класса. Над нагрудным карманчиком ее белой кофточки был приколот какой-то до сих пор незнакомый мне голубой значок. Девушка поздоровалась. Мы встали, хором ответили на ее приветствие и сели. Она взяла мел, подошла к доске и размашистым движением руки начертала на доске силуэт своего значка и вывела на нем три крупных буквы «СВБ». Повернувшись к нам, она спросила:
— Вы знаете, что это за значок?
Мы хором протянули:
— Н-е-е-т…
Пионервожатая объяснила, что этот значок может и должен носить тот, кто вступит в Союз Воинствующих Безбожников — «СВБ». Вряд ли за последующие десять лет учебы в школе я буду так подавлен тишиной замершего класса. И мальчики и девочки — все были крещеные и носили крестики. Уже с первых дней учебы их заставили снять. Однако само слово «безбожник» звучало в крестьянских семьях как что-то позорное, святотатственное и греховное. Пионервожатую ничуть не удивила эта тишина, и она строгим голосом сказала:
— Завтра же все принесите по 30 копеек на значок!
Дедушка! Я и сейчас вижу твое страдальческое лицо, после того как попросил тридцать копеек на значок для вступления в Союз Воинствующих Безбожников. Ты долго сидел на скамейке, опершись локтями в колени, и смотрел в одну точку. Но когда уразумел смысл и значение этих трех букв, поднял голову и спросил меня:
— Ты хочешь быть безбожником?
Он некоторое время сидел неподвижно, потом встал, подкрутил фитилек лампады и снова сел, не сводя глаз с посветлевшего лика иконы с изображением Христа.
— На кого он сейчас смотрит? — тихо спросил дедушка.
— На меня, — виновато ответил я.
— Ты понимаешь, что он хочет тебе сказать сейчас?
Я ничего не ответил. Я и раньше, когда мы еще жили в своем большом доме, замечал, что Боженька смотрит на меня и следит, как я веду себя, а поэтому старался не согрешить, быть ему послушным. Но теперь с иконы в бабушкиной избе Христос совсем по-другому смотрел на меня, жалобно, как будто о чем-то просил. И дедушка понял мое смятение:
— Он просит, чтоб ты никогда не вступал в безбожники и не надевал на свою рубашку греховный значок. Тридцать копеек я дам тебе на мороженое и еще тридцать на конфеты. А теперь встань, перекрестись и пообещай Боженьке, что никогда не будешь безбожником.
И я встал, трижды, как учила меня бабушка, перекрестился и вслух пообещал Господу Богу, что никогда не буду безбожником. Дедушка притянул меня к себе, прижал к груди и поцеловал в лоб. На его глазах я увидел слезы. И так мне стало жалко своего деда, что расплакался и я.
К тете Тане Гринцовой, старшей сестре мамы, я бегал чуть ли ни каждый день, все ждал письма из Сибири. Но только после 1-го мая, когда уже зацвели сады, мы получили долгожданное письмо. Я нес его, спрятав за пазуху рубашки, и опщупывал пальцами: оно было толстое. Таких писем мы еще никогда не получали. Дома я вытащил из конверта три сложенных вчетверо листочка клетчатой тетради и понял: письма написаны мамой, Мишей и Сережей. У Сережи был четкий, почти каллиграфический почерк. Письмо мамы читал дедушка. В нем она сообщала, что где-то в июне корова должна отелиться. Отец работает на строительстве толевой фабрики. Она принадлежит «Сибстройпути», и где-то осенью ему и его жене должны предоставить бесплатный железнодорожный билет в любой конец страны. Писала мама и о том, что наша младшая сестренка, Зина, уже ходит, разговаривает и очень любит бегать за курами. К ним из Чика на постоянное жительство приехала бабушка с младшим сыном Васей.
Из письма Сережи мы узнали, что теперь он живет не с родителями в Крещенке, а в селе Убинском на постое у конюха райисполкома. Каждую субботу он приходит домой, а в воскресенье вечером, пешком или на телегах с мужиками, отправляется на базар, откуда привозит харчи на целую неделю.
Прочитав письмо Мишки, я искренне ему позавидовал. В своей задорной манере Мишка хвастливо сообщал, как он каждый вечер ходит с отцом на озеро и вытаскивает из сетей по два-три ведра карасей, чебаков и окуней. Я еще не знал названия этих рыб, но глотал слюни, представляя все прелести такой рыбалки. Писал Мишка и о том, что отец из казенных досок, подобранных на строительстве, сколотил лодку-плоскодонку, на которой они не только рыбачат, но и охотятся на уток. В прошлое воскресенье он убил двух уток и поймал несколько утят. От зависти к Мише, которому, как мне всегда казалось, везет больше, чем мне, я чуть не расплакался, но когда узнал из письма, что за мной скоро приедут и рыбачить и охотиться мы будем вместе, то запрыгал от радости. Непонятно мне было одно: из чего бы это Мишка стрелял в уток. Ведь у нас никогда не было ружья. Однако по рассказам дяди Егора и мамы, я знал, что в Сибири у каждого мужика есть ружье, сети и лодка. Неужели и Мишка стал обладателем таких сокровищ?
Эти три письма, которые бабушка спрятала под подушки на печке, я читал по несколько раз в день и запомнил их наизусть. О, как я ждал приезда мамы!
Весна того года стала началом моих первых поэтических восторгов. Хотя это может показаться и смешно, но ведь все начинается с зернышка. Упав на землю, оно или прорастет, или зачахнет. А все началось с того, что однажды субботним днем нас всем классом повели за выгон, где колхозники на тракторе пахали землю. Это было так интересно! Мы видели, как, вгрызаясь в землю шипами чугунных колес, трактор тянул за собой трехлемешный плуг и отворачивал жирные черные пласты. Потом чумазый тракторист, остановив трактор, заправлял его бензином. Учительница объясняла, как работает трактор. Мы ходили за ним до тех пор, пока из-за кладбища не показалась новая группа из второго класса школы и нас отправили домой.
Я не раз видел, как дедушка и отец пахали землю. Лошадь тащила за собой соху или плуг, но разве можно было сравнить лошадь с трактором, который тянул за собой сразу трехлемешный плуг, оставляя после себя отвалы черных глыб жирной земли.
Перед тем как распустить нас по домам, учительница сказала, что в понедельник мы должны принести маленькое сочинение по русскому языку, в котором рассказать о том, как пашет трактор.
Мое восторженное сочинение дедушка выслушал угрюмо. Но когда вечером, перед тем как полезть на печку, я прочитал ему четыре строки стишка, он погладил меня по голове, вздохнул и похвалил. Я написал:
Трактор пашет, трактор пашет, Трактор песенки поет, Трактор пьет бензинчик чистый И в движение идет.Сейчас мне даже стыдно вспоминать этот поэтический примитив, но тогда учительница поставила мне за него «оч. хор.». И, пожалуй, справедливо. Ведь в нем уже есть рифма и ритмика, значит, потянула меня какая-то сила свое воображение втиснуть в рамки стихосложения. Мне было даже горько и обидно, что некоторые ученики нашего класса не поверили, что этот стишок сочинил я сам.
После окончания первого класса я принес табель, в котором по всем предметам у меня стояли «оч. хоры», и положил его на стол перед дедом. В те далекие тридцатые годы старики очков не носили, а поэтому свою дальнозоркость они, как могли, компенсировали тем, что удаляли на расстояние вытянутой руки от глаз бумажку с текстом. И на этот раз дедушка, отставив подальше мой табель, прочитал его, от всей души похвалив меня.
Очередное письмо из Сибири меня огорчило. Мама писала, что отпуск отцу и бесплатные билеты могут предоставить только глубокой осенью, где-то в ноябре, а то и в декабре. Сообщала она так же и о том, что скоро за мной в Пичаву должна приехать из Бобрика-Донского тетушка и забрать меня туда на все лето. Об этом они, очевидно, списались раньше. Я и сейчас не знаю, с какой целью дядя Вася, родной брат отца, и тетка вздумали хлопотать о моем усыновлении. Очевидно, и на этот случай была какая-то договоренность с моим отцом и мамой. Моего согласия на усыновление никто не спрашивал, а поэтому узнать об этом мне было и горько, и обидно. Не хочется даже вспоминать о трех месяцах моих душевных мук и мытарств, которые я пережил летом.
Тетушка с дядей жили в длинной землянке, в которой стояло двадцать-тридцать топчанов, накрытых соломенными тюфяками и грубыми одеялами. В углу этой землянки была отгорожена темная комнатушка, освещенная электрической лампочкой. Эту «комнату» тетя и дядя получили как семейные люди, у которых есть сын, то есть я. Впоследствии тульский городок Бобрик-Донской был переименован в Сталиногорск. В нем строился гигантский химический комбинат, на котором и работал дядя.
Сначала я не понял, что взяли они меня не из жалости, а для того, чтобы в этой комнатушке я охранял их добро. Тетушка занималась спекуляцией, как в те годы называли базарную торговлю, дядя работал каменщиком. Утром они кормили меня, уходили и просили поплотнее закрыть дверцу. Тетка наказывала, чтоб я смотрел в оба. Если кто-нибудь вздумает открывать дверь, то я должен орать во весь голос, чтобы ко мне пришли на помощь обитатели землянки. Постель моя всегда была сырой. Никаких печурок и железных времянок в землянке не было. Поняв, что меня взяли сюда на положение охраняющей добро собачонки, я часто плакал в одиночестве, даже не зная, как рассказать обо всем в письме к родителям.
В свои выходные дни дядя Вася отсыпался. Я же выходил на улицу и ходил вокруг землянок, а их было на строительстве этого химкомбината больше десятка. Там жили и мои ровесники, но их было мало. Я ни с кем не познакомился, да и не хотел этого. Ребята были какие-то чужие, не наши деревенские.
За всю прожитую жизнь вряд ли когда-нибудь я чувствовал себя таким несчастным, забытым и заброшенным, как в Бобрике-Донском.
В Крещенке и Убинске
До переезда в село Убинск мы жили в Крещенке. Не было здесь ни сельсовета, ни медицинского пункта, ни телефона. А об электрическом свете жители этого забытого Богом уголка и не помышляли. Зато все, что дал Господь человеку, было под рукой: лес — рядом; травы — по грудь; земли под огороды — паши хоть до горизонта; рыбы — ее столько, что не только на собак и кошек хватает, но даже и на свиней; водоплавающей дичи — стреляй не перестреляешь. А уж грибов!
Иногда нападешь на целую поляну таких груздей, что срежь их аккуратно ножом и попытайся уложить в ведро — не войдет, а разломишь пополам — ни одной червивой проточинки. Хоть и считают гурманы, что боровик — это царь грибов, для меня же, чей вкус вырабатывался на земле сибирской, царем из царей является сибирский груздь, похрустывающий, соленый, пронизанный чесночным и укропным запахом. А войдешь в березняк — и сразу же на опушке наткнешься на кусты черной смородины, отягощенные черными и крупными, как виноград, гроздями. Обойдешь на корточках один такой куст — наберешь не меньше полведра ягод. Пожалуй, с таким восхищением о дарах природы говорят лишь жители прибайкальских селений, когда предметом их разговоров становится омуль.
Местные старожилы, чалдоны, а также краеведы название села, Убинск, непременно связывали с трагическими судьбами каторжников, бредущих в колодках по этапу из южных районов России, Малороссии, Белоруссии… Один старичок, приближающийся, по слухам, к черте своего столетнего юбилея, не уставал рассказывать о том, как он еще до русско-турецкой войны брел этапом в далекую Сибирь, что за самым глубоким озером на земле, Байкалом. В маленьком сельце Убинске, затерянном в камышовых озерах и торфяных болотах, которое называлось так уже в те далекие времена, ему каким-то чудом удалось бежать. После двухмесячного скитания каторжник набрел на рыболовецкую артель и спасся. Но большинству из тех, кого везли из Барабинска на телегах, так не повезло.
Старик говорил, что «Убинск» — это место, где убивали каторжников, потерявших силы, больных и предельно истощенных, которые дальше идти не могли. Фельдшер каждому из них из жалости давал сильно действующее лекарство. Этап на день или два останавливался в возвышающемся среди болот и озер хуторке Колтае (сейчас он на окраине села). Здесь-то и хоронили недошедших до каторги преступников.
Правда это или вымысел старика, сказать трудно.
Для меня, чьи годы раннего детства прошли в большом российском селе Пичаеве, где узы родства, дружбы и соседства так переплелись, что в престольные праздники мне иногда казалось, будто бы все село, буйно захмелев, кружилось в песенно-плясовом игрище, непонятным и враждебным был дух отчуждения, какого-то скрытого таинства жизни, проходившего под крышей каждой избы, который царил в сибирском Убинске. Быть может, объяснением тому была горькая участь села. Как говаривали старожилы, численность населения Убинска заметно возросла в начале 30-х годов, когда в России шло «раскулачивание».
Если бы не эта беда, вряд ли нашу семью прибило бы к этому сельцу. Нас, детей, мать и отец сразу же по прибытии в Убинск научили на вопрос «откуда приехали?» отвечать точной фразой: «из поселка Крещенка». Ответ был честным. Хотя нас, как мне помнится, никто и не спрашивал. По этому же бесхитростному сюжету мы, приехав из Крещенки в Убинск, до которого было не больше часу ходу, примитивно хранили тайну нашего переезда.
Голод в России и на Украине уносил миллионы и миллионы жизней. На старых сельских и городских кладбищах не хватало мест для захоронения погибших россиян.
Летом 1935 года с небольшим перерывом из моего родного села пришли два печальных письма от тети Тани. В них она сообщала, что родственники и добрые люди похоронили моего дедушку Михаила Ивановича и бабушку Татьяну Павловну. Дубовый гроб, который несколько лет стоял на чердаке бабушкиной избы, пригодился. Подробности похорон дедушки в своем коротеньком письмеце тетя Таня не сообщала. Видно, скорбно было ей писать о тех завистливых соседях, которые при раскулачивании деда показали свой характер и раскрыли свои злобные души. Когда мама вслух читала письма от тети Тани, мы, внуки похороненных в далеком Печаеве бабушки и дедушки, давились в тайных слезах. Самый впечатлительный из нас Миша с трудом сдерживал рыдания, уронив голову в ладони. Как и полагается по христианскому обычаю, на сороковые дни после смерти мы помянули их в скорбном застолье.
Мудрым был тот человек, который первым сказал, что время — лучший доктор от всех болезней. Новые семейные заботы и хлопоты постепенно заглушали нашу боль и утрату, которые в масштабах великой страны выглядели каплями в океане трагедий и социальных потрясений. Наше многочисленное семейство из десяти человек кормилось на две скудные зарплаты, которые приносили регулярно отец и брат мамы дядя Вася. Он полгода назад отслужил в Омском кавалерийском полку и, приехав в Убинск, поступил в плотницкую бригаду моего отца.
Не знаю, как бы мы пережили эти годы, если бы не наш большой огород, засаженный картофелем и капустой, не мелкорослая коровенка, дававшая в день пять-шесть литров молока, и не озеро, с которого отец и дядя каждое утро, на рассвете, приносили около ведра золотистых карасей и окуней.
В те годы, как мне теперь кажется, не было никаких органов по рыбнадзору… Вечером, на закате солнца, отец и дядя Вася ставили пару сетей на озере в километре от нашей избы, стоявшей на краю села, а утром на рассвете, когда мы, дети, еще спали, кто-то из них ставил ведро карасей и окуней на лавку в кухне.
Рабочий люд, добывая пропитание для семьи, кто топором, кто лопатой и тачкой, в строго определенные числа месяца получал заработную плату, за которой к окошечку кассирши вместе с получателем подходили жена, дети, а то и тещи. И не потому, что боялись, что кормилец утаит часть полученных денег, а потому, что опасались: как бы не оставил он всю получку с приятелями в сельской «шанхайке». Как рок, висела над русским мужиком проклятая привычка, которую Некрасов выразил одной строкой, говоря о незадачливом русском мужике:
Он до смерти работает, До полусмерти пьет,а «последний поэт деревни» Сергей Есенин сказал:
А месяц будет плыть и плыть, Роняя весла по озерам. А Русь все будет жить и жить, Плясать и плакать под забором.Школа в Убинске жила теми же событиями, которые происходили в стране. Все мы были пионерами, все переживали, когда узнали об убийстве Сергея Мироновича Кирова, партийный рейтинг которого в 30-е годы был даже выше, чем у Сталина. Это теперь историки раскопали по документам и свидетельским показаниям современников, что пуля террориста, посланная в голову Кирова, была результатом сценария, разработанного коварным азиатом Кобой, который называл Кирова своим лучшим другом.
На траурном митинге в школе в день похорон Кирова Сережа прочитал написанное им стихотворение. Всю ночь, до самого рассвета, он сидел в кухне рядом с мерцающей коптюшкой, выплескивая на школьные тетради всю боль и гнев души. Несколько раз просыпавшаяся бабушка уговаривала его лечь спать, но он, словно не слыша ее просьбы, молча махал рукой, умоляя ее не мешать ему.
Мы с Мишкой узнали об этом стихотворении только на митинге. Сережа с трибуны проникновенно и взволнованно читал скорбное слово молодого поэта-комсомольца. А через четыре месяца директор школы и завуч попросили Сережу выступить на Первомайском торжественном митинге, которые у нас в селе проходили на центральной площади. Учитель литературы Борис Николаевич посоветовал директору, чтобы Сережа связал это свое выступление с гибелью пламенного большевика-ленинца и прочитал стихотворение «На смерть Кирова». Выступление нашего старшего брата стало предметом гордости всей семьи. Даже глубоко религиозная бабушка, проводившая в своих утренних и вечерних молитвах многие часы, замирала, восторженно глядя на своего любимого внука.
На Первомайский митинг мы пошли всей семьей. И сейчас, как живое, вижу лицо мамы, когда с трибуны объявили выступление отличника учебы ученика 8-го класса, комсомольца Сережи Лазутина. Не нахожу слов, чтобы выразить, сколько гордости и радости отразилось на материнском лице, по щекам которого скатывались слезы счастья. Как и после каждого выступления ораторов, слово Сережи вызвало в многолюдной толпе перед трибуной аплодисменты и туш духового оркестра. Отлично помню, как отец поцеловал спустившегося с трибуны Сережу и как через несколько минут он со своими друзьями-артельщиками двинулся в сторону «шанхайки». Зная, что в его кошельке было всего три рубля, мама, захлестнутая приливом счастья за своего старшего сына, не запретила отцу отметить такое великое событие.
Через неделю стихотворение Сережи было опубликовано в районной газете. С тех пор прошло шестьдесят с лишним лет. Сейчас в моей памяти от него сохранилось лишь полторы строчки:
Враги пытались стальную цепь большевизма порвать…Тогда, в тридцатые годы, когда рядом со словом «большевизм» с равной силой могло сиять только солнце, стихотворение брата мне нравилось. И вообще все, что делал Сережа и как он это делал, рождало во мне желание подражать.
Для нас, школьников тех далеких 30-х годов, слово «забастовка» звучало только в применении к Америке, «переживающей тяжелый затяжной кризис», где «рабочие на заводах и фабриках объявляют забастовки, предъявляя свои законные требования проклятой буржуазии, которая отвечает на требования рабочего класса тем, что сбрасывает в море десятки и сотни тонн кофе, зерна, мяса и сливочного масла». В наших детских понятиях слово «забастовка» было чужеродным, несвойственным нашему строю, течению нашей жизни, «где так вольно дышит человек».
С тех пор минуло более шестидесяти лет. Мы, мальчики и девочки в пионерских галстуках, те, кто вышли живыми из котла Великой Отечественной войны, стали седыми и немощными. И нам становится страшно и тревожно до боли в сердце, когда мы узнаем, что в России нашей по полгода не получают заработной платы не только служащие, врачи и учителя, но даже шахтеры, которые полжизни проводят в подземелье, чтобы накормить и обуть своих детей. Как и американские рабочие 30-х годов, они объявляют забастовки, длящиеся по несколько месяцев, ставят перед правительством свои законные требования. Забастовки перерастают в голодовки, которые зачастую заканчиваются смертью. Но и этот социальный трагизм голодающих не мешает власть имущим наживать миллионы долларов, отмывать эти грязные деньги в европейских банках, строить дворцы и коттеджи по планам европейских архитекторов, разъезжать на бронированных «мерседесах», японских «тойотах». Не могу в связи с этим не вспомнить слова великого русского просветителя и философа Александра Николаевича Радищева, который в своем сочинении «о человеке, о его смертности и бессмертии» пророчески выразил сущность души русского человека: «Русский человек очень терпелив, он терпит до самой крайности, но когда конец положит терпению, то ничто не остановит его, чтоб не преклонился он на жестокость».
Страшно подумать, что может случиться, если русский человек сделает этот последний шаг к грани своего терпения! Тут уж начнется не преступная чеченская война, а война, которая повергнет общество в хаос и зону смерти. А поэтому тяжко становится на душе, когда смотришь как играют в «песочнице» наши внуки и правнуки, не ведая, что может обрушиться на их судьбы.
На призывы партии большевиков широко развернуть в стране социалистическое соревнование плотницкая бригада моего отца вызвала на соревнование бригаду штукатуров, которой предстояло за весну и лето 1935 года полностью оштукатурить стены двухэтажной кирпичной школы, куда в сентябре должны прийти около тысячи учеников. Так было запланировано в райкоме партии и райисполкоме. Последние два года в течение летних каникул мы, трое братьев, трудились в плотницкой бригаде подмастерьями. Готовили из метровых сырых досок дранки, складывали их для просушки в штабеля, убирали стройплощадку школы, выполняли различные поручения, приносили отцам обеды. За все это нам платили. И всегда получалось, что, как бы мы с Мишкой не старались, ворох дранок у Сережи был раза в два больше, и он, по справедливости, зарабатывал больше, чем мы с Мишкой. На свои деньги после 7-го класса прошлым летом он купил себе парусиновый портфель, брезентовые синие полуботинки с кожаными носками и темно-синий байковый костюм. За покупками Сережа специально ездил в Новосибирск, где жили бездетные дядя, по линии отца, и его жена, моя крестная. Как-то раз, взяв у нас с Мишкой деньги, он купил два алых пионерских галстука с зажимами. В те годы это была редкость. На свой страх и риск Сережа купил нам коричневые «спортсменки» на мягких резиновых подошвах, со шнурками. Сейчас такую обувь называют тапочками. А в те далекие годы в сибирских деревнях ее почтительно именовали «спортсменками». Мы с Мишкой ликовали: в его классе в такой обуви ходили лишь два человека: сын бухгалтера «Заготживсырье» и внук начальника станции, а в моем классе в «спортсменках» красовалась лишь одна Минка Иванова, дочка заведующей аптекой, которая на уроках физкультуры, возвышаясь на полголовы над всеми девчонками, стояла на правом фланге шеренги. Я и сейчас помню ее веснушчатое лицо с непомерно длинным горбатым носом.
До сентября оставалось три месяца. Они были, пожалуй, самыми трудными для нашей семьи. Отец и дядя Вася, наскоро перехватив нехитрый завтрак, еще до выгона стада, взяв свои топоры, шли на работу. Даже мама, которая ложилась спать последней, не всегда видела, как уходят на работу отец наш и ее брат. Отец очень любил маму, по-крестьянски жалел ее — ведь она родила ему таких сыновей, которыми он гордился. А во время праздничных застолий он даже слегка ревновал, поймав ее улыбчивый взгляд на ком-нибудь из своих друзей, которые после выпитых стопок отпускали комплименты по адресу мамы. Но она, умница, любившая своего мужа безотчетно и преданно, всегда умела гасить в душе его неожиданно вспыхнувший огонек ревности. И делала она это душевно и немного шутливо.
В альбомах деревенских девушек 30-х годов я не раз читал четверостишие, выражавшее поистине народную мудрость:
…любит тот горячо, кто ревнует, любит тот горячо, кто молчит, но не любит лишь тот, кто целует и все время о любви говорит…При всей своей поэтической беспомощности, примитивности разве не святая правда заключена в этих праведных и родниково-чистых словах?
Окончив учебный год, мы, трое старших, с утра уходили на работу. Мама подоит корову, выгонит ее в стадо, и мы уже шагаем по темно-зеленой траве улицы, среди которой серой лентой тянется пыльная проселочная дорога с еще горячими, парком дымящимися блинами помета от только что прогнанного стада. Холодная утренняя роса обжигает наши босые в цыпках ноги. В рваных, уже давно изношенных полуботинках, истоптанных галошах, в которых мы щепали дранку, по селу идти было неудобно. Мы несли их в сумках.
Какой-то рабкоровец в районной газете напечатал заметку о том, что на строительстве школы работает бригада учеников-старшеклассников, руководимая Сергеем Лазутиным. В глазах наших односельчан, может быть, это было и авторитетно, но Сереже и Мишке заметка почему-то не понравилась, я видел это по их лицам, когда отец читал ее с затаенной гордостью.
Когда в конце июня все стены классов были обиты просушенной дранкой и к работе приступили женщины-штукатуры, нашу молодежную ученическую бригаду бросили на уборку стройплощадки. Грузили битый кирпич на машину и конные телеги. Тут в ход пошли лопаты, грабли, носилки, тачки. Эта работа была уже потруднее для нашего возраста, сказывались и скудные харчи из овощей, трехсотграммовой дневной пайки хлеба и пары стаканов молока.
Замечая, как мы худеем, бабушка вздыхала. Как-то раз украдкой она разрезала свою половинку хлеба на три равных кусочка и как бы незаметно подсунула нам. Но это у нее получилось лишь один раз. Нам с Мишкой стало стыдно, когда мы, уже надкусив свои кусочки, увидели как Сережа положил хлеб бабушке в ладонь и сказал:
— Больше так не делай. Это, бабаня, грех.
С этими словами он бросил взгляд на висевшую в углу иконку. Уличенная в своем грехе, после слов Сережи она больше не подсовывала нам свои кусочки хлеба.
В июле к нам на выручку пришло озеро. Из поставленных вечером сетей отец или дядя вынимали больше ведра карасей, так что на смену капусте и соленым груздям, покинувшим дубовые кадочки, пришли изумрудно-золотистые караси, красноглазые окуни. Теперь и бабушка повеселела, ставя перед нами на стол огромную сковороду с жареной рыбой. На стройке школы работалось веселее. С приближением сентября мы старались изо всех сил, чтобы победить в соревновании со штукатурами, и отвечали «ударным» трудом на месячные премии и «прогрессивку», на которые не скупился отдел строительства райисполкома. Как писали в местной газете, за ходом стройки следил и крайисполком, откуда, по словам отца, каждую неделю приезжали инспекторы.
Теперь-то, спустя шесть десятилетий, когда я стал отцом и дедом, мне глубоко понятно настроение и состояние душ строителей школы, в которую первого сентября пойдут их дети. Активистки женсовета школы организовали несколько бригад по озеленению площади перед фасадом школы, которая станет самым значительным зданием старинного сибирского села.
Денежные премии за «ударный» труд и почетные грамоты получили не только мой отец и дядя, но и мы, члены рабочей молодежной бригады, которые с утра до вечера почти все летние каникулы, вместе с родителями, трудились на строительстве своей школы.
За неделю до начала учебного года прораб строительства разрешил молодежной бригаде закончить свою работу и отдохнуть перед занятиями. В тот же день Сережа взял заработанные нами с Мишкой деньги и уехал в Новосибирск за покупками, откуда он вернулся через четыре дня. Как мы его с Мишкой ждали!.. Радости нашей не было края, когда он доставал покупки и гостинцы из новенького фабричного (не из фанеры сделанного отцом), с накладными блестящими застежками дерматинового чемодана. В таких чемоданах хранят свое добро только городские жители да сельские начальники, так нам тогда казалось. А когда мы с Мишкой примеряли два новеньких спортивных костюма, наша бабушка прослезилась, а дядя Вася, мой крестный, улыбаясь, засунул в грудной карманчик моего пиджака новенькую пятирублевую бумажку. И сказал при этом, бросив взгляд на словно онемевших от робости моих младших братьев Толика и Петьку:
— А это вам всем пятерым на мороженое и на конфеты.
— А Зине? — будто виновато спросил Петька.
Дядя Вася обнял свою любимую, единственную племянницу, поцеловал ее в щеку и ласково сказал:
— А с Зиной мы сами разберемся. Правда, Зина?
Зине шел пятый год. Многое она еще не понимала, но радость, которая всколыхнула все семейство, влилась и в ее душу, а когда Сережа вытащил из чемодана байковое розовое платье с пышными рукавами и ярким бантом на груди, все в оборочках и складочках, моя сестренка взвизгнула от восторга. Это был ей подарок от старшего брата, который за работу свою на стройке получил почти столько же, сколько мы с Мишкой вдвоем. Это платьице с легкой руки бабушки было названо «городским». Первый год его надевали в праздники, или когда были гости. Однако до самого износа, почти до первого класса, когда локти платья были заштопаны, его продолжали называть «городским».
Когда же Сережа со дна чемодана вытащил темно-синий шевиотовый костюм и, развернув его, прошел с ним из кухни в горенку, то все мы хлынули за ним, но он жестом остановил нас и задернул шторку над дверью.
— Подождите, пока не оденусь.
Когда Сережа позвал нас, первым под занавеску нырнул я. И даже несколько ошалел. Он стоял посредине комнаты в своем новом шевиотовом костюме, в новенькой белой рубашке с ярким полосатым галстуком. На ногах его были коричневые кожаные ботинки. Брат показался мне высоким, широкоплечим парнем, таким, каких рисуют на рождественских открытках.
Я не раз видел плачущих от счастья людей. Но так, как, с трудом сдерживая рыдания, заплакала мама, я и сейчас без волнения не могу вспомнить. Затряслись губы даже у дяди Васи, который по характеру своему мне казался твердокаменным. Шепча молитву, бабушка крестилась перед большой иконой. Зина визжала и, размахивая перед собой цветастым платьем, носилась из горенки в кухню и обратно.
Мне и Мишке Сережа купил брезентовые полуботинки с кожаными носками, которые в те годы для деревенской ребятни считались роскошью. Порадовали нас и байковые спортивные костюмы с застежками внизу штанин. Не зная, кому из нас вручить костюм коричневый, а кому синий, Сережа повернул голову Мишки к двери и спросил:
— Кому? Тебе или Ванцу?
Ладонь Сережи лежала на коричневом костюме.
— Мне! — громко ответил Мишка и резко повернулся к столу.
Цветом наших костюмов мы были довольны. Зная, что разница между нами в росте всего два сантиметра, Сережа купил костюмы одинакового размера.
Не обделил Сережа и бабушку. Сняв с ее седой головы застиранный и выцветший платок, достал белый ситцевый, тоже в горошек, платок, сложил его с угла на угол, набросил на голову бабушки и завязал под подбородком, отчего Зина громко рассмеялась. Видя набычившихся, молчаливых Петьку и Толика, взгляды которых метались от опустевшего чемодана к брезентовому мешку, в котором что-то лежало, Сережа поставил мешок на сундук и развязал его. Вряд ли я когда-нибудь видел столь счастливое лицо Толика, когда Сережа протянул младшему братишке новенькую футбольную покрышку, из прорези которой торчал резиновый сосок камеры. Черный всамделишный «пугач» и коробка пробок к нему, извлеченные Сережей из мешка, привели Петьку в восторг. Однажды Петька уже стрелял из «пугача», но это был «пугач» чужой, за один выстрел из которого он отдал соседскому мальчишке, Леньке-Трубичке, целый подол гороха, тайком от бабушки сорванного в огороде.
Стремительно выскочив из избы, Толик и Петька метнулись через дорогу к Леньке Гончарову, у которого безнадежно поломанный велосипед уже два года пылился на чердаке, но насос к нему его дед бережно хранил в ящике с инструментами. Через раскрытое окно я видел, как, зарядив пугач, Петька на ходу, пугая кур, пальнул из него в воздух и крикнул при этом что-то воинственное.
Мои братья, по натуре заядлые футболисты, все лето гоняли на базарной площади брезентовый мяч, набитый тряпками, ватой из старого одеяла и паклей. Однажды, пробивая одиннадцатиметровку за штрафной захват мяча, босоногий Толик даже свихнул большой палец на правой ноге, что надолго выбило его из «спортивной формы».
Когда вручение городских гостинцев закончилось, Зина забралась на колени к Сереже, поцеловала его и жалобно спросила:
— Что же ты маме-то ничего не купил, Сережа?
Усмехнувшись, Сережа достал из мешочка два куска розового «земляничного» мыла и роговой гребешок, который он тут же воткнул в пучок маминых волос, вытащив из него оставшуюся половинку сломанного. Сияние на лице мамы, как в зеркале, отразилось на лице бабушки.
Зина, словно войдя в главную роль счастливого спектакля, теперь посмотрела на старшего брата даже с некоторым укором:
— А папе с крестным? Ведь они тоже наши, они любят тебя, — с этими словами Зина опустила руку в лежавший на сундуке мешок, в котором что-то звякнуло.
О том, что железки к рубанкам и фуганкам отца и дяди Васи были уже изрядно источены и дослуживали свой век, знали не только мы, сыновья, но и мама с бабушкой. А поэтому гостинец этот они оценили высоко и по достоинству. Не поняла его значения одна лишь Зина, которая, раскидывая на руках свое новенькое цветастое платье, то и дело подносила его к груди и поднималась на табуретку, чтобы посмотреться в зеркало.
По-настоящему этот сыновий подарок оценят отец и дядя, когда на закате солнца вернутся с работы.
В этот вечер мы с Мишкой, прихватив с собой младших братьев, уже в пятый раз смотрели «Чапаева». Петька и Толик «фильм века» смотрели впервые. Гибель героя Гражданской войны поселилась в их душах глубоким личным горем. Всю дорогу домой они не проронили ни слова.
Когда мы с Мишкой поднялись на сеновал, где спал уставший с дороги Сережа, ручка Большой Медведицы, висевшей в звездном небе, концом уже показывала на огород бабки-Регулярихи. А это означало, что вот-вот закричат первые петухи.
Счастливым днем в моей жизни был этот тихо прожитый августовский день, опечаленный лишь тем, что Василий Иванович Чапаев все-таки погиб в Урал-реке.
И снова удар для семьи
Утро первого сентября, словно его вымолила моя набожная бабушка, было ярким и солнечным. Благодарная природа поднесла его нашему селу на сверкающем золотом подносе, краями своими опирающимся на камышовые плавни озер.
Как издавна заведено на Руси, провожать учиться в первый класс было святым долгом родителей или старших братьев и сестер. Нашего Петю-Петушка мы провожали в то утро в школу почти всем семейством. Не было в этом торжественном эскорте только бабушки, которая в этот день пекла хлебы, да отца и дяди Васи, еще до выгона стада ушедших на работу. Они еще не закончили оборудование спортивного зала. Зина в этот утренний час спала, а посему ей не посчастливилось увидеть наряженных в белые отглаженные рубашки братьев. Когда мы, окружив маму, шли по улице, из всех окон на нас смотрели соседи. Некоторые взгляды я перехватил. В них было, если не восторг, то, по крайней мере, умиление.
Сереже к этому времени исполнилось уже шестнадцать, весной он получил паспорт. Младшенькому Пете не было восьми лет, но он осилил полбукваря, знал все буквы и считал до тридцати. Директор пошел навстречу бригадиру, отдавшему много сил на строительство школы, и, несмотря на переполненные первые классы, записал Петю в школу.
Сегодня на нем были новенькие, сшитые мамой из мелюстина черные штанишки с двумя карманами, которыми малыш особенно гордился. Обут он был в купленные еще летом дядей Васей сандалии с дырочками. На плече висела сшитая из холстины сумка с карманчиком для чернильницы, а в сумке — новый букварь и две тетради в линейку. Больше всего Петя боялся наступить в коровий помет, оставленный после прогнанного утром стада.
Возглавлял семейное шествие самый шустрый из пяти братьев — Толик. Заядлый голубятник и страстный футболист, в этом году он шел уже в третий класс. Младшие должны были учиться на первом этаже, и они немножко завидовали мне, Сереже и Мише, которые учились на втором. Букет георгинов, выращенных бабушкой, несла мама. Когда свернули на самую длинную в селе Пролетарскую улицу, в нашу процессию стали вливаться знакомые мальчишки и девчонки.
Бросалось в глаза, что тихих, сосредоточенных «первоклашек» вели за руку матери или бабушки, которые что-то внушали своим детям или внукам.
Школа сверкала на солнце стеклами своих широких окон, напоминая большой белый торт. Как и в городе, по сложившейся традиции малышей-первоклашек в школу за руки вводили комсомольцы-старшеклассники. Есть в этом обычае что-то трогательное, волнующее и глубоко искреннее. Уверен, что только человек с окаменевшей душой может забыть утро, когда его, ребенка, старший товарищ провожал до дверей класса, в котором ему предстояло учиться.
Но когда старшеклассник взял Петю за руку, он почему-то вдруг заробел и остановился, вроде бы пытаясь вырвать свою загорелую ручонку. Тогда Сережа, что-то сказав товарищу, сам взял руку младшего брата и пошел рядом с ним. Когда Петю поставили в первую шеренгу, во главе которой стояла девочка в пионерском галстуке, державшая в руке картонку с цифрой «1 Б», мы, старшие братья, разошлись по своим классам. Все было при этих встречах: и пожатие рук, и хлопанье по плечам, и возгласы «ну, и здоров ты стал…», и борцовские обхваты, в которых чуть не рвались рубашки. Девятый класс в этом учебном году соединили из двух прошлогодних восьмых. По распоряжению крайисполкома школа стала не восьмилеткой, а десятилеткой.
Все было бы хорошо, но не знали мы, да и не могли предчувствовать, что 1 сентября 1935 года обрушится на нашу семью тяжелым ударом. Когда все классы с пятого по девятый были построены в широком, светлом коридоре второго этажа, дежурный учитель, подняв над головой изрядных размеров бронзовый колокольчик, снятый с деревянной колокольни, прошелся вдоль строя учеников и, дождавшись полной тишины, сообщил, что директором средней школы приказом крайоно назначена Берта Марковна Яцкович. Потом он отступил к стене и поклонился в сторону вышедшей из учительской высокой, средних лет женщине, одетой в светло-коричневый приталенный костюм с отложным воротником, из грудного карманчика которого белела ажурная каемка носового платка. Короткая, мужская прическа ярко рыжих волос, прямой с горбинкой нос и взгляд уверенного в своей силе и значительности человека как-то сразу определили ее далеко не славянское происхождение. Я сразу почувствовал, что эта женщина знает себе цену и уверена в своей правоте. Когда она, сверкнув золотыми зубами, заговорила, подростки замерли. Для них золотые зубы служили показателем не только богатства, но и своего рода начальственной значимости.
Поздравляя с началом учебного года, директриса четко выразила мысль о том, что мы, школьники, в большом долгу перед партией и государством, подарившими ребятам этот светлый храм, в котором им предстоит учиться. Выступление ее завершилось здравицей Сталину и Центральному Комитету партии, на что сомкнутые ряды школьников ответили рукоплесканием.
После некоторой паузы директриса достала из бокового карманчика какую-то записку, развернула ее, и, подняв голову, четко произнесла:
— Ученикам 9-го класса Сереже Лазутину и Мише Соколову выйти из строя.
Я, стоявший в хвосте растянувшихся во весь коридор шеренг, видел, как после некоторого замешательства, из рядов старшеклассников вышли мой брат Сережа и Миша Соколов, которому по алгебре и геометрии не было равных в седьмых и восьмых классах. Седой математик Алексей Гаврилович Карболин пророчил ему большое будущее и не раз советовал родителям Соколова после окончания десятилетки всеми силами пробиваться в Москву, в университет.
По лицу директрисы я скорее почувствовал, чем понял, что она вывела этих двух учеников из строя не к добру. И сердце меня не обмануло.
— Сережа Лазутин и Миша Соколов по причине переполненности 9-го класса приказом роно к дальнейшему обучению не допущены. Свое образование вы можете продолжить в вечерней школе рабочей молодежи. Документы об окончании 8-го класса получите в канцелярии завтра утром.
И сейчас, когда я вспоминаю этот день, перед моими глазами встает, словно бронзовое изваяние, директриса. Вижу, как, опустив головы и постепенно ускоряя шаг, уходили по коридору два наших лучших ученика. Два последних года они в течение всех летних каникул работали на строительстве этой школы, до нарывов и ссадин на ладонях и на ногах заготавливая дранку из метровых сырых досок, подвозя на тачках кирпичи и песок, сгребая мусор на стройплощадке.
Это был удар для отца и матери. На второй день мама с Сережей собрались идти в роно, но болтливая инспектриса, жившая на нашей улице, по секрету сообщила им, что из крайисполкома пришло строгое указание: детей раскулаченных родителей в девятые и десятые классы не принимать. В каждом районе края будут формироваться группы из не допущенных к дальнейшему обучению школьников, которых направят в города Сибири для учебы в фабрично-заводских училищах.
Зная о том, что мама тайком варила хозяйственное мыло и недорого продавала его на базаре, инспектриса погоревала, что вот уже третий месяц, как в раймаге нет в продаже дешевого хозяйственного мыла. Вечером мама принесла ей три куска. А когда вернулась домой и увидела лежавшего на постели отца со скрещенными на груди руками, чуть не заплакала. Таким жалким, беспомощным и бледным она его еще никогда не знала. Когда ее муж открыл глаза, она позвала его на кухню и, достав из сумки четвертинку, поставила на стол.
— Не убивайся. Переживем и это. Не то пережили. Не хотят, чтобы учился здесь, в нашем задрипанном селе, где вор сидит на ворюге, — будет учиться в Новосибирске. Васяня и Саня примут его.
Увидев на глазах отца закипающие слезы, мама вытерла их снятой с головы косынкой и достала из сундука кусок хлеба. Больше мне никогда не пришлось видеть, чтобы мама на последние деньги покупала для отца четвертинку и стирала с его глаз слезы.
Как бы случайно брошенная мамой фраза о том, что тетка Саня, живущая в Новосибирске, примет своего старшего племянника и поможет ему учиться дальше, Сережу повергла в бессонную ночь, после которой даже бабушка заметила темные круги у него под глазами. Мы, двое братьев, тоже присмирели. За завтраком никто из нас не огрызнулся, не толкнул, как бы невзначай, друг друга локтем. Такое душевное опустошение и чувство потери чего-то дорогого, всегда желанного наступает после похорон друга или родственника, на вчерашних поминках которого были высказаны добрые слова об ушедшем. Но мне казалось, что самую глубокую рану получил отец. Как он гордился старшим сыном!.. Каким блеском вспыхивали его глаза, когда он видел, как Сережа, выбрав момент, изловчившись, прыгал с телеги на спину еще не совсем объезженного рысака и, влипнув в его бока босыми ногами, крепко тянул на себя поводья узды, отчего скакун вставал иногда на дыбы, пытаясь сбросить с себя седока…
— Весь в тебя сорванец, в его годы и ты был таким же огневым, — не удерживался от похвалы дедушка, когда Сережа пускал рысака в галоп.
Косить Сережа начал с десяти лет. Стоило деду показать и рассказать, как налаживать косу, как учитывать при косьбе ветер, и Сережа с первого раза овладел этим искусством. Потом он учил и нас, младших братьев.
Как сейчас помню эту нехитрую дедовскую науку. Подняв из-под ног высохшую травинку, он подбрасывал ее над головой, и она, плавно колыхаясь в воздухе, ложилась с правой стороны от него, в каких-то двух-трех шагах. Потом он снова поднимал ее и еще раз вскидывал над собой. И снова сухая травинка, слегка гонимая ветерком, как надо ложилась на землю. Убедившись, что ветер не колобродит, а гонит свой парус равномерно и в одну сторону, дед брал в руки косу и по издавна заведенной привычке, проведя по ее лезвию точильной лопаткой, поворачивал ее в ту сторону, куда дул ветер, и, слегка приседая, размашисто и неторопливо начинал косить. Рядок скошенной травы, как бы сложенный в букетик, ложился слева от прокоса, после следующего взмаха косы точно такой же травянистый букетик ложился рядом с первым, к которому присоединялся третий, четвертый… и так до тех пор, пока дедушка не разогнется и не воткнет в землю острый черенок косы. На скошенной полоске земли не было видно ни травинки.
Сережа косил с мужиками с двенадцати лет. Правда, шел он не первым и делал при своем небольшом росте не такой широкий прокос, но старался не отставать от впереди идущих. А когда отставал, то никто из косарей не только не корил его, но даже и не подшучивал.
Во всем у Сережи была страсть: в работе и в учебе. Он переживал, когда не решались задачи по алгебре или геометрии. Не ложился спать до глубокой ночи, пока, наконец, не находил нужный и единственно верный вариант.
Теперь-то я хорошо понимаю, что страсть — могучий двигатель в судьбе, она может послать человека и на подвиги и на преступления. Светлая страсть, поселившаяся в душе Сережи с младенческих лет, будет, словно ангел-хранитель, сопровождать его всю жизнь. Она сбережет его, когда плот судьбы, гонимый ветром времени, встретит в русле жизни опасные, а порой даже гибельные пороги. Вера в себя, в свои силы и в свою звезду будет всегда выносить его на широкий простор плавного течения. Сережа смотрел только вперед. Вот и сейчас, после публичного оглашения приказа роно, он не скис, не впал в уныние. И когда бабушка поставила на стол большую эмалированную кружку парного молока и положила рядом с ней кусок вчерашнего хлеба, он, будто не расслышав ее слов и даже не бросив взгляда на стол, подошел к маме и, спокойно глядя ей в глаза, тихо, но твердо сказал:
— Приготовь мне все к отъезду. Я уезжаю к крестному сегодня вечерним поездом.
Мама как-то устало и печально, но с облегчением вздохнула.
— Ты так решил, Сережа?
— Да, мама, твердо. Крестная и крестный еще два года назад звали меня к себе, но тогда в этом не было нужды. А теперь…
Сережа замолчал. Все и так было ясно.
Чтобы не слышали младшие братья, которые по детской несмышлености еще чего доброго могли похвалиться, что их Сережа плевал на эту сельскую школу и поехал учиться аж в Новосибирск (а там все школы каменные и даже есть четырехэтажные. И жить станет у крестного, который каждый год режет поросенка), мама поманила меня пальцем в сенки и попросила на переменке забежать к отцу. — Надо было сказать ему, что сегодня вечером Сережа уезжает в Новосибирск и следует собрать его в дорогу. Когда и Мишка вышел в сенки, мама наказала ему, чтобы он не болтал лишнего.
Если вчера в яркое солнечное утро мы, пятеро братьев, объятые душевным ликованием, шли в школу, то сегодня, словно чем-то придавленные, молча, думая только о Сереже, брели к центру села. Чем-то не мила мне стала школа. И ведь кого, кого она так обидела. Нашего Сережу, похвальные грамоты которого отец вставил в рамочки и застеклил.
Проводив нас в школу, мама достала из подполья уже давно стоявшую там маленькую крынку с топленым маслом и, аккуратно завернув ее в мешочек, пошла на станцию. Что она говорила кассиру, какими словами просила, чтобы он продал билет до Новосибирска на вечерний поезд, я не знаю, но уломать его ей удалось. Этот станционный кассир Дубовик и сейчас стоит перед моими глазами. Округлое румяное лицо, седая щетина волос, которые, казалось, не сгибались даже под его тяжелой бараньей шапкой, глаза с затаенной хитринкой — такие можно встретить лишь у детей, когда те что-то спрятали от матери, а говорить где, хоть умоляй, хоть стращай, никак не хотят. Рада была и бабушка, увидев из окна, что мама возвращается домой без крынки с топленым маслом.
Отец в этот день пришел домой раньше нас. О решении Сережи ехать вечерним поездом в Новосибирск мы с Мишкой уже сообщили ему, зайдя на склад с инструментами.
Расцеловав на прощанье Петю и Толика, которым сказал, что пойдет на недельку в Крещенку поохотиться, Сережа подхватил под руки Зину, подбросил ее к потолку, слегка покружил, наказал слушаться маму и бабушку и опустил на пол. Отец сказал Сереже, что пора идти. Поезд, по его словам, отходил ровно в десять и никогда не опаздывал.
На вокзал Сережу провожали только мы с мамой. Чемодан с новеньким костюмом, ботинками, учебниками и бельем несли с Мишкой не через село, а околицей, чтобы не видели соседи.
Мама пришла домой в половине одиннадцатого. Мы с Мишкой, вернувшиеся со станции час назад, встречали ее у тополей Горбатенького. Тактика тайных проводов старшего брата была соблюдена так, как ее предписала нам мама.
Бабушка встала с коленей перед божницей в горенке только тогда, когда услышала голос мамы и узнала все подробности отъезда внука. Мама рассказала, что проводница вагона, в который сел Сережа, была женщиной доброй и приветливой. Два смятых рубля, протянутые ей мамой, она взяла не сразу, а как-то совестливо, сообщив при этом, что местечко для Сережи у нее есть хорошее, лежачее, в купе для некурящих.
Тяжелыми были для всей семьи эти две недели после отъезда Сережи. Почтальонка Ольга Сучкова, рябая, круглолицая девка, мать которой перед покосом часто приходила к нам и просила отца отбить и поточить косу или насадить колун на топорище, на наши вопросы: «Нет ли нам письмеца?», всякий раз отвечала с какой-то заковыркой, которые в лексиконе почтальонов с годами не только множатся, но порой обретают то шутку, то язвительную насмешку:
— Чернила разводит вам.
На пятый день после проводов Сережи я снова поинтересовался о письме у Ольги, но она с ехидной улыбочкой ответила:
— Везут, везут вам письмо… Только, правда, не на курьерском, а на быках, а быки уже неделю не кормлены и не поены.
«Ну и вреднющая же ты, уродина. Сроду бы тебе не выйти замуж!..» — мысленно послал я ей вдогонку, хотя знал, что если еще раз придется задавать ей тот же вопрос, то будет у меня на лице и доброе выражение и улыбка. «Ничего, потерпим… Сережа спешить не любит, вот когда обустроится, то сразу и напишет», — успокаивал я себя.
Отец, встретив как-то Ольгину мать в проулке, поздоровался и спросил: не соскакивает ли с топорища колун. На что Аксинья, не зная и не ведая о нашей тревоге ожидания письма, виновато ответила:
— Спасибо, Петрович, колун сидит как влитой. Вот собираюсь зайти к тебе, чтобы топор поточил, да все боюсь. Уж больно ты занятой, тащишь свою соху по борозде от зари до зари. Ольга-дура дала Трубичихе топор сушняк порубить, а их Мишка, паларыч его расшиби, принялся им рубить доску с гвоздями, да так изнахратил острину топора, что она вся в выбоинах, даже хворост не рубит.
И отец, который, как и мама, выдерживал осторожную тактику, стремясь не проговориться, спокойно отвечал:
— Ладно, приноси, я пропущу его на точиле, да так, что ты его и не узнаешь. Да только Трубичихе не давайте, пора бы и свой топор купить.
Но не знали мы, что вопросами о письме Ольгу Сучкову терзает и Мишка. Он всячески заискивал перед почтальоншей и даже попросил у нее альбом, в котором написал красивым почерком несколько стишков о любви, потом крепко приклеил пасхальную и рождественские открытки, на которых красовались златокудрая голубоглазая, вся в шелке и кружевах девица и ее ухажер-красавец с усиками, с черными, как смоль, волосами, расчесанными на пробор, и карими цыганскими глазами. Два листа альбома Мишка загнул в уголке и подписал «секрет». Уж что он там написал, какой секрет затаил — я не знал.
Толику и Петьке мама строго запретила обращаться к Ольге. Она боялась, что те по-малолетству выболтают то, чего ей знать не положено. Тактика… мамина тактика срабатывала. Дети должны были ее придерживаться. В этом у нее не было сомнения.
На исходе второй недели после отъезда Сережи, Мишка, пожаловавшись на живот, отпросился у классного руководителя и, запыхавшись, прибежал домой взволнованный, с красным лицом.
— Ты понимаешь, мама, вперлась в класс чуть лине посреди урока, раза четыре открывала дверь и все подавала мне какие-то знаки…
— Кто?
— Да эта, рябая. Она теперь заездит меня со своей просьбой.
— С какой просьбой? — не понимала мама.
— Да вот, два альбома притаранила и в каждом по полпуду.
— Какие альбомы? — ничего не понимала мама.
— Для своих почтовых начальниц. Говорит, что от них все зависит, — с этими словами Мишка сердито бухнул на стол два огромных тяжелых альбома с твердыми клеенчатыми обложками. — Она чё думает, что мне больше нечем заниматься, как писать ей тухлые любовные стишки и тратить последние деньжонки на дорогие открытки?!
Мама с недоумением посмотрела на него, и тогда Мишка с гордостью положил на стол письмо от Сережи. Конверт был заклеен. Мама погладила шершавой рукой сына по голове.
— Молодец, не распечатал.
И тут на наше счастье мамина «тактика» сработала. Все младшие оказались на месте. Зина в горенке наряжала деревянную куклу в платьице, которое сшила мама из цветных лоскутков старого, уже изношенного платья, а Толик и Петька только что вернулись с огорода, где, вооружившись осиновыми дрынами, с криками и угрозами гоняли двух телят.
А Мишка, потеряв терпение, просил:
— Ну, читай же, читай!
И мама, оглянувшись на малышей, на секунду задумалась, но тут губы ее дрогнули, и она начала читать:
«Здравствуйте, мои дорогие, мама, папа и бабушка, а также мои братцы Миша, Ваня, Толя и Петя и моя милая сестренка-раскрасавица Зиночка. Сообщаю, что доехал я благополучно, проводница даже дала мне постель. Я хоть и прилег, но ни на секунду не мог уснуть. Все думалось, как меня встретят крестный и крестная, что они подумают, раз мне не разрешили учиться дальше. Но тревоги мои оказались напрасны. Встретили меня душевно и ласково, поняли мое горе и заверили, что здесь, в городе, на их харчах будет жить спокойнее и легче. Дядя притащил из чулана узенький топчан и поставил его в горенке, головами к иконам, нашелся и почти новенький матрац. Крестный отдал мне свою пуховую подушку, а себе взял жесткую, перовую. Я отказывался, но он настоял на своем. Крестная утром нажарила таких котлет из свинины (неделю назад зарезали поросенка), что я даже не помню, когда я ел такую вкуснятину.
На второй день после приезда мы с крестной пошли в школу на улице Дуси Ковальчук, по которой ходит трамвай. Его конечная остановка у водокачки, куда мы с тобой, мама, не раз ходили за водой, несли ее на коромыслах. Директор школы нас принял сразу же, посмотрел мой табель, в котором у меня из сорока восьми четвертных и годовых отметок сорок четыре „очхора“ и четыре „хора“, зачем-то вызвал завуча. Та тоже Молча посмотрела все мои отметки, а также четыре похвальных грамоты, которые я получил в Убинской школе и спросила, почему я переехал в город. Тут вступила в разговор крестная. Она расплакалась, рассказала в какой нужде живет наша семья из десяти человек. А им, мол, Господь деток не послал, а живут они в новом бараке, дядя-крестный работает каменщиком и получает хорошо. Крестная так расстроилась и так расплакалась, что завуч поднесла ей стакан холодной воды и начала ее уговаривать. Мне даже показалось, что растрогался и директор, хотя он уже пожилой, постарше нашего папани. Встал, улыбнулся мне, похлопал по плечу, пожал крепко мне руку и сказал: „С завтрашнего числа ты, Сережа, ученик 9-го „А“ класса“. Спросил меня об учебниках и наказал, чтобы не опаздывал к урокам.
Вот, пожалуй, и все, что я спешу сообщить вам, дорогие мама и папа. Письмо пишу на четвертый день учебы. Все здесь не так, но мне нравится. О подробностях расскажу, когда приеду на зимние каникулы.
Всех вас обнимаю, целую, желаю здоровья и спокойствия души.
Ваш Сережа».Внизу письма стояла размашистая подпись, которая так и сохранилась у Сережи на всю его нелегкую и большую жизнь.
Я где-то вычитал, что детям от родителей по наследству передается не только сходство в лицах, телосложении, походке, в голосе, манере жестикулировать, но даже и в почерке. Криминалисты, расследуя преступления, сличая письменные свидетельства, обратили особое внимание на то, что даже у детей, потерявших кого-нибудь из родителей в раннем детстве или даже в младенчестве, уже в юные годы в почерке проявляются удивительные графические сходства букв: тот же наклон, те же завитушки. О том, что почерк и мой и Сережи во многом сходен, обратили внимание не только я, но и Мишка, а также дядя Вася. Но корнями этого сходства я считал вовсе не генетическое продолжение, а просто желание во всем походить на старшего брата, даже подражать ему в почерке. Пожалуй, в первый раз по-серьезному молодые люди расписываются, когда получают паспорта или в разносных книгах почтальонов, вручающих «заказные письма». У меня же манера расписываться выработалась рано, где-то лет с одиннадцати, когда однажды, уединившись, я вырвал из старой, не до конца исписанной тетради лист и, положив перед собой паспорт Сережи, начал копировать его подпись. Только первую, заглавную букву фамилии я написал по-другому. Все же остальные — походили на буквы брата. Даже хвостик росписи, с наклонной завитушкой.
Уже после войны я получил письмо от Толика из Белова, где он работал на сталепрокатном заводе. И удивился: на обратном адресе конверта и в конце письма стояла его такая же характерная, как у нас с Сережей, роспись. Тут уж я был твердо уверен, что не наследственность вела его рукой, а желание походить во всем, даже в манере расписываться, на Сережу и на меня. И я подумал: «Молодец». Наверное, мы с Сережей для него чего-то стоим. Всю жизнь, пока я себя помню, я во всем хотел походить на Сережу. Я завидовал упорству, с которым он, не найдя в чулане куда-то запропастившийся колун, легким отцовским топором, обливаясь потом, пытался расколоть толстый, березовый чурбак, до самой сердцевины пронизанный сучками. Убедившись, что расколоть чурбак плотницким топором, взмахом с плеча, невозможно, Сережа минут десять, орудуя тяжелым молотком, вбивал его в березовое чрево до тех пор, пока чурбак не давал трещину. С радостным чувством альпиниста, покорившего трудную вершину, он расколол чурбак на восемь поленьев и внес их в избу.
— Бабушка, из этого чурбака ты можешь испечь хлебы. Восемь сучков в нем насчитал.
Бабушка, на кончике носа которой, сколько я себя помню, всегда висела светлая капелька, которую она то и дело смахивала, благодарно улыбнулась своему старшему внуку и положила четыре полена на загнетку для просушки.
В этот вечер отец пришел с работы, когда солнце уже садилось за дощатые ларьки базара. Он, как и все семейство, томился в ожидании письма от сына, и когда мама подала ему конверт, лицо его просветлело.
— Ну как, все в порядке? — спросил отец, не торопясь вынуть письмо из конверта.
— Все в порядке. Поступил. — И удивленная тем, что отец не спешит прочитать письмо, мама спросила: —Чего ты смотришь на конверт? Почерк Сережи не узнаешь?
— Почерк-то его узнаю, да только почему на обратном адресе стоит не «Лазутин С. Г.», а «Лазутин В. П.»? Вроде бы письмо написано не им, а Васяней?
Тут и мама удивилась. Прочитав письмо несколько раз, она даже не обратила внимания на то, что, вооруженный материнской тактикой, Сережа в своей переписке с нами решил сохранить тайну своего переезда в Новосибирск, чтобы, чего доброго, почтальонша не смекнула, куда он уехал. Ведь все в селе знали, что к дальнейшей учебе Сережу не допустили, хотя и не понимали за что.
Уединившись в горнице, отец, время от времени поднося тыльную сторону ладони к глазам, медленно читал письмо. Ни мама, ни бабушка, ни мы, сыновья, не переступали порога, чтобы не нарушить святое торжество душевной радости отца. Мы даже видели (он сидел спиной к кухне), как несколько раз дрогнули его плечи. Одна лишь Зина, не понимая ситуации, вбежала в горницу. Увидев слезы, стекавшие по щекам отца, метнулась к бабушке и попросила у нее платок.
— Зачем он тебе, — не поняв, чем так возбуждена внучка, спросила бабушка.
— Папаня плачет.
Не проронив ни слова, бабушка подала Зине недавно прокатанное на рубеле холщовое полотенце, и та метнулась с ним в горенку. Все мы видели из кухни, как, взобравшись на колени отца, Зина вытирала его лицо, несколько раз целовала в глаза и щеки, худенькой ручонкой гладила его волосы и, с трудом сдерживаясь, чтобы самой не расплакаться, умоляла:
— Не плачь, папаня, Сережа зимой приедет, он привезет нам подарки, он добрый.
Первым, не сдержав глухих рыданий, из избы вышел Мишка. Следом за ним, изо всех сил крепясь, чтобы не расплакаться, выскочил в сенки и я.
А когда из избы вышел отец и приставил к поветьям лестницу, мы с Мишкой поняли, что где-то на сеновале у него хранится «заначка». Две последние недели после отъезда Сережи отец, приходя поздно вечером с работы, не выпил ни стопки. Он твердо заявил маме, что до тех пор, пока Сережа не уладит свои дела, ни глотка не выпьет этой «заразы».
Ужин в этот вечер затянулся до полуночи. Бабушка зажгла семилинейную лампу и в лампаде под иконами сменила тонкий фитилек на толстый. Это она делала только в Христово воскресенье, на Пасху, в Троицин день и по каким-то, теперь я уже забыл, большим престольным праздникам.
Мама даже слова не промолвила и взгляда косого не бросила, когда отец, вернувшись, налил граненый стакан почти до краев и, поцеловав забравшуюся к нему на колени Зину, несколькими крупными глотками выпил водку почти до дна.
Отец мой сызмальства рос озорным. Рано овладел «тальянкой», а в пляске не было ему равных. Пересмешник и заводила среди своих ровесников, он иногда откалывал такие номера, что после долго шли по селу разговорчики о том, какую штуку отчебучил Егор Лазутин. Даже после сватовства, получив благословение отца невесты Сергея Андреевича Бердина и ее матери Анастасии Никитичны, он никак не мог утихомириться и прожить неделю, чтобы не проявить свой характер. Уже был оговорен день венчания и старший брат мамы Алексей, сапожник, который, как говаривали, шил обувь только для господ, смастерил своей младшей сестренке туфельки, приговаривая на примерках, что таких ножек не встретишь и у «прынцесс». Были куплены обручальные кольца, сшито подвенечное платье, привезено из Тамбова все то, что не смогли достать для свадьбы в своем селе и даже в Моршанске.
Помогал и дедушка Михаил Иванович, усыновивший своего племянника Егорку сразу же после смерти старшего брата Петра. Тот надорвался, поднимая из канавы завалившуюся в нее телегу с навозом. У дедушки и его жены Магдалины детей не было — Бог не послал. Жалела и обхаживала Магдалина своего приемыша. В Гражданскую войну скосил ее катившийся по селу сыпной тиф. Бабушка по отцу рассказывала нам, своим внукам, как плакал у гроба мачехи ее приемный сын. Рос мой отец под строгим присмотром Михаила Ивановича, который его не баловал, но и напрасно ни в чем не упрекал. Даже первую рюмку дедушка разрешил выпить отцу лишь тогда, когда тот на скачках в Тамбове взял второй приз. А было ему в тот год уже 17 лет. Может быть, на свадьбах близких односельчан, где отец покорял всех исполнением своей огненной «барыни», переплясывая как молодых, так и пожилых, пользуясь отсутствием отца, тайком, наспех, пропускал пару рюмок, но никогда никто из знакомых деда не сказал ему, что видели Егорку выпившим. Строго блюл мой отец однажды сказанный дедом и больше ни разу не повторенный наказ, который прозвучал пророчески веско и запомнился отцу на всю жизнь: «Река начинается с ручейка, вор — с пятачка, пьяница — с рюмочки».
Этот наказ отец повторил, когда Мишка поздно вечером вернулся со дня рождения Шурки Вышутина. Он учуял, что от сына попахивает водочкой и табаком.
— Курил? — строго спросил отец, сидя в кухне на табуретке и крепко держа Мишку за руки.
Он мог бы и не спрашивать. По одному только выражению лица сына отец уже понял, что тот проштрафился.
— Водку пил? — как-то затаенно спросил отец.
— Да, — убито произнес Мишка.
— Сколько выпил?
— Полторы стопки…
— Не врешь?
— Нет, — Мишка поднял голову и в упор посмотрел на отца.
Тот поверил Мишке и не стал ругать, но провел его в горницу, поставил у стола, а сам сел на старенький, единственный в нашей избе венский стул. Лицо отца было таким, каким оно бывает у человека, когда он хочет сказать то, что, произнеся однажды, уже не повторит. Вещие слова… Слова, которые как заклинание прозвучали из уст покойного моего деда Михаила Ивановича, когда он привез из Тамбова серебряные часы и грамоту, полученные на бегах.
— Вот окончите десятый класс и получишь аттестат, тогда я тебе сам своей рукой налью стопку, и ты чокнешься со мной и матерью, даже бабушка нальет своего церковного вина. Понял?
— Понял… — подавленно ответил Мишка и облегченно вздохнул.
Ведь не ругань, не раздражение зародилось в душе отца, а добро, которое постоянно гнездилось в ней.
Уж кто-кто, но я-то знал, что Мишка курит, хотя тайком, не тратя денег на папиросы, но курит. Сережу он остерегался. Однажды, вырвав из губ Мишки цигарку самосада, брат строго предупредил его: если хоть еще раз увидит, то все расскажет отцу.
После отъезда Сережи Мишка курил в бане, стараясь не попасться на глаза маме и бабушке, которая табачный запах считала греховным. Толик и Петька Мишку не выдавали, и он ценил их умение молчать: то одаривал конфеткой, то откуда-то приносил такой спелый подсолнух, какие в нашем огороде не вырастали. Иногда водил их на дневные сеансы в кино.
Мишка предупредил Петьку и Толика:
— Если Олька Сучкова спросит, дома ли я, отвечайте: нет, придет поздно вечером, в школе делает стенгазету.
Мишка был уже не рад, что взял у почтальонши два альбома ее сослуживцев. Костеря ее на чем свет стоит, он вписывал в них почти те же самые стишки, которые раньше написал в альбом Ольги.
Уж так видно устроен человек: когда он пребывает в тревоге, ожидая от другого спасительного добра, то готов божиться и клясться, что на добро ответит добром. Но стоит только дождаться этого добра, как он почти тут же постепенно охладевает. Однако Мишкой теперь руководила боязнь, как бы рябая почтальонша не вздумала распечатывать письма от Сережи, а поэтому он, проклиная ее в душе, списывал любовные стишки из альбомов Нюрки Федяшиной и Ленки Елистратовой, с которыми у него была давнишняя дружба.
Перед тем как лечь спать, дождавшись, пока все улягутся в свои постели, бабушка долго и истово молилась. Казалось, что она зримо видит живого Господа Бога, верит в его силу и могущество и, шепча что-то губами, просит его защиты и милости.
Мы ждем еще девочку
Дожди, словно во спасение людей, прошли тогда, когда они были очень нужны. Пора сенокоса выдалась тоже как по заказу: вовремя успели скосить буйно вымахавшие травы и сметать в стога. Косили, как было установлено местной властью, исполу: половина сена — колхозу, половина — себе. Конечно, пригадывали так: сенцо получше, поягодней да покормовитей старались вывезти себе. Лошадей или быков давал колхоз. На корову, на теленка и на четырех овец мы всегда заготавливали пятьдесят копен — норма, уже выверенная годами: двадцать пять копен на корову и по пять копен на каждую овцу и на теленка.
Конец августа поля словно покрыл живым, дышащим на ветру золотом. Море я пока видел только в кино, но когда слышал ходячее выражение, в котором пшеничное поле под нахлестами ветра сравнивают с морскими волнами, то живее и ярче представлял себе его. Такими поля были тем летом. Хлеба — стена стеной. Свернешь с проселочной дороги, зайдешь в пшеницу — и с телеги видна только выгоревшая на солнце мальчишеская головенка.
Картошку уже не подкапывали, а рыли подряд. К осени прибавили хлеба и по карточкам. Так что свое подвенечное платье, которое мама не раз доставала из сундука и, вздыхая, разбрасывала на руках, на базар не пошло. На этом настоял отец, заявив, что все лето будет работать сверхурочно и в отпуск, как и в прошлый, и в позапрошлый год, не пойдет. Мама благодарно вздохнула, ничего не сказала и, бережно свернув платье, положила его на дно сундука.
О почти небывалом урожае писали и говорили везде: в газетах, на собраниях, толковали мужики на завалинке, когда бабы доили коров.
В середине сентября мы начали копать картошку. И тут снова радость: три куста — и ведро с верхом. А ее вон сколько — больше тридцати соток. Мама даже радовалась, видя, как росла на ее глазах куча картошки, которую мы сушили тут же, на огороде, на выбитом пятачке. Отец, посматривая, как мы, словно муравьи, усердно носили в кучу ведра с картошкой — сиял лицом. Он-то знал, что делать с этим добром. Вечером, прикинув урожай, он принялся подкапывать в погребе яму в глубину и в ширину. Делал это, не торопясь, старательно, с просветленной улыбкой на лице, прикидывая что-то в уме. Таким я видел его тогда, когда отец помогал мне или Мишке решать задачи по арифметике. Сложение и вычитание я осиливал сам, а вот над умножением и делением иногда потел и прибегал к отцовской помощи. В Сережину учебу он не вмешивался, его два класса церковно-приходской школы не тянули воз программы старших классов с процентами и десятичными дробями.
Вторую половину сентября все село жило ожиданием предстоящей ярмарки, открытие которой было назначено на последнее воскресенье месяца. Почти весь урожай на огородах убрали и засыпали в подполья и ямы. Лишь одна капуста упруго наливалась последними соками и ждала первых заморозков, когда и ей подойдет черед захрустеть под острым резцом секиры в корыте, выдолбленном отцом из толстого, в обхват, березового чурбака. С морковью нам вечно не везло: сколько ни сажай — на нашу ораву не хватало. Как ни строжилась бабушка, заметив нас в огороде у морковных гряд, соблазн пересиливал ее строгости и нарушал хозяйский расчет хоть что-то оставить для засола капусты. Поэтому почти каждую осень мама выменивала у кого-нибудь из соседей морковь на капусту или картошку. Так было и в эту осень. Еще во время уборки она договорилась с бабкой Кривоносихой, что за два ведра моркови даст ей пять ведер крупной картошки. Две кадушки огурцов — пупырчатых, зеленых, один к одному, с укропом, чесноком, смородиновым листом и хреном, мама с бабушкой насолили еще в августе. Надежно придавленные каменным гнетом, они стояли в подполье.
С земляникой в это лето мы зевнули. Пока занимались покосом, она как-то сразу отошла. Так что бабушка успела сварить лишь ведро варенья да насушить один туесок из бересты. Зато бруснику некуда было девать. В этот год она уродилась такой, что войдешь в лес — и она тут же, с края, пламенеет своими тяжелыми огненными гроздьями: запустил кисть между пальцев — полная горсть. Бабы пожадней да пошустрей к пригону стада приносили по четыре ведра, аж гнулись под тяжестью заплечных мешков и ведер. Даже мы, ребятишки, приносили по два ведра. Толик и Петька пока в расчет не входили — малолетки, их с собой не брали: во-первых, потому что там в лесу водились змеи, а, во-вторых, какой прок в пяти- и шестилетних карапузах. Чего доброго, придется нести на плечах. Намочив десятиведерную кадушку брусники, бабушка принималась ее сушить. Зимой пирожки с сушеной брусникой так хороши, что язык проглотишь.
В нашей семье, кроме ожидания предстоящей ярмарки, на которой обычно показывали достижения района в сельском хозяйстве и продавали мануфактуру, обувь, прочие дефицитные товары, был и другой повод для волнений — мы ожидали прибавления семейства — вторую сестренку.
И вот этот день приблизился настолько, что даже мы, ребятишки, понимали — скоро повезут маму в роддом. Ведь наша бабушка по отцу, опытная повитуха, умерла два года назад.
В четверг, за три дня до открытия ярмарки, отец рано утром подъехал к воротам на бричке (по серому жеребцу я догадался, что выпросил в райфо, где он неделю назад бесплатно навешивал новые двери и стеклил окна), вошел в избу и, стараясь не разбудить нас, вдвоем с мамой встали на колени перед иконами в горенке, помолились. Отец встал первый, помог подняться маме. Бабушка, с трудом встав с постели, перекрестила маму, сказав: «С Богом!..», и принялась пересохшими губами нашептывать молитву, обращая взгляд на висевшие в углу иконы.
Все братья спали. Проснулся лишь я один. И когда звякнула щеколда калитки, не смог дольше лежать, выскочил во двор и подошел к бричке, на которую отец подсаживал маму. В свои тридцать четыре года она показалась такой неловкой и беспомощной, что мне стало ее очень жалко. Я и сейчас не могу вспомнить без волнения, как я обвил ручонками шею мамы и как мы оба заплакали. И даже у отца, у моего такого сильного и мужественного отца тоже повлажнели глаза. Отвернувшись в сторону, он сказал дрогнувшим голосом:
— Ступай, сынок, домой. Мы скоро приедем.
И они уехали. Я забрался на крышу избы и смотрел оттуда вслед удаляющейся бричке до тех пор, пока она не скрылась в переулке за домом Соколовых. Это было утром в четверг. А вечером мы с Мишкой не вытерпели и, не дождавшись отца, пошли в центр села, где рядом с раймагом в большом крестовом рубленом доме с множеством тесовых пристроек находилась больница, половину которой занимал роддом. Навстречу нам вышел отец. Увидев в руках Мишки узелок со смородиной и баночкой земляничного варенья, отец все понял и, остановившись, сказал:
— Еще рано. Я из роддома. А это, — отец показал на узелок, — молодцы. Мать будет довольна. Она просила варенья и ягоды. Только аккуратней. Передайте через окно, а то дежурный врач ругается. Их там кормят.
Мама словно ждала нас и, когда мы подошли к роддому, уже стояла у раскрытого окна. В застиранном больничном халате из серой байки она показалась мне постаревшей и печальной, а темные пятна, которые последние два месяца я видел на ее щеках, теперь обозначились еще резче. Улыбка была какой-то виноватой. Такие я видел на иконах с ликом Божьей Матери. Уцепившись за наличник, я вскарабкался к окну и положил на подоконник узелок. Мама обвила мою шею руками и поцеловала в лоб.
— Спасибо, сынки, что пришли. И за гостинец спасибо. А где вы смородину-то взяли?
Мама знала, что в нашем доме не было ни одной ягодки смородины. В лесу она уже почти отошла, разве осталась нетронутой кое-где в дальних от дороги глухих болотистых колках. Вот там-то мы с Мишкой набрали ее целую крынку, до крови изодрав осокой ноги и отмахав туда и обратно километров десять.
— За волчьим займищем собрали, — ответил Мишка. — Помнишь, откуда у нас прошлым летом увезли стожок сена?
— Это аж туда ходили?! — забеспокоилась мама. — Да там же, говорят, волки лютуют.
И она заохала, завздыхала, закачала головой, принялась упрашивать нас, чтобы мы так далеко не ходили.
Меня так и подмывало спросить: «Ну, когда же девочка-то, мам?..» Но я детским чутьем угадывал, что этого делать не следует.
— А ты чего не поднимаешься, Миш?.. Залезь на приступку, я тебя поцелую.
Мишка был ловчее и проворнее меня. Одним махом он вскочил на кирпичный фундамент, цепко схватился за наличник, а другой рукой крепко обвил шею мамы и несколько раз поцеловал ее в щеки, отчего они тут же разрумянились, и морщинки у рта разгладились. Втайне я даже пожалел, что не поцеловал маму как Мишка, а подставил ей свой загорелый лоб.
— Ну, как там дома-то? — спросила мама, глядя сверху вниз то на одного, то на другого.
— Да ничего… Остатную картошку ссыпали в погреб. Для мелкой папаня хочет подрыть еще один приямок. Он говорит: если чуток подмерзнет, то ничего, поросенок все слопает, на то он и поросенок, — отрапортовал я, не зная, о чем еще рассказать маме.
— А отметки? Какие сегодня получили отметки? — видя, что Мишка потупил взгляд, мама посмотрела на меня. — Вань, ну что получил сегодня? Ай ни по какому не спрашивали?
— Два оч-хора! — ответил я, прислушиваясь к чьему-то громкому женскому голосу, прозвучавшему за спиной мамы.
— Ну, молодец, сынок, старайся, — с этими словами она резко повернула голову назад, откуда все тот же женский голос потребовал, чтобы она немедленно ложилась в постель.
— Ну, ступайте, детки, ступайте… приходите завтра вечером, может быть, Бог даст, все обойдется… — мама расслабленно помахала нам рукой, я хотел было вскочить на фундамент и расцеловать ее так же горячо, как Мишка, но не успел: створки окна захлопнулись.
Почти всю дорогу домой мы шли молча. По обе ее стороны, поджав под себя ноги, белыми комками лежали гуси. Здесь и там на выбитой траве у изгородей, тяжело дыша, отлеживались коровы, которых некоторые хозяева на ночь в хлев не загоняли, отчего к осени улица была вся заляпана подсохшими блинами коровьего помета. Мы свою Майку всегда загоняли во двор: спокойнее спалось и не приходилось утром, перед выгоном стада, разыскивать ее где-нибудь на другом конце улицы или за огородами.
Солнце уже закатилось за зубцы дальнего подлеска, когда мы вошли в избу. Толик и Петька, засучив штаны, сидели на лавке и болезненно морщились. Я сразу понял, что бабушка намазала им цыпки кислым молоком, отчего ноги больно щипало.
— Может, будет, бабань? — скулил Петька.
— Ажнок, наверное, час прошел, — морщась, гнусавил Толик, — эдак, глядишь, вся шкура с ног сойдет, не токмо цыпки. Вон Лешке Сычу бабка цыпки выводит сметаной, а ты, гля, чо… Все кислым, да кислым. Щипеттак, что спасу нет.
Толик продолжал скулить, зорко следя при этом за бабушкой, пытаясь догадаться, куда она спрячет холщовый мешочек с сахаром, из которого достала небольшой кусочек, наверное маме в роддом.
— Ишь, чо надумал — сметаной ему намажь!.. — рассердилась бабушка. — Она положила мешочек с сахаром в сундук и на глазах огорченного Толика закрыла его на замок, а ключ, на шнурочке, как всегда, повесила на шею рядом с крестом. — На нашу семью не только сметаны — воды из колодца, дай Бог, хватило бы.
Отец пришел, когда уже стемнело. Бросив в сенках вязанку щепок, неторопливо вымыл под рукомойником руки и только потом вошел в избу. Даже при тусклом свете коптящей пятилинейной лампы я заметил, что он под легким хмельком. Это было видно по его лицу, на котором в таких случаях просвечивала тихая улыбка доброты и согласия.
— Ну, как, сынки, были у матери? — спросил он и посмотрел на бабушку многозначительным взглядом: он был голоден.
Бабушка тут же засуетилась, достала из еще неостывшей печки чугунок с картошкой, высыпала ее в блюдо и побежала в чулан, где в маленькой кадочке хранились малосольные огурцы последнего сбора.
Хлеб отец всегда резал сам. Делал он это неторопливо, словно священнодействуя. Прижав левой рукой ребро каравая к груди, брал со стола нож и, слегка склонившись над столешницей (чтобы крошки не падали на пол), отваливал от ржаного каравая длинные ровные, как лещи, ломти. И всегда резал хлеба столько, чтобы не было лишних кусков: лучше потом подрезать, чем черстветь объедкам. Эта привычка бережного отношения к хлебу жила в быту русского крестьянина как религия, она переходила от одного поколения к другому и была своего рода мерилом отношения человека к земле, к хлебу.
Положив два ломтя в прохудившееся блюдо, отец отодвинул каравай на край стола, накрыл его холщовым полотенцем с красными петухами, лежавшем тут же рядом, и ребром правой ладони аккуратно и неторопливо смел крошки хлеба в левую, подставленную лодочкой. И тут же (я любил наблюдать этот молниеносный полет руки отца) ловким, проворным движением отправлял их в рот. Я всегда при этом удивлялся: ни одна крошка не падала на пол. И не раз мечтал: вырасту большим — всегда хлеб буду резать сам, так, как отец.
Горячая картошка «в мундире» еще дымилась парком печного духа. Потрескавшаяся и рассыпчатая, она дразнила своим запахом. И хотя все мы, братья, уже поужинали, вроде бы до отвала «набузырились» этой же картошки из ведерного чугуна в прихлебку с доброй кружкой снятой простокваши (сметану бабушка собирала маме в роддом), и все-таки при виде терпко пахнувших чесноком и укропом малосольных огурцов, принесенных бабушкой из чулана, начали глотать слюнки. Отец это заметил. По лицу его скользнула догадливая улыбка.
— Ну, что, мельницы китаисовы, жернова вхолостую крутятся? Давайте, присаживайтесь, на всех хватит.
Бабушка еще не успела и рта раскрыть, чтобы назвать нас «анчутками», у которых «вечно глаза голодные», как все мы уже облепили отца, кто на лавке, кто на сундуке и, обжигая пальцы и рот рассыпчатым картофелем, воровато следя друг за другом, дули то на пальцы, то на картошку. Тут же один за одним заглядывали в чугун, чтобы соизмерить скорость еды с тем, что там осталось.
— Не жадничайте, ешьте как люди! — строго сказал отец, неторопливо нарезая огурцы колечками. — Поди не на покосе, а за столом.
Мы сразу же поубавили прыти, зная норов отца: рассердишь по-настоящему — всем придется пулей вылетать из-за стола.
— А где Мишка? — спросил отец.
Очистив картошку, он посыпал ее крупной серой солью.
— Пошел в кино, — ответил Толик и зыркнул на бабушку, принесшую из сенок охапку щепок на завтрашнюю растопку. — За приямок бабаня дала ему двадцатник. А нам с Петькой за то, что мы целый день отгоняли от капусты Юдинского теленка, ничего не дала.
По избе разлился терпкий, холодящий ноздри запах сосновой смолы.
— Не дала, дак посулила, — ответила бабушка, колготившаяся у загнетки с молочными горшками, которые ставила на прожарку.
— Дык, это когда капусту срубим, — поддакнул Петька и, нырнув в огромный чугун рукой, вытащил из него развалившуюся почти в лохмотья картофелину, бросая при этом взгляд на последний кружочек огурца, лежавший на треснутой тарелке с изображением красной звезды.
Я знал эту тарелку столько, сколько помнил себя, а вот кто разбил ее — до сих пор осталось семейной тайной. Помню даже строгую отцовскую ругань, когда на его вопрос «Кто разбил?» мы, братья, насупившись молчали.
— Жди, когда ее срубим, — канючил Толик. — Пятак на двоих посулила. Как его разделишь?
— Ничего, сынки, вот уберем капусту — я вам к бабушкиному пятаку добавлю по гривеннику впридачу. Получится у вас двадцать пять копеек на двоих. Теперь подсчитайте — сколько достанется каждому из вас? Кто первый?
Петька, не решаясь лезть в дебри арифметики, пыхтя, слез с сундука и юркнул на печку, где поспешил занять поудобнее место на ночь. Зато Топик, уже на практике постигший азы этой науки, когда приходилось считать бабки — а их у него набиралось до сотни, — засопел и, ковыряя пальцем в носу, заведя глаза под лоб, принялся шевелить губами: так он делал всегда, когда подсчитывал что-нибудь в уме.
— Подсчитал, папань. Петьке — двенадцать, а мне — тринадцать копеек! — воскликнул Толик.
— Молодец, сынок, сельсовет у тебя работает. Вырастешь большим — будешь на червонцах расписываться.
Выражение «расписываться на червонцах» я уже слышал не раз, и не только от отца, а вот смысл этих слов никак не мог постигнуть. Мне было понятно, когда крестный Василий однажды упомянул про эту роспись на червонцах, увидев, как Сережа старательно выводил буквы, выпуская классную стенгазету… Там было ясно — у Сережи красивый почерк. А здесь?.. «Когда-нибудь спрошу у папани, а сейчас он устал, не до меня…»
Мишка из кино вернулся расстроенный. По его озабоченному лицу я видел, что он думает о чем-то для него важном, что его гнетет или тревожит. А когда мы вышли из-за стола, он кивком головы позвал меня на улицу. Я научился понимать своего старшего брата не только с полуслова, но с одного взгляда. Мы вышли во двор, и он, оглядываясь, поманил меня: значит, разговор предстоит серьезный. За палисадником мы присели на лавочку, увитую с боков и сверху наплывами густого хмеля, отдающего бражно-винным запахом.
Мишка заговорил не сразу. Было слышно, как в центре села, в школьном дворе, оглушенно тарахтит движок, время от времени делая перебои. В кино начался третий сеанс. Сегодня, как и вчера, и как неделю назад, показывали «Чапаева», которого мы с Мишкой успели посмотреть три раза. Стоило поболеть за чапаевцев, которые как черные огненные птицы, с саблями наголо неслись за своим легендарным комдивом в атаку на беляков.
Почти над самой крышей, чуть ли не задев трубу или скворечник, пролетела со свистом одинокая утка, кем-то вспугнутая на озерном плесе, затянутом камышами, где мы глубокой осенью по первому ледку всегда гонялись за подранками.
— Ну ты чо? — буркнул я, видя, что Мишка пыжится и не знает, с чего начать разговор.
— Вань, у тебя сколько бабок? — спросил он.
— А у тебя? — вопросом на вопрос ответил я, твердо зная, что свою тайну — сколько у меня бабок и где я их прячу — я никогда не выдам, так же как и он мне. Впрочем вчера Мишка проговорился, что у него их уже перевалило за сотню.
— А на кой тебе мои бабки? — все еще опасаясь подвоха, упирался я. — Тебе лишь скажи, а ты возьмешь и облапошишь.
— Надо! — резко ответил Мишка. — Я-то ведь сказал тебе, что у меня сто двадцать шесть. Сколько у тебя?
Глядя в лицо Мишки, ловчить я уже не стал: не такой он, чтобы по мелочам распахивать душу.
— У меня восемьдесят две, — сознался я.
— Давай продадим Очкарику: я половину и ты половину. Он заплатит хорошо. Вчера говорил мне: даст по две копейки за бабку, только за хорошие, чтоб все были с жопками. «Хрули» ему не нужны.
Мишка говорил, а я никак не мог разделить восемьдесят два пополам. Сидел и сопел.
— Ну, что молчишь? Продадим?
— А сколько с меня? — спросил я, окончательно запутавшись в счете.
— Сорок одну продашь ты, и шестьдесят три — я. Всего восемьдесят четыре. — Тут умолк и Мишка, тоже что-то подсчитывая в уме. — На рубль шестьдесят восемь копеек. Понял, какие деньги.
— А чо купим? — спросил я, полностью доверившись Мишке.
— Завтра пойдем к владивостокскому поезду и в вагоне-ресторане купим мамане «Раковых шеек», «Мишек на Севере» грамм двести и пару бутылок «ситро». Я уже все подсчитал. А если немного не хватит — добавлю своих. У меня есть шестьдесят копеек. Выиграл позавчера в «чику».
«Очкариком» мы прозвали внука бабки Регулярихи, что жила почти на самом краю улицы, у болота. Он приехал в гости к бабке с дедом аж из Владивостока. Его отец был капитаном пассажирского парохода, что ходил между Владивостоком и Сахалином. По словам Очкарика, отец зарабатывал большие деньги, имел катер с мотором и черный японский автомобиль. Очкарик приехал к бабке с матерью, которая по дороге на курорт оставила его погостить на месяц, но он так привязался к бабке и деду, с которым ходил на утиную охоту, и так ловко играл в бабки и в «чику», что ревмя ревел, когда пришло время ехать домой, где ему с первого сентября предстояло пойти учиться в четвертый класс. Ровесник Мишки, он, хотя по силе и ловкости ему во многом уступал, зато был настойчив. И своего добился. Мать, приехавшая за Очкариком, так и уехала одна. А навезла она столько добра, что мы только ахали: одной красной икры почти ведерный жбан да черной столько же. Несмотря на свои двенадцать лет, Очкарик уже ходил в бостоновом костюме, о котором пока только мечтал наш Сережа.
Втайне мы завидовали Очкарику. У него было все, чего никогда не было у нас, деревенских ребятишек: велосипед с красными спицами; два карманных фонарика с запасом батареек; полевой бинокль, чтобы посмотреть в который, мы выстраивались в очередь. А складной ножичек у Очкарика был такой, что Мишка охотно отдал бы за него не только все свои бабки с битком-налитком, а даже компас и поджигательную самоделку, из которой стрелял так прицельно, что с двадцати пяти шагов попадал в тыкву, надетую на кол изгороди. Но с ножичком Очкарик, несмотря на все Мишкины подходы, расставаться не хотел.
— В вагон-ресторан ребятишек не пускают, — сказал я, хотя в душе уже горячо включился в замысел Мишки. — Может, кого попросить?
— Я уже говорил с дядькой Серафимом. Его всегда пускают. На прошлой неделе он купил там целый ящик «жигулевского» и две бутылки красного вина, какого у нас ни в раймаге, ни в сельпо не продают. Ну, так как — продадим бабки?
— Конечно, — не задумываясь, согласился я. — А когда их отдадим Очкарику?
— Завтра утром. А за мой биток обещал хорошую цену, — сказал Мишка и, время от времени озираясь по сторонам, свернул маленькую самокрутку.
— Твои где лежат? — спросил он.
— А твои? — все еще не выходил я из подполья со своей захоронкой.
— В канаве, в стрижиных гнездах. Говори, не бойся, где ты прячешь? По половине продадим Очкарику, а остальные перепрячем.
Мишка мне доверился не только в бабках, но и закурил при мне, не боясь, что я проговорюсь отцу, а потому я не мог не открыть ему свою захоронку.
— Мои на чердаке. Когда достанем?
— Да хоть сейчас! — Мишка встал и, заплевав цигарку, готов уже был идти на зады огорода.
— Нет, Миш, я боюсь лезть ночью на чердак. Там — бабушкины доски на гроб. Я и днем-то их боюсь. — И вправду, я и днем, когда лазил на чердак, сторонил взгляд от просушенных дубовых досок, которые, по просьбе бабушки, отец сложил там штабельком. — Давай лучше утром. Только как встанешь — разбуди меня. Без меня на чердак не лезь. Уговор?
Я протянул Мишке руку, и он крепко пожал ее.
На том и порешили: утром, как только встанем — сразу же, после того как выгонят стадо, к Очкарику. Вот только плохо, что он, как все городские, любил поспать. Но ничего — разбудим, сам набивался купить. Втайне я тут же подумал: а не предложить ли мне Очкарику один из двух своих битков, тот, что похуже — может, даст копеек двадцать пять — тридцать, купим маме лишнюю бутылку «ситро».
Умостившись на полу в горенке, где мы с Мишкой всегда спали под старым отцовским тулупом, и отнесясь к равномерному отцовскому храпу, как к колыбельной убаюкивающей музыке, мы заснули быстро, словно два заговорщика, условившиеся совершить во имя человечества разработанный план подвига.
Ночью мне приснился страшный сон: наша станция; на перроне остановился курьерский поезд «Москва — Владивосток», и из вагона-ресторана дядя Серафим выносит сразу ящик «ситро» и несколько кульков дорогих конфет. Мы бросаемся с Мишкой к нему, спеша все это принять из его рук, а он смотрит на нас грозно и кричит:
— Деньги на бочку!..
Мы с Мишкой лезем в карманы, обшариваем их, выворачиваем наизнанку, но денег там — ни копейки. Дальше все заволокло каким-то туманом… Ушел поезд, а рядом со мной — ни дяди Серафима, ни его покупок, ни Мишки. Стою один на пустынном перроне. Я даже заплакал.
Проснулись мы с Мишкой рано, когда еще были слышны стрельчатые нахлесты кнута да зычный голос пастуха, однорукого Кирюхи, которого коровы и овцы понимали так, что вот уже много лет без подпаска с одной лишь замухрышистой брехливой собачонкой он управлял стадом в сорок с лишним коров и около сотни телят и овец.
Холодная роса, пригибая на стёжке густую зеленую отаву, обожгла босые ноги Мишки. Я же юркнул на чердак, как ящерица, по одному лишь мне известному лазу и, отворачивая голову от бабушкиных гробовых досок, пролез к своему тайнику. Бабки для продажи отбирал те, что похуже: с Мишкой на этот счет уговора не было. Что касается Очкарика, то он, горожанин, проживающий на третьем этаже каменного дома, рядом с океанской бухтой «Золотой Рог», еще не успел как следует вникнуть в наши деревенские мальчишеские хитрости, и я не сомневался: купит то, что принесем.
Пока делил бабки на две кучи и считал их, почему-то от двух отлетели жопки. Причем бабки-то были видные, уже бывалые не раз в горячих битвах. Став теперь «хрулями», они сразу же потеряли вид и стали коротышками-растопырками. Пришлось пойти на хитрость, на которую не раз отваживался и Мишка. У трубы в ржавой банке из-под консервов стоял еще не высохший отцовский столярный клей, схваченный зыбистой пленкой сверху. Пропоров пленку донышками «хрулей», я обмакнул их в клей и прилепил, что есть силы, к ним попки. Чтобы не видно было клея, я протер бабки изнанкой подола рубахи и, удовлетворенный тем, что «хрули» вновь приняли свой воинственный вид, начал спускаться в чулан тем же лазом.
По дороге половину бабок из подола рассыпал. Падая на железное корыто, они загремели и всполошили на нашестах кур. А тут, как на зло, и сам споткнулся, обрушившись на корыто. В чулане раздался такой гром, что прибежала бабушка и, увидев меня в корыте, перекрестилась, приговаривая:
— Господи Исусе Христе… Да как же ты сюда попал?.. Какая нечистая тебя уложила?
— Нечистая, — огрызнулся я, почесывая саднивший бок. — Наложила своих досок гробовых — вот тебе и нечистая.
Поняв, что ничего страшного не случилось, бабушка закрыла дверь чулана.
На счастье, склеенные бабки не развалились, я собрал их в худое ржавое ведро, в которое собирали золу, и вышел во двор. Мишка уже поджидал меня в огуречнике. Свои бабки он сложил в длинный женский чулок без пятки и без носка, перевязав низ суровым шпагатом.
— Ну, пошли? — спросил Мишка.
— Пошли, — ответил я, и мы вышли со двора.
— А если он спит?
— Не должен. Он встает по времени, какое во Владивостоке. Его бабка говорила, что утром он ест, как барин, по полчаса. Сам знаешь этих городских, они не как мы, — сказал я, не столько отвечая Мишке, сколько убеждая себя, что пора бы Очкарику вставать.
Бабка Регуляриха, которая последние годы стала слабеть глазами, увидев нас у ворот, поднесла ко лбу ладонь и, всматриваясь то в Мишку, то в меня, спросила:
— Это ты что ли, Ванек?
— Я. А что, Витюха еще спит?
— Да он в такую рань никогда не встает. Он поднимается только по будильнику, по японскому.
Много чего повидали мы с Мишкой у Очкарика, а вот про будильник он нам ничего не говорил. Да еще японский.
— Что это за будильник такой? — чтобы не молчать, спросил Мишка.
— А это, никак ты, Мишуха?
— Я, — протянул Мишка.
— А я тебя и не узнала. Гляди, как вырос-то!.. Скоро отца догонишь. Ну, да чо, может разбудить, если дело есть? Поди, задачка с ответом не сходится?
— Разбуди, бабушка, никак не сходится, — соврал Мишка. — Окромя Витюхи, никто эту задачу не решит.
— Пойду, пойду… Разбужу… Вчера лег еще засветло, поди выспался, со сна капитала не наживешь, ума не прибавишь…
Продолжая причитать что-то на ходу, бабка скрылась в сенках. Мы с Мишкой, как два вспугнутых из гнезда птенца, присели на бревна, уже тронутые гнильцой, и молча принялись ждать Очкарика. Мишка думал что-то о своем, я — о своем. Но в главном, что привело нас к Очкарику, наши мысли сходились: нужны были деньги, чтобы купить гостинец маме.
Лишь бы Очкарик не раздумал и не сказал: «А я уже купил», или «А у меня сейчас нет денег». Что ему ответишь? Не дашь же по шее. А взаймы у нас в селе даже пятачок не выпросишь: сроду потом никто не отдаст. Нам же нужно было не меньше трех — пяти рублей. Иначе в вагон-ресторан и входить совестно. Да дядя Серафим еще подумает: стоит ли подниматься ему в вагон с трешницей. Он мужик с норовом.
Однако мои опасения оказались напрасными. На ходу протирая кулаком глаза, Очкарик (на нем была полосатая шелковая пижама, какие мы с Мишкой не раз видели на пассажирах курьерского поезда «Владивосток — Москва») подошел к нам, поздоровался и, увидев в моем ведре прикрытые лопухом бабки, спокойно, хрипловатым со сна голосом, спросил:
— Сколько?
Мишка указал на ведро:
— Здесь сорок две, а здесь, — он потряс чулком, в котором загремели его бабки, — шестьдесят четыре.
— Всех-то сколько? — словно не утруждаясь сложить два числа, спросил очкарик.
Мы-то эти цифры не только сложили, но и умножили, перевели на деньги, а деньги — на покупки.
— Сто шесть, — спокойно ответил Мишка, стараясь не выдавать своего нетерпения.
— Как договорились — по две копейки, — зевнув, проговорил Очкарик и блеснул золотой коронкой переднего верхнего зуба.
— О чем речь, — заторопился Мишка, — уговор дороже денег!..
Я тоже что-то поддакивал, вставлял, суетился, чтобы показать себя равноправной стороной в купле-продаже: все-таки, как-никак, в торг шли и мои бабки.
Больше всего меня удивило то, что Очкарик даже не посчитал наши бабки. Он высыпал их в полутемных сенцах в старое решето и, сказав, чтобы мы подождали его во дворе, ушел в избу.
Никак не укладывалась в моем сознании психология горожанина в шелковой пижаме: отдать за бабки такие деньги и не сосчитать (а вдруг там половина «хрулей»). Все это было для меня чем-то необъяснимым, инородным. Да я бы эти бабки не только посчитал, но каждую взвесил на ладони, прикинул на глаз: не приклеена ли жопка, которая от первого удара битка-«хруля» отлетит и бабка выйдет из игры.
Деньги Очкарик отдал Мишке — не только потому, что он старший. Ведь вчера он договаривался не со мной, а с Мишкой. Два рубля двенадцать копеек!.. Причем рубли новенькие, аж похрустывали. Таких денег мы с Мишкой еще не видели.
Отец уже ушел на работу, когда мы довольные вбежали в избу. Старые ржавые ходики, висевшие в простенке на кухне, показывали семь утра. Бабушка в долбленом корыте толкла мелкую вареную картошку, в предвкушении которой пятнистый мухортый поросенок самых что ни на есть беспородных кровей неистово визжал в сенках и настойчиво требовал, чтобы люди не забывали, что у него, у поросенка, есть свой режим и свое право на жизнь. В его пронзительный поросячий визг, время от времени сменяющийся мирным выжидательным похрюкиванием, которое как бы выговаривало «Ну, что ж, я стерплю… Я еще немного потерплю… Но и у меня может наступить конец терпению…», вмешивалось кудахтанье слетающих с нашеста кур. У них тоже все с той же картошки, перемешанной с отрубями, два мешка которых отец купил неделю назад на мельнице, начиналась своя дневная жизнь.
Мы сгорали от нетерпения. Но до завтрака еще предстояло много работы. А тут, как на грех, кто-то третьего дня бросил в Курдюков колодец дохлую кошку. За водой нужно теперь идти в казенный, на бугре. А до него почти четверть версты: пока дойдешь с коромыслом на плече до дома — половину ведра расплескаешь. Хорошо, что у нас есть на тележке бочка, в которую входит десять ведер. Привезли утром — и до вечера хватит на расход, а вечером еще бочку. Расходуется вся: надо напоить корову (а она запросто выпивает полтора ведра), теленка, овец, поросенка… А сколько воды уходит на одну только стирку. Куда не крути, а семья из десяти человек, в грязной рубашке в школу не пойдешь. Тут еще в этом году тоже взяли моду каждую неделю производить проверку на вшивость. Стыдоба, когда в рубахе или в голове найдут чего ищут. Из сорока человек в классе почти всегда у пятнадцати — двадцати находят. Не так позорно, когда не у одного в классе, а то бы засмеяли. А находят, как правило, у тех, кто посильнее, да побойчей, у кого озорства хоть отбавляй, такого не заулюлюкаешь, живо получишь оплеуху или подзатыльник.
Наконец сели за стол. Позавтракали мы с Мишкой наспех: выпили по кружке кваску и умяли по краюхе хлеба бабкиной выпечки: поджаристого, духмяного, с глянцевитой верхней корочкой. Картошку дожидаться не стали. Хорошо, что оба учились во вторую смену.
Передачу маме в роддом бабушка собрала, когда мы были еще у Очкарика. В чистую холщовую тряпицу она завернула пяток вареных яиц, баночку брусничного варенья, маленькую крынку со сметаной и десяток медовых пряников, купленных вчера отцом в раймаге. Все это она перевязала беленьким шнурком и, перекрестившись на икону, передала Мишке.
— Несите с Богом. Да скажите, чтоб ела.
По дороге в центр, где рядом с раймагом находилась больница, Мишка несколько раз вытаскивал из кармана новые хрустящие рубли, словно еще и еще раз желая убедиться, что не забыл взять с собой деньги, предназначенные для покупки гостинца маме.
Как только мы вышли на Пролетарскую улицу, которая была намного шире нашей, так сразу почувствовали, что намеченное на завтра открытие районной ярмарки-выставки уже дает о себе знать. В сторону Сибирской улицы, где когда-то проходил кандальный тракт, медленно тянулись подводы, груженные дарами полей и огородов. За некоторыми из них на привязи лениво тянулся скот. Это были не просто низкорослые разномастные деревенские коровенки, а европейской породы рекордистки, о надоях которых писали не только в районной, но и областной газете. Тонкорунных породистых баранов с завитыми в улитку рогами везли связанными по ногам в телегах. Меня большего всего удивил огромный, как слон, черно-белый бык с железным кольцом в ноздре. К кольцу была намертво припаяна стальная цепь, привязанная к задней оси пароконной брички. Впряженные в бричку два ездовых быка, по сравнению с производителем, казались маленькими и чем-то напоминали малорослых дворняг перед гигантским породистым бульдогом-медалистом.
Мы с Мишкой даже остановились, залюбовавшись быком, косившим свой зелено-огненный глаз в нашу сторону. Оба даже и не подумали, что Мишкина красная рубашка может обозлить быка.
— А ну, малец, сгинь с глаз, а то чего доброго ненароком и осердится! — крикнул возница, глядя на Мишку, и тот, почуяв опасность, тут же юркнул за калитку первой избы, скрывшись за домом.
Следом за ним кинулся и я. Бык есть бык… А этот, если разозлится, поднимет на рога не только человека — избу кинет через себя. О быках, разъяренных красной тряпкой, мы слышали не раз. Но то были рассказы у костра или на завалинке, а здесь — вот он, живой, в нескольких шагах от тебя.
Переждав, когда подвода с быком свернет на Сибирскую улицу, мы вышли из засады.
— Испугался? — спросил я у Мишки.
— Ни капли, — соврал он.
Я сделал вид, что поверил. Проходя мимо строящегося здания госбанка, мы увидели на лесах отца. Всей плотницкой бригадой они возводили стропила. Звонкий голос папани звучал нервно, на самой высокой ноте:
— Степин, дай левее, чуток левее и выше!.. Еще чуть-чуть!..
Зная, что отцу сейчас не до нас, мы нарочно свернули в переулок, чтобы не попадаться ему на глаза, и пошли к больнице в обход.
Дверь роддома была закрыта. Мы робко постучали, но нам никто не открыл. Подошли к окну, из которого два дня назад мама разговаривала с нами. Тоже закрыто. Переминаясь с ноги на ногу и не спуская с окна глаз, где каждую минуту могла показаться мама или кто-нибудь из женщин из ее или соседней палаты, мы ждали терпеливо до тех пор, пока старик с метлой, подметавший двор, не сказал, чтобы мы стучали побойчей, так как сестра, что дежурит сегодня, плоховато слышит. Мы так и сделали. Стучал вначале Мишка. Потом оба принялись бухать в дверь.
Наконец к нам вышла полная женщина в белом халате с большой родинкой между бровями, которую я не раз видел на базаре.
— Вы к кому? — спросила она громко, как обычно говорят плохо слышащие люди.
Мишка назвал фамилию мамы и протянул узелок.
— Как она там? — спросил он громко.
— Разрешилась. Только что… Чувствует себя нормально. — И, как-то сразу, словно ее позвали, взяла у Мишки узелок и захлопнула дверь.
Некоторое время мы стояли в недоумении: постучать снова и спросить, кого мама родила, или ждать, когда кто-нибудь выйдет и мы, наконец, выясним, кем же пополнилось наше и без того многочисленное семейство. Но никто дверей не открывал и не выходил.
— Ну что, передали? — спросил старик с метлой, видя нашу растерянность.
— Передать-то передали, да не успели спросить кто родился: девочка или мальчик?
— А вы бы ей полтинничек или фунтик конфет — она тогда все скажет, все расслышит. Я ее знаю, к ней с голыми руками на паршивой козе не подъедешь.
В наши расчеты давать полтинник вредной бабе не входило. А потом у нас его просто не было. А давать рубль — больно жирно. Мы подошли к окну в надежде, что кто-нибудь к нему да подойдет. И не ошиблись. Потянувшись к наличнику, оттуда выглянула молодая полногрудая женщина, румяное лицо которой вчера мелькнуло за спиной мамы. Я узнал ее по длинным распущенным волосам, походившим на отлив блестящего речного песка, освещенного утренним солнцем.
— Это вы только что принесли передачу? — спросила она.
В улыбке ее было столько доброты и тепла, словно перед нами стояла наша кровная родственница.
— Мы.
— Вы дети Марии Сергеевны?
— Да, — хором ответили мы.
— Могу вас поздравить, детки.
— С чем? — спросил Мишка.
— Не с чем, а с кем. С сестричкой! Только что родилась… Уж такая голосистая, такая певунья!.. Мама просила передать, что ей к окну подходить еще нельзя. Просила, чтобы вы бежали к отцу и сказали: у вас теперь есть Ириночка.
Мы готовы были расцеловать эту милую красивую светловолосую женщину, которая поведала нам столь радостную весть. Забыв сказать «спасибо», мы что есть духу пустились с больничного двора. Вскоре уже были на углу Ленинской и Сибирской, где бригада отца возводила крышу.
Там как раз начался перекур. Отец сидел на бревне и рассказывал что-то смешное. Когда он увидел нас, запыхавшихся от бега, то встал и зачем-то надвинул поглубже картуз.
Не дожидаясь вопроса, я выпалил одним духом:
— Все!.. Родилась!.. Иринка!..
Улыбка на лице отца говорила о том, как он счастлив, но тем, по-мужски сдержанным счастьем, которое не принято показывать на людях.
— Ну, хорошо, молодцы, что навестили мать. Поздравляю. Вот теперь у вас есть еще одна сестренка. — Он погладил своей шершавой ладонью мою голову и повернулся к плотникам. — Ребята, я на часок-другой отлучусь. Вы уж без меня.
И, бросив взгляд на одного из мужиков, наказал:
— Степин, чтобы все лежаки по уровню, а стойки по отвесу.
Веснушчатый рыжеволосый мужик с аршинными вислыми плечами молча кивнул головой, а когда мы все трое отошли от сруба, сказал вдогонку:
— Петрович, с тебя причитается!.. Без четверти не вертайся!
— На четверть губы не раскатывайте, а пару бутылок ставлю! — бросил отец в ответ, и мы зашагали в сторону роддома.
Мы остались у окна, а отец, завернув за угол больницы, пошел в приемный покой. Вернулся быстро. С лица его не сходила счастливая улыбка.
— Ну вот, теперь слышал своими ушами. Аж три кило, рост пятьдесят сантиметров. Вон какая!..
У входа в раймаг он велел нам подождать. А сам скрылся за расхлестанной дверью на ржавой пружине.
И тут мне на ум пришла мысль: а что если вместо дяди Серафима деньги отдать отцу. Отец надежнее, он бы и купил все, что надо в вагоне-ресторане. Дядя Серафим, известное дело — человек запойный, раза три в год уходит «в темную», неделями не выходит на работу. Не зря же его из главных бухгалтеров в райфо перевели в рядовые. Этой мыслью поделился я с Мишкой. Он ее принял, но с оговоркой:
— Только папане скажем, что все, что он купит, передадим мамане мы с тобой, и в записке напишем, что от нас.
Я согласился безоговорочно.
Из раймага отец вышел с пустыми руками и хмурым лицом.
— Что, не дали? — спросил Мишка.
— Разгружают товар, сказали, после обеда…
С минуту отец стоял в раздумье, куда пойти: на работу, домой или в ларек к Горбатенькому, у которого русскую горькую можно купить даже тогда, когда в других магазинах ее не сыщешь. Правда, страждущих Горбатенький выручал с небольшой наценкой, но никто на него не роптал.
И тут Мишка открыл наш план отцу. Вначале он забеспокоился, в голосе прозвучало подозрение:
— Откуда у вас такие деньги?
— Продали Очкарику бабки. Аж сто шесть штук, половина моих, половина Мишкиных, — поспешил я погасить тревогу отца. Он, как я понял, поверил моим словам и, что-то прикидывая в уме, сказал:
— Это вы хорошо надумали. Только нужно мне побриться и переодеться. — Окинув себя взглядом, он ухмыльнулся: — Такого в вагон-ресторан не пустят.
Ходил отец быстро. Мама всегда его просила умерить шаг. И вообще он все делал быстро, с ловким проворством и легкостью в движениях — все это часто вызывало у меня мысль: «Вот вырасту и буду так же ловко владеть косой и топором. И ходить буду быстро…» А пока мы за отцом едва поспевали.
Радостная весть глубоко растрогала бабушку. Встав на цыпочки, она поцеловала отца в лоб, поздравила его и нас с Мишкой. Все, что в семье нашей случалось хорошего, доброго и удачливого, бабушка относила только к одному — к милости Божьей. Все беды, все неудачи и даже малейшие неприятности, переступавшие наш порог, она связывала с гневом и карой Господней. Ее затяжные земные поклоны перед иконами в горенке и молитвы, шепотом слетавшие с губ, говорили о глубокой искренней благодарности Господу Богу. Теперь она молилась, чтобы он дал силы и здоровья роженице Марии и ее младенцу. Мы старались не мешать молитвенному уединению бабушки, а потому не заходили в горенку.
Пока отец, надувая щеки, брился, сидя за столом перед осколком зеркальца с желтыми подтеками, мы с Мишкой на скорую руку собрали в свои сумки учебники и тетради и, соврав отцу, что домашнее задание выполнили еще вчера, выкатили из печки чугун со щами. Ели торопливо, обжигаясь, то и дело посматривая на стенные ходики и прикидывая в уме: сколько у нас останется времени после отхода поезда «Москва — Владивосток». Успеем ли на первый урок? Тут Мишка что-то надумал и, поморщившись, спросил меня:
— У тебя первый урок физкультура?
— Физкультура, — ответил я, не понимая, чего он задумал.
Мишка, многозначительно подмигнув мне, метнул взгляд на отца, усердно выбривающего волосы на шее.
— Что, все болеет ваш физкультурник? Опять будете два часа гонять тряпичный футбол на площадке? — спросил Мишка и подмигнул мне.
— А чё боле делать, раз он заболел? — отвечал я, как идущий на поводу ослик.
— А нашу географичку зачем-то вызвали в область, на какой-то слет. Тоже придется или играть в чехарду, или гонять с вами футбол.
Говорилось это так, чтобы все слышал отец. Уж не знаю, поверил ли он нашему вранью или, скрыв догадку, решил не лишать нас радости свидания с мамой и вручения ей подарка. Улыбнувшись собственным мыслям, он встал, похлопал себя по тщательно выбритым щекам и прежде, чем пойти к рукомойнику, предупредил:
— Если опоздаете на урок, то скажете учительнице, что ходили со мной к матери в роддом. И скажите, что у вас родилась сестричка.
У нас сразу отлегло на душе.
Отец не только ходил и работал быстро, он и за столом не засиживался, жадности кеде никогда не проявлял. Пообедал, тщательно вымыл руки, достал из-под кровати завернутые в мешковину хромовые сапоги, в которых венчался и обувал только в особо торжественных случаях, тронул их сапожной щеткой и, любуясь блеском черных негнущихся голенищ, приставил к кровати. Синюю сатиновую рубаху-косоворотку, сшитую мамой к Пасхе, он надевал всего лишь раз. Извлеченная вместе с черными суконными брюками из кованого сундука, она еще отдавала нафталином. Пиджак, чтобы не помялся в сундуке, висел всегда на вбитом в стену гвозде, аккуратно завернутый в четверо сложенную марлю. Под пиджаком, тоже на гвозде, висела завернутая фуражка с высоким околышем и черным лакированным козырьком. Отец надел ее, посмотрелся в зеркало и повесил назад.
— Отслужила свой век, такие теперь не носят, — ответил он на мой немой вопрос. — Чего доброго, еще осмеют, ныне народ злой пошел, на старину шикают, им подавай новую моду.
О густые русые кудри отца не раз ломались деревянные зубья гребня. Мама говорила, что до тифа, которым он переболел сразу же после женитьбы, его волосы не так буйно вились и были не такими густыми. Из пяти сыновей отцовские кудри унаследовали только двое: Сережа и я. Но отец утверждал: вот подрастут Петька и Толька — завьются волосы и у них. А чтобы не обижать Мишку, унаследовавшего прямые с медным отливом волосы мамы, он говорил:
— А ты, Мишуха, подожди, еще так завьются, что сам не рад будешь.
Рядом с нарядившимся и помолодевшим отцом, который прежде чем причесаться роговым гребнем обмакнул его в лампаду с деревянным маслом, мы выглядели в своих сбитых худых сапожонках и во многих местах заляпанных чернилами пиджаках довольно невзрачно. А переодеться было не во что.
Отец посмотрел на наши сияющие лица, на которых светилась гордость за него — сильного, нарядного и красивого, — и горько улыбнулся.
— Ничего, сынки, вот выполним пятилетку, тогда будет всего завались. Появятся у вас новые рубашки и суконные костюмы. Были бы лад и здоровье, а остальное — дело наживное. Ну, собрались?
Мы с Мишкой давно уже были готовы. Даже помазали дегтем сапоги, отчего те сразу посвежели.
Толька и Петька, которые крутились тут же около отца, конечно же раздумывали, как бы увязаться с нами на станцию. Они заколготились, начали лазить то под кровать, то на полати, то на печку — торопились собраться. Но, зная, что к отцу с вопросами приставать рискованно, делали это втихомолку, поглядывая то на отца, то на нас с Мишкой.
— А вы куда собрались, орлы? — спросил отец, поводя пальцами по чисто выбритым щекам.
— Мы что — хуже Мишки с Ванькой? Они уже утром были у мамани… Мы тоже соскучились. — Казалось, на глазах Толика вот-вот выступят слезы. Ему подвывал и Петька.
Отец посмотрел на них и вздохнул. У младших братьев не было ни обуви на осень, ни одежды к зиме. Как правило, им доставались от нас с Мишкой обноски. Но они не роптали, ведь их погодки-ровесники тоже носили пиджаки, картузы и рубахи с плеч своих старших братьев. Случалось даже так, что из-за доставшихся от меня или Мишки худых валенок или сапог младшие учиняли драку.
Сказать, что ему стыдно и больно через все село вести своих малолетних оборванцев, отец не мог, не поворачивался язык. Но не сказать ничего или просто остановить их резким запретным окриком тоже нельзя: сыновья рвутся к матери, которая родила им сестренку. Они ее, сибирячку, так ждали!.. Еще неделю назад осколком бутылочного стекла очистили до белизны деревянные боковинки люльки, которая несколько лет без дела валялась в пыли на чердаке. А когда отец спросил: зачем они это делают, Толик резонно ответил, чтобы братик или сестренка не занозили себе пальчики или ладошки.
И вот теперь они, переминаясь с ноги на ногу, стоят перед отцом кто в чем: Толик в худых бабушкиных галошах, а Петька — в Сережиных ботинках без подошв.
— А ну-ка, присядьте.
Отец показал на скамейку.
Толик и Петька, как старички, поникнув, сели, уже предчувствуя, какой разговор сейчас поведет отец. Я видел их несчастные лица и готов был в эту минуту снять с себя сапоги, пиджак и отдать кому-нибудь из братьев.
— Вы слышали, что Сурчихинская Дамка сбесилась? — строго спросил отец.
Толик и Петька настороженно зыркнули глазами.
— Дак ее поймали, — пролепетал Толик. — И, говорят, лечат уколами, Очкарик говорил.
— Поймали… — хмыкнул отец. — А вот сегодня ночью она опять сорвалась с цепи и искусала двух маленьких ребятишек с Сибирской улицы. Сейчас ее ловят, да никак не поймают. Как заговоренная.
Я видел по лицу отца, что ужасы, нагнетаемые им, подействовали на моих братьев моментально. Оба они смерть как боялись собак. А при слове «бешеные» замирали духом.
Так удалось отцу избежать позора и в то же время успокоить своих младшеньких. Он повернулся к нам и строго сказал:
— А вы что расселись. Пора идти!
Сопровождаемые завистливыми взглядами Тольки и Петьки, мы вышли на улицу. Видя их опечаленные лица, отец разрешил младшим проводить нас до тополей, что у болота.
— Только от тополей сразу же пулей домой. Дамка и сюда может забежать!.. — продолжал пугать братьев отец.
Но до тополей они не дошли. Увидев, как из Юдинского проулка выскочила чья-то незнакомая собака и наискосок пересекла улицу, Толька и Петька повернули назад и, то и дело оглядываясь, мелкой рысью засеменили к дому. Отец помахал им рукой.
Передавая ему деньги, Мишка назвал сумму.
— Три рубля двадцать копеек. Главное не забудь, чего нужно купить мамане: две бутылки «ситро», если есть — халвы, «Раковых шеек» и «Мишек на Севере». Будем ждать тебя у вагона. Да только смотри, не застрянь, а то утащит поезд аж до Чулыма. С дядей Серафимом уже не раз так было. Насилу назад вернулся на товарняках.
Отец сосчитал наши деньги и положил их в нагрудный карман пиджака.
— Не укатит. На этих поездах я поездил побольше, чем ваш дядя Серафим.
На станцию мы пришли минут за двадцать до прихода курьерского поезда. На платформу уже подтягивались бабы с ведрами и кошелками, в которых чего только не было: и прямо в чугунках, замотанных в тряпки, горячая картошка, и соленые огурцы, и вареные яйца, и жареные куры, и молоко всех видов — кипяченое, топленое, варенец, сметана… Причем я приметил: бабы-торговки, что помоложе и побойчей, на лотках под навесом, как правило, со своим товаром не располагались. Словно сговорившись и поделив перрон между собой, они на определенных дистанциях друг от друга занимали на нем свои места. И когда приходил поезд, уж тут-то они выказывали всю свою торгашескую прыть: бегали от вагона к вагону и, встречая пассажиров, нахваливали каждая свое:
— А ну, картошечки, картошечки… С пылу с жару, духмяного навару…
— Сметанки, сметанки, кому сметанки?..
— Сынок, гля, какие огурчики, таких, поди, сроду не едал, так и глядят на тебя… На закуску — лучше не найдешь. А на опохмелку — хворь, как рукой, снимает…
— Смородинки, а ну, кому самородинки, гривенник стаканчик, а на рупь двенадцать насыплю…
— Барышня, ты только попробуй, такую брусничку ты нигде не покушаешь…
Я уже не однажды видел одну опрятную старушку, которая, еще издали заметив приближающийся к разъезду пассажирский поезд — а он всегда, подходя к станции, подавал протяжный гудок, — доставала из-за пазухи чистенький фартук, проворно подвязывала его, перед крошечным зеркальцем поправляла вылезшие из-под белого платка седые волосы и, довольная собой, снимала с корзины чистую марлю, защищавшую снедь от мух. Я знал, что старушка эта жила на Майской улице. У нее был какой-то особый талант рекламировать свой товар. Каждый раз я слышал, как она осыпала выходящих из вагонов пассажиров все новыми и новыми складными причетами, которые чуть ли не пела на манер частушек.
…Мои курочки-птички Снесли для вас яички… …Эй ребята, покупайте опята. …Царские грибочки, сибирские груздочки…Увидел я ее и на этот раз. В чистеньком облике старушки и в опрятной одежде проступало что-то ненашенское, нездешнее. Ожидая поезд, она то и дело поглядывала в сторону разъезда, откуда вот-вот покажется распущенная по ветру дымная грива паровоза и послышится его режущий слух гудок.
Станционный дворик и перрон были устланы золотыми слитками листьев с облетевших берез, что плотной стеной росли за низеньким штакетным заборчиком. Осенняя ржа поджелтила и трепещущиеся на ветру листья осины. Лишь одни рогатые разлапистые тополя стояли зелеными буграми-утесами, пока еще не поддаваясь накатам-нахлестам осени. Ронять листья их черед пока не пришел. В жилах тополей еще не одну неделю пробуйствуют земные соки. В этой стойкости перед осадой осени есть у них что-то от царь-дерева — дуба, который позже всех набрасывает на плечи зеленую попону листвы и позже всех ее сбрасывает. Но дуб в наших местах не растет, не та земля, кругом торф и болота, а зимой иногда ртутный столбик в станционном градуснике падает ниже пятидесяти градусов. Редко, но так бывает. Для дуба стужа смертельна. Свои царские чертоги он возводит на землях центральной России.
Сразу же за станцией, в каких-нибудь двухстах шагах, погружался в свою осенне-зимнюю спячку вечнозеленый рям (лес) сего низкорослыми кривыми сосенками и чахлыми березками. Несколько лет назад по этим торфяным болотам, кишащим гадюками и подернутым тучами комаров, прошли со своими нивелирами, бурами и теодолитами студенты Московского торфяного техникума. После этого по селу прокатился слух, что через толщи торфа они добурились до какого-то особого, голубого слоя глины, из которой можно изготовлять дорогой фарфор, по качеству выше итальянского. Кое-кто даже поговаривал, что в Москве вышел приказ построить в Убинске фарфоровый завод. Но разговор остался разговором. Голубую глину никто не добывал, завод также никто не строил.
Минут за пять до прихода поезда на перроне, словно из-под земли, вырос Гоша, наш деревенский дурак, который каждый день приходил на станцию к курьерскому поезду и, вдоволь налюбовавшись суетящимися по перрону пассажирами, подбирал с земли окурки, пустые спичечные коробки, бумажки от конфет и все то, что оставалось от проходящих поездов.
— Гоша, ты зачем сюда пришел? — обратился отец к дураку как к равному. — Ай куда ехать собрался? Да ты слюни-то вытри, а то в вагон не пустят.
Дурак гортанно гыгыкнул, рукавом грязного и рваного пиджака вытер с губ и с подбородка слюни и подтянул рваные штаны неопределенного цвета.
— Не еду я…
— А чего же тогда пришел сюда? — не отставал от дурака отец.
— А так… хорошо здесь… весело…
И снова дурацкий утробный смех, где-то на грани рыданий, вырвался из груди Гоши. Никто не знал, сколько ему лет, где он родился, откуда пришел в наше село, кто его родители. Мужики говорили, что лет десять назад он появился в Убинске, как гриб после дождя. Ночевал в банях, ел что попадет, безотказно за тарелку щей и ломоть хлеба мог целый день копать вдове-старушке огород, отнести за канаву и зарыть там дохлую собаку или кошку, к которым из-за трупного смердящего запаха никто не хотел подходить…
Я всегда испытывал необъяснимое волнение, когда к нашей станции подходили пассажирские поезда. С ними связывал свое будущее. Мне всегда представлялось, что вот, когда вырасту, то в один из дней меня увезет курьерский поезд в пока еще неведомый мне большой город, где я по кирпичикам буду складывать здание своей судьбы. Может быть, это разгоряченное воображение подогревалось прочитанными книгами, которые я глотал жадно, ненасытно. А может быть, из-за однообразия нашего семейного быта мальчишеская фантазия вырывалась сама собой и уносилась по неведомым путям-дорогам…
И на этот раз я испытывал особое волнение, когда со стороны железнодорожного переезда, зычно пронесшись над рямом, до станции донесся и покатился дальше пронзительный гудок паровоза.
Волновался и отец. Он знал, что кое-кто из знакомых мужиков иногда прорывались в вагон-ресторан проходящих поездов и «доставали» там то, чего не продавали в нашем раймаге и в ларьках. По нашим расчетам этот вагон должен был быть где-то в середине поезда, а поэтому мы и остановились так, чтобы не бежать до него.
В выборе места нам повезло. Когда поезд останавливался, постепенно замедляя скорость, почти перед нашими глазами проплыла эта долгожданная вывеска: «Ресторан».
Волнение отца оказалось не напрасным. Обе двери вагона-ресторана были закрыты. Отец стал стучать, колотя по двери своими крепкими кулаками. Наконец достучался. Дверь открыла немолодая толстая женщина в грязном фартуке.
— Чего бузуешь? Иль что оставил здесь? — прокуренным охрипшим голосом бросила она отцу сверху вниз.
Прикуривая папиросу, толстуха надсадно закашлялась, отчего лицо ее стало багровым.
На первую ступеньку подножки отец заскочил легко, на вторую ему не дала ступить проводница ресторана.
— Куда прешь, лапоть?
Я видел в эту минуту лицо отца. На нем застыла мольба.
— Сестричка, пусти на минутку в буфет. Кое-что купить надо бы…
— От Москвы до Владивостока у меня таких братцев, как ты, наберется столько, что ими можно пруд прудить, — прохрипел прокуренный бас женщины в грязном фартуке.
— Понимаешь, жена родила… Гостинчик бы ей… У нас же тут ничего не купишь — ни колбаски, ни конфет хороших, ни «ситро»…
— Роженицам нужно пить не «ситро», а молоко. Врачи говорят — полезнее. А от конфет зубы выпадают.
— Ну, будет шутить-то… Пусти, сестрица, шоколадку подарю, — просил отец, отчего печать мольбы на его лице прорезалась все резче и горше.
Мне было жалко его в эту минуту. Я почему-то сердцем чуял, глядя на лицо этой наглой бабы, что она не впустит его в ресторан.
— Если всех вас пускать, то пассажиры еще до Читы положат зубы на полку. Нельзя! Ну чего прешь?..
— Ну, уж если нельзя мне пройти — возьми деньги, купи конфет хороших, если есть с полкило колбаски, а на остальное — «ситро». Да себе купи шоколадку.
Отец совал в руки женщины деньги, но та их не брала.
— Я что тебе — девка на побегушках? Уж двадцать лет, как холуев нет. Сказано не пущу!.. Ну, не при же ты, не при… чего прешь?!. Вначале ногти обруби топором, а потом в ресторан лезь… Гляди — под ними по ведру чернозема!..
Я видел, как отца била нервная дрожь. Последние слова женщины его глубоко оскорбили. От лица его отхлынула кровь, отчего оно подернулось сероватой бледностью. Замерев на подножке вагона, он долго снизу вверх смотрел в глаза проводнице, перед которой только что чуть не встал на колени.
— Ну и курва же ты!..
И тут я услышал трехступенчатый мат, с такими завихрениями, какой с уст отца при мне еще никогда не слетал, хотя я не скажу, чтоб в ситуациях нервных, в рабочей горячке плотницкой артели, где всегда найдется какой-нибудь разиня-недотепа, отец нет-нет да и не срывался, пуская в ход хлесткие словечки неписанного жаргона. Но при нас, при детях, обронить матершинное слово он считал великим грехом.
Женщина от неожиданной отцовской ругани аж задохнулась затяжкой дыма и стояла с разинутым ртом. А отец, легко соскочив с подножки уже дрогнувшего вагона, стараясь перекричать железный лязг буферов, который словно по цепочке прокатился от паровоза к хвостовому вагону, чтобы смыть с души плевок этой грязной толстощекой бабы в мелких кудряшках, шел рядом с медленно плывущим вагоном и, не давая ей раскрыть рта, не замечая, что следом за ним, почти за самой его спиной идет дурак Гоша, бросал снизу вверх:
— Сука!.. Чтоб тебе не разродиться, если забеременишь!..
— Лапоть немытый! — задыхаясь от злобы, выкрикнула баба.
— Тварюга проклятая!.. — пустил вдогонку отец и, не дожидаясь, когда уже опомнившаяся баба обложит его чем-нибудь позаковыристей да погрязней, в сердцах плюнул и резко повернул назад, чуть не столкнувшись с Гошей.
— А ты чего тут вертишься?! — крикнул отец.
Гоша словно ждал вопроса. Улыбаясь во весь рот, проговорил:
— У тебя слюни не текут, а все-равно не пустили… Гы-гы…
Лицо отца стало белым как мел. Он даже остановился, в упор глядя на Гошу, переминавшегося с ноги на ногу.
— Чего тебе надо?
— Не пустили… Э, не пустили, — запричитал дурак, пританцовывая и размахивая руками. — Бригадир, а не пустили.
Подумав, отец через силу улыбнулся.
— Гоша, ты любишь конфеты?
— А кто их не любит?.. Они вон какие сладкие… Гы-гы-гы…
— Ну, тогда на вот тебе деньжонки, купи себе у Горбатенького леденцов. — Отец достал из кармана пиджака мелочь и, отсчитав на ладони, протянул ее Гоше. — Здесь двадцать копеек. Как раз на двести грамм. Да беги скорее, а то Горбатенький распродаст все леденцы и ничего тебе не достанется.
Мы переглянулись с Мишкой, поняв, что отец хочет отвязаться от дурака: он уже начинал играть у него на нервах. Зажав в кулаке мелочь, Гоша что есть духу кинулся через переезд в сторону Сибирской улицы и, повернув за «Заготзерно», скрылся из виду.
До раймага мы дошли молча. Со стороны школы тянулись стайки ребятишек и девчонок с набитыми сумками. Кончились занятия первой смены. Через двадцать минут прозвенит и наш звонок.
— Вот что, орлы, ступайте-ка в школу! — строго приказал отец, остановившись у дверей раймага.
Мишка хотел что-то сказать насчет уехавшей на совещание в город учительницы, я тоже пытался повторить свое вранье, но отец вовремя остановил нас.
— Хватит!.. Я понял все еще утром, да не стал останавливать, хотел разрешить вам маленький прогул… Но раз так получилось с поездом — надо идти в школу. Деньги отдам вечером дома. В школе их у вас, чего доброго, еще отберут.
Ослушаться отца мы не могли. Больше ничего не оставалось как идти в школу.
Кормачевские лошади
У аптеки, не дойдя до школы, мы встретили две доверху груженные мешками пароконные брички. На первой с вожжами в руках сидел рыжебородый мужик в выгоревшей на солнце фуражке. Я сразу узнал его и толкнул Мишку.
— Гля, кормачевцы едут!.. Наверное, на ярмарку. Смотри, — Данила.
Я показал на рыжебородого мужика, за спиной которого на возу сидела баба в клетчатом платке. Она тоже один раз приезжала с кормачевцами. Я узнал ее по слегка раскосым глазам и круглому, как яблоко, лицу. Ожидая подводу, мы с Мишкой остановились. Он тоже узнал Данилу. Кормачевцы всякий раз, когда приезжали на базар или сдавали государству шерсть, то, как правило, останавливались у нас. За постой кое-чего и нам перепадало: то привезут мешка два пшеницы, то — если приезжали зимой — короб мороженой рыбы, а, глядишь, приволокут и небольшой возок хорошего сена. Мужики, как правило, привозили с собой четверти три самогона-первака. Я примечал, что в дни их постоя, отец наш почти всегда вечером, после работы, ходил под легким хмельком и пребывал в хорошем настроении. Если выпадал случай и лошади были свободны, он ехал в лес, возвращаясь поздно вечером с двумя возами дров, которые мы тут же распиливали на коротыши и убирали в сени, в баню, в чулан, маскировали на сеновале: лесничий у нас был мужик непьющий и строгий. За рубку леса без билета налагал на нарушителей штрафы. А чтобы купить билет, приходилось ходить к нему не раз и не два. Иной ходит-ходит, потом плюнет, потихоньку наймет быков на стороне, выберет ночь потемнее и с родственником или с соседом такой возище навалит, что быки аж пыхтят на подъеме.
Встретившись взглядами с рыжебородым кормачевцем, я крикнул ему:
— Дядя Данила, вы к нам?
Данила узнал меня, остановил лошадей.
— А-а… Это ты, Ванец?! Ну, как там ваши, все живы-здоровы? Как батька с маткой?
Дядя Данило выделял меня среди других братьев. Ему очень нравился мой почерк. Последний раз, когда кормачевцы останавливались у нас, я переписывал Даниле заявление в суд. Его сосед еще два года назад ударил колом по спине годовалого теленка Данилы, забравшегося в соседский огород и потравившего несколько вилков капусты. Теленок стал чахнуть и через две недели околел. Вместо того чтобы как-то загладить свою вину перед Данилой, сосед-пьяница кричал на все Кормачи, обещая тем, у кого зайдет в его огород корова, порешить и корову. Такой у него был характер.
— Отец-то ничего… да вот маманя, — ответил я, не зная, как сказать про маму.
— Что маманя? Ай прихворнула?
— Да нет… Нас теперь не шестеро, а семеро, — сказал я и сам себе удивился, какие хорошие слова нашел, обойдясь без слова «родила».
— Опять парень? — бросила с воза раскосая баба в клетчатом платке и всем телом подалась вперед.
— Нет, девочка.
— Ну, слава Богу. Маня так хотела девочку!.. Где она сейчас, дома?
— Нет, пока еще в роддоме.
— Вы в школу? — спросил Данила и только теперь узнал Мишку. — Да это никак ты, Мишуха?
— Я, дядя Данила, — сконфуженно ответил Мишка, слегка обидевшись тому, что остался за бортом нашего разговора.
— Ну ты вымахал!.. Я тебя сразу даже не узнал. А теперь до вечера. Мы к вам.
В урок физкультуры мы, мальчишки, по пыльной площадке гоняли туго набитую тряпками футбольную покрышку. За камерами ездили в город, но вернулись ни с чем. А футбольные страсти в сентябре разгорались как никогда. Ребятня, кроме двух вратарей, осатанело носилась по полю, устраивая каждый раз свалку из-за мяча. Кое-кто уже успел свихнуть на ноге большой палец от сильного удара. Федька Масленников с разбитым до крови носом покинул поле боя на первых минутах игры. Шмыгая носом, он на ходу оглядывался и кому-то грозил кулаком.
Учитель физкультуры, который сам играл центральным нападающим за сборную района, в морской тельняшке со свистком во рту носился по полю и, когда его команды не доходили до слуха азартных игроков, с силой врезался в кучу-малу и разбрасывал футболистов в разные стороны.
Всегда равнодушный к футболу, я играл осторожно, боясь, что кто-нибудь наступит мне на правую ногу, еще не совсем зажившую после того, как две недели назад я наступил на гвоздь и чуть ли не насквозь проколол ступню.
В прошлом году наша районная сборная играла со сборной Барабинска, — болельщики, особенно старики и старухи, выползшие на выгон поглазеть, чей же район победит, диву дивились: откуда их молокососы-внуки знают такие заковыристые слова, как «голкипер», «хавбек» или «корнер», которые они оглашенно выкрикивали, наблюдая за игрой взрослых.
Уборщица со звонком в руках вышла на улицу и, тряся им изо всех сил, направилась на футбольное поле. Матч закончился.
Два остальных урока — «арифметику» и «родную речь» — я сидел как на иголках. Задачки не шли на ум. Не выходил из головы отец и история с посещением вагона-ресторана. Как же так! Не пустили отца в буфет, назвав грязным лаптем! А больше всего сверлила голову мысль: какая из четырех кормачевских лошадей достанется мне, когда вечером поедем к озеру их поить. По крови, от деда и отца, я был завзятым лошадником. Никогда и нигде не испытывал такой трепетной радости и душевного восторга, когда, пустив лошадь галопом, скакал на резвом молодом жеребце. Прильнешь к гриве коня и, крепко держа в руках поводья, без седла, слившись с лошадью в единое целое, мчишься навстречу ветру, замирая от восторга. Испытываешь ощущение быстрого скольжения ладони по крутым встречным волнам: то вниз, то вверх, то вниз, то вверх… Бросишь взгляд вниз, под ноги коня — голова кружится от быстрого мелькания травы, придорожных кочек, мелких лужиц… А посмотришь вдаль — все сразу встает на свои места, и в душе серебряным колокольчиком звенит нахлынувшая радость.
Урок литературы я насилу досидел. Что там «Савраска, запряженный в сани, стоял понуро у ворот…», когда меня ждал высокий тонконогий гнедой жеребец, впряженный в бричку, на которой сидел Данила. Тот самый, о котором Данила рассказывал прошлым летом, когда разговор зашел о породистых лошадях их колхоза. Тогда он прямо сказал отцу: в стаде молодняка есть один гнедой стригунок, которого они осенью собираются объездить. «Не конь будет, а молния», — заметил тогда Данила.
После звонка я зашел в класс к Мишке, чтобы уговорить его удрать с последнего урока. Но меня ждало полное разочарование. Шурка Вышутин, дежурный по классу, шепнул по секрету, что брат удрал домой после второго урока, сказав учительнице, что «мается животом».
«Все… Перехитрил. Удрал и даже мне не сказал. Я бы так никогда не сделал, — ругал я на чем свет стоит Мишку и короткими перебежками, напрямик, через огороды, на которых лишь кое-где белели кочаны капусты, летел домой. — Конечно, гнедого ты уже кормишь овсом, да еще утащил для него не один ломоть хлеба… Знаю тебя, всегда так делаешь, приманивая лошадь. Наверное, уже кликнул Трубичка и Пашку. Лучших коней разобрали, а мне оставили рыжую пузатую кобылу. Нет, так не пойдет, не по-братски… Будет и на моей улице праздник. Я тебе при случае еще не такую свинью подложу. Знаю теперь, где ты прячешь свои бабки. Будут сегодня ночью плакать твои бабочки. А свои перепрячу. Да так, что никогда не найдешь».
По мере того как я приближался к дому, обида и злость распаляли мою душу все сильнее. А тут, как на грех, у соколовского проулка мне повстречалась стайка ребятишек, которые, окружив рыбака Фокея, что-то возбужденно выкрикивали. Я не хотел останавливаться, в моем воображении все больше и больше места занимал гнедой тонконогий жеребец со звездочкой на лбу. Но Пашка Шамин, который на мое счастье не убежал к Мишке, позвал меня.
— Ванька, хошь посмотреть лебединое яйцо? Фокей в камышах за Черненьким озером нашел. Два яйца, одно оставил, а другое взял.
Лебединых яиц я еще никогда не видел. А посмотреть хотелось. Раз ребятишки подняли такой гвалт — значит, интересно, наверное, очень большое. Я подошел к ним.
— Где яйцо-то? — спросил я, глядя в давно небритое лицо Фокея. На рыбаке была брезентовая куртка и высокие резиновые сапоги с отворотами. От него попахивало водочным перегаром. Этот запах я всегда ощущал, когда у нас бывали гости.
— В карман слазь, в руку не входит, — подзадоривал меня Пашка и полез было к Фокею в карман, но тот ловко увернулся.
— Хватит, уж сколько раз щупал, надоел мне! — шикнул на Пашку Фокей и своей изуродованной рукой — ранен был в Порт-Артуре — попытался сам залезть в карман, но тщетно.
— Можно? — попросил я.
— Давай, а то моя култыга не слушается, — благодушно сказал Фокей и повернулся ко мне.
Я сунул руку в карман куртки старого рыбака. Выразить не могу, что произошло со мной в следующую секунду.
Что-то холодное, бархатно-скользкое, гибкое обвило мою руку. «Змея!» — молнией пронеслась мысль, и я рванул руку из кармана. И точно: кисть обвила серая гадюка. Более ужасных мгновений в жизни я не испытывал. Рванулся так — сработал инстинкт спасения, — что, змея, сорвавшись, улетела аж к изгороди Юдинского огорода. И хохот, восторженный, визгливый хохот ребятишек, в котором звучали и нотки страха (а вдруг я кину змею на кого-нибудь из них) так больно ударил меня в самое сердце, что я почувствовал себя гадко, как никогда. Страшно, обидно, досадно… Я даже заплакал, забыв о гнедом жеребце, к которому так стремился.
Судя по лицам старика Фокея и ребятишек, я понял, что окончательно вышел из себя.
Вот она одиссея деревенского юмора, голгофа шуток, от которых, если не становятся на всю жизнь дураками, то иногда доживают до старости и умирают заиками, становясь посмешищем на всю жизнь.
Домой я пришел весь в слезах. Распряженные во дворе лошади, привязанные к задранным дышлам бричек, мирно похрустывали овес. Гнедой жеребец, пофыркивая в кошелку с овсом, длинным густым хвостом сгонял с крупа присосавшегося паута. Я смотрел на него, а в глазах все еще извивалась серая змея. Толька и Петька, прячась за колесами брички, пытались вырвать из хвоста рыжей кобылы волосы для кнута. Кобыла была смирной и никак не реагировала, когда они, намотав на указательный палец волосы, резким движением вниз вырывали их. И тут же, опасаясь, что лошадь лягнет, отскакивали в сторону, все время косясь на дверь сеней, откуда каждую минуту могли показаться кормачевские колхозники. Мишки на дворе не было.
— Что вы делаете?! — крикнул я на братьев, которые не видели, как я вошел во двор.
Испуганные выражением моего перекошенного лица, они отскочили в сторону и убежали в огород.
— Что с тобой, сынок? — тревожно спросил отец, когда я вошел в избу.
С трудом сдерживая рыдания и не в силах унять нервную дрожь, я рассказал обо всем отцу.
— Где он, этот Фокей! Сейчас он у меня получит! — воскликнул отец, и я решил, что он сейчас пойдет бить ему морду.
— Не надо, папаня, он старик… — начал я уговаривать отца, который уже снимал с гвоздя фуражку.
Отца остановил и Данила.
— Петрович, сядь. В сердцах греха наделаешь. Остынь, завтра с ним поговоришь. Не рушь беседы. Мы ведь с тобой год как не виделись.
На столе в кухне стояла начатая четверть самогона. На лавке и на бабушкином сундуке расположились еще два незнакомых мне мужика и баба, что сидела на возу в клетчатом платке. Лица у всех — или от выпитого самогона, или от ветра и солнца — были красные, возбужденные. Бабушка хлопотала у шестка печи. На сковородке горячим парком дымились крупные куски жареной щуки. «Привезли кормачевцы, — подумал я. — У нас последнее время щука почти вся вывелась, ловятся лишь караси да ерши». Брата в избе не было.
— Папаня, а где Мишка? — спросил я отца, чувствуя, как вся злость, накопленная за дорогу, словно испарилась.
— Понес матери передачу. Есть хочешь? Садись.
Запах жареной рыбы щекотал ноздри, дразнил.
— Погоди, успеешь за стол! Посмотри на свои руки, — встряла в разговор бабушка, которая вечно все замечала, до всего ей было дело.
Я пошел в сени и для вида раза три громко звякнул соском чугунного умывальника, в котором воды было на донышке. А грязь на руках размазал, оставив ее на мокрой холщовой утирке.
Сел между разрумянившейся бабой и Данилой, который только что разлил по граненым стаканам самогон и поздравил отца с новорожденной.
Почуяв запах жареной рыбы, вбежали Толик с Петькой. Остановились у печки и, переминаясь с ноги на ногу, глядели то на отца, то на бабушку. Оба ждали команды отца. За столом он был строг и не всегда, не при всех гостях мог посадить за общий стол детей. По лицу отца, который, поднеся ко рту стакан с самогоном, вдруг задержался, я понял, что он решает: пригласить малышей к столу или сказать бабушке, чтобы та покормила их попозже.
— Ну, что? — спросил отец, переводя взгляд с Петьки на Тольку. — Щучки охота отведать? Мамаша, — отец круто повернулся к бабушке. — Посади их в горнице. Да смотрите скатерть не обляпайте.
Толька и Петька схватили со стола по куску хлеба и юркнули в горницу.
Когда мужики выпили по полстакана самогона за новорожденную и, кряхтя, закусили солеными огурцами, я, осмелев, повернулся к Даниле.
— Дядя Данила, а когда лошадей поить?
— Потерпи, скоро поедем. Только на гнедка мне, наверное, придется сесть самому. Уросливый, чужих наровит сбросить, шайтан. Признает только меня.
— Это, случайно, не тот, о котором ты говорил прошлой осенью? Еще объезжать собирались? — спросил отец, наблюдая за бабушкой, которая вначале отложила для малышей в алюминиевую миску три куска жареной щуки, а потом, передумав, один кусок взяла назад. — Мамаша, да положи ты им по два куска, пусть поедят как следует, они же голодные. — И тут же жестом руки и наклоном головы молчаливо извинился перед Данилой. — Вижу по всему, что жеребец высоких кровей. А грудь-то, грудь…
— Тот самый, — хмуро протянул Данила, сдвинув брови. — Да ждали мы от него больше. Не в те руки попал, когда к седлу приучали. Погорячились, сорвали норов. Пришлось запрягать в оглобли. А ведь как я на него надеялся. Думал, для скачек подготовим. Уж призы кое-кому снились. А вон получилось вишь как — охомутали.
Мишка пришел из роддома, когда мы уже поужинали и за околицей показалось стадо. Любуясь гнедым жеребцом, отец трогал его холку, тыкал кулаком в грудь, ладонью проводил по тугому лоснящемуся крупу и зачем-то, нагнувшись, обхватывал пальцами ноги коня повыше копыт. Заметив Мишку, отец встал и стряхнул ладони.
— Ну, как мать? Не подходила к окну?
— Пока не разрешают. Та утрешная тетка сказала, что маманя чувствует себя хорошо.
— Ну, ступай, ешь, там тебе оставили. А потом выходи — посмотрю, кто из вас усидит на гнедке.
Я глянул на отца: шутит или говорит всерьез? Только что за столом Данила говорил: конь с норовом, всех, кроме него, сбрасывает. В глазах слегка захмелевшего отца я заметил блеск, который в них вспыхивал, когда в душе его просыпалась лихость. А уж того и другого у него хоть отбавляй. Чего только не рассказывала про него мама. Как отец в молодости с завязанными глазами на спор забирался на колокольню аж до самого креста и переплясывал всех знаменитых плясунов. Лошади слушались его как колдуна. Не было на конном базаре такого норовистого скакуна, чтоб он не сел на него верхом и, вдоволь натешившись буйством жеребца, когда тот вставал на дыбы и бросался в разные стороны, давал круг почета от старой церкви до новой, наводя страх и ужас на шарахающихся в стороны прохожих.
Пока Мишка ужинал, отец, Данила и два его напарника-кормачевца — молчаливый молодой детина саженного роста и стриженный наголо парень, острым ножичком вырезавший на кнутовище тонкие узоры, — сидели на осиновых бревнах. Я не отводил глаз от гнедого жеребца. Он притягивал меня, словно магнит. Я даже не заметил, как в нашем дворе появились Пашка Шамин и Трубичка. Опасливо поглядывая на отца, недовольство которого не раз испытали на себе, когда не вовремя приходили к нам и сманивали детей на озеро купаться или разорять утиные гнезда. Трубичка стоял у калитки и ждал, когда я его позову, а Пашка, подойдя к рыжей кобыле, гладил ей бок, кидая опасливый взгляд на отца.
— Ну что, Трубичка, сядешь на гнедого? — насмешливо спросил отец.
Среди ребятни этот парнишка слыл трусом и ябедником.
— Не знаю, дядя Егор. Уж больно он… — Трубичка хотел что-то сказать, но не находил слов.
— Что больно? — строго спросил отец.
— Люто смотрит. Как бы не укусил.
— А ты подойди, погладь его, — подначивал отец.
Трубичка нерешительно подошел к гнедому и, остановившись в двух шагах, протянул к его морде руку. Гнедой стриганул ушами, сверкнул синеватым отливом глаза и, оскалив большие белые зубы, дернулся мордой навстречу мальчишке, который сразу же отскочил назад.
— Ну что — слабо, — засмеялся отец.
— Я лучше на рыжуху… — протянул Трубичка и смело подошел к кобыле, положив ей на холку руку.
Во двор вышел Мишка. В руках у него были куски хлеба. На губах, на подбородке брата лоснился жир: так спешил, что даже не утерся. Как и Трубичка, он, не дойдя до гнедого несколько шагов, протянул на ладони хлеб. После нервного всхрапа жеребец снова обнажил белые крупные зубы разомкнутых челюстей. Мишка, отдернув руку, отскочил в сторону. А я стоял и не мог оторвать глаз от коня. Уж больно тянуло меня к нему. Страшно было, а тянуло. Сбегал в избу и, крадучись от бабушки, достал из решета ломоть хлеба.
Мне бросился в глаза взгляд отца, который тоже уселся на бревнах и закурил. Я прочитал в нем нечто вроде последней надежды, соединенной с благословением.
Как и Мишка, я с ломтем на ладони осторожно, не дыша, пошел навстречу гнедому. И все повторилось: стриганули длинные уши, вздрогнули в храпе ноздри и губы, а оскал зубов лошади на этот раз показался мне еще страшней… Но я преодолел себя, сумел переступить ту грань, перед которой дрогнули Мишка и Трубичка. Очертя голову и движимый какой-то непонятной силой, вплотную подошел к морде коня, поднеся к ноздрям гнедого пахучий ломоть хлеба. С жеребцом словно что-то случилось. Вначале он вскинул голову, замер, потом своими мягкими губами тронул ломоть, аккуратно вбирая его в зубы.
Я оглянулся на отца. Тот даже привстал от волнения.
— Так, так, сынок!.. Все верно, не боись!.. А теперь отвязывай поводья и забрасывай на холку!..
Все это я делал и раньше десятки, а может, и сотни раз, но только не с такими конями. Теперь плечо мое касалось морды лошади. Гнедой не трогал меня, хотя я всем телом чувствовал, как бухает в моей груди сердце. Отвязав поводья, я пытался закинуть их за голову коня. Вначале это у меня не получалось: жеребец был слишком высок.
— Подпрыгни повыше — получится! — скомандовал отец.
Я так и сделал. И снова напрасно. Жеребец, вздернув в испуге голову, попятился. Но зубы не оскаливал. И тут я догадался: встав на дышло, закинул повод на шею, не зная, что делать дальше.
— А теперь садись! — приказал отец.
— Что? — выдохнул я.
— Садись! — в голосе отца прозвучали резкие ноты.
Ослушаться я не мог. На погибель он ведь меня не толкнет!
Вскочив на колесо брички, я, как пружина, стремительно взобрался на спину гнедого и только успел вцепиться в повод узды, как почувствовал, что вместе с жеребцом поднимаюсь в воздух. Не сразу даже понял, что он встал на дыбы. В голове билась одна мысль — удержаться, не упасть… Если упаду — конь растопчет меня. Но жеребец, проиграв в первой попытке сбросить седока, пошел на другое коварство: опустившись на передние ноги, он высоко поднял зад и, резко взбрыкнув ногами, сбил меня на самую холку, в которую я успел намертво вцепиться пальцами.
— Держись, сынок! — Голос отца был нервный, пронзительно-тонкий, как туго натянутая струна.
Какие-то доли секунды, и я перелетел бы через голову жеребца, но тут же почувствовал, как тело мое заняло прежнее положение. Однако ненадолго. Я не успел опомниться, как гнедой снова взвился на дыбы.
— Папаня, сними!.. — взмолился я, ища глазами местечко, куда бы кувыркнуться, чтобы не быть раздавленным под копытами разъяренного гнедого.
— Сиди! — властно прокричал отец и кинулся к воротам.
Боковым зрением, когда гнедой еще раз вскинулся на дыбы, чтобы сбросить меня, вцепившегося в него, как клещ, я увидел раскрытые ворота.
— Скачи к озеру! — скомандовал отец, и я, стукнув каблуками ботинок о бока гнедого, почти лег грудью на холку, крепко сжав в пальцах поводья. Я даже не почувствовал, как очутился на улице. Натянув поводья, послал гнедого вперед. Ветер свистел в ушах, пасущиеся на улице гуси с гоготом и хлопаньем крыльев кинулись в разные стороны.
За околицей дорога пошла ровная, сухая. Сердце замирало от восторга, хотелось визжать от счастья, кричать… И я, намотав на руки поводья, принялся шпорить коня каблуками и кричать:
— Алюра мас, правый глаз!..
Эту фразу я несколько раз слышал от отца, когда он во хмелю, в состоянии лихого азарта пускал в галоп впряженную в сани резвую лошадь, а сам, стоя, размахивал вокруг головы ременными вожжами.
Позади остались крытые соломой кирпичные сараи, я уже миновал глиняный карьер и ямы с гашеной известью… Дыхание жеребца становилось надсадней, а я все бил и бил о бока его каблуками ботинок. Во мне бурлило доселе незнакомое чувство острого желания взлететь вместе с гнедым к облакам, вверх и вперед, вперед и вверх!.. И тут молнией пронеслась в голове моей мысль: «Эх, если б меня сейчас видел Серега!..» Но брат был в Новосибирске.
Доскакав до бугра, за которым шел склон и начиналось непроходимое болото, затянутое камышом, я с силой потянул левый повод и перевел жеребца с бешеного галопа на рысь. Конь послушался моей команды и, убавив пыл, сделал плавный разворот. Только теперь, повернув к селу, я почувствовал, что хозяин здесь — я, а конь подо мной — верный и послушный друг. Какое это радостное чувство!.. О нем не нужно рассказывать, а лучше всего хоть один раз пережить самому.
И снова — галоп. Бешеный галоп, которым ранее мне еще никогда не приходилось скакать. Пока я не видел своей избы, а только крайние подворья околицы, но твердо знал, что отец, кормачевские мужики, Мишка вместе с моими младшими братьями, а также Пашка Шамин и Трубичка — все сейчас высыпали на улицу, столпились у наших ворот и ждут моего возвращения. И я не ошибся. Еще издали, не въехав в село, я увидел их и еще сильнее пришпорил гнедого. Тогда, когда я разворачивался на бугре и переводил скакуна с галопа на рысь, для себя уже решил: до избы Шаминых пойду на галопе, а там в сотне шагов от наших ворот осажу жеребца и на рыси въеду во двор. Был уверен, что ворота отец не закрыл. И намерения мои наверняка осуществились бы, если бы во мне не взыграл бес ухарства и удали. Доскакав до избы Шаминых и увидев отца с поднятыми руками, которыми он приветствовал меня, я изо всех сил застучал каблуками о бока гнедого и, слившись с густой гривой, крича что-то нечленораздельное, проскакал мимо своих ворот, у которых собралась уже целая толпа.
За тополями, против избы Кузьмича, я осадил коня, убавил ход и повернул назад. И снова бес лихости и озорной удали одолел меня. Конь уже запальчиво дышал, но мне было в эту минуту все равно. Я знал, что теперь-то я въеду на свой двор победителем. И въехал бы, если б не Очкарик. Откуда его только вынесло на своем велосипеде! Он на хорошей скорости выскочил из проулка Юдиных, увидел несущегося гнедого, растерялся, круто затормозил и нажал на грушу гудка. Резкий рывок коня влево был таким неожиданным, что через секунду я уже сидел в дорожной пыли и, еще не чувствуя боли, смотрел вслед гнедому, который, сразу же убавив рысь и наступив на повод, остановился против наших ворот.
Я видел, как в мою сторону бежали отец, Мишка, мои младшие братья, Пашка и Трубичка. Но я уже вскочил на ноги, отряхивал со штанов пыль и стирал с локтей пиджака пахучий гусиный помет. Первым подбежал отец. Подняв перед собой на руки, он обнял меня и расцеловал.
— Спасибо, сынок!.. Молодец!.. Будет из тебя толк!..
Через полчаса, когда гнедой остыл и солнце с кирпичных сараев покатилось вниз, на рям, отец вышел во двор и, глядя на нас, ребятишек, вьющихся у ног лошадей, сказал:
— Пора поить. Ванец, ты как? — Отец посмотрел на меня и улыбнулся. — Ребра целы?
— Целы, папаня.
— На кого сядешь?
Я ничего не ответил, подошел к гнедому и, как старого друга, погладил его тонкий храп.
— А ты? — спросил он Мишку и, как я понял в эту минуту по его взгляду, предпочел бы, чтобы сын выбрал не спокойную рыжую кобылу, а серого в яблоках жеребца, который по всем приметам уступал только гнедому.
— Садись на серка, — в конце концов сказал он.
Каурый мерин достался Трубичке, рыжая кобыла — Пашке.
Когда отец распахнул ворота, мы все четверо уже сидели верхом. Однако и на этот раз мой жеребец не преминул проявить свой непокорный норов: два раза взвился на дыбы, но, наверное, решив, что этого всадника уже нет смысла сбрасывать, замер на месте и, когда я слегка ослабил поводья и пришпорил его бока, почти с места взял размашистой рысью. Я с трудом осадил его, когда выехали на дорогу, чтобы со мной поравнялись другие лошади.
— Мишка, давай первым, я догоню! — крикнул я брату, и он пустил в галоп серого жеребца в сторону кирпичного сарая, а мой, гнедой, не желая стоять на месте, плясал, пятясь назад, готовый по первой моей команде перейти на галоп и догнать остальных лошадей, уже поравнявшихся с Пашкиной избой.
Я быстро догнал ребят. Рыжая кобыла, высоко вскидывая задними ногами, подбрасывала Пашку, и тот от неумелой посадки, откинувшись назад всем телом, только и успел крикнуть мне:
— Ну и трясет же одрина!..
Каурого мерина я обошел, не доезжая до кирпичных сараев. С серым жеребцом, которого Мишка понукал галопом и бил по бокам ременными поводьями, мы несколько секунд шли «ноздря в ноздрю», но потом мой гнедой вдруг резко рванул вперед и вскоре голос Мишки уже звучал где-то сзади:
— Куда го-о-онишь?..
Когда поили лошадей, я по глазам брата видел, что он завидует мне. И была тому причина: он старше, он сильней, он в десять раз смелее и отважнее меня.
Лет двадцать назад на окраине нашего села была построена геодезическая вышка с семью площадками, которые мы называли этажами. Площадки каждого «этажа» соединялись крутыми, чуть ли не вертикальными лестницами, представляя из себя квадратный пятачок из метровых досок без перил. Так что при сильном ветре стоять на таком «этаже» было опасно. Как правило, смельчаки сидели или лежали, обозревая окрестности села, окруженного озерами и всегда зеленым рямом.
Я осмеливался забираться только на четвертый «этаж». Дальше боялся — голова кружилась. Пашка же Шамин и Трубичка лазали на пятый, и это меня втайне злило. Зато Мишка уже в прошлое лето добирался до последнего, седьмого «этажа», куда рисковали забираться только самые отчаянные и бесстрашные ребятишки села.
Жил в нашем селе нечистый на руку Ванька Ермак, которому в драке не было равных. Не по силам, а по смелости и отваге. И вообще я давно заметил, хотя всякие свары старался обходить стороной, что в драке решает не столько сила, сколько нахрап и смелость. Первый резкий и неожиданный удар в лицо, за которым тут же следует столь сильный второй удар, как правило, решает исход мальчишеских драк, если, конечно, в ход не шли кастеты, колья и все, что попадется под руку. Но тогда в них вмешиваются взрослые. Ванька Ермак был мастером первого удара. И всегда старался бить в нос, чтобы пустить «красные сопли». А уж когда пошла кровь, заливая рот, подбородок и капая на рубаху, получив второй удар, оставалось только одно — удирать или пускать «нюни». Не дрогнув, Ванька мог пойти с голыми руками на нож, на камень, зажатый в кулаке, на поднятый кол. С ним многие его ровесники и ребятня постарше хотели дружить, но он никого к себе не приближал. У маленьких да и у ровесников любил обыскивать карманы и, если в них ничего не находил, давал по шее затрещину или под зад пинка. Не любил Ермак тех, у кого карманы вечно пусты. Ванька всегда ходил в красной рубахе, голенища сапог сжимал в гармошку, над которой с напуском свисали широкие штанины. В те годы это называлось носить сапоги «по-блатному».
Мало в нашем селе было ребят, которые не боялись Ваньку Ермака. И среди них наш Мишка. Оба невысокие, широкогрудые крепыши, лобастые, только волосом Ванька был мерен, словно жук, да лицо бровастое, глаза цыганские. Были они ровесниками. Однажды Мишка и Ермак сцепились. Из-за пустяка. Мишка на площади перед школой лез по скользкому шесту, впиваясь в него пальцами рук, ступнями босых ног, обвивая его коленками и локтями. Уже долез было до конца: через полметра можно уцепиться за кольцо, отдохнуть и, поплевав на ладони, спускаться. Но в это время к спортивной площадке подошел Ермак. Он бросил на землю окурок, лихо растер его каблуком и начал трясти шест. Мишка, не видя, кто стоит внизу, закричал:
— Уйди, сволочь!.. Изуродую, как Бог черепаху!
Угроза только раззадорила Ермака. Он начал трясти шест сильнее. Не достигнув кольца, Мишка быстро, обжигая ладони и ступни ног, сполз с шеста. Лицо его было бледное. А Ермак стоял и нагло улыбался.
— А, это ты, Старый? А я тебя и не узнал.
Удар Мишки был неожиданный. В нижнюю челюсть, снизу вверх, отчего Ермак клацнул зубами и пошатнулся. Вторым ударом, тоже в челюсть, но сбоку, Мишка сбил Ермака с ног. В деревенских драках это считалось венцом победы. Все, кто был на спортивной площадке, затихли. Сбить с ног Ваньку Ермака!.. Этого пока еще никому не удавалось. Но Ермак был не из тех, кто после первой промашки падал духом. На ноги он вскочил, как пружина, весь подобрался, втянул голову в плечи и, прижав кулаки к груди, пошел на приготовившегося к защите Мишку.
Дрались они отчаянно, с подвизгами, пускали в ход резкие пинки, норовя попасть в пах, у обоих из носов и разбитых ртов шла кровь, но никто не хотел сдаваться.
Меня всего колотило. У ограды могилы, в которой был похоронен партизан времен Гражданской войны, я подобрал половинку кирпича и уже было кинулся на подмогу Мишке, но меня вовремя удержали ребята постарше. А наблюдавший за дракой райисполкомовский конюх вырвал из моей руки кирпич, закинул его за ограду и грубо матюгнулся.
— А ты… куда, с кирпичом?! Видишь, на равных! Пусть покончат.
Обессилев, Мишка и Ермак до тех пор волтузили друг друга, пока не упали оба и не начали кататься по земле, и здесь стараясь угодить друг другу кулаком в нос или в зубы. И все-таки Мишка, лежа на земле, оказался ловчее. Выбрав момент, он так точно и так резко саданул Ермаку коленом в пах, что тот взвыл и ослабил руки. Этой растерянностью брат и воспользовался. Он применил такой болевой прием, коварство которого я не раз испытал на себе. Намертво зажав левой рукой шею Ермака, так что у того побагровело окровавленное лицо, он большим пальцем правой руки нажал ему за ухом «кнопку». Думаю, что через эту «кнопку» прошли многие деревенские ребятишки, когда старшие, потеряв терпение, начинают показывать свою власть над младшими.
Видя, что Ермак, разбросав руки и тяжело дыша (левая рука Мишки все сильнее сдавливала его шею), готов сдаться, брат ослабил руки, быстро вскочил на ноги и оставил своего противника лежать на земле. И этим Мишка перехитрил Ермака, сыграв в великодушие.
Ермак вставал медленно, вытирая с лица рукавом рубахи кровь. Тоже самое делал и Мишка. И тут хромой райисполкомовский конюх, который в течение всей драки испытывал что-то вроде азарта, отчего не мог стоять на месте и все время вставлял словечки, выдававшие в нем бывшего неуемного драчуна, сделал то, что для Ермака было больнее Мишкиных оплеух, ударов в пах и «кнопки». Он подошел к Мишке, взял его окровавленную руку и поднял ее вверх.
— Победа! — хрипло выкрикнул конюх и пожал крепко Мишкину руку. — Вот так завсегда: держись, мать-честная, до победы! — И, повернувшись к Ермаку, приободрил его: — А ты не горюй… Ты тоже молодец! Он взял тебя началом. Наверху всегда бывает тот, кто начинает.
После этой стычки вся ребятня на второй же день узнала: «Старый» (это была кличка Мишки) отвалтузил Ермака. Авторитет брата перешагнул границы Пролетарской, Майской и Рабочей улиц. Он докатился аж до старого базара, что в конце Сибирской. Узнали о поражении Ермака и на Колтае, за переездом. Эту глухую и тихую окраину села мы считали чем-то вроде Камчатки.
После этой драки Ермак, узнав, что я брат «Старого», не стал при встречах обыскивать мои карманы, в которых у меня, кроме моркови, репы или бобов, почти никогда ничего не было.
И вот Мишка, который одолел в драке самого Ваньку Ермака, к гнедому жеребцу сразу подойти побоялся!
В этот вечер я уснул самым счастливым человеком на свете. Удивляло то, что упал с коня на полном галопе, а вот нигде, ни в одной косточке, ни в одной жилке — ни синяка. Уже засыпая, я слышал, как Данила, опорожняя четверть в граненые стаканы, сказал:
— За твоих сынов, Петрович! С такими орлами не пропадешь. Это не то, что я… Бог не послал мне сыновей, наградил двумя девками, и те несчастные: одна раскосенькая, другая хроменькая. За твоего Ваньку. Сто сот стоит парень. Мне бы такого сына.
Отец чокнулся граненым стаканом о стакан Данилы и, помолчав, сказал:
— В меня, дьяволенок, пошел. Таким же растет оторви-голова.
Мишка подкатился ко мне, обнял и прошептал на ухо:
— Завтра я Очкарику набью морду.
Ночью мне приснилась змея, огромная, длинная, извивающаяся. Потом много-много змей, обвивающих мои сапоги, с шипеньем ползущих на меня со всех сторон. Я дико закричал и проснулся в холодном поту.
— Что с тобой, сынок? — прозвучал в темноте испуганный голос отца. Свесившись с кровати, он тряс меня за плечо. Избавившись от кошмарного видения, я сидел на подстилке. Зуб на зуб не попадал.
— Змея… Опять змея, папаня… — проклацал зубами я.
— Иди ко мне, сынок, — позвал он меня, и я юркнул к отцу на кровать.
— Да ты весь трясешься. Успокойся. Я завтра тому гаду вторую руку покалечу.
Отец прижал меня к груди, и я начал постепенно приходить в себя. А когда улеглась дрожь и равномерный отцовский храп успокаивающе и однотонно прозвучал совсем рядом, незаметно для себя уснул, провалившись во что-то мягкое, обволакивающее.
Ярмарка
Проснувшись, я увидел, что в окна вплывало солнечное воскресное утро. Отца рядом уже не было. Мишки тоже. Постель убрана. Я прислушался: в кухне бабушка гремела у печки рогачем. По звуку догадался, что она вкатывает на катке чугун. Я вышел на кухню и первым делом бросил взгляд на печку: ноги Толика и Петьки с нее не торчали. Поднялся на приступку — их и след простыл.
— Где же все? — спросил я у бабушки.
— Как где — уехали, — благодушно ответила бабушка, даже не взглянув на меня. — Кому что: кому сон, а кому — ярманка. На пуховой перине-то, поди, сны царские снились.
Я почувствовал себя забытым, несчастным, преданным… Ну, ладно — отец, а Мишка-то, Мишка. Ведь он еще вчера вечером чуть ли не поклялся набить морду Очкарику за то, что из-за его велосипеда я упал с коня на полном скаку. И на Толика с Петькой брало зло. Кто их разбудил? И зачем отец взял с собой? Может быть, напросились, пообещали, что не будут ни на шаг отходить от Мишки, а тот согласился взять на себя это колготное шефство?
С мстительной мыслью я, пока бабка завершала свои околопечные хлопоты, кинулся через весь огород к канаве и ползал по ней до тех пор, пока не нашел в стрижиных норах Мишкины бабки. Трижды их пересчитал: шестьдесят четыре. В подоле рубашки перенес к куче картофельной ботвы, что оставлена за баней на зиму перепревать. Частично удовлетворенный (пусть поищет, уродина!..) я сел за стол, наскоро позавтракал: много ли нужно времени, чтобы умять ломоть душистого, вчера испеченного хлеба и выпить медную кружку кваса. Стаканы в нашем доме долго не держались, бились часто, пользоваться ими всегда — накладно. В основном обходились разнокалиберными кружками. Самой большой была медная, с красноватым отливом и прозеленью в тех местах, где ручка припаяна к кружке.
Пока бабушка кормила во дворе кур, громко скликая их своим звонким фальцетом, я потихоньку залез в укладку и достал Мишкину серую рубаху, в которой он ходил только в школу. А про себя мстительно приговаривал: «На ярмарке, при людях, ты из-за рубахи драться не станешь. А потом не об свои же бабки я вымазал подол, а об твои. Ты сколько раз надевал без спросу Серегину синюю сатиновую рубаху. Жалко, что я тебя тогда не выдал, он даже сейчас не знает, но больше таить не стану, будет тебе лупцовка. Он загнет тебе такие салазки, что ты другой раз будешь меня будить…»
Увидев на мне Мишкину рубаху, бабушка кричала вслед что-то бранное, но я, чтобы скоротать путь, огородами побежал напрямик мимо старого заброшенного кладбища на бугре.
Пробегая по Пролетарской улице мимо избы Ваньки Ермака, я косил взглядом на его двор и искал глазами красную рубаху. Но кроме огромного огненно-отливающего черно-красного петуха, который, скребя правым оттопыренным крылом по земле и делая лихие круги вокруг как-то сразу притихшей серой курочки, на дворе никого не было.
Чтобы еще больше сократить путь до ярмарки, которая раскинулась за переездом на выгоне, где за последний месяц было понастроено множество ларьков и навесов с прилавками, я напрямик, через обрамляющее рям болото и, минуя центр, выбежал на середину Сибирской улицы. И тут, как на зло, столкнулся с Ермаком. Он узнал меня сразу и, замедлив шаг, снисходительно бросил:
— На ярмарку?
— Ну конечно, — ответил я, изображая полное спокойствие и невозмутимость.
— А «Старый», наверное, уже давно мотанул туда?
— Он на лошадях. К нам приехали кормачевские. А я проспал, бабушка не разбудила, — чтобы хоть что-то говорить, пробормотал я.
— У тебя, случайно, не будет копеек пятнадцать взаймы? На папиросы. Вечером отдам.
У меня не было ни копейки. Но в эту минуту я чувствовал: если бы Ермак попросил полтинник и он был бы у меня — я отдал бы ему, поверил бы, что вернет. Порукой этому была Мишкина победа в прошлогодней драке. И все-таки не знаю зачем, но прежде, чем сказать, что у меня нет ни копейки, я вывернул оба кармана и потряс ими.
— Видишь — ни копейки. Было бы — дал.
— Чего ты выворачиваешь — и так верю, — недовольно пробурчал Ермак. — Ты что, торопишься?
— Да, я же сказал, кормачевцы у нас на постое. Просили покараулить их воза, — соврал я.
Ни о каком карауле возов никто меня не просил. Мне просто хотелось поскорее разойтись с Ермаком, власть которого необъяснимо давила на меня.
— Ну давай жми, а я зайду к тетке. С вечера не курил. На «бычках» кантуюсь.
Я уже давно заметил, что в лексиконе Ермака каждое третье словечко проскальзывало из блатного жаргона. Когда он просил у кого-нибудь папиросу, чтобы несколько раз затянуться, то не говорил: «Дай два раза курнуть», как все ребятишки, а важно произносил: «Дай пару разочков зобнуть».
Миновав Сибирскую, конец которой тонул в гиблой трясине, я поднялся на переезд, откуда с высокой железнодорожной насыпи была хорошо видна выставка-ярмарка, блестевшая на солнце свежевыкрашенными ларьками и стеклами окон деревянного павильона в центре. Трусил легкой рысцой, а в душе не переставал поругивать Мишку. Забыл о своей злости лишь тогда, когда врезался в скопище груженых телег и бричек с распряженными лошадьми.
Тут я впервые увидел то, чему стоило удивляться: вчерашний племенной бык черно-белой масти (я узнал его по белому кружочку на лбу) с огромным кольцом в ноздрях был привязан цепью к врытому в землю столбу, и над ним, щадя его от солнца, возвышался легкий навес, покрытый толем. В толпе зевак чмокали языками, качали головами, разводили руками, судачили, удивлялись, как эдакую махину выдерживают наши неказистые сибирские коровенки. Кое-кто посмелее подходил к самой морде быка и с ладони угощал, кто куском хлеба, кто пряником, кто конфетой… Но бык, поводя ноздрями, принюхиваясь, ни у кого не брал подношений.
— Это что вам — обезьянка в клетке, что ли? — крикнул на зевак, протягивающих быку сладости, жидкобородый мужичишка в яловых сапогах, до того смазанных дегтем, что с них даже текло. — Это бык, а не мартышка. И не голодный он.
Я двинулся искать своих, шныряя между подводами и ларьками, на прилавках которых взвивались на железных аршинах полотнища цветастого ситца, блестящего мелюстина, матовой бязи, мягкой байки… И за всем этим добром толпились бабьи очереди, в которых стоял несмолкаемый говор и колгота. Мужики вели себя степенней: те по большей части табунились у бочек с пивом и у чайной, из трубы которой шел легкий дымок.
Лошади были все как на подбор: породистые, рослые, молодые, упитанные… Кое-где, время от времени пронзали многоголосую сутолоку ярмарки тонким ржанием молоденькие тонконогие жеребята-сосунки, кружившие вокруг кобылиц. Им не было дела ни до ярмарки, ни до невиданного скопища людей, скота и ларьков. Для них пришла пора кормежки, и они бесцеремонно тыкались мягкими бархатными губами в вымя матери.
У бочки с квасом тоже толкалась очередь: кто с бидоном, кто с кринкой, кто просто хотел напиться досыта. День, словно его вымолили для ярмарки, выдался не просто теплый и солнечный, а даже жаркий. У скобяного ларька очередь завивалась аж за чайную: продавали гвозди. Я обошел выстроившихся в одну линию людей в надежде найти отца. Ведь он так бедствовал без гвоздей. Прошлую весну мы с Мишкой рубили ему их из толстой проволоки, которую он приволок из «Заготзерна», «отвалив» за пудовую связку «красненькую». Гвозди эти шли для работы, которую теперь называют словом «халтура». А тогда, в годы моего детства, я гордился, когда кто-нибудь из соседей, а то и с других улиц приходили к нам и просили, почти умоляли перевязать раму, перебрать пол, сколотить скамейку или табурет, перетрясти переборку в чулане, починить ларь или сменить подгнившие стропила крыши. И отец никому не отказывал. Шел, потому что людям нужен был его труд, потому что другой этого не сделает. На все село их, плотников, можно сосчитать по пальцам. А тех, кто мог выполнять сложную столярную работу, — всего двое: отец и старик Качурин, который последние годы стал слабнуть глазами, а потому боялся брать подряд.
На всякий случай я занял очередь за гвоздями и, дождавшись последнего, двинулся разыскивать своих. Искал знакомых лошадей, особенно гнедого, на котором ездил вчера, и бабу на возу в клетчатом платке и толстой шерстяной кофте. И вдруг набрел на толпу цыган. В своих пламенеющих яркими красками кофтах с большими рукавами и длинных широких юбках, узлами за плечами, с грудными детьми на руках и маленькими, цепляющимися за юбки матерей черноглазыми цыганятами, они выделялись из серой толпы ярмарочной людской неразберихи. Говорили все сразу на своем гортанном степном языке, широко размахивая руками. Позади цыганок, лениво и важно вышагивая вразвалку, шел чернобородый красивый цыган. Под его зеленым вельветовым пиджаком пламенела огненно-красная шелковая рубаха, широкие атласные штаны были заправлены в хромовые сапоги. Рядом с ним — старая цыганка в цветастой сбившейся на плечи шали. На спине ее колыхался огромный узел, который (чтобы не свалился) заставлял ее балансировать корпусом и низко сгибаться. Когда цыган говорил, под его черными усами белоснежно сверкали ровные зубы, отдавая мягкой голубизной.
Я засмотрелся на цыган. Знал их хитрости и приемы, обмануть они могли запросто. Поэтому мне стало жалко молоденькую девушку, по виду деревенскую, видимо, из глухомани, откуда-нибудь из дальней Крещенки или Майнака. Прижав ее к подводе, груженной мешками с зерном, три цыганки ворожили девушке по ладони, все время воровато оглядываясь. Вот одна из цыганок что-то сказала другой, что помоложе, а та потребовала снять с руки перстенек, убеждая девушку, что будет гадать на золоте, которое говорит только правду. Я смотрел со стороны, боясь подойти поближе, и все же увидел, как молодая цыганка молниеносным движением руки передала перестенек другой, и та тут же, не сказав ни слова, быстро отошла от гадалок. А девушка, находясь словно под гипнозом предсказаний, вся раскрасневшись, ловила каждое слово ворожеи, не сводя с нее глаз. Не знаю, чем бы кончилось это гадание, если бы не подошел милиционер и не окрикнул гадалок:
— Опять вы здесь!.. А ну, пошли прочь!
Молодая цыганка, что снимала с пальца девушки перстень, словно ждала этой команды. Юркнув за спины своих товарок, она поспешно скрылась в толпе. А те две, что остались рядом с девушкой, наступая на нее, продолжали гадать, перебивая друг друга, пока не подошел цыган в вельветовом пиджаке. Тогда они быстро покинули девушку, оставив несчастную с широко открытыми глазами. Она заплакала… Заплакала горько, навзрыд, как плачут несправедливо и жестоко обманутые дети.
В душе я ругнул себя, что не сказал милиционеру, кто взял перстень. Но сейчас уже было не до милиционера. Нужно разыскивать своих.
Первого я нашел Мишку. Он стоял у ларька с мороженым. Одно заканчивал, а другое, нетронутое, держал в левой руке. Издали увидев меня, он в первую минуту обрадовался. Потом его словно что-то обожгло, губы изогнулись желчной подковой.
— А кто мою рубашку разрешил надеть?
— Миш, да мне не в чем было идти… Я вчера, когда с гнедка плюхнулся, рукавом вмазался в коровье говно.
Душа у Мишки добрая, он и не такое прощал мне. Видя, что я подавлен своей виной, он протянул мне мороженое. Я колебался: взять или не взять.
— Чо губы надул? За то, что не добудился? Я тебя два раза будил, ты чего-то промямлил и в перину зарылся, как сурок, а отец не велел тебя будить, сказал, что ночью ты плохо спал. Какие-то змеи снились.
Я взял мороженое. Это означало, что примирение состоялось. Слизывая языком холодную молочную сладость, сформованную столбиком между хрустящими вафлями, я думал: что мне теперь делать с Мишкиными бабками, которые я перепрятал.
— А не врешь? — спросил я, заглядывая Мишке в глаза.
— Чо мне врать-то? Не веришь — спроси у папани или у дяди Данилы, он как раз заходил в горницу, брал сумку с документами.
Я поверил Мишке и с души у меня схлынула волна обиды.
— Ладно, тогда скажу: твои бабки в канаве я перепрятал. Озлился я на тебя…
Мишка не дал мне договорить, его кулаки крепко сжались.
— Куда перепрятал?
— Под кучу картофельной ботвы, за баней, — виновато процедил я, больше всего боясь только одного, как бы брат не двинул кулаком по мороженому и не вышиб его.
— Ну, смотри, если не досчитаюсь хоть одной бабки — своих не увидишь ни одной!
Больше Мишка ничего не сказал, круто повернулся и, завернув за угол ларька, пошел в сторону подвод. Я увязался за ним и обрадовался, увидев на возу Петьку. Лошади Данилы — гнедой жеребец и серый — были привязаны к поднятому дышлу и ели овес. Петька, губы которого были черны от семечек подсолнуха, держал в руках, как бубен, целый его круг. Толик, примостившись у колеса, стоял на коленях и из тонких сыромятных ремней плел кнут. О ременном кнуте он мечтал давно, надергал для него из лошадиных хвостов столько волос, что хватило бы на добрый десяток волосянок.
Но сыромятными ремнями он где-то разжился только теперь. Братья обрадовались моему приходу и похвалились, что уже съели по три порции мороженого.
— А где папаня? — спросил я, не глядя на Мишку, который еще не остыл в своей злости на меня за перепрятанные бабки.
— С кормачевцами. Они торгуют в ларьке кожей и овчиной, вон там, за чайной.
Толик показал в сторону павильона, из трубы которого шел дымок.
— И еще у них пять мешков шерсти, — вставил Петька, вышелушивая решетку и ссыпая семечки в карман. — Папаня прикинул, что увезут они с ярмарки не меньше как мешок денег.
— А вы чего сюда приплелись? — дерзко спросил я Толика, самозабвенно отдавшегося своей работе.
Кнут у него получался ровный, тугой. До этого он столько переплел веревочных, что этому, ременному, отдавал все свои силенки и опыт.
— А мы с Петькой караулим. Кормачевцы обещают заплатить.
— Деньгами? — спросил я.
— А кто их знает чем? Данила сказал, если будем хорошо караулить их воза — получим гостинец. Конечно, хорошо бы деньгами. На кой нам их шерсть да кожа.
Я двинулся к павильону. Пробираясь между возами и рядами ларьков, почему-то глазами рыскал по земле, как будто кто-то все же должен обронить для меня рубль или, на худой конец, серебрушку. И вдруг!.. Что это — наваждение или галлюцинация? У охапки сена, что лежала рядом с колесом пароконной брички, зеленел сверточек. Я остановился как вкопанный, не веря своим глазам. Деньги!.. Огляделся — рядом с подводой никого. Распряженные быки мирно похрустывали сеном. Я нагнулся, судорожно схватил деньги и крепко зажал их в кулаке. Забыл даже про гвозди и про отца. Обжигала теперь одна тревожная мысль, чтобы кто-нибудь не опустил на мою шею руку и не сказал басом: «А ну, отдай!.. Это я уронил!..» Поэтому шел я как во сне, бежать боялся — сразу можно попасться с находкой. Петлял меж ларьками и возами, как заяц, путающий след охотника. Никак не находил места, где бы можно было остановиться и посмотреть, сколько же денег зажато у меня в ладони. Увидев невдалеке кустики еще не облетевшего тальника, откуда шел мужик, на ходу застегивая пуговицы штанов, я кинулся туда. Благо они были густые, и я преспокойно, покряхтывая, расположился для «большой нужды». Никто меня не видел. Ярмарка где-то в отдалении глухо гудела. Вот тут-то, оглядевшись, я разжал кулак. И, забыв, зачем присел, начал считать деньги. Новенькие, хрустящие, как будто только что из-под станка, почему-то вдвое согнутые трешницы вспыхивали перед моими глазами зелеными радугами. Семь штук!.. В голове тут же промелькнуло: «Двадцать одно!.. Очко!..» Не поднимаясь, я спрятал деньги. И не в карман, а за пазуху, так, чтобы чувствовать их каждую секунду не только рукой, но и телом.
От кустов я летел к возам, как гонимая ветром пушинка. Больше гривенника в жизни я еще не находил. А тут на тебе — сразу двадцать один рубль!.. Сколько можно купить конфет!.. Сколько порций мороженого!..
В разгоряченном воображении предстал новенький, как две капли воды похожий на наган, пугач с огромной пачкой пробок. Даже складной нож Очкарика виделся теперь мне не как несбыточная мечта, а как вполне осуществимая реальность.
У чайной, где на лотках торговали леденцами-петушками на палочках и длинными, как карандаши, конфетами, обернутыми в разноцветные бумажные ленты, я натолкнулся на Мишку. Он стоял рядом с лотком и жадно глядел на недоступную сладость.
— Ты здесь? — бодро окликнул я Мишку.
Брат даже вздрогнул от неожиданности.
— Да так, смотрю, — ответил брат вяло и стал пристально вглядываться мне в лицо. — А ты чего такой?
— Какой такой?
— Да трясешься весь, смурной какой-то.
— Да так, что-то живот болит, — соврал я, а самого подмывало нетерпение показать Мишке хоть трешку.
Но как ее отделить на его глазах? Ведь вся пачка туго свернута и лежит за пазухой. Но мне почему-то вдруг стало жалко Мишку. По глазам было видно, как ему хочется попробовать ирисок. Он-то ведь отдал мне свою вторую порцию мороженого. Я даже тоскливо вздохнул от невозможности сейчас же ответить ему добром.
— Ну чего глазеть, пойдем, — предложил я.
— Куда?
— Поищем папаню. Ведь он не израсходовал наши деньги. Может, даст копеек пятьдесят? — продолжил я фальшивую игру, зная, что никаких отцовских денег мне не нужно — ведь я сейчас самый богатый мальчишка на всей ярмарке. Да не только на ярмарке. Во всем нашем селе!.. Но как Мишке показать трешницу, как сказать ему, что нашел, и тут же пустить в расход.
Мое предложение брату не понравилось. Некоторое время он, правда, колебался, потом как отрезал:
— Так деньги же мамане. Договорились же?
В душе мне было совестно перед Мишкой. И это предложил я, у кого за пазухой — целое состояние.
Мы пошли бродить по ярмарке. И тут, словно дразня нас, перед глазами вырос лоток, на котором китайцы торговали резиновыми надувными чертиками. Китаец надувал чертиков, и они одновременно, на разные голоса кричали: «Уйди, уйди, уйди…» Мы с Мишкой остановились, глазея на эти игрушки, что продаются только в городах.
— Вот бы парочку, а? — тоскливо вздохнул Мишка. — Где бы занять хоть копеек тридцать? Я бы вечером отдал. Мне Трубичка должен полтинник.
Во мне трепетала каждая жилка, каждый нерв, а Мишка подогревал мое нетерпение открыть перед ним хоть краешек моих сокровищ.
— Говорят, что после обеда привезут пугачи и футбольные камеры. Достать бы хоть на камеру. У отца просить не хочу. Ты физрука не видел?
— Нет.
— Он бы купил. У него всегда с собой шальные деньги. Увидишь — скажи.
Даже разговаривая с Мишкой, я успел не раз и не два вроде бы нечаянным движением руки коснуться живота и ощутить еле слышное похрустывание новеньких бумажек. С трудом, но я все-таки преодолел в себе благородный порыв, твердо решив про себя, что о своей находке Мишке не скажу. Иначе вся добыча, из-за его расточительного компанейского характера, тут же полетит на ярмарочный распыл, а у меня уже в голове зрели далеко идущие планы, как истратить найденные денежки. Причем в этих планах обязательными действующими лицами были отец и мама. Это меня несколько успокаивало, не так будоражило совесть. Я даже пытался уразумить себя: «В хозяйстве столько дыр, у мамы вон чулок хороших нет да и Зине одеяло еще не купили… Из старого, детского, уже давно вата лезет».
И мы с Мишкой разошлись в разные стороны. Он пошел искать физрука, а я, дождавшись, когда брат скроется из виду, нащупал за пазухой деньги и вытащил одну бумажку. Впервые я испытал чувство радости, покупая на «свои» деньги всякую разность. От трешницы за несколько минут остался всего лишь пятак. Зато карманы мои были набиты чертиками, купленными у китайцев (всем братьям по-одному, а себе — два), ирисками, конфетами с бумажной бахромой… Леденцы-петушки на палочках (всем по два) в карманы совать не стал — слишком липкие.
Нужно было видеть лица моих младших братьев, когда, дав им по паре петушков, я начал вытаскивать из карманов остальные сладости и чертиков.
— Вань, ты это где? — глупо хлопая глазами, спросил Петька.
Разложив перед собой мои подарки, он не знал, с чего начать.
— Купил, — важно ответил я и положил Мишкину долю под брезент. И тут же строго наказал: — Придет Мишка — отдайте ему. Только смотрите — тут все считано, всем поровну. — Я не стал разъяснять, чтобы они не трогали ни одной конфетки из Мишкиной доли — те поняли сразу: характер брата был им хорошо известен.
— Вань, да ты на что купил? — спросил Петька.
— Любопытной Варваре нос оторвали, — как большой, проговорил я, и Петька, словно боясь, что я передумаю и отберу у них гостинцы, сразу замолк и, сложив подарки в подол рубахи, принялся жевать ириску.
К полудню ярмарка напоминала гудящий гигантский улей, в котором людской говор и выкрики, скрип телег, звуки животных слились в единый гул. И над всем этим скоплением людей, лошадей, овец, быков, телег и рядами фанерных ларьков полыхало горячее солнце последних дней бабьего лета. На душе у меня разливалось благостное умиление, в котором маленькой занозой саднило угрызение совести перед Мишкой. Теперь я уже пожалел, что не сказал ему о своей находке сразу. Ведь все равно скажу. Ведь спросит же он, на что я купил гостинцев и столько сладостей. И я не совру. Мишке нельзя врать, у него на это чутье особое. Да и зачем врать — ведь не украл же я.
С этой томившей меня мыслью, которая в бочку меда моей душевной радости добавила ложку черного дегтя, пустился я бродить по ярмарке в поисках брата. Раза два чуть ли не наткнулся на отца. Вместе с плотниками, о чем-то оживленно разговаривая и размахивая руками, он у пивного ларька, как и все мужики, потягивал из толстой пивной кружки пенистое пиво.
Столкнувшись с Ванькой Ермаком, чтобы не дожидаться, когда он начнет обшаривать мои карманы, сразу же протянул ему две ириски и одного чертика. Ириски он взял, а чертика вернул.
— Я что, маленький? — важно произнес он и, оглядевшись вокруг, спросил: —А Мишка здесь?
— Где-то толчется, — ответил я.
— Скажи ему, чтобы нашел меня. Дело есть. — Не дожидаясь ответа, Ермак достал пачку папирос, прикурил и двинулся в сторону конного ряда.
В поисках Мишки я долго бродил по ярмарке, раза два подходил к бричкам кормачевцев, стал уже беспокоиться, но брата так и не нашел.
В центре ярмарки было сооружено на невысоких столбах некое подобие сцены, сколоченной из досок. Я заметил ее еще утром, когда только пришел на ярмарку, но не догадался, зачем эти подмостки выстроены. И только теперь, когда вокруг начала собираться толпа, — понял: «Будут выступления». И не ошибся.
Первым номером конферансье в галстуке-бабочке объявил о приезде областного кукольного театра. О таком театре и его веселых спектаклях я слышал от Очкарика, но сам еще ни разу не видывал это чудо, а поэтому, чтобы рассмотреть все как следует и не толочься в ногах у взрослых, облюбовал чью-то подводу, стоявшую невдалеке от сцены, и встал на ось заднего колеса. На воз забираться побоялся: чего доброго получишь затрещину. Но и отсюда вся сцена была видна, как на ладони. Теперь я возвышался на целую голову в толпе, окружившей подмостки.
По-городскому одетые парни проворно вынесли на подмостки цветные ширмы, поставили их одна к другой, поспешно скрепили накидными болтами, втащили за ширму два чем-то наполненных мешка и, сделав свое привычное и отработанное дело, словно растаяли в толпе, которая с каждой минутой заметно разрасталась, наполняя площадь нарастающим разноголосым гулом. Дымила самокрутками, лузгала семечки, сосала леденцы и терпеливо ждала.
Картинно расхаживающий по подмосткам конферансье время от времени бросал в публику остроумные реплики, каламбурил, гримасничал. В толпе взрывался откровенный мужицкий хохот и звонкий бабий смех. Дождавшись, когда приготовления закончатся и два немолодых человека — высокий и низенький — нырнут за занавеску, скрывшись за ширму, он вышел к самому краю подмостков и громко объявил:
— Александр Сергеевич Пушкин!.. «Сказка о попе и его работнике Балде». Спектакль Новосибирского областного театра кукол. Режиссер — Николай Калинычев. Роли исполняют…
Тут он перечислил фамилии и имена артистов, исполняющих роли попа, Балды и других действующих лиц сказки.
И началось… Первую минуту толпа, обтекающая площадку, замерла, глядя на смешную фигуру кукольного попа, плывущую над барьером ширмы и «расхаживающую» по базару, чтобы «… поискать кое-какого товару». Но стоило над планкой ширмы вырасти Балде, как в публике то там, то здесь начали раздаваться смешки и сдержанный хохот.
Каждая реплика режиссера, читающего текст сказки от лица автора, сопровождалась едкой подковыркой из публики, метким словом одобрения или осуждения. Появление на сцене старого черта и его чертенят, которые не хотят платить попу оброка, публика встретила еще оживленней, всплески смеха и возгласы как лопанье пузырьков в стоячем болоте стали раздаваться все чаще и чаще.
— Давай, Балда, не трусь, твоя возьмет!.. — несся из толпы тоненький мужицкий голос.
— Ну паларыч, ну паларыч!.. Уплахнуться можно!.. — сипела передо мной баба в ватнике и разводила руками, всем видом своим показывая, что она знает, как поступит Балда, которому вынырнувший бесенок предложил на спор: кто быстрее обежит море, «тот и бери себе полный оброк». — У него в мешке два зайца, а не один. Балда тебя, бесенок, все равно обманет, одного пустит в лес, а другого в мешке держать будет, пока ты возле моря бежать станешь…
— Тише ты, горластая гусыня! — крикнул на бабу заросший седоватой щетиной мужик, стоявший рядом с бричкой. — Не одна ты проходила в школе сказку о попе и Балде.
Баба на несколько минут угомонилась, но стоило Балде поспорить с бесенком, кто дальше пронесет сивую кобылу, она тут же, забыв окрик мужика, беспокойно, словно ее кусали блохи, заерзала на мешке.
— Щас… Щас он тебя, бесенок, опять облапошит… Ты ножки на третьем шагу протянешь, а Балда на кобыле две версты верхом проскочит. Облапошит…
Реплика бабы довела мужика до крайности. Не сдержав вертевшийся на кончике языка матерок, он проговорил:
— Ну и шарага же ты… твою мать!.. Не язык — а помело!
В сердцах плюнув на землю, мужик резко махнул рукой и отошел от брички. Но баба не растерялась. У нее нашлись слова похлеще да пообидней.
— А ты не слушай, обмылок вонючий. Ишь, крутится целый час у моего воза, так и норовит стянуть хомут или седелку.
Не находя для ответа слов, мужик скрипнул желтыми прокуренными зубами, горько вздохнул и скрылся в толпе.
А баба, на минуту отключившись от представления, не унималась.
— Ишь, сразу смылся… Все выглядывал, где плохо лежит. Ворюга нещастный…
Спектакль, судя по реакции зрителей, всем понравился. Вначале они хлопали вразнобой, не все, но вскоре аплодисменты стали звучать все звонче.
После кукольников выступали акробаты. Их трехъярусные пирамиды, опасные сальто и силовые номера публика принимала с одобрением, громко аплодировала, несколько раз вызывала артистов на поклон. С колеса брички мне была хорошо видна вся площадь. Только теперь я обратил внимание, что не один только я да баба в ватнике оказались догадливыми, забравшись на воз. Почти на каждой телеге стояли и сидели люди, устремив взгляды на подмостки.
А концерт продолжался. Акробатов сменили два жонглера. Манипулируя шарами и кольцами, они так ловко и так чисто выполнили свой номер, что в притихшей публике то здесь, то там послышались возгласы одобрения:
— Вот это да!..
— Молодцы!..
— Ловко, ничего не скажешь!..
Хлопали и жонглерам. Наконец кругленький как катящийся шарик конферансье объявил, что сейчас выступит прославленный на всю Сибирь баянист Иван Маланин.
Имя этого слепого баяниста звучало чуть ли не каждую неделю по местному радио. А вот видеть его односельчанам не приходилось. Ветерок печали дохнул мне на душу. Пусть он и знаменитый из самых знаменитых, но ведь слепой… Слепой на всю жизнь… Зрители вглядывались в исклеванное оспой лицо уже немолодого баяниста, которого конферансье осторожно, поддерживая под локоть, вывел на середину сцены, где уже стояла табуретка.
Иван Маланин исполнял наигрыши русских народных песен. От песни к песне его лицо розовело все больше и больше, пальцы рук летали по клавишам неуловимо быстро, переборы баяна то переливались соловьиной трелью на самых высоких нотах, то падали до самых низких, когда отдаленным громом вступали в работу басы.
Самой природой обойденный с рождения музыкальным слухом, я, как и все, неистово хлопал слепому баянисту. А когда он, трижды вызванный толпой возгласом «Еще!..» (слово «бис» тогда в нашем селе вряд ли знали), играл свою заключительную мелодию, мне бросился в глаза рыжебородый мужик, стоявший рядом с бричкой. Держась одной рукой за дышло, он другой вытирал со щек слезы, приговаривая:
— Глаза бы тебе, родимый, глаза… И-и-х, жись…
Я почувствовал, как у меня наливаются слезы, и изо всех сил крепился, чтобы не расплакаться.
Выступление фокусника публика приняла с восторгом. Со всех сторон неслись «охи» и «ахи», возгласы удивления выплескивались из толпы после каждого ловкого движения артиста, который прятал шарик в рот, а через несколько секунд вытаскивал его из кармана. Чего только он не выделывал: прятал косынку или колоду карт в одно место, а находил их в другом, разрезал платок на несколько частей, клал лоскуты в шляпу, переворачивал ее и из шляпы вместо них падали разноцветные ленты; потом собирал эти ленты, комкал их в руках, бросал назад в перевернутую шляпу, надевал ее на голову и тут же на глазах у затаившей дыхание публики резким движением срывал с головы. На сцену посыпались лоскуты разрезанного минуту назад цветного платка.
Баба, чья широкая спина маячила передо мной, заставляя меня вытягиваться на одной ноге и вихляться из стороны в сторону, чтобы не пропустить ни одного движения фокусника, беспрестанно то охала, то качала головой, всплескивала руками и восклицала:
— Ба!.. Гля-гля… Да он чо?!. Ну и леший!..
Около двух часов продолжался концерт, а публика все прибывала. Конные ряды ярмарки почти обезлюдели, некоторые ларьки даже закрылись: продавцы на час-другой прервали торговлю, чтобы посмотреть концерт.
Молодух и танцоров в украинских костюмах не отпускали долго, заставляя повторять особо понравившийся юмористический танец. Актриса в ярком цветастом наряде с платком на плечах, кисти которого чуть ли не достигали колен, под гитару пела цыганские романсы и при этом так трясла худенькими плечами, что казалось, вырви из ее рук гитару, и она пустится в жаркий цыганский пляс.
Чего только не показывали артисты: танцевали, пели, читали светловскую «Гренаду», басни Крылова…
Как ни приковывал мое внимание концерт, я все-таки нет-нет да и касался ладонью живота, где слегка похрустывали шесть новеньких трешниц. Зрительский восторг сливался с радостью обладателя такого неожиданного и недетского богатства.
После небольшой паузы конферансье многозначительно поднял руку, чего он не делал раньше, и поднес ко рту рупор. В ожидании чего-то нового, необычного глухо шумевшая ярмарочная толпа затихла.
— А сейчас, товарищи зрители, объявляется конкурс на пляску! Тех, у кого горячая кровь, а в ногах спрятались молнии, прошу пройти в артистическую кабину! — Он показал в сторону фанерной будки в углу подмостков, откуда после объявления номера выходили артисты. — Будем плясать «Цыганочку» и «Барыню»! Победители конкурса получат премии: первую, вторую и третью. А сейчас перерыв на пятнадцать минут.
Толпа загудела, понеслись выкрики:
— А что за премии?
— А это, товарищи, секрет! — ответил конферансье. — Призы оригинальные и интересные! Спешите в кабину, а то будет поздно.
«Ведь найдутся же смельчаки, — думал я. — И чего-нибудь выпляшут. Если не денег, то какой-нибудь подарок, а то, глядишь, и ружьишко». Тут я вспомнил, как один из моих дядьев по матери, заядлый охотник и рыбак, дядя Егор, на соревнованиях охотников в Новосибирске получил первый приз — дорогое двухствольное ружье, о котором давно мечтал.
Публика не расходилась, ожидая нового зрелища. Мужики курили, деловито переговаривались, кое-где распивали у телег горькую, наспех закусывая соленым огурцом и кусочком хлеба или просто занюхивая краюхой. Бабы судачили, восхищались ловкостью артистов, ругали своих мужиков, бросивших возы и с утра пропадавших у пивных будок или в чайной.
Я успел сбегать к кормачевским подводам, навестил своих изрядно проголодавшихся братьев, которые скучали и просились домой, сбегал и купил им горячих пирожков с ливером и сам, обжигаясь, успел по пути к подводам умять пару пирожков. Петька и Толик, озираясь по сторонам, жадно уплетали гостинцы.
— Скусные… — похвалил Петька. — Бабане сроду таких не спечь.
Я ел, а сам покровительственно посматривал на братьев. В душе моей зрело доселе неизведанное чувство старшего, что-то вроде отцовского, и мне захотелось купить им что-нибудь из сладостей.
— Вы посидите — я щас, — небрежно бросил я братьям и, вытирая рукавом губы, побежал к ларьку, где торговали орехами и конфетами.
Уже у самого ларька меня словно обожгло: «А мамане?.. Забыл про маманю». И я отчетливо вспомнил, как мы вчера безуспешно ходили с отцом на станцию, чтобы в вагоне-ресторане курьерского поезда купить ей гостинцев, которые не продают у нас в селе. А здесь вот они, покупай чего душе угодно: волоцкие орехи, вяземские пряники, шоколадные конфеты в обертках, халва в железных баночках, ириски… Я даже забыл о младших братьях, оставшихся на возу. Перед глазами стоял образ матери таким, каким я видел ее два дня назад, когда она стояла у окна родильного дома.
От двух трешниц, которые я заплатил за покупки, осталось восемьдесят копеек. Перепрятав оставшиеся двенадцать рублей в шерстяной носок, я сложил кульки сладостей в подол рубахи и, на ходу щелкая орехи, побежал к братьям, которые еще издали завидели меня и вытянулись на мешках как два аистенка.
Оба получили по шоколадной конфете и по горсти орехов. Одну конфетку я взял себе. Показав на оставшиеся в кульке сладости, строго сказал:
— А это — все мамане. Отнесем после ярмарки.
Пока я заворачивал покупки в мешковину, на которой сидел Петька, братья щелкали орехи и смотрели на меня с удивленным восхищением, боясь еще раз спросить — на какие такие шиши я все это покупаю. Но мне было не до объяснений и не до разговоров. Со стороны чайной неслись переборы баяна и доносился глухой перестук каблуков.
— Придет Мишка — скажите, я скоро вернусь, — наказал я и соскочил с воза.
Пробравшись сквозь толпу, я вернулся к подмосткам и потихоньку занял свое прежнее место на задке пароконной брички. Мужчина и женщина вдвоем отплясывали «цыганочку». «Не наши, не убинские, — подумал я. — Тоже из артистов…» Мне бросилось в глаза, что на женщине была длинная, почти до полу юбка, та самая, которая была на артистке, исполнявшей цыганские романсы. Это заметила и баба в стеганой фуфайке. Она не преминула тут же бросить с укором:
— Ишь ты, чужую юбку напялила!.. Видели мы уже ее… Хошь бы пояс сменила.
По выходке, цыганскому костюму мужчины — огненно-желтая шелковая рубаха, подпоясанная кушаком, широкие шелковые шаровары и черные хромовые сапожки — тоже можно было понять, что он не деревенский.
Трижды конферансье вызывал смельчака выйти на сцену, чтобы поспорить в жаркой цыганской пляске с артистами, только что закончившими танец, но никто из публики не выходил.
Тогда он объявил конкурс на русскую «Барыню». И снова публика, переглядываясь, безмолвствовала, гыгыкала, подталкивала друг друга.
— Для начала «Барыню» исполнят артисты сибирского ансамбля песни и пляски Мария Кувшинова и Николай Чуринов, — крикнул конферансье. — А вас, дорогие зрители, призываю к мужеству и храбрости! Неужели наша могучая раздольная Сибирь-матушка оскудела плясунами?
Он сделал широкий жест в сторону баяниста, сидевшего на табуретке в уголке сцены, и провозгласил:
— Прошу!..
Тот пробежал пальцами по клавишам баяна, и над толпой полились раздольные, как неохватная русская степь, лихие переборы.
На сцену важно, подперев руки в бока, подняв головы, вышли танцоры. Началась лихая пляска. С молодым азартом артисты ансамбля выкидывали такие коленца, что можно было диву даваться, как только успевают за переборами баяна их ноги и руки. И козырем, и вприсядку, и по-лебединому плавно… Но по жесту конферансье танец почему-то закончился быстро, что вызвало недовольство публики, которая тут же загудела, зашумела.
— Мало!
— Только по губам помазали!..
— Давай еще!..
— Рано выдохлись!..
Возгласы из публики обрадовали конферансье. Поднеся ко рту рупор, он пробасил над притихшей толпой:
— А ну, товарищи!.. Так неужели же нет плясунов в вашем селе?! Неужели остыла в жилах кровушка? Или гармонист плохой?.. Или красна девица не бела лицом да не румяна?.. — Он показал в сторону девушки, которая только что отплясывала «Барыню». Разрумянившись и порывисто дыша, она стояла рядом с парнем посреди сцены и улыбалась во весь свой белозубый рот. — Неужели перевелись плясуны? — не унимался конферансье.
— Не перевелись! — прорезал легкий гул толпы звонкий голос.
От этого голоса по спине моей поползли мурашки. «Отец, — екнуло сердце. — Его голос…» Я повернулся в сторону. И не ошибся. В толпе мелькнула его серая, выгоревшая на солнце фуражка, которая плыла мимо картузов, кепок, тюбетеек, женских платков и шалей… Удивленная толпа почтительно расступалась. Отец вскочил на сцену и, отряхнув ладони, вытер со лба пот. Кровь бросилась мне в лицо. Стыд, радость, страх и еще какие-то пока непонятные чувства овладели мной, и я, изо всех сил вжав голову в плечи, затаил дыхание, как перед сильным ударом, который вот-вот должен обрушиться на меня.
Смелость отца толпа оценила достойно. Хлопала в ладоши, подбадривала, напутствовала. Конферансье о чем-то спросил отца, записал ответ в свой блокнот, взмахом руки призвал публику успокоиться и объявил:
— В перепляс включается бригадир плотнической бригады села Убинск… — и он назвал имя, отчество и фамилию отца, который, чтобы унять нервную дрожь — я эту его привычку хорошо знал, — стоял посреди сцены, напротив артистов, и крепко сжимал кулаки.
Началась пляска плавно, чинно, с фасонными выбросами рук. Артист и отец плавали около разодетой в цветастые юбку и кофту девушки, как два селезня вокруг серой утки. Потом ритм пляски начал постепенно набирать темп, нарастать. Движения рук и ног плясунов становились быстрей, стремительней, но плавности и красоты не теряли. Баба на возу, конечно, не знала, что на сцене пляшет мой отец. И я был готов обнять ее и расцеловать, когда она громко, так, чтобы слышали другие, сказала:
— Наш-то пляшет лучше, чище…
А отец уже входил в азарт, выбрасывал все новые и новые колена. Артист, хотя плясал и чисто, но больше повторялся. И это, как мне показалось, замечала публика. Плясун из ансамбля пошел вприсядку и начал выделывать круги вокруг своей партнерши. Тогда отец тоже, не нарушая стиля перепляса, пошел вприсядку, причем ноги выбрасывал так далеко вперед и так стремительно, что опять кто-то из публики не вытерпел и громко бросил:
— Городской буксует!.. Наш-то, как молния!.. Давай, давай!..
— Егор, не подкачай! — раздался над толпой чей-то знакомый голос, и его тут же поддержал надтреснутый басок из толпы:
— Наша бе-е-рет!
— Егорушка-а-а! — пропел тоненький фальцет прямо у самого края подмосток. — Юлой, юлой!.. Бей его козырем!..
Присядка артиста становилась тяжелее, он явно сдавал. А отец, легчая с каждым движением, плыл юлой вокруг танцовщицы. Он то и дело поправлял спадающую на лоб фуражку, которая ему явно мешала. Я готов был крикнуть ему: «Сбрось фуражку!..», но не решался.
Почувствовав, что артист уже выдохся и, словно услышав мой призыв, отец лихо сорвал с себя фуражку, отшвырнул ее в сторону, встряхнул кудрями и, повернув голову к баянисту, запальчиво крикнул:
— Жарче!..
Баянист начал наращивать темп. И отец все быстрее плясал вприсядку. Теперь уже артистка, видя, что отец побеждает соперника, стала сизой голубкой порхать вокруг него. А ее партнер, только подплясывал на одном месте и звонко бил ладонями о голенища сапог. Почувствовав, что проиграл состязание, он теперь уже подыгрывал отцу.
Теперь отцу уже мешал пиджак. Не ослабляя темпа пляски, строго придерживаясь ритма аккомпаниатора, он двумя-тремя движениями рук и плеч сбросил с себя пиджак, озорно помахал им над головой и отшвырнул его в сторону, туда, где валялась фуражка.
Не дожидаясь конца перепляса, публика забила в ладоши, загудела. Голоса одобрения и похвалы слились в сплошной гул.
А отец рискнул пустить в ход свое коронное, но очень сложное колено: перекувырнулся через голову и, заложив ноги на руки, на одних руках, в темпе «Барыни», сделал несколько стремительных прыжков вперед и тут же, как пружина вскочил на ноги.
Артист, склонив низко голову, стоял неподвижно на месте и тяжело дышал. И вдруг… Вот уж чего я никак не ожидал! Танцовщица из ансабля достала из кармана цветастой кофты платочек, взмахнула им, подошла к моему отцу, вытерла платком с его лба пот, расцеловала в щеки, низко, в пояс поклонилась ему и, подняв над головой его руку, прошла с ним к краю сцены.
Вряд ли когда-нибудь потом, проживи я хоть сто лет, мое сердце будет переполнено такой гордостью, такой радостью и торжеством победы. С этим чувством может сравниться разве только счастье, которое распирало и до слез бередило наши солдатские сердца, когда мы, гвардейцы прославленных «катюш», входили в освобожденные города и села и обнимали плачущих и рыдающих на нашей груди седых матерей и измученных в неволе стариков. Но это уже была другая радость, другая гордость — гордость солдата-освободителя.
Словно поглупев от счастья, я выкрикивал какие-то приветственные слова и кричал «ура». Мои выкрики тонули в разноголосом гуле толпы. Баба на возу, которая, не находя подходящих слов для похвалы, несколько раз вслед за мной истошно прокричала «ура», не переставая хлопать в ладоши. Знающий свое дело конферансье поднял с подмостков отцовский пиджак и фуражку, аккуратно отряхнул, подошел к отцу и картинным жестом предложил ему одеться. Это смутило отца. Он даже конфузливо попятился, что вызвало добродушный смех в публике, но потом взял пиджак, накинул его на плечи и надел фуражку. Не зная, что ему дальше делать, он переводил взгляд с публики на артистов. Потом махнул рукой, спрыгнул со сцены и сразу же попал в кружок своих дружков-артельщиков, которые, пока он плясал, сумели протолкаться поближе. Стоя на колесе телеги, я видел, как они принялись тискать его в объятьях, хлопать по плечу, жать руки…
То ли для вида, то ли уж так полагается по условиям всякого конкурса, конферансье обратился к публике: не желает ли еще кто вступить в соревнование? Но тут же из толпы полетели выкрики:
— Подводи черту!..
— Выше головы не прыгнешь!..
— В таком случае, — провозгласил конферансье в рупор. — Решение жюри будет объявлено через пять минут! — И снова толпа загудела:
— Какое решение. И так все ясно!..
— Наш выиграл!..
— Победил Егор!..
Пока жюри совещалось, я изрядно переволновался. Масло в огонь подлила баба на возу. Повернувшись ко мне, она как равному сказала:
— Обжулят! Вот посмотришь, обжулят. Знаем мы этих городских, они копейку прижимать умеют.
— Да неужели обжулят? — дрогнул я, и тревога моя усилилась.
— На это они мастера! Я прошлой весной была в городе, дак меня там так обшпокали, что я век не забуду. Вот такой же толстенький ферт, тоже при галстуке, в костюмчике, в очках, наверное, тоже из артистов… На барахолке… Своими руками держала: отрез как отрез, три с половиной метра, сама померяла. Отсчитала ему своими руками двести рублей, он на моих глазах кинул мне в мешок отрез бостона да еще наказал: «Ты, тетка, прячь скорей свой мешок, а то здесь милиция шастает, отберет да еще оштрахует». А приехали на квартиру — мы останавливаемся у братиного шурина, в депо работает, смазчиком — полезла в мешок, там, мать ты моя родненькая, не бостон, а свернутый кусок мешковины. Я так и ахнула. — Баба поправила на голове спадающий на плечи платок. — С тех пор на этих городских глаза бы мои не глядели. В каждом вижу мошенника. — Баба кивнула в сторону подмостков. — И этот тоже, по всему видать, хороший гусь. Вишь, решать пошли!.. А что тут решать, когда и слепому видно, что наш переплясал всех ихних артистов. А обжулят… Вот посмотришь — обжулят.
Но отца не обжулили. Под аплодисменты публики он получил первый приз — огромный тульский самовар с семью печатями над краном, и в придачу коробку конфет, перевязанную красной лентой. Вторую премию — набор духов и одеколона — получила артистка, что с отцом плясала «Барыню». Третья — досталась той, что танцевала «Цыганочку».
С воза мне было хорошо видно, как в обнимку с самоваром и коробкой конфет под мышкой отец в сопровождении любопытных и товарищей по бригаде шествовал через ярмарочную толпу к кормачевским подводам.
Улыбаясь до ушей, я с торжеством сказал бабе:
— А вот и не облапошили!
Но она и здесь нашлась, проявляя свою антипатию к горожанам.
— Это еще неизвестно. Принесет домой — а он текет. А то и вовсе, как решето. Они и на самоварах жулят.
Когда я подошел к подводам кормачевцев, отец вместе со своими дружками по бригаде уже обмывали приз. Он и всегда умел ударом ладони о дно бутылки распечатать русскую горькую, а здесь, еще не остыв от победы, так шибанул ладонью о днище бутылки, что пробка выскочила со звоном и ударила в лоб сидевшему на возу Петьке. Тот было заныл, но отец остановил его, сказав:
— Не серчай, сынок, я нечаянно.
Не успели распить бутылку, как подошли кормачевские мужики. Заметив смущение отца, Данила махнул рукой:
— Самовар обмываете? Тульский? Хорошее дело. Но тут, Егор, пузырьком дело не обойдется. На всю ярмарку шума наделал. Я весь трясся, когда ты плясал.
Данила полез в бричку, откуда-то из-под мешка с овсом достал литровую бутылку самогона, аккуратно и бережно поставил ее на воз, из-под брезента вытащил завернутый в чистую тряпицу шмат сала, сразу ударившего в ноздри чесночным запахом, и огляделся по сторонам.
— Сколько нас, Егор?
Отец окинул взглядом своих бригадных дружков и кормачевцев.
— Да вроде шесть человек, если не считать вашей Ефросиньи.
— Ей щас нельзя. Она за прилавком. Нужно продать три пуда шерсти и пять овчин. Торговлишка идет бойкая.
Нашелся в возу и каравай хлеба, который под ножом кума Данилы, молчаливого кормачевца, распадался на ровные длинные ломти. Он же резал и сало, на глазок прикидывая, чтобы куски были ровные. Видя, что Толик и Петька начали пускать слюнки (шутка ли — не ели с самого утра), кормачевец протянул и им по ломтю хлеба, накрыв толстыми лоскутами сала. Не забыли и обо мне.
Пили мужики из кружек: из алюминиевой, что Данила достал из передка воза, и из толстой стеклянной, пивной. Первым Данила налил отцу и себе. Все он делал неторопливо, со значением. Остановив взгляд на дружке отца, что постарше, спросил:
— Стоящие ребята, чтоб их угощать?
Отец смутился от такого лобового вопроса.
— Вот уже четвертый год ходим в одной артельной упряжке.
— Тоже плотники? — спросил Данила и перевел взгляд на другого товарища отца, что помоложе, рябоватого лицом.
— Оба по пятому разряду! — похвалил отец.
— Это хорошо, что у тебя дружки такие. Плотников люблю. — Данила чокнулся кружкой, наполненной почти до половины самогоном, с отцом и добавил: — За тебя, Егор!.. Люблю таких. В работе — огонь, на пиру — гармонь. Здоровья тебе да силушки. Сыновьями тебя Бог наградил умными. Пусть растут да слушаются отца с матерью. — С этими словами он поднес кружку ко рту, понюхал, поморщился, закрыл глаза и одним духом перевернул ее так, что не упало ни одной капли. Выпив, он крякнул, погладил бороду и, окинув взглядом дружков отца, многозначительно проговорил: — Все нужно уметь делать хорошо: хорошо работать, хорошо плясать и хорошо пить.
Другим он налил поменьше, но те все равно нерешительно покачали головами. Рябой плотник почесал за ухом.
— Пожалуй, не осилить, — словно оправдываясь, сказал он и посмотрел на отца.
— А ты осиль, — подзадорил его Данила, аппетитно закусывая хлебом с салом. — Какой же ты плотник, если перед стаканом ноги дрожат?
— Махнет, — поддержал своего товарища отец, — я его знаю: перед первой он всегда ломается, а вторую сам попросит.
Рябой одним духом опрокинул пивную кружку и набросился на хлеб с салом.
Черед дошел и до кормачевских мужиков, около нашего воза уже собрался табунок деревенских баб и девок, лузгающих семечки и откровенно глазеющих на отца. А одна из них, толстая, грудастая и высокая, с виду царь-баба, не боясь, что ее услышат отец и его собутыльники, громко сказала:
— С таким мужиком не пропадешь!.. Поплясал пять минут и самовар выплясал!
— Не токмо самовар. Гля, какая коробища конфет, поди фунта три в ней, шоколадные.
Даниле не понравился бабий пересуд. Медленно повернувшись в их сторону, он перестал жевать и долго смотрел на царь-бабу. Стараясь не сробеть под его взглядом, она круто подбоченилась и гордо вскинула голову.
— Чего зенки-то вытаращили? — сказал Данила. — Цирк вам здесь, что ли?
— А, может, и цирк! Тебе что — жалко что ли? — не растерявшись ответила баба.
Нашелся и Данила.
— Жалко у пчелке в жопке, да у тебя, Матрена Жеребцовна, в языке, что болтает как помело.
— Уж больно строг ты, рыжик кормачевский. На тебя уж так и посмотреть нельзя. А я вот возьму и гляну! За погляд в цирке деньги платят, а на тебя, рыжую гареллу, я смотрю за так. И другие тоже.
Прожевывая остаток хлеба с салом, Данила даже поперхнулся. Мигая своими длинными рыжеватыми ресницами, он недоуменно крутил головой… Я с воза видел, как у него напряженно работала голова. А девки, стабунившиеся вокруг царь-бабы, хохотали вовсю.
— Пошла-ка ты… — и тут Данила разразился таким десятиэтажным с коленными выкрутасами матюком, что девок как ветром сдуло. Лицо бабы запылало неотомщенной обидой. Она огляделась по сторонам и, убедившись, что одной ей не выдержать перебранки с Данилой, вздохнув, сказала:
— Ну, ладно, гад ползучий, мы еще встретимся. Не первый и не последний раз на базар приезжаешь. Я тебе, репей кормачевский, еще покажу такой цирк, что ты портки обмочишь.
Не дожидаясь ответа Данилы, который уже зрел в его голове, царь-баба круто повернулась и широкими шагами двинулась в сторону от воза.
Отец уже начал пьянеть — это было видно по блеску его глаз и разрумянившемуся лицу.
Перебранка с бабой испортила настроение Данилы. И это передалось всем. Неловко себя почувствовал и отец.
— Вот лярва!.. Всю обедню испортила! — в сердцах ругнулся Данила. — Я бы сволоту такую, на месте ее мужика, каждый четверг обхаживал ременными вожжами, да так, чтоб она… — Разгладив усы, Данила сердито оглядел мужиков. — Ну, робя, делу — время, потехе — час. Самовар обмыли, конфеты спрыснули. У нас еще работа. — Данила посмотрел на Толика, подмигнул ему и положил свою тяжелую руку на плечо Петьки. — Ну, а вы, орлы, можете свой пост сдавать Кузьме, — он кивнул на рябоватого кормачевца, — торгаш из него получился, как из меня пономарь. Гостинцы получите дома. А сейчас — вот вам на орехи. — Данила достал из кармана горсть монет, потряс ею и, прикидывая на глазок, сколько ее на ладони, протянул Толику. — Держи. Заработали честным трудом.
Толика и Петьку с воза сдуло как ветром. Отец что-то хотел наказать им, но ребятни и след простыл.
Отец пьянел на глазах. Улыбка на его лице стала совсем счастливой. Он еще не остыл от азарта перепляса. Положив самовар в пустой мешок, в котором были овчины, он накрыл его брезентом, а коробку конфет протянул мне, но тут же раздумал.
— Нет. На виду нельзя. Чего доброго, отберут дорогой ребятишки. — Отец положил коробку в освободившийся мешок и аккуратно свернул его. — А теперь — аллюр три креста — и прямо к матери! Скажи ей, что это отцовский приз за «Барыню». Только смотри — не болтни, что меня артистка целовала. А то она не так поймет. Понял? Да захвати Толика с Петькой, а то они заблудятся.
— Понял, — ответил я и, улучив момент, когда отец, прикуривая самокрутку, отвернулся, достал из-под брезента завернутый в холщовую тряпицу кулек с гостинцами и сунул его в мешок.
Братьев я нашел быстро. Они стояли у ларька с мороженым.
До железнодорожного переезда мы бежали, не останавливаясь. Больше всего я боялся встретить Ермака. Хоть наш Мишка и победил его, но в душе моей было неспокойно. Всем своим лихим видом, затаенной ухмылкой Ермак внушал опасение. На его лице я всегда, после его драки с Мишкой, читал: «Ничего, ничего, я еще поквитаюсь с вами…»
Но Ермака мы не встретили. Праздничный дух ярмарки словно затопил все село: из открытых окон то здесь, то там доносились пьяные песни, пиликанье гармоники, галдеж… На скамейках у завалинок, на бревнах сидели старики и старушки. У ветхого забора райпотребсоюза ребятишки с Сибирской улицы азартно играли в «чику».
Первое, что бросилось нам в глаза в родильном доме — широко открытое окно, за которым стояла мама в больничном застиранном халатике, а перед окном на ржавой железной бочке стоял Мишка. Он не видел нас, но по выражению лица мамы, на котором вспыхнула счастливая улыбка, он понял, что кто-то появился за его спиной. Неловко повернувшись на одной ноге (дна у бочки не было), Мишка упал, но тут же поспешно вскочил.
Редко я видел лицо мамы таким счастливым. Четыре ее сына стояли перед ней в больничном дворике и, задрав кверху головенки, перебивая друг друга, восторженно рассказывали о ярмарке, о том, как поили вчера кормачевских лошадей, об отцовском призе за «Барыню», о самоваре, который отец привезет вечером домой. О призе пришлось рассказать два раза, так как мама вначале не только не поняла, но даже испугалась: за какие это такие «красивые глаза» дали отцу коробку конфет и самовар? А когда все поняла, то быстро успокоилась, хотя, покачав головой, не удержалась и беззлобно пожурила его:
— С ума сходит… Семеро детей, а он все еще не наплясался. Поди, выпил?
— Нет, мама, когда объявили конкурс, я был рядом с папаней, — соврал я. — Ни глотка после вчерашнего. Ну, а потом выпил, но не на свои деньги, кормачевцы поднесли. Ты лучше расскажи, как Ира? Еще не улыбается?
— Да рано еще, сынок. Ей всего-навсего два денька. Даст Бог, будет и улыбаться, а так здоровенькая, аппетиту нее хороший.
— А посмотреть ее можно? Ты поднеси к окну, — заговорщически попросил Толик.
— Нельзя, детки. Не разрешают. Скоро придем домой, вот тогда и наглядитесь, и нанянчитесь.
Тут появилась ворчливая санитарка и велела маме ложиться в постель.
Мишка крикнул ей вдогонку:
— Мама!.. Люльку для Иры мы выскоблили стеклом и шкуркой, а чтоб в ней не было клопов, бабаня ошпарила ее кипятком. А папаня на потолке прибил новое кольцо, старое-то проржавело. Завтра мы придем утром. Принесем парного молока.
Мама… Эти строки я пишу при закатном солнце под могучими березами Подмосковья. Тебя мы, твои сыновья и дочь, похоронили пять лет назад на старом городском кладбище Новосибирска. Могилу твою осеняют могучие кроны берез. Но почему в моей памяти ты всегда приходишь старенькая, седенькая, такой, какой была на восьмом десятке своей трудовой жизни? А ведь не всегда лицо твое бороздили морщины и голова отливала серебром седины. В тот солнечный ярмарочный день далекого сентября тебе было всего тридцать четыре года. Теперь в городе молодых женщин в этом возрасте в очередях, в троллейбусах, в трамваях называют девушками. А кое-кто из них даже не испытал радости материнства. Бог им судья. Это не вина их, а беда.
В тайных дебрях памяти через чащобу лет, бурелом войны и голодовок я с трудом пробираюсь к тебе, моя мама, к молодой, красивой. К такой, какой ты стояла тогда у окна и, сияя, обнимала нас всем сердцем. Ты была счастлива в своем материнстве и передала, насколько хватило твоего сердца, это счастье нам, твоим детям.
Нет, мама, ты не всегда была седой и старой. Сегодня я вижу тебя молодой и красивой. Потому что ты в моем сердце будешь такой до тех пор, пока оно бьется!
«Педагогическая поэма»
Если разговоры о прекращении в Крещенке решением крайисполкома строительства толевой фабрики ходили по селу, вызывая удивление и недоумение, то слух о том, что в этом маленьком, прилепившемся к большому озеру поселке в уже отстроенных цехах фабрики будет располагаться трудовая колония, пронесся как гигантское цунами. Всюду, где только сходились два-три человека, уж не говоря об очередях в магазинах и на базаре, с уст жителей слетали пугающие словечки: «блатняки», «беспризорники», «тюремщики», «воры»…
В ожидании этой напасти люди готовились: укрепляли запоры на ставнях, на дверях, чинили старые замки, покупали новые. А кое-кто возил из ряма на тележках или вязанками носил на плечах сырые сосновые колья, готовясь ставить новые изгороди на огородах. Словно не подростки должны приехать в Крещенку, а злая, хищная орда, вставшая из могил времен Тамерлана, накатывается на село. А когда райисполкомовская курьерша принесла отцу записку, чтобы он в понедельник, в десять утра явился к заместителю председателя, то в нашей семье началась паника. Поистине «пуганая ворона куста боится».
Правда, отец к вызову отнесся спокойнее, чем мама. За три года строительства школы его десятки раз вызывали на «ковер» к зампреду Голубеву и тот не раз «снимал» стружку с бригадира плотницкой артели за невыполнение месячного плана. Грозил, что лишит премиальных. Но всякий раз кончалось тем, что Голубев крепко жал ему руку и просил, чтобы отец не подводил его. Я даже заметил, что после визитов отца к зампреду, он приходил домой веселым и словно помолодевшим. А однажды сказал маме, что хочет пригласить Голубева на ее день рождения, но она только замахала руками, глядя на потрескавшиеся и облупившиеся стены и провисший, как старая люлька, потолок, в котором березовая матица так прогнулась, что если бы отец два года назад не подпер ее столбом, то он давно бы рухнул и придавил нас. Отец все понял и, пристыженный, завернув «самокрутку», молча вышел из избы.
Больше всего мать боялась, как бы раскулачивание, из-за которого уже пострадал Сережа, не отразилось на дальнейшей судьбе семьи. Время было смутное, и никто не знал, что ждет его на завтрашний день.
Отец предполагал, что Голубев вызывает его из-за каких-то недоделок при строительстве школы, и в уме перебирал все, что могло послужить зацепкой для придирки комиссии, проверявшей готовность школы к новому учебному году. Однако все как будто было в порядке. Он никак не мог предположить, что Голубев вызывает его по поводу размещения труд-колонии в цехах толевой фабрики.
Пугало маму то, что два последних года по селу прошли аресты мужиков. За что — никто не знал. И как правило, из хороших работящих семейств, прибывших в Убинск из России в 30-м и 31-м годах. Слова «кулак» и «раскулачивание» звучало как позор, как проклятие. Поэтому она с опаской проводила отца в райисполком. Вычистила ему сапоги, заставила надеть рубашку, в которую он облачался в праздники или когда шел в гости.
Мама не находила себе места, ожидая отца. А когда он в первом часу вернулся, то по лицу поняла, что Голубев вызывал его не из-за пустяка, а по серьезному делу. И не ошиблась. Хромовые сапоги и рубашку отец снимал с себя неторопливо, что-то сосредоточенно обдумывая, словно ища тропинку к какому-то сложному решению вопроса.
— Ну, чего там?.. Чего молчишь-то? За что вызывали-то? — с тревогой спрашивала она.
Отец поднял голову и, как-то значительно улыбаясь, проговорил:
— Ты лучше спроси, не за что вызывали, а кто вызывал и что предлагали, — сказал он, обувая рабочие сапоги и натягивая на себя серую сатиновую рубаху. — Пригласили меня трое: Голубев, начальник НКВД майор Луньков и начальник роно Баландин. Был с ними и представитель крайисполкома, фамилию его я забыл.
— И что же тебе предлагали?
— Многолетнюю командировку. У меня прямо голова пошла кругом.
Я лежал в горенке на бабушкиной кровати и так напряг слух, что улавливал не только каждое слово отца и матери, но даже их взволнованное дыхание.
Противоречивые чувства охватили меня. В крещенской школе я уже проучился один год. И впервые пламенно влюбился в свою одноклассницу, дочку директора строительства, Светлану Лебедеву. Я не раз горько плакал, спрятавшись в густой конопле, предполагая, что скоро расстанусь со Светланой — ведь после пуска фабрики ее отец должен был вернуться с семьей в Новосибирск. Впрочем, утешали слова отца, который считал, что строительство затянется еще года на три, что давало мне возможность видеть этого голубоглазого ангела. Ее привозили зимой в школу в белой заячьей шубке на вороном рысаке в резных санях, а весной и летом она часто проезжала мимо нашей избы в модной пролетке на резиновых шинах.
— Да что они, с ума сошли?! — встрепенулась мама. — Они что, не знают, что семья у тебя из десяти человек. Как цыганский табор, дети один другого меньше?! И куда же они хотят командировать тебя?
— Да работать-то мне всего в пяти километрах от Убинска, — в голосе отца прозвучало нечто вроде усмешки.
— Хватит голову дурить, что это за место вблизи нашего села? — сердито спросила мама.
Отец озорно хихикнул.
— Знаешь такой поселок — Крещенка?
— Да что ты, с ума спятил? Что там тебе делать?.. Строительство фабрики запретили…
— А предлагают мне и даже, можно сказать, не предлагают, а поручают преподавать столярное и плотницкое дело сотне «блатных беспризорников», которых привезут в октябре. Кое-кто из них уже успел посидеть в тюрьме, поскитаться по колониям, побегать из детдомов. Так что народец «бывалый», от двенадцати до семнадцати лет. Девчонок нет, одни парни. Даже определили мне зарплату.
Для мамы это был удар. Она, за всю супружескую жизнь расстававшаяся с отцом только на одно лето, когда он после раскулачивания скрывался в бегах, не могла даже мысленно представить себе, как она может прожить без него с шестью детьми на руках: кто накосит сена на корову, теленка и овец, кто привезет дров, будет следить за хозяйством. Ведь старший сын покинет дом не на год и не на два: после школы Сережа твердо решил поступать в институт.
— И ты дал согласие? — боязливо спросила мама.
Отец с горечью ухмыльнулся.
— Когда сидишь перед такими людьми, согласия не спрашивают.
— И когда же ты должен начать там работать? Ведь эти «блатняки» еще не приехали.
— Приедут через два месяца. За это время мне и моей бригаде нужно переделать цех в общежитие и помещение для воспитателей, которые прибудут с ними.
Мама была убита горем, но взяла себя в руки и, прокашлявшись, спросила:
— Ну, и какой же оклад тебе положили?
— Тот, что из Новосибирска, хоть одет он и не в военное, судя по разговору, не маленький начальник из НКВД. Он сказал, что зарплата у меня на время ремонта будет рублей сто пятьдесят, а когда привезут трудколонцев, оклад повысят.
Пока мы жили в Убинске, отец более ста рублей никогда не получал.
Но и это сообщение маму не обрадовало. Когда я вышел из горенки, мне показалось, что лицо ее осунулось и постарело.
В начале октября отец и его плотницкая бригада, командированные в Крещенку, с утра и до захода солнца трудились, перестраивая цеха толевой фабрики в общежитие, столовую, классные комнаты, красный уголок и мастерские.
Из окон нашей избы мы часто наблюдали, как со стороны Пролетарской улицы, мимо тополей Горбатенького, шли машины, груженные кирпичом, досками, бревнами, брусом, мешками цемента и другими стройматериалами. Все это везли в Крещенку, куда вот-вот должны были прибыть обитатели труд-колонии. Село пока еще особенно не лихорадило, но озноб тревожного ожидания беспокойных поселенцев уже чувствовался.
Отец каждую субботу вечером приходил домой и оставался на выходной день. Мы уже привыкли к тому, что всякий раз утром он приносил вытащенных из сетей щук и карасей. И когда мама спрашивала — сколько это ему стоило, улыбнувшись, отвечал, что застеклил у бабки окно, вставил у деда замок или починил крышу. Так что рыбные озера продолжали служить нам верную службу.
Первую партию беспризорников, как и сообщил отец, должны были привезти после того, когда в Крещенку прибудут из Новосибирска вагоны с кроватями, мебелью и постельным бельем.
Отец поселился на новом месте в брошенной избушке, где раньше жила умершая в прошлом году одинокая бабка Курпейчиха. Окна в избе похитили сразу же после похорон бабки, а двери из сенок и избы сняли через неделю. Уже начали было разбирать с крыши стропила, но пьяного лихоимца поймали соседи и так «отволтузили», что он целую неделю не выходил из своей избенки.
Итак, октябрь отец со своей бригадой работал в Крещенке. Возвращаясь на воскресенье, отец каждый раз рассказывал маме о том, как идут дела на строительстве трудколонии. Мы с Мишкой с интересом прислушивались к этим разговорам. Толика и Петьку занимало другое: они каждый раз тщательно пересчитывали, сколько карасей или окуней принес отец.
Наконец из Новосибирска привезли первых тридцать беспризорников. Об этом во всех подробностях сразу узнали на селе. Толик и Петька удивлялись. Надо же! Каждый беспризорник получал отдельную койку и тумбочку, две простыни, подушку и одеяло. А в больших комнатах поселили всего по четыре человека. Это в то время, как в нашей избе, третью часть которой занимали русская печка, голландка, две кровати и сундук, а также широченные лавки вдоль стен кухни, размещалось десять человек!
Потеряв своего командира, мы, младшие, особенно остро ощущали отъезд на учебу Сережи. Богомольная и мягкая по характеру бабушка считала греховным повышать голос, когда мы с Мишкой затевали споры, доходившие иногда чуть ли не до драки, кому идти за водой на колодец, чтобы напоить корову и теленка. Сережа в таких случаях разбирался просто: сразу определив, чья очередь поить скотину, он сжимал кулак, прижимал его к груди, и мы с Мишкой, поворчав, беспрекословно выполняли волю старшего брата.
Бабушка привыкла к тому, что накануне первомайских и ноябрьских праздников у нас, внуков, должны быть чистые выглаженные рубашки, отутюженные пионерские галстуки. Эта традиция сложилась в семье по примеру аккуратиста Сережи. Поэтому нам и на этот раз, в канун ноябрьского праздника, не пришлось напоминать бабушке, что завтра в школьной колонне мы пойдем мимо трибуны, с которой нас станет приветствовать районное начальство. Мишкин пионерский галстук был тщательно отглажен, на белых рубашках Толика и Петьки приколоты октябрятские значки. Толик уже хорошо знал, что такое демонстрация. В прошлом году его 2 «Б» шел, а, вернее, бежал в конце колонны. А вот Петьке это праздничное торжество предстояло пережить впервые. Поэтому он был сосредоточен и молчалив, словно обдумывая что-то важное и пока еще не совсем для него понятное.
Отец приехал домой на целых два дня. К тому же он получил аванс и премию. Кроме двух щук и полведра карасей, он вытащил из брезентовой сумки еще что-то, завернутое в клеенку. По лицу его скользнула загадочная усмешка.
— Что это? — спросила мама.
Вместо ответа отец засмеялся и, взяв со стола пакет, прижал его к груди.
— Это не для вас, а только для меня, — сказал он и, повернувшись, хотел уйти в горенку.
Ловким движением руки мать выхватила у него пакет и развернула. Из клеенки выпала толстая книга. Подскочив к столу, Толик громко прочитал:
— А. С. Макаренко «Педагогическая поэма».
— Купил? — спросила мама и, перевернув книгу, посмотрела цену. — Для кого? Сережа уезжает, а Миша с Ваней могут и в библиотеке взять.
Как выражение душевного настроения человека смех, словно могучая русская река Волга, прежде чем дойти до Каспийского моря, на тысячекилометровом пути вбирает в свое русло столько ручейков, речушек и рек, что трудно определить слагаемое, послужившее источником рождения великой реки.
Глядя на растерянное лицо матери, отец просто заходился от смеха, представив себе, как посмотрят на него мама и бабушка, когда он сядет за стол и будет читать этот толстый роман. За два года обучения в церковно-приходской школе, где отец прочитал вслух всего лишь несколько басен Крылова, сказку А. С. Пушкина «О рыбаке и рыбке», да тургеневское «Муму», он, пожалуй, уже больше ничего не помнил. Отец объяснил, что методист трудколонии раздал семь таких книг всем преподавателям. Через три недели, в конце ноября, состоится обсуждение этого романа.
Мама, по природе женщина умная, с тонким чутьем к словесности, в девичестве, тайком от строгого отца прочитала почти всего Вальтера Скотта, Майна Рида, Александра Дюма, а также других английских и французских романистов, переведенных на русский язык. Представив себе теперь отца, читающего роман, она тоже рассмеялась до слез. Не поняла ситуации лишь бабушка, не поняла она ее и вечером и трижды перекрестила отца тайком, когда он, примостившись к столу, приблизил к книге «коптюшку» и, шепча губами, то улыбаясь, то нахмурившись, начал читать. А в полночь, когда все мы, кто на печке, кто на полатях, забылись крепким сном, бабушка, встав на скамейку, зажгла семилинейную лампу, которую берегла и ставила лишь по праздникам или для гостей. И снова перекрестила зятя.
С этой ночи мы все прониклись мыслью, что наш отец теперь не просто плотник, а преподаватель трудновоспитуемых подростков.
На следующий день после демонстрации мы с Мишкой и Толиком получили от отца деньги на кино и на мороженое.
Из разговора отца с матерью я понял, как взволновало его чтение «Педагогической поэмы». Он упорно готовился к обсуждению книги, на котором, как сказал методист, как и всем преподавателям, ему предстояло выступить и дать оценку всему прочитанному.
Лихорадка
Из всех газет, которые приходили в наше село, изредка в мои руки попадалась «Пионерская правда». О том, что на газеты можно подписываться, я и понятия не имел. Мне думалось, что их читают только в подшивках школьной библиотеки или покупают на почте. Но уж если «Пионерская правда» попадалась мне в руки, то прочитывал я ее от передовицы до самой последней колонки четвертой полосы. Особенно волновали мое воображение подвиги пионеров: кто-то, рискуя жизнью, предотвратил крушение поезда, кто-то в глухом городишке или селе спас от пожара колхозный скот и сам при этом получил ожоги. Портрет героя с пионерским галстуком на груди в этих случаях, как правило, помещался в газете. А через некоторое время в той же газете сообщалось, что герой награждался бесплатной путевкой в пионерский лагерь. И не куда-нибудь, а на юг. А то и в «Артек»…
«Артек»!.. Ничто в моем разгоряченном детском воображении не могло сравниться с этой призрачной таинственной красотой, сотканной из лазурного моря, которого я никогда не видел, парящих над скалами гор орлов, вечнозеленых кипарисов, пальм и роз. И почему-то обязательно над всем этим сказочно-красивым и мне недоступным, словно невидимый колышущийся на ветру волшебный парус, летели призывные звуки пионерского горна.
Но жизнь ни разу не подарила в моем детстве случая совершить подвиг. В селе нашем почти не было пожаров, а если и случались, то их быстро тушили без меня и отличиться мне никак не приходилось. Помнится, я поспевал лишь к растасканным в разные стороны, пахнущим ядовитым дымом обгорелым стропилам и бревнам, залитым водой. Не везло.
Отправляясь по грибы или ягоды в лес, мы, босоногая ребятня, обычно пересекали у переезда железнодорожное полотно, и я не раз, отстав от товарищей-ровесников, боясь потерять их из виду, бежал по шпалам, жадно выискивая глазами трещину в рельсе. Но рельсы сияли под голубым небом своими уходящими вдаль непрерывными обкатанными полосками. Запыхавшись, я сбегал с железнодорожной насыпи и догонял ребятишек, которые, зная мою тоску по подвигу и желание отличиться, частенько поднимали меня на смех.
С годами надежда совершить подвиг во мне постепенно угасала, но мечта побывать в пионерском лагере не остывала. Ее подогревала надежда — ведь я был одним из первых учеников в классе. И этой мечте удалось, наконец, осуществиться.
Правда, все оказалась не так просто, да и не в знаменитом «Артеке» и даже не в одном из наших сибирских городских лагерей я побывал. Лагерь нашего района был расположен в глухой деревне, в сорока километрах от села, на берегу заросшего камышами озера, в котором кишмя кишели ерши, окуни и щуки. А уж пузатых чебаков водилось столько, что рыбаки, выбирая в лодки сети, тут же выбрасывали их в озеро.
Лагерь был открыт год назад. Я возлагал на него большие надежды, и можно было понять мое огорчение, когда отец, как-то в начале июня придя с работы, положил на стол вдвое свернутую голубоватую бумажку и, отыскав глазами Мишку, подмигнул ему:
— Мишунь, собирайся. Завтра с утра вас повезут.
— Куда, папаня? — удивленно и обеспокоенно спросил Мишка.
— Как куда — в пионерлагерь. Профсоюз и школа на нашу семью выделили одну путевку. Хотя у нас три пионера.
Я уже два года носил пионерский галстук. И был командиром звена. А Мишка и Толик всего лишь рядовые члены пионерской дружины. Ходили они с вечно мятыми галстуками в пятнах от похлебки, узел завязывали косо. Я же всегда аккуратно гладил свой пионерский галстук, и лежал он у меня в надежном месте: под футляром швейной ножной машинки. Я — отличник учебы, на родительских собраниях меня всегда хвалили и ставили примером в поведении, а Мишку ругали за озорство.
И вот в лагерь берут не меня, а Мишку! От такой обиды я даже тайком всплакнул. Несправедливо.
Бабушка, слушая мои горестные вздохи и не зная причины моей печали, даже спросила:
— Уж не заболел ли ты, Ванек?
— Нет, бабаня, не заболел… чтой-то не спится.
— А ты помолись, помолись и уснешь…
— Пионеры не молятся, бабаня, — ответил я на ее напутствие и тут же пожалел: самым огорчительным для нее, отдававшей все силы своей души нам, внукам, было то, что, начав учиться, мы поснимали с себя медные крестики.
Пионер-пионером, а тайную молитву я все же совершил, хоть и шепотом: «Господи, помоги и помилуй… Господи, прости мою душу грешную…» Уснул в эту ночь только после вторых петухов.
На другой день отец проводил Мишку с кормачевскими колхозниками, которые на двух подводах привозили в Заготсырье кожи. Мишка, сидя на телеге, по глазам моим и по лицу читал обиду и даже пожалел меня:
— Не горюй, Вань, следующее лето поедешь ты. Я бы уступил тебе, да в путевке написано мое имя. И потом папаня так захотел.
Воля отца в нашей семье была законом.
Я проводил кормачевские подводы до проулка и, прощаясь с братом, сказал:
— Миш, ты снимись на фотокарточку и пришли письмом. Да так, чтоб лагерь был виден.
Похлопав ладонью по нагрудному карману пиджака, Мишка пообещал:
— Папаня деньжонок дал, так что пришлю.
Только теперь, после отъезда Мишки, я понял, как привязан к нему и как сиротливо стало у меня на душе после его отъезда. И хотя Толик, как тень, с утра до вечера ходил за мной по пятам, я остро чувствовал свое одиночество. На второй день после отъезда Мишки специально сходил на почту, чтобы справиться, сколько дней ходят письма от деревни Кундрань до нашего села.
Седенький почтовый работник, смачно стучавший косточками на счетах, на мой вопрос ответил не сразу. Долго глядел на меня из-под роговых круглых очков, в которых дужками служили две медные проволочки и, словно прикидывая скорость хождения писем от Кундрани до Убинки, ответил:
— Это смотря на чем. Если на лошадях — за день доставят. На быках — раньше трех дней не жди.
Я с нетерпением стал ждать письма от Мишки. Особенно мне хотелось получить фотографию, на которой он был бы запечатлен на фоне пионерского лагеря. Но вместо письма на шестой день после отъезда заявился сам герой. Приехал на попутной подводе. Еще не въехав в село, Мишка соскочил с телеги и огородами, по-стариковски согнувшись, задевая деревянным чемоданчиком за картофельную ботву, нерешительно потопал к дому.
Два чувства одновременно вспыхнули в моей душе: радость, что Мишка снова рядом со мной, и тревога за него.
— Что, прогнали, Миш? — подбежав к брату, спросил я, но, видя, какая горечь стояла в его глазах, не стал больше расспрашивать. Только у калитки он раскрыл запыленные серые губы.
— Папаня дома?
— Нет. Ну что, и вправду прогнали?
— Выгнали ни за что… — вздохнув, ответил Мишка. — Все баловались, а меня одного наказали.
Ожидание отца с работы было тяжелым не только для Мишки, но и для меня. Отец на моей памяти уже не раз вытаскивал из брюк ремень, чтобы наказать провинившегося. И вот теперь: за путевку заплатил профсоюз. Из всей плотницкой бригады получил ее только он один. Школа поддержала это решение. И вот тебе!
Мама и бабушка также переживали за Мишку. Толик и Петька были еще слишком малы, чтобы понять душевную тревогу и страх брата перед предстоящим разговором с отцом. Маме Мишка признался, как на духу: в замочную скважину двери их комнаты во время мертвого часа заглядывали девчонки, дежурившие по отряду, и, когда видели, что мальчишки балуются, кричали вожатым, что те не спят и нарушают режим дня. Мишка, в любой ребячьей ватаге слывший заводилой-озорником, и на этот раз не обуздал строптивость своего характера. Насыпав на ладонь зубного порошка, он как-то раз тихонько подошел к двери и, дождавшись, когда одна из дежурных заглянула в скважину, поднес к ней ладонь с зубным порошком и что есть сил дунул. Все, может быть, и обошлось бы, но жертвой Мишкиного озорства оказалась не девочка, а начальник лагеря — весьма строгая дама, которая заставляла ходить «по струнке» не только пионеров за малейшие провинности, но также вожатых и обслуживающий персонал.
— Ну и что дальше было? — спросил я, уединившись с Мишкой за плетнем огуречника.
— Что-что… — Мишка горестно вздохнул. — Смеялись над ней до отбоя. Вожатые за животики хватались.
— А ты?
— Я?.. — Мишка долго смотрел на меня печальными глазами, потом ответил: — Сначала думал: она разорвет меня на клочки. Такой злой я еще никогда ее не видел. Вечером, на линейке перед строем начальница прочитала приказ. Меня отправляли из лагеря домой.
— За что?
— За хулиганство.
Разговор с отцом у Мишки был тяжелым. Как на грех, к нему на стройку в тот день нагрянул председатель райисполкома Холодилин. Застав плотников за перекуром, он учинил разнос отцу, обозвав их лодырями, разгильдяями и пьяницами. А теперь преподнес «подарочек» еще и Мишка. Хорошо, что отец не знал, что начальником лагеря оказалась, как на грех, жена Холодилина, инспектор райзо. Дело могло бы принять другой оборот.
Два раза руки отца тянулись к медной пряжке брючного ремня. И оба раза удерживала его бабушка, которая во всех случаях жизни, когда накатывалась беда, обращалась с молитвой к Господу Богу. И теперь, уединившись в горенке, на коленях она клала земные поклоны перед иконой Христа Спасителя. Я слышал шепот ее молитвы и даже успел перехватить суровый и гневный взгляд отца, который он метнул на бабушку. Но эта молитва остановила отца. Да тут еще мама вовремя протянула ему записку.
— Что это? — в сердцах спросил отец, рассеянно глядя на мятую бумажку.
— От начальницы лагеря. Пишет, что вместо Мишки можно послать Ванюшу.
Отец взял у матери листок из тетради в клетку и прочитал:
«Исключен из лагеря за хулиганство. Можете прислать взамен младшего сына».
Загогулины подписи были неразборчивы, а фамилию начальницы отец к счастью не спросил.
Сборы мои были недолгими. Все, с чем вернулся из лагеря Мишка, стало теперь моим добром. В заляпанный потускневшими чернильными пятнами холщовый мешочек, когда-то служивший школьной сумкой, бабушка положила мне в дорогу краюшку ржаного хлеба, бутылку молока, пяток круто сваренных яиц и пучок зеленого лука.
Двойственное чувство томило мою душу. Робкая тайная радость, что я еду в пионерский лагерь, смешивалась с горечью сочувствия к Мишке, которому так не повезло. Вначале я думал, что в душе его затаится обида, но понял, что неправ, как только в сенях брат подошел ко мне и тихо, так, чтоб не слышала бабушка, сказал:
— Только ты не балуйся… А то и тебя в два счета. Она теперь на нас зуб имеет.
Я заверил Мишку, что все будет в порядке.
Уходя на работу, отец строго-настрого наказал:
— Смотри, Ванец, если и ты выкинешь какой-нибудь фортель — плохо тебе будет.
Бабушка не дала мне и рта открыть в свое оправдание.
— Ванюшка-то уж не подведет, поди отличник. Зря что ли две грамоты висят в киотках. Их кому попало не дают.
Заверения бабушки, казалось, успокоили отца, он положил свою широкую тугую ладонь мне на плечо и, присев на табуретку, ласково посмотрел в глаза.
— Будете купаться, далеко не заплывай, слушайся старших. На тебя я надеюсь. — Переведя взгляд на Мишку, посуровел. — А ты проводи его. У переезда посадишь на попутную машину или подводу. Сейчас всю неделю кундранские мужики возят кирпич для школы. А это — по пути. Посадят. Если не возьмут задарма, дай рубль.
После ухода отца на работу мама накормила нас, попрощалась, поцеловала меня, и мы отправились к переезду. На мое счастье попутная машина из Кундрани, нагруженная кирпичем, подъехала к переезду, когда полосатый шлагбаум загородил ей дорогу. Я не слышал, что говорил Мишка шоферу, вскочив на крыло грузовика, но отчетливо видел, как он, кивнув в мою сторону, сунул ему в руку засаленный рубль.
Мишка и грузчик, здоровенный вислогубый парень, синяя сатиновая рубаха и штаны у которого были измазаны красной кирпичной пылью, подсадили меня на машину.
Первый раз я покидал Убинку. Вдруг стало как-то неуютно и одиноко. Мы уже отъехали от переезда километра два, но я все еще видел маленькую фигурку Мишки на необъятном широком просторе пажитей и жидких перелесков. Забравшись на врытый у шлагбаума столбик, он махал мне рукой.
Дорога была ухабистой. Красные кирпичи, сложенные в елочку, при каждой встряске кузова словно выдыхали из своего щелистого чрева мелкую, как мука-сеянка, бурую пыль. Мы повернули, и я уже не увидел ни Мишки, ни полосатого шлагбаума.
Лагерь оказался намного беднее и проще, чем рисовало мое воображение. Ни парусиновых палаток, ни усыпанных желтым песком ровных дорожек, обрамленных цветочными клумбами, ни плещущего на ветру флага пионерской дружины, который, как я знал по газетам и рассказам, поднимают на утренней линейке под звуки горна и опускают вечером. Лагерь размещался в восьми комнатах деревенской одноэтажной школы-четырехлетки. Пятьдесят пионеров разных возрастов, двое вожатых, повариха и старенький хромоногий сторож, свивший себе гнездо на топчане в темной каморке сенок — вот и весь его состав.
Начальница, которую мне Мишка обрисовал как «зверюгу из зверюг», вовсе не показалась мне такой. Правда, когда она принимала меня у себя в кабинете, служившем в школе учительской, я почувствовал, как в горле у меня пересохло от волнения. Больше всего меня смутила недоверчивая улыбка, скользившая по ее лицу.
— Ты знаешь — за что исключен из лагеря твой брат? — задала она мне первый вопрос, когда я вместе с вожатой среднего отряда подошел к столу.
— Знаю… — поникшим голосом ответил я, глядя на свои босые ноги.
— За что?
— Нахулиганичал.
— А как нахулиганичал?
— Вас обидел…
— А как он меня обидел? — наступала начальница.
— Нечаянно… Думал, девчонки заглядывают к ним в комнату, а оказалось — вы…
— Ну спасибо хоть за то, что не соврал. А как ты думаешь вести себя?
— Хорошо.
Только теперь я решил поднять голову.
— А успеваемость годовая как, небось только на посредственно?
После этого вопроса я немного осмелел и твердо посмотрел в глаза начальницы.
— Да нет. Семь «очхоров» и один «хор».
— Вот как? — всколыхнулась начальница, у которой, как все в школе знали, в параллельном со мной классе учился сын, прогульщик и лодырь, с которым безнадежно бились учителя. С горем пополам он переходил из класса в класс и только потому, что был сыном председателя райисполкома.
— Это по какому же предмету у тебя «хор»?
— По пению, — уныло протянул я.
— О-о-о!.. Ну, это чепуха, Ваня!.. — На лице начальницы вспыхнула веселая улыбка. — Это дело мы исправим. Вот попоешь у костра пионерские песни — и получишь отличную оценку по пению.
— Постараюсь, — чтобы не молчать, ответил я.
— Леньку Холодилина знаешь?
— Знаю! — встрепенулся я. — А кто его не знает.
— Баловник и лодырь?
Улыбка на лице начальницы потухла.
— Да-а… — протянул я, но тут же спохватился, понимая, что сделал большую глупость, и стал выкручиваться. — Но он лучше всех стоит в воротах. Физрук сказал, что из него вырастет хороший голкипер.
В те годы слово «вратарь» мы, ребятишки, считали деревенским, а потому козыряли иностранными футбольными терминами: «голкипер», «хавбек», «аутсайд», «корнер».
— Да, — печально произнесла начальница, — в воротах он стоит лучше других, но вот если бы так отличался в учебе… Будешь с ним в одном отряде. — И, переведя взгляд на вожатую, которая в нашей школе работала библиотекаршей, сказала: — Бери его к себе, Таня, а он пусть возьмет шефство над Холодилиным. Ну как, Ваня?
Я опешил. Как же так? Я, которого все в школе считали отличником и тихоней, должен взять шефство над неуправляемым сорванцом Холодилиным!
— Ну, что молчишь-то? Согласен?
— Постараюсь… — угрюмо и нерешительно буркнул я, пока еще не представляя, в чем может заключаться мое шефство. В одном я был уверен — перечить воле начальницы нельзя.
Определили меня в средний отряд, Мишка был в старшем.
Первый день мне все было в новинку. В «мертвый час» ребятишки из моей комнаты заперли дверь изнутри, прикрутив веревкой ручку к ножке кровати, и открыли азартную репейную войну. Заслонив голову одеялом, каждый, держа в руке комок заранее заготовленных репьев, норовил влепить его не куда-нибудь, а в волосы своему соседу. Каждое меткое попадание сопровождалось взрывами восторженного смеха и улюлюканьем. Репейная баталия сразу же прекратилась, как только мальчишки увидели, что кровать, за которую была привязана веревка, задвигалась по полу.
В комнату буквально ворвалась начальница, но все «репейные бойцы» уже лежали на своих койках, с лицами, глядя на которые можно было подумать, что в комнате сонное царство. Много лет спустя я где-то не то услышал, не то прочитал, что самыми лучшими артистами являются дети.
Лишь я один, не принимавший участия в баталии, натянув до подбородка одеяло, смирно лежал с открытыми глазами и виновато смотрел на начальницу.
— Ты почему не спишь, Ваня? — спросила она. — И почему такой бледный? Уж не заболел ли?
— Что-то голова кружится. После завтрака несколько раз рвало, — виновато ответил я, словно чувствуя какую-то вину за свое нездоровье.
После ухода начальницы в комнату вошла медсестра и, ничего не говоря, поставила мне градусник. Лежа на боку, положив голову на ладонь, я чувствовал, как часто бьется мое сердце. Меня знобило, хотелось чем-нибудь укрыться. Я натянул на голову застиранное байковое одеяло, которое уже давно потеряло свой изначальный цвет, и пытался хоть как-то согреться. Но озноб усиливался. И когда минут через десять в комнату вошла медсестра и вынула градусник, по ее озабоченному лицу я понял, что со мной не все в порядке.
— Ого!.. Тридцать девять! Что, поди перекупался?
— Да я еще ни разу здесь не купался. У меня уже второй день болит голова и почему-то морозит.
К обеду температура поднялась до сорока. Таня укрыла меня тремя одеялами, принесла в большой эмалированной кружке клюквенный морс, который я тут же жадно выпил.
Обед мне принесли в комнату, поставили на тумбочку, но я даже не хлебнул пшенного супа, в котором плавала куриная ножка. Кружилась голова и пища, казалось, могла вызвать очередную рвоту. Чтобы не чувствовать запаха супа, я виновато и тихо попросил медсестру, принесшую мне порошок, унести обед.
Таким горьким для меня оказался первый день жизни в пионерском лагере. Вечером, во время ужина, я смог съесть только кружку простокваши, круто посоленный ломоть черного хлеба и пучок зеленого лука. К моей болезни ребятишки, соседи по комнате, отнеслись сочувственно. На следующий день не было ни «репейных баталий», ни надрывного смеха. Все меня жалели.
На второй день моего пребывания в лагере озноб и жар прекратились. Не поднималась и температура. Однако купаться меня не тянуло, не вернулся ко мне и тот неугасимый аппетит, который жил во мне, очевидно, с первого дня рождения. К моему удивлению, у меня появилось даже отвращение к жирной еде. Хотя суп пионеры хлебали не как у нас дома из трехлитровых эмалированных блюд, а из алюминиевых мисок, в которые ныряли не щербатые, в зазубринах деревянные ложки, а аккуратненькие городские ложечки. В котлету, которая за нашим деревенским столом появлялась только по большим праздникам, вонзалась не пятерня с давно нестриженными ногтями, а беленькая алюминиевая вилка. Жить бы да радоваться, писать бы домой хорошие письма, ан нет… Душа не принимает ни жирный мясной борщ, ни свиные котлеты. Тошнота и слабость не отступали.
Вечером на второй день я съел лишь ломоть ржаного хлеба, густо посыпанный крупной солью, запив его крепким квасом. На третий день температура у меня снова поднялась до тридцати девяти. Опять озноб, переходящий в жар. Я с трудом сдерживал слезы. Хотелось домой к маме и бабушке.
В конце дня приехал участковый фельдшер, внимательно выслушал меня и, расспросив о самочувствии, сразу поставил диагноз — малярия.
— Нужно срочно везти в районную больницу. Здесь мы ему не поможем.
— А чем его кормить? — спросила начальница. — Ведь он три дня почти ничего не ест, кроме черного хлеба и лука с солью.
— Это нестрашно. Давайте хлеба и лука столько, сколько попросит. Квас и кислое молоко тоже хорошо.
Завхозу пионерлагеря моя болезнь задала множество забот. Начальница приказала ему срочно достать лошадь с телегой или уговорить шофера попутной машины доставить меня в больницу.
Наша повариха, жившая в соседней деревне Сысоевке, сказала, что к ним рано утром приехал на грузовике сборщик утильсырья, который пробудет в деревне до обеда, а потом, когда загрузит машину тряпьем и костями, поедет в райцентр мимо лагеря.
Решив посадить меня в эту машину рядом с шофером, начальница послала в Сысоевку завхоза и строго наказала:
— Скажи, что у мальчика высокая температура. Его нужно срочно доставить в больницу. Не забудь намекнуть, что начальник лагеря жена предрайисполкома Холодилина.
— Вас понял, Наталья Николаевна! — по-солдатски отчеканил завхоз и выскочил из комнаты.
Я был свидетелем этого разговора, и он мне понравился.
Видя мое просиявшее лицо, Холодилина подсела ко мне на кровать, положила на мой горячий лоб свою прохладную руку и, ласково глядя мне в глаза, тихо по-матерински сказала:
— Не горюй, сегодня к вечеру будешь в больнице, а там сразу же сообщат родителям. Только не вздумай просить шофера, чтобы он вез тебя домой.
В ее словах я скорее почувствовал, чем понял ее заботу о моем здоровье.
Уже в самых дверях, повернувшись ко мне, она, несколько виновато улыбнувшись, сказала:
— А своему старшему братишке передай привет, скажи, что я не сержусь на него. И, если найдет на чем приехать — пусть подъезжает, я приму его. У нас еще три недели в запасе. И самое интересное — впереди. Скажи об этом и отцу — это мой наказ тебе.
В тот день к обеду я даже не притронулся. Зато почти теплый ломоть только что испеченного душистого хлеба, посыпанного все той же крупной солью, вприхлебку с холодным крепким квасом, в который повариха положила добрую ложку хрена, я съел с аппетитом.
А пионеры в этот день отправились в поход. Там, в лесу, будет костер и потом обед, в который обязательным блюдом войдет пойманная в озере рыба.
Каким несчастным человеком чувствовал я себя, когда закутавшись в одеяло и примостившись на тумбочке, ожидал, глядя из раскрытого окна опустевшей комнаты, грузовик с утильсырьем. Я даже не подумал о грузе, который повезет машина. Мне хотелось скорее попасть в больницу. Там врачи, которые вылечат меня от лихорадки.
Сейчас, когда по проселочным дорогам взад и вперед снуют легковые и грузовые машины, нет никакой проблемы в том, чтобы доставить больного ребенка с высокой температурой в районную больницу. Но в моем детстве все было далеко не так просто.
О, как заметался я, завидев на дороге грузовик, приближающийся к лагерю. Зубной порошок, мыло, домашнее полотенце, зубную щетку и пару романов Жюля Верна, за которыми отстоял в очереди два месяца в районной библиотеке, бросил в фанерный чемодан и приготовился к отъезду. Не понял я только одного, почему завхоз лагеря едет не в кабине рядом с шофером и не на копне свежевыкошенной травы в кузове, которой накрыт груз, а стоя на правом крыле грузовика. И только когда машина остановилась во дворе под моим окном, я увидел рядом с шофером румяную щекастую девку в розовой косынке, которая, судя по ее лицу, рассказывала шоферу что-то очень смешное.
Конечно, если бы начальница и вожатая в это время не были в походе, то отъезд мой мог бы или вообще не состояться, или состояться совсем по-другому. А завхоз, что?.. Ему приказано меня отправить с попутной машиной, он и выполнил свое поручение. На прощанье он сжал мне руку, и я почувствовал, как у него изо рта пахнуло волной самогонного перегара.
Всего несколькими словами мы перекинулись с шофером. Он спросил, на какой улице я живу и где работает отец. Девка в розовой косынке из кабины даже не вылезла. Не услышал я от завхоза и просьбы отвезти меня в районную больницу. Я решил, что обо всем этом он договорился еще в Сысоевке.
Вонючий смердящий запах гниения шел от машины. Завхоз подсадил меня в кузов и, уже сидя на разметанной копне зеленой свежей травы, я вынужден был зажать ноздри пальцами. Примостив фанерный чемоданчик к борту, я положил голову на траву.
Крепко зажмурившись, я услышал, как машина, загремев, рывком тронулась с места и начала набирать скорость. Мне не хватало воздуха, учащенно билось сердце, захватывало дыхание, температура поднималась. Стоило на несколько секунд разжать ноздри и вдохнуть воздух носом, как все мое существо откуда-то от живота к горлу захлестывало приступом неукротимой рвоты.
Дорога была ухабистой. Кузов время от времени подбрасывало так, что с него сползали пласты зеленой травы, обнажая вонючие тряпки и кости животных, на которых ткани и кожа еще не успели до конца сгнить и отделиться. Наступали минуты, когда мне казалось, что я потеряю сознание, не выдержу этих мучительных рвотных судорог и умру на собачьих скелетах и лошадиных черепах. Потом время потеряло даже приблизительное исчисление, и я не знал, сколько трясусь на этой зловонной куче: десять ли, двадцать минут или полчаса. А до Убинска от Кундрани сорок верст.
Погруженный в полусон или полуявь, я неожиданно почувствовал, как машина резко остановилась. Разжав ноздри, открыл глаза и, подняв голову, увидел перед собой огромный лошадиный череп с оскаленными челюстями, в которых не было больших зубов, а передние, уже от старости съеденные, зловеще скалились на меня. Я испугался и от страха закричал. Шофер протянул ко мне руки и, сняв с машины, спросил:
— Что, плохо, парень?
— Плохо… — через силу проговорил я. — Боюсь, умру.
— Ничего, осталось семь километров, минут через десять будем в центре.
Я пытался встать, но ноги мои подламывались.
— Куда ты?
— Вон под то дерево… в тень… положи меня на землю.
Шофер легко приподнял меня, пронес несколько шагов на руках и положил в тень старой густой березы, заросшей высокой травой.
Вряд ли когда-нибудь в жизни я буду с таким наслаждением, с такой животворной сладостью вдыхать чистый воздух. Припав грудью к земле и разбросав руки, я неподвижно лежал несколько минут, и мысль о том, что не умру и что до дома осталось всего семь километров, придавала мне силы. Но мне очень хотелось, чтобы шофер и девка подольше не подходили ко мне и не заставляли встать. Я не знаю, сколько я пролежал бы в прострации полусознания, если бы не хрипловатый голос шофера, прозвучавший надо мной:
— Вставай, паря, едем.
Голова кружилась, поднялся я с трудом и, цепляясь за рукав пиджака шофера, дошел до машины, от которой на меня вновь пахнуло запахом гниющей ворвани. На машину меня подсаживали шофер и девка, на лице которой застыла маска брезгливости.
Собрав покучнее траву и прикрыв ею оскал лошадиного черепа, в котором затаилась печать скорби и боли, я лег вниз лицом и закрыл глаза. Рой мелких мух, облепивших собачью голову и конскую ногу, лезли мне в ноздри, лепились к губам, к потной шее. Полегче стало, когда машина выехала на пологий холмик и встречный ветер облегчил мои страдания. До железнодорожного переезда, что был на окраине села, я ни разу не открыл глаза и не поднял головы. Наконец я услышал гудок подходящего к станции поезда.
Весь июль месяц отец работал со своей бригадой в «Заготзерно». Там они строили два деревянных амбара. Как забилось мое сердце, когда я, подняв голову, увидел на лесах моего отца. Судя по тому, что он и его товарищи по артели, сидя на срубе, дымили цигарками, я понял, что в работе был перекур. Судорожно прополз по костям и тряпкам к кабине и что есть силы застучал по ней кулаками.
— Что?! — гаркнул из-за распахнутой двери кабины шофер, притормозивший машину.
— Остановись! — ослабевшим голосом воскликнул я. — Вон мой папаня.
Отец меня увидел еще до того, как я успел ему крикнуть. Он легко спрыгнул со сруба и кинулся ко мне. Вряд ли когда-нибудь раньше я видел на лице его такой испуг и тревогу.
— Что с тобой, Ваня? Заболел?..
Когда он снимал меня с машины, по щекам моим текли слезы.
Шофер сказал, что меня нужно везти в больницу.
Отец метнул на него такой взгляд, от которого тот поежился, словно ожидая, что в следующую секунду получит такую оплеуху, от которой не устоит на ногах.
— Что же ты, стервец, свою сисястую гусыню посадил в кабину, а больного ребенка бросил на гниющие кости и вонючие тряпки!
— Ну так, мне-то что было делать? — виновато оправдывался шофер.
Отец снял с машины мой чемоданчик и, обжигая шофера взглядом, резко ответил:
— Вали отсюда, чтобы мои глаза тебя не видели! Мы еще встретимся с тобой на узенькой дорожке. Вези куда надо свою гусыню!
В больницу меня отвел отец, благо до нее оставалось недалеко. Дежурный врач поставил градусник. Пока отец ходил за топором, с которым, насколько я помню себя, он был неразлучен, я сидел на крашеной лавке приемного покоя, в который через открытую дверь доносился крик младенца из родильного отделения.
Отец вернулся в ту минуту, когда дежурный врач, вытащив у меня из подмышки термометр, близоруко щурясь, рассматривал его показания.
— Ну как, доктор, высокая?
— Да, порядочная. Тридцать восемь. Необходим постельный режим. Но на сегодня у нас в детской палате нет мест. Дам вам таблетки, привозите больного завтра. Желательно с направлением из поликлиники. У мальчика по всем признакам малярия.
Я взял таблетку и запил ее водой из стеклянного графина. Отец поблагодарил врача, и мы вышли на улицу. На наше счастье со стороны станции на исполкомовском лихаче, впряженном в пролетку, катил Никита Соколов, возница председателя. Когда мы еще жили в поселке Крещенка, Сережа учился в пятом классе в Убинске и как постоялец проживал у Никиты. Отец не раз привозил ему то мешок мороженых карасей, то пуда два полуметровых щук, то ведра два клюквы, которая на Крещенских моховых болотах расстилалась красным ковром.
Мне показалось, что Никита обрадовался встрече с отцом. Он круто осадил гнедого, соскочил с пролетки и замотал вожжи за передок. Долго они жали друг другу руки, горевали, что уж вот год, как не встречались и не отводили душу за разговорами о житье-бытье. Судя по выражению лица отца, я понял, что он совестится попросить Никиту довезти нас до дома. Но Никита, взглянув на меня, сам понял, что я нездоров.
— Это кто, третьяк? Ванец? — спросил он и прикоснулся своей шершавой ладонью к моему лбу. — Куда вас, домой? Я с ветерком.
— Да как-то неудобно, — глухо ответил отец, — вроде бы не по Сеньке шапка ехать на таком рысаке.
Заметив замешательство отца, Никита скомандовал:
— А ну, живо! — он метнул взгляд в пролетку, и я, не дожидаясь отца, вскочил в нее.
Когда отец понял, что Никита хочет провезти нас не по Пролетарской улице, а через центр, мимо окон райисполкома, он опять забеспокоился.
— Да ты что, Никита? А если увидит сам?
Соколов хлестнул ременными вожжами по крупу гнедого, пустив его в полную рысь.
— А что он мне сделает? Что, я везу спекулянта какого-нибудь, пьянчугу или утильщика? Я везу стахановца Сибири, о котором в газетах пишут, и его сына, отличника учебы. Мой Ванька, а он с твоим Ванюшкой учится в одном классе, рассказывал мне, что по учебе сыну твоему нет равных.
Слова Никиты пролили бальзам по моему сердцу. Ведь о моих успехах ему рассказывал не кто-нибудь, а Ванька Соколов, самый сильный парнишка в нашем классе. Он клал на обе лопатки даже тех, кто старше его годами и повыше ростом. Правда, по учебе он был середнячок, но это нисколько не принижало его авторитет среди ровесников.
А уж по нашей-то Рабочей улице, где меня и отца знал и стар и млад, Никита пустил гнедого на такую рысь, что у меня засвистело в ушах. В первый раз я пожалел, что наша улица коротка. Я заметил, что лицо отца порозовело и весь он словно помолодел. В эти минуты я забыл, что болен.
Мы подъезжали к дому. Сейчас начнутся расспросы мамы и бабушки. Я огорчу своей болезнью Мишку, но, может быть, и порадую: ведь начальница лагеря твердо сказала, чтобы он собирал вещи и ехал в лагерь. Я даже не почувствовал, где и как выронил зажатые в ладони таблетки, которые мне дал врач.
Долго еще потом меня трепала лихорадка. Причем не ежедневно, а строго через день. Часов в десять утра я начинал чувствовать озноб, ставил под мышку градусник, который мне принесла классный руководитель Полина Федоровна, и, вытаскивая его, крайне удивлялся, почему это так: у меня озноб, а градусник показывает высокую температуру. Никакой логики! И аппетита никакого! Временами наступали минуты полного отвращения к пище. Душа не принимала даже яйца, которое бабушка давала мне как больному. Сколько себя помню, яйца в нашем доме считались не только роскошью, но и чем-то религиозно-пасхальным. Когда бабушка уходила на кухню, я тайком передавал яичко Толику или Петьке, и те, хотя и жалели меня, брали с удовольствием. Единственное, что принимала моя душа, это ломоть черного хлеба, посыпанный крупной солью, пучок зеленого лука и кружку холодной простокваши. В те дни, когда лихорадка меня не трепала, я еще находил в себе силы вместе с ребятишками нашей улицы ходить на озеро, где мы пропадали часов до трех. Однако купаться меня не тянуло. В душе поселилась боязнь. Мои попытки упорством победить болезнь оказались бесполезными. Я все больше и больше слабел, тощал и бледнел. А десятки порошков хинина, которые мне предписал врач, вызвали такую желтизну у меня на лице, что кое-кто из взрослых считал, что у меня начинается желтуха. Соседи и знакомые советовали маме и бабушке обратиться к народным средствам. А однажды, когда бригада отца получила премии, он привел к нам артельщиков ее обмывать. Но даже мороженое, которое подал мне на печку отец, я ел не только без аппетита, а с каким-то полуотвращением. Да и ел только потому, что не хотел обидеть отца. А когда у артельщиков зашел разговор о моей лихорадке, то один из них многозначительно посоветовал:
— Хиной одной лихорадку не убьешь, ее нужно пить не с водой, а с водкой. На треть стакана водки высыпать два порошка хинина и хорошенько помешать, и через день — как рукой снимет.
От этого совета я почувствовал приступы рвоты. Кто-то из артельщиков попросил у бабушки два порошка хины. Я услышал, как в стакане, куда была налита водка, зазвенела чайная ложка. Хорошо, что отец взял это снадобье и тут же вылил в помои.
Неделей позже состоялась еще одна неудачная попытка вылечить меня с помощью народной медицины. К бабушке зачем-то пришла соседка Кривоносиха. Меня опять трепала лихорадка. Озноб перешел в жар, и я попросил бабушку постелить мне на полу. Широко разбросав руки и прижав горячие ладони к холодному полу, я лежал на какой-то подстилке в горенке и отчетливо слышал каждое слово Кривоносихи.
— Послушай мой совет, Никитична, когда пойдешь полоскать белье на канал, возьми с собой Ванюшку, выбери бережок, где помельче, чтобы беды не было, и полощи, полощи, а потом позови поближе Ванюшу и скажи ему: вон, вон, гляди, как плавает рыбка, а ну, погляди! Он подойдет к тебе и будет глазами искать рыбку, а ты ему опять показывай, а когда он склонится разглядеть ее хорошенько, ты и пхни его в воду, да так, чтобы он сразу нырнул головой и всем телом скрылся в воде. Да смотри только, чтоб сама не ухнула в воду, а то дно илистое, топкое, засосет так, что…
Кривоносиха хотела сказать что-то еще, но жестом руки бабушка резко остановила ее.
— Ды ты что, Кузьминична, на такой грех толкаешь меня! Побойся Бога!.
Но Кривоносиха не унималась:
— Никитична, а так ты лихорадку из Ванюшки и выгонишь. Только испуг, один только испуг поможет тебе. И не бойся, что потом он с недельку будет заикаться. Вместе с болестью все пройдет. Меня покойная бабушка от этой лихоманки так и вылечила.
Видя, что плечи мои от горьких рыданий вздрагивают, бабушка поднялась, поправила на мне одеяло и твердо, каким-то до сих пор незнакомым мне тоном сказала, бросив взгляд на икону:
— Вначале попроси у Господа Бога прощения за такой совет, а потом закрой вот эту дверь в сенцы с той стороны и больше с такими советами ко мне, соседка, не заходи.
Властные слова бабушки возымели свое действие, и Кривоносиха, трижды перекрестившись на икону, как-то согнувшись, с пристыженным лицом закрыла за собой дверь.
Чтобы успокоить меня, бабушка прошла в горницу, опустилась на колени и долго целовала мое лицо, залитое слезами.
— Да что ты, голубчик, что ты! Разве я сделаю это! Разве я не понимаю, что совет ее от сатаны и от зависти. Ты-то у нас круглый отличник, а ее внуки — одни прогульщики и плохисты. Вся улица знает их как второгодников и воришек по чужим огородам.
Эти слова бабушки меня утешили.
Новосибирск
А когда старший брат после окончания школы в Новосибирске вошел в родной дом, все бросились ему на шею. Инстинкт добровольного подчинения старшему, наиболее сильному и опытному, живет в природе не только у журавлей и других крупных птиц, которые в своих тысячекилометровых перелетах с севера на юг и с юга на север всегда строго следуют за своим вожаком. Вот и сейчас, пробегая по пунктирной дорожке памяти, я часто натыкаюсь на перекрестки, где мои интересы сталкивались с участием старшего брата. Когда он помогал мне, советовал, заставлял и выручал в ситуациях, в которых справиться мне одному было невмоготу. И, пожалуй, если бы не Сережа и не его поездка в Новосибирск, то вряд ли моя судьба испытала бы такой крутой поворот.
Сережа сразу обратил внимание на то, как я, изнуренный лихорадкой, похудел и пожелтел от хины. Через некоторое время, посоветовавшись с родителями, на свои скопленные деньги он купил дешевый билет до Новосибирска. На прощанье, перед тем как уйти на вокзал, спросил меня:
— Хочешь учиться в большом городе в школе, которую в Новосибирске считают образцовой?
Что я мог ответить брату? Два последних года, получая от него интересные письма и слушая его рассказы, когда он приезжал на каникулы, я не переставал мечтать о том, чтобы переехать к дяде в Новосибирск и учиться там в той же школе, где и Сережа.
В день отъезда старшего брата приступа лихорадки у меня не было, а потому я отважился вместе с Мишкой прошагать полтора километра до станции. На платформе я сказал брату:
— Сережа, скажи крёсне, что я буду стараться хорошо учиться и во всем помогать ей: возить барду, ходить в магазин, мыть посуду. Ведь она так занята, у нее столько работ по дому!
Эту мою просьбу Сережа пообещал передать обязательно.
Когда я, возвратившись с вокзала, полез в свой заляпанный чернильными пятнами брезентовый портфель, то не нашел в нем дневника. Это меня встревожило. Мама успокоила меня, рассказав, что табель Сережа взял с собой для разговора с директором. Будет просить, чтобы меня приняли учиться в седьмой класс.
Неделя в ожидании возвращения старшего брата показалась мне томительной и долгой, поэтому день его приезда стал настоящим праздником. У лихорадки, на мое счастье, в этот день был выходной. Завидев Сережу из окна горенки, я выскочил во двор. По лицу брата сразу увидел, что поездка в Новосибирск оказалась удачной. Чтобы не томить меня ожиданием, он как-то хитровато улыбнулся и сказал:
— Будешь учиться в 7–6 классе. Твоим классным руководителем станет Зоя Александровна Шереметьева, та, что была у меня в девятом и десятом классе. А дядя Васяня и крёстная Саня рады тебя принять на время учебы в школе.
И снова приходит на ум старая русская пословица: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Не прицепись ко мне в пионерском лагере в болотистой Кундрани эта противная лихорадка, конечно же, ни о каком Новосибирске и учебе в образцовой школе не могло быть и речи. Итак, передо мной расстилались новые горизонты пока еще загадочной жизни.
Ко времени моего приезда в Новосибирск Сережа уже блестяще закончил среднюю школу. Мама, отец и мы, братья, знали, что Сережа подал документы в какой-то очень модный и престижный московский Институт философии, литературы и истории. Но о том, что он отправил туда документы, Сережа попросил маму с отцом и братьев никому не болтать. Очевидно, история с попыткой продолжить учебу в девятом классе Убинской средней школы оставила в душе его незаживающую рану. Прошло два года, обида его не потухала, а поэтому он свое желание поступить в московский институт решил держать втайне. Хотя бабушка нас, младших братьев, считала несмышленышами, но мы все-таки каким-то особым чувством и детским разумением понимали, что тайну брата нужно хранить. И жизнь подтвердила, что опасения Сережи оказались ненапрасными.
Ни отец, ни мама никак не могли заучить четыре заковыристых для их разума слов в названии института. У себя в плотницкой артели отец как-то не выдержал и похвастался, что сын у него задумал учиться в Москве. На вопрос мужиков: «И на кого же он станет учиться?», отвечал легко и просто: «На Пушкина! Он с малолетства стишки сочиняет».
Много раскрытых и нераскрытых наукой тайн существует в природе человека. Но одну из этих тайн я испытал на себе.
В Новосибирске меня встретил Сережа. В этот день приступа лихорадки не было. Он сводил меня в центральную железнодорожную поликлинику, которой пользовались мой дядя, тетя и Сережа. По сравнению с нашей сельской поликлиникой, которая располагалась в бревенчатой избе с четырьмя кабинетами, поликлиника большого города показалась мне огромным храмом с множеством кабинетов, на дверях которых висели таблички с непонятными мне названиями. Пожилой седой врач, который осматривал меня, задавал вопросы, на которые я старался ответить правильно и грамотно. Рассказал врачу о том, как и где подхватил эту проклятую лихорадку, что трясет она меня не каждый день, а через день. А озноб начинается ровно в десять утра и через два часа температура поднимается к сорока. Он что-то записал в моей карточке, выписал мне направление на анализ крови и велел, чтобы я пришел к нему с анализом в день, когда меня не будет трясти лихорадка. Этот внимательный, с ласковым голосом доктор показался мне не просто врачом, а профессором. Из его кабинета я вылетел как на крыльях.
На второй день после моего приезда в город я, в ожидании приступа лихорадки, в девять часов лег в постель и накрылся одеялом, время от времени поглядывая на стрелки настенных ходиков. Однако, ни в десять, ни в одиннадцать озноб не начинался, температура была нормальная. Удивился и Сережа, который хорошо знал график наступления моей лихорадки. В постели я провалялся часов до трех, пока, к моему удивлению, не почувствовал голода. Тарелку жирных щей с ломтем черного хлеба я съел с большим аппетитом. Ни на второй, ни на третий и четвертый день после моего приезда в Новосибирск озноба не было. Лабораторный анализ крови показал, что во мне бродит огромное количество каких-то лямблий. Мое сообщение о том, что лихорадка отступила, вызвало у доктора одобрительную улыбку.
— Ну, хорошо, — сказал он, — а теперь будем лечиться.
Я робко спросил его, почему лихорадка от меня отвязалась. Врач улыбнулся и ответил:
— Ваш Убинск утопает в замшелых болотах и торфяных озерах, над ними носятся миллионы и миллиарды комаров, а Новосибирск стоит на такой гранитной гряде, каких нет в основании ни у одного города в нашей стране.
Его ответ прозвучал разгадкой тайны, которая томила меня целую неделю. Конечно, делали свое полезное дело и предписанные врачом порошки. В очередных лабораторных анализах крови все меньше и меньше оставалось проклятых лямблий.
Самое приятное для себя известие получил Сережа. Мама сообщила телеграммой, что из Москвы пришел ответ, в котором сообщалось, что он принят в институт с общежитием. Тетушка в этот день испекла праздничный пирог и поставила на стол бутылку красного портвейна. Радость была всеобщей.
Сережа сводил меня в 24-ю школу, показал тот класс на третьем этаже, в котором учился два года и в котором предстоит учиться мне. Домик директора школы Якова Николаевича Зимы находился при школьном дворе. Хотя до начала учебного года было еще целых десять дней, он зачем-то, как сказал нам бородатый сторож, каждый день заходит в свой кабинет. Сторож тут же посоветовал Сереже:
— Да ты зайди, зайди к нему! Он любит, когда к нему выпускники заходят. Не боись, он душевный.
И Сережа, оставив меня в коридоре, зашел в кабинет директора. Минут через пять он открыл дверь и позвал меня.
Выйдя из-за стола, Яков Николаевич крепко пожал мою руку и предложил сесть на диван. Всего разговора я сейчас уже не помню, но то, что директор знал о моих поэтических опытах, меня удивило и запомнилось на всю жизнь. Особенно взволновали его слова:
— Годика через два, когда доучишься до девятого класса, будешь главным редактором литературного журнала, который вел твой старший брат.
О том, что Сережа был редактором школьного журнала, я знал и раньше, знал также о том, что он организовывал встречи школьников с известными сибирскими писателями. Над его литературным кружком шефствовал старый сибирский писатель, политкаторжанин, Бегман. Сейчас я уже запамятовал его имя и отчество, но слышал, что в тридцать седьмом его арестовали и расстреляли как врага народа.
Яков Николаевич был искренне рад и горд тем, что Сережа поступил в московский Институт философии, литературы и истории. Пройдя с нами по коридору, он показал мне класс, в котором я буду учиться. Проводив нас до первого этажа, директор крепко пожал руку Сереже. На прощанье и мне сказал что-то ласковое, отцовское.
В этот же день Сережа уехал в Убинку. Прощание было трогательным. Я обещал ему, что не уроню его чести в школе.
Правда, сказано было это не так напыщенно, но слова мои Сережу тронули.
За несколько дней до первого сентября я долго ломал голову: прицеплять ли мне к уже несколько раз стираному серенькому пиджаку четыре оборонных значка, которые красовались на фотографии, опубликованной в областной газете «Юный ленинец» в прошлом году: «БГТО», «ПВХО», «ГСО», «ЮАС». Никто из моих ровесников в убинской школе не имел столько значков. Наконец, решившись, я надраил зубным порошком значки, прицепил их к левому лацкану пиджака и долго крутился перед зеркалом, воображая, какое впечатление произведу первого сентября на своих одноклассников. И был уверен в том, что, вглядываясь в мои значки, ребятишки будут спрашивать о загадочном значке «ЮАС», который они видят впервые. Три этих буквы обозначали: «Юный авиастроитель». Над ними можно было прочитать слово «Инструктор». Этот бело-голубой значок был редким в те годы, и выдавали его только тем, кто проходил месячные сборы в особом лагере юных авиастроителей в Новосибирске на берегу Оби. Как отличник учебы убинской средней школы, я побывал в этом лагере, где готовили инструкторов по авиамоделизму.
В своих предположениях я не ошибся. День первого сентября в новой школе произвел на меня глубокое впечатление. Все мальчишки и девчонки, встречавшиеся мне в коридоре, обращали внимание на значки, а те, кто пошустрее, останавливались и спрашивали, что означает «ЮАС». Я с умным видом расшифровывал аббревиатуру. Но когда ко мне подошла девочка с большими карими глазами, ученица моего класса Нина Комиссаренко, я порядком смутился. Своей улыбкой она как бы зажгла меня, и все последующие четыре года учебы в школе я волновался при встрече с ней.
Где-то в середине сентября я получил письмо от мамы. В нем она сообщала, что Сережа уехал в Москву. Арестовали двух плотников отца. За что — никто не знает. Сейчас он работает на строительстве районной тюрьмы, но тревога его не оставляет.
С наступлением холодов директор школы разрешил мне на три дня отлучиться для поездки в Убинку. Мне было необходимо взять теплые вещи. На вокзал меня провожал дядя Васяня, а крёстная в подарок завернула кусок свинины килограмма в три: она только что зарезала поросенка. Так что домой ехал я не с пустыми руками. Езды до нашей станции на пассажирском поезде всего было четыре часа. И несмотря на то, что билет у меня был плацкартный — лежачая средняя полка, все-таки я ни на секунду не уснул в эту ночь. В душе жила тревога за отца. Вспоминался 1931 год, раскулачивание и тайный отъезд отца на шахты Донбасса.
Арест отца
Последнее время отцу снились тревожные сны. Утром, просыпаясь, он рассказывал их маме, и та, считавшая сны вещими, пыталась их разгадать:
— К чему? К худу или к добру? К гостю или к пожару? — горестно вздыхала она и заводила разговор о чем-нибудь другом.
О том, что беспокоило ее последние дни: об обувке детям, о сене, которое до сих пор еще не свезли с волковского займища, о дровах, которые уже на исходе, о конюхе райисполкома, к которому нужно идти с бутылкой и просить лошадь.
Больше всего родители волновались из-за непрекращающихся арестов. За последний год с одной только нашей улицы арестовали более десяти мужиков, причем не каких-нибудь лодырей и пьяниц, а самых работящих, молодых и сильных. В районе все время что-нибудь да происходило: от чумки в одном колхозе начался падеж скота, в другом — обнаружили попавшую в силосную яму известь, в соседней МТС кто-то в бензин или в солярку набухал воды. И добром это не кончалось. В камерах предварительного заключения в районном отделе НКВД даже соорудили двухэтажные нары. К глухой стене тюремного здания, в сторону гнилого болота, из толстых нестроганых досок пристраивали новые камеры с крохотными зарешеченными окнами под потолком. Двойные нары в них застилались жухлой соломой и накрывались грязным засаленным брезентом, списанным в Заготзерно как утиль.
Жизнь шла потому заведенному гигантской пружиной ритму, центр которой находился в Москве, а программа задавалась человеком, которого на портретах и картинах видели, как правило, в сапогах, длинной шинели или в глухо застегнутом военном кителе. Никаких орденов, никаких высоких знаков на груди. И эту как бы нарочитую неброскость и скромность в одежде, доведенную до аскетизма, люди возводили если не в вериги Христа, то в терновый венец жертвенности во имя великой идеи служения народу. Брошенный Лениным лозунг «Религия — опиум народа», который в России не висел разве лишь в храмах и в сортирах, впитывался чуть ли не с молоком матери. Жаль, что великий политик, рожденный на берегу Волги, приехав в юношеские годы в Петербург, чтобы идти не той дорогой, которой шел к свободе его казненный старший брат Александр, не вник в пророческие, обращенные к грядущим поколениям слова величайшего французского просветителя-философа и безбожника гениального Вольтера о том, что если Бога нет, то его нужно выдумать. Недаром в устах Екатерины II слово «вольтерьянец» было печатью великой крамолы и непростительного греха. Это только потом, спустя несколько десятилетий после смерти Ленина, светлые головы поймут, что советская Конституция, как основной закон народов России целиком и полностью выражает десять заповедей Моисея из канонического писания христианской религии.
Ленинский лозунг «Религия — опиум народа» как эстафету усердно понесет дальше Сталин и его соратники большевистской дружины, для которой крушение храмов, надругание над святынями станут музыкой победы и торжества их власти. Правда, в отличие от страстного трибуна Ленина, Сталин, идя к неограниченной и абсолютной власти, из анналов вековой славянской мудрости извлек драгоценную формулу: «Слово — серебро, молчание — золото». Простой народ очень редко слышал и видел Сталина. Черненое серебро его слов и мыслей было заковано в броню золотого молчания. И когда это зерно, прорастая, разрывало с треском оболочку, в этих словах простой народ слышал трубный зов новгородских соборных колоколов, зовущих христиан на торжественный молебен коммунизма, уже второе столетие призраком бродящего по Европе.
Очень жаль, что лидеры политической партии и главы советского государства, которые придут к власти после Сталина, не поймут, в чем была сила и психологический прессинг молчаливого Сталина. Иногда мне кажется, что свою тактику общения с народом Сталин разработал с того дня, когда он впервые увидел картину великого русского художника «Явление Христа народу».
Мой отец знал, что сажать его не за что, что его совесть и дела чисты. Не зря стена горенки в нашей избе увешана почетными грамотами ударника труда. Он, как правило, получал их дважды в год: к Первому Мая и к годовщине Октября. А два года назад, после того как была сдана новая двухэтажная школа, над которой от зари до зари трудилась его плотницкая бригада, ему предложили выступить с трибуны в ноябрьские праздники во время демонстрации. Даже текст написали на двух листках из тетради в линейку. Осталось лишь заучить его. Трибуна стояла на центральной площади села, перед школой, в которой мы учились.
И отец заробел. Никогда не выступал он с речами перед народом. Даже пошел на хитрость: сказал, что когда волнуется, у него трясется голова. А чтобы инструктору из райкома партии, который приготовил для него речь, не показалось, что он отлынивает от почетного выступления, отец начал при нем заикаться и тереть дрожащими пальцами лоб. Райкомовский инструктор поверил ему, и речь по бумажке пришлось читать бывшему красному партизану Никите Гаврюхину, всегда носившему на шапке и на околыше картуза красный засаленный бант.
Не раз приходила в голову отцу тревожная мысль, что и к его воротам ночью подъедут на «воронке» и постучатся в окно. Он гнал ее и, стараясь вселить в себя уверенность, время от времени бросал взгляд на множество висящих на стене грамот, каждая из которых была записана в трудовой книжке. За все годы работы в Убинске он не использовал ни одного отпуска: то некому руководить бригадой, то отпускные шли на одежду и обувь обносившимся сыновьям.
Бог не обидел нашего отца ни силой, ни здоровьем. Все в нем сливалось в гармонии добра и согласия, любви к жене и к детям. И все-таки старая незаживающая рана — раскулачивание в 1931 году и побег от высылки на Соловки — нет-нет да и давали о себе знать. Но и на этот случай где-то в его сознании жила светлая надежда на защиту. Если, не приведи Господь, и его заметут энкеведешники, то он достанет из Евангелия вчетверо сложенный листок газеты с речью Сталина, где черным по белому напечатаны слова вождя народов о том, что «сын за отца не ответчик». Об этом листке-талисмане знала бабушка, знали и мы, дети. А уж коль случится беда и местные власти нарушат заповедь вождя, то он напишет письмо самому Сталину. Опишет все свое нелегкое детство: смерть надорвавшегося отца, тяжелую жизнь в приемышах у бездетного дяди, где ему пришлось с десяти лет познать всю тяжесть крестьянского труда. Расскажет, каких трудов стоит накормить большую семью, своих шестерых детей.
И все-таки день, который незримо вился над ним черным вороном, пришел. Стоял дождливый сентябрьский вечер, когда он только что, вернувшись с работы, бросил в сенках вязанку сосновых щепок, вошел в избу и повесил на гвоздь фуфайку. Подошел к зеркалу, гребнем вычесал из волос опилки и… окаменел. С улицы донеслось ржанье лошади, которое заставило и маму метнуться к окну. Это был вороной жеребец чистых орловских кровей, о котором мы знали и раньше. Не раз видели его впряженным в черную пролетку на мягких упругих рессорах. Лошадник с детства, отец часто любовался жеребцом, когда тот, круто выгнув шею, шел по улице села разметной рысью. Казалось: ставь на голову стакан с водой — не расплещется. Знал он и кличку красавца — «Цыган». Пристяжной к Цыгану была серая вислозадая кобыла с белой гривой. Она выглядела светлокосой северянкой рядом с негром могучего сложения.
С пролетки легко и пружинисто соскочили два милиционера — их лица отец тоже где-то видел: не то в магазине, не то на базаре — и, распахнув калитку палисадника, подошли к дому. Один из них постучал в окно, а второй зорко оглядел двор: нет ли собаки. Как-то сразу осевшим голосом отец скорее выдохнул, чем сказал:
— Это за мной.
Он остановился посреди кухни, беспомощно опустив руки.
Задребезжало под пальцами милиционера стекло.
— Хозяйка, уберите собаку! — донесся из палисадника хриплый, надсадный голос милиционера.
Тигристого окраса широкогрудый пес Верный, словно чуя беду, нависшую над хозяином, встав на задние лапы, передние положил на верхнюю пряслину ворот и зашелся истошным надрывным лаем. Никогда еще не видели мы своей собаки в такой стойке и даже испугались, как бы пес не вцепился клыками в стоявшего у калитки милиционера. А тот на всякий случай уже положил правую руку на расстегнутую кобуру с наганом.
С трудом отец загнал Верного в хлев.
Вся наша семья, кроме Сережи, была в сборе. Каждый занимался своим делом. Бабушка Настя, засучив по локоть рукава кофты, месила в квашне тесто. Мишка, сидя на полу с долбленым корытом между ног, у самого порога горенки рубил табак. Время от времени, когда едкая табачная пыль попадала ему в нос, он задирал высоко подбородок и, как выброшенная из воды рыба, глотая широко открытым ртом воздух, готовился к очередному сладкому чиху.
На покупку шевиотового костюма, на который он еще с весны копил деньги, по его расчетам осталось добыть рублей тридцать. Зная, что на станции у проходящих пассажирских поездов «самосад» идет по три стакана на рубль, Мишка, подвялив в бане несколько связок табака и подсушив их в печке, решил торгонуть так, чтобы хватило на заветный костюм, да еще и немного осталось на парусиновые ботинки с коричневыми кожаными носками. Мечта о такой одежде жила в нем еще с седьмого класса, когда кое-кто из его ровесников, тайком от девчонок, учился танцевать фокстрот. Мишке тоже хотелось по-настоящему танцевать с девчонками на школьных вечерах, но куда сунешься в застиранном сером пиджачке из «чертовой кожи» и в сапогах, которые вот уже второй год «просят каши».
Толик и Петька сидели друг против друга на печке. Между ними на теплых, засыпанных подсолнечной шелухой кирпичах лежала старая, уже отстлужившая свой век, изрядно потрепанная географическая карта. Человек со стороны, случайно взглянув на их позы и лежавшую перед ними карту, мог подумать: «Вот это детки!.. Вот это умники!.. Даже на печке занимаются географией…» Но Петька и Толик занимались не географией. Они играли в «тараканьи гонки». Эту игру они придумали сами и всегда прибегали к ней, когда между ними вскипал спор. Сегодня они еще с утра по дороге в школу поспорили, кому вечером поить скотину и притащить в дом два ведра воды. Толик до хрипоты в голосе доказывал, что если вчера скотину поил не Петька, а он, то сегодня очередь Петькина. Петька, сжимая кулаки, тряс ими перед носом Толика и призывал его вспомнить, что позавчера и «тритёдня», когда Толика бил кашель, два дня подряд скотину поил он. Чтобы как-то схитрить и вывернуться, положенный на лопатки доводами брата Толик находил в споре лазейку, припоминал Петьке, что «тритёдни» он тоже не сидел сложа руки, а занимался работой «почижалей», чем таскать из ближнего курдюковского колодца воду: почти весь вечер пилил с Мишкой дрова.
Видя, что спор не приведет ни к чему хорошему, Толик предложил решить вопрос по-мирному:
— Давай сыграем на тараканах.
— Давай! — обрадовался Петька.
Тут-то они и расстелили между собой старенькую заляпанную чернилами географическую карту. Суть игры состояла в следующем. Каждый из играющих ловит себе облюбованного прыткого таракана, которые на теплом печном чувале, на потолке и на стене ходили табунами. Каждый выбирал такого таракана, чтобы он в беге был проворным, потом втыкал ему в зад тоненькое перышко, торчащее из подушки. Играющие отпускали своих «рысаков» в центр карты и наблюдали… Вот тут-то и разгорались самые жгучие страсти. В эти минуты каждый из играющих, кто молча, а кто с понуканием, старался послать мечущемуся по карте своему избраннику всю свою внутреннюю энергию. Победителем считался тот, чей таракан первым пересечет границу карты и вырвется на волю.
А я, примостившись в горенке к окну, выходившему в палисадник, мыслями витал в других мирах, на других материках, в других пространствах. Не обращая внимания на равномерный глухой стук топора о днище долбленого корыта и на доносившиеся из кухни всхлипы лопающихся пузырей теста в квашне, над которой с засученными рукавами склонилась бабушка, забыв обо всем на свете, я погрузился в трагедию преданного родными дочерьми короля Лира. Три дня назад учительница литературы, у которой я ходил в «любимчиках», дала мне изрядно зачитанный том трагедий Шекспира, обернутый в пергамент. Попросила при этом, чтоб книгу никому не давал и, порекомендовала начать с «Короля Лира». И вчера я до полночи пролежал под столом в горенке, завесившись овчинным тулупом и скатертью, чтобы слабенький свет коптилки не был виден с кровати родителей и с топчана бабушки. Под столом читал я по ночам уже не раз, когда попадалась в руки интересная книга. В доме не было керосина, освещалась изба фитильком из толстых суровых ниток, плавающем в сале-ворвани, опущенном в щербатое блюдце.
Шестилетняя Зина одевала в тряпичные лоскуты деревянную куклу, раскрашенную мною цветными карандашами. Сидя на сундуке, она так увлеклась своим делом, что не обратила внимания на стук в окно.
Итак, в этот злосчастный день все мы были заняты своим делом, когда чужие голоса на кухне и ржанье вороного рысака у ворот донеслись до моего слуха. Я посмотрел в окно и в первую минуту ничего не понял. А когда перевел взгляд на дверной проем и увидел в кухне двух затянутых в ремни портупей милиционеров, аккуратно вложил в книгу закладку и положил ее на этажерку. Воображением, мыслями я витал еще в разбушевавшейся стихии рядом с мечущимся в душевных страданиях Пиром. В ушах еще не затихли раскаты грома и шум морского прибоя.
Окончательно я пришел в себя лишь тогда, когда лейтенант (а он по лицу, по высокому росту и по командирской форме выглядел гораздо внушительней и начальственней, чем низкорослый рябоватый сержант с тремя треугольниками в петлицах) крикнул:
— Эй, вы, псара!.. А ну, выметайтесь на улицу! С полчаса поиграйте в бабки или чехарду-езду, пока мы будем работать!
После этой команды все мы застыли. Мой испуганный взгляд чем-то не понравился лейтенанту.
— Тебе что, неясно? Марш на улицу!..
— Зачем? — голос мой дрогнул.
Видя, что его дальнейшие распоряжения я, может, дерзну и не выполнить, лейтенант прошел в горницу, склонился надо мной и проговорил сквозь зубы:
— Тебе что — особое приглашение?
Только теперь я понял, что не подчиниться этому начальнику нельзя — будет плохо и мне, и родителям.
Толик и Петька так и не успели пустить своих тараканов в бега. Один вид милиционеров и резкие, отрывистые распоряжения лейтенанта сразу же погасили их споры. Мишка, так и не вытаскивая из корыта топор, молча вышел из избы со своим хозяйством, прижав его к груди. За ним, сгорбившись, как старички, направились Толик и Петька. Последним из избы выходил я.
Глядя на сидевшую на сундуке Зину, лейтенант очевидно задумался, решая, что делать с ней? Не выгонять же несмышленыша на улицу, под дождь. И повернулся к отцу:
— Посади ее на печку, пусть там играет с куклами. — Указав на сундук, сухо бросил: — Открой!
Отец, не прекословя, взял дочь на руки и перенес ее вместе с деревянной куклой и цветными лоскутками на печку.
Лишь теперь лейтенант вытащил из нагрудного кармана гимнастерки вдвое сложенную бумажку с печатью и протянул ее отцу.
— Что это? — дрогнувшим голосом спросил он.
— Ордер на обыск и арест.
Глубокий и протяжный вздох, вырвавшийся из груди отца, чем-то походил на звук снега, сползающего в день весенней оттепели с крыши.
— Ну что ж… Обыскивайте… Все, что я нажил — перед вами.
— Понятых организовал? — спросил лейтенант вошедшего в избу сержанта.
— Они во дворе, товарищ начальник, ихние соседи. Я им все объяснил. Позвать?
— Зови.
Через минуту сержант вернулся. Следом за ним в избу ввалились понятые, внеся с собой волну самогонного перегара и пота. Отец даже вздрогнул и брезгливо поморщился, когда увидел за спиной сержанта беспросветного пьяницу и дебошира Митьку Хрякова.
Вся улица боялась Хрякова, как огня, когда он, напившись до «чертиков», размахивая кулаками и опираясь на суковатую березовую палку, кричал, проходя мимо изб, что он, красный партизан Дальнего Востока, громивший буржуев и басмачей в Туркестане, еще доберется до кулачья, приехавшего из России, которые держат по две коровы и на зиму оставляют по пять-семь овец, да к тому же еще телку и поросенка…
— В двадцать третьем году я вас, кулацкое отродье, потрошил, как курей!.. А вы опять поднимаете голову!.. Не выйдет!.. Мы вас еще раз пощупаем!.. Да так пощупаем, что не только пух и перья полетят, но и кишки полезут!..
Левая, искалеченная нога у Хрякова была короче правой, и эту свою инвалидность он выдавал как тяжелое ранение в боях с басмачами, хотя никаких медицинских справок и госпитальных документов о его ранении никто из односельчан никогда не видел. Из всех соседей по Рабочей улице Хряков немного побаивался одного моего отца. Боязнь эта у него шла с одной из ночей, когда отец, видя, что кто-то ворует сено из нашего сметанного в огороде стожка, решил поймать вора. Это было года два назад. Зима стояла метельная, вьюжная: продерешься через сугроб — и тут же поземка словно слизывает следы. Хоть и слышал отец от кого-то, что не раз рыжую коровенку Хрякова рано утром на рассвете ловили у соседних стожков, обнесенных легкими жердями, но как-то не верилось ему, что можно дойти до такой наглости, чтобы в полночь подвести к чужому стожку свою корову и разгородить к нему проход. Но подозрение падало все же на него. Собаку отец в тот же вечер завел со двора в чулан, чтобы она не спутала планы вора. Часов до одиннадцати сидел отец в темной кухне у окна, задернутого шторкой. Искурил полдюжины цигарок, пока, наконец, не услышал, как забеспокоился Верный, запертый в чулане. Тут он увидел в окно, как через двор соседей проплыл силуэт человека, ведущего на веревке корову. Спугивать не стал. Дождался, когда вор подведет корову к пряслам изгороди, снимет с рогатых кольев слеги и подведет корову к стожку.
Никогда отец не испытывал желания разрядить патрон с картечью в человека, а здесь… Но сдержал себя. А ружье все-таки со стены на всякий случай снял. Стараясь не разбудить детей, достал из маленького сундучка, где у него под замком хранились охотничьи припасы, патрон с мелкой дробью и вышел в сени. Услышав щелчок переломленного ружья, когда отец вставлял в него патрон, завозился в чулане Верный. Отец вышел во двор, встал так, чтобы его не было заметно со стороны стожка. А Хряков уже срезал с прясел веревки и освободил проход корове к стожку, Верный словно ждал своей минуты, когда отец выпустит его из чулана. Пригибаясь, вытягиваясь в струнку, он с утробным лаем кинулся к стогу. Сравнявшись с пряслинами изгороди, он вначале кинулся на Хрякова и сшиб его с ног, потом на корову. Словно чуя беду, она метнулась от стога в сторону базара к кирпичным сараям. Жалобный, надрывный визг Верного, которого Хряков полоснул ножом, сорвал отца с места.
— Убью, если зарезал собаку! — крикнул отец и с ружьем наперевес кинулся к стогу.
Раненый пес, скуля и припадая на левую переднюю ногу, бежал к нему навстречу.
— Стой!.. Убью, гадина! — закричал отец и выстрелил в воздух.
Хряков, кинувшийся было бежать в сторону базара, остановился. Не добежав до вора несколько шагов, отец скомандовал:
— Не бросишь нож — застрелю!
Хряков швырнул нож в сторону. Отец подобрал его, положил в карман и, когда подошел вплотную к вору, у того зуб на зуб не попадал от страха.
— Егорушка, прости!.. — взмолился Хряков. — Перед Богом прошу — прости.
Пожалуй, никогда раньше, ни в ребячестве, ни даже во взрослых уличных драках «улица на улицу» или «край на край» отец не наносил с таким смаком и с такой ухватистой силой удар по физиономии своего соседа-ворюги.
Несколько раз падал Хряков в снег под хлесткими ударами, а когда вставал, то новый увесистый удар в скулу или в ухо валил его с ног. Бил отец, осыпая вора соленым матом, с приговорами-угрозами. Остановился лишь тогда, когда Хряков, уткнувшись в снег лицом и обхватив голову руками, больше уже не решался встать.
Отец склонился над вором и проговорил:
— Запомни на всю жизнь, падла, если еще хоть раз перешагнешь канаву моего огорода или войдешь ко мне во двор — убью!.. Задушу!.. Застрелю!..
Рана у Верного была не опасной, нож вошел не глубоко, только разрезал кожу. Через две недели он перестал хромать.
После этой схватки с Хряковым прошло почти два года. Завидев отца, идущего навстречу по улице, или столкнувшись с ним на базаре, Хряков находил причину свернуть в сторону или юркнуть к кому-нибудь из соседей.
И вот, как нарочно, именно Хрякова сержант пригласил в понятые при обыске. В первую минуту трудно было понять выражение лица Хрякова: на нем отразилось не то торжество отмщения, не то страх перед расплатой за ту ночь, когда он, воруя сено, полоснул ножом собаку. Но это замешательство продолжалось не больше минуты, до того момента, как лейтенант сообщил, что на отца выписан ордер на обыск и на арест.
Вторым понятым была бабка Регуляриха, которая первая попалась на глаза сержанту, когда он пошел к соседям. В течение всего обыска, длившегося не более десяти минут, до нее так и не дошло, зачем ее позвали к соседу. Разговор, который шел между хозяином дома и лейтенантом, она, как ни напрягалась, не сводя глаз с губ говорящих, не понимала. Интерес к происходящему у нее появился лишь тогда, когда откинули тяжелую крышку сундука, запертого на амбарный замок, и стали выкладывать на стол его содержимое. Тут бабка, забыв про милиционеров, затаив дыхание, не спускала глаз с добра, извлеченного из сундука. Только ее одну не удивило, что ключ от висячего замка хранился не где-нибудь, а висел на груди бабушки Насти, рядом с нательным крестом. И когда та, расстегивала медную цепочку, на которой висел ключ, Регуляриха стала невольно лихорадочно ладонью высохшей руки нащупывать на своей груди ключ, тоже висевший на засаленном шнурке рядом с крестом. Движение ее руки заметил лейтенант. Даже попытался шутить:
— Не бойся, бабка, цел твой ключ.
Удивила милиционеров буханка ржаного хлеба с довеском, которая зачем-то лежала на пропахшем нафталином добре.
— А это для кого хлеб, для моли? — спросил с ухмылкой лейтенант.
Бабушка Настасья молчала. С первой же минуты прихода работников милиции ее взяла оторопь. Хоть и стара она была и неграмотна, но знала от соседей, что люди с наганами, одетые в брюки-галифе и длинные синие шинели, забирают мужиков и уводят их в тюрьму. А потом об арестованных ни слуху, ни духу, словно кто-то бросил их лютой зимой в прорубь. На вопрос милиционера ответил отец.
— У меня на иждивении восемь ртов, а хлеб, сами знаете, получаем по карточкам. Двухсот грамм на иждивенца при нашем приварке хватает только на один присест за стол. Вот мать и делит его, как просвирки.
Сержант с каким-то особым интересом вытаскивал из сундука пропахшую нафталином одежду. Два старых кашемировых платья, юбки, жилет, уже изрядно вытертая меховая шуба, подвенечное платье с множеством оборок… И все это он раскидывал на руках, тряс и клал на стол.
То, что лежало на дне сундука, заставило лейтенанта встрепенуться. Из бархатной тряпицы, свернутой в узелок и затянутой резинкой, сержант извлек два Георгиевских креста. Оба милиционера впервые видели эти знаки солдатской доблести русской армии.
— А это что за штукенции? Значки? — лейтенант подбросил на ладони кресты, — тяжелые черти, не то что наши ГТО или «Ворошиловский стрелок». Грамм сто, пожалуй, потянут и, по всему видать, серебряные.
— Это не штукенции, — глухо ответил отец.
— А что же? — покосился на него лейтенант.
— Георгиевские медали.
— Царские награды? — почти выдохнул лейтенант.
— Да, царские… — сдержанно ответил отец.
— Чьи награды?
— Тестя моего.
— Жив?
— Умер, — ответил отец.
— За что награжден?
— Значит, было за что, — ответил отец. — В Порт-Артуре воевал.
Взгляд лейтенанта метнулся в сторону сержанта.
— Изъять!.. В акте запиши: два царских креста принадлежали покойному тестю, Вердину Сергею Николаевичу. Получил за Русско-японскую войну.
— У них вся порода такая, — глядя то на лейтенанта, то на моего отца, поддакнул Хряков. — У тестя царские награды, сам в тридцать первом году был раскулачен, сослали бы на Соловки, да ловко улизнул.
— Откуда ты знаешь, что улизнул? — спросил лейтенант.
— Да в те годы всех на Соловки ссылали, кого раскулачивали.
— Ниоткуда я не бегал… На Соловки меня не ссылали и раскулачили не меня, а моего отчима, я был у него приемышем с двух лет, — покашливая в согнутую ладонь, поверженно проговорил отец. — А вот ты… Все село знает, что ворюга из ворюг. Жалко, что я тогда, у стожка, не потратил на тебя патрон.
— Вот, видите, какой он, товарищ лейтенант, — вскипел Хряков, — это они, кулачье, ухлопали Павлика Морозова.
— Прекратите треп! — сердито бросил лейтенант и, увидев на полу продолговатую коробочку, выпавшую из рукава старинной поддевки, наклонился за ней. Но это была не просто коробочка, а кожаный чехол, в котором лежал морской кортик. Лейтенант поднес его к окну и прочитал вслух выгравированную надпись на плоской грани лезвия: «Сергею Николаевичу Вердину — за доблесть и отвагу».
Лейтенант обернулся к маме.
— Кем был твой отец в боях за Порт-Артур?
Не сразу ответила мама на вопрос лейтенанта. Закусив нижнюю губу, она мучительно припоминала, кем был ее отец в русско-японскую войну. Наконец, вспомнила разговор покойного отца с мужиками-соседями, когда ей было лет десять.
— Покойный папаша сказывал, что командовал какой-то конной разведкой, стало быть, при конях службу нес…
Лейтенант вложил кортик в чехол и положил его на стол рядом с Георгиевскими крестами.
Больше в сундуке, кроме двух давно выцветших и изъеденных молью настольных скатертей, женских полусапожек со сбитыми каблуками, кашемирового платка и поношенной пуховой шали, ничего не было.
Первое, что бросилось в глаза лейтенанту и низкорослому сержанту в горенке, это было висевшее на стене ружье.
— Марка? — спросил лейтенант и снял ружье с гвоздей, вбитых в бревна избы.
— А черт ее знает, что за марка. Мужик, что продавал, сказал: «японка». У нас, вроде бы, не делают двухзарядные.
— «Японка»?! — удивился лейтенант, вертя ружье в руках. — И где же ты ее приобрел?
— Да на базаре. У кундранского мужика. Да один ствол оказался никудышный, на двадцать шагов дробь рассыпает аж на полтора метра. По большей части, ребятишки с ней бегают на озеро. Мне-то и некогда, да и не любитель я.
— Интересно… — усмехнулся лейтенант, что-то прикидывая в уме. — Каким это образом японское ружье попало в такой захолустный поселок как Кундраны?
— Вот этого уж я не знаю. Может, кто с Японской войны привез.
— А случайно, не купил ли ты это ружье у кого-нибудь из проезжих пассажиров экспресса «Владивосток — Москва»? На том поезде ездят не только наши советские люди, но и япошки.
— Да вы что, Господь с вами… Шесть лет живу в Убинске, и ни разу ни с одним пассажиром с этого поезда словом не перекинулся.
В разговор, словно его ужалили, встрянул Хряков.
— Уж так и ни разу! Своими глазами видел, как однажды ты рвался в вагон-ресторан поезда. Хорошо, что проводница тебя с приступки пинком сшибла. Потом всю дорогу, аж до раймага, матом ее крыл.
— Так все-таки заглядывал в вагон-ресторан экспресса «Владивосток — Москва»? — с подковыркой спросил лейтенант, глядя то на отца, то на Хрякова.
Голос отца сел, и сам он как-то сразу сник.
— Каюсь, хотел купить жене коробку конфет, она мне вторую дочку родила, до этого у меня все шли сыновья. Проводница не пустила, спихнула со ступеньки.
— И с япошками не было контакта? Они, сам знаю, любят погулять по перрону в своих цветных кимоно.
— Шутите, товарищ лейтенант. Я и языка-то ихнего не знаю.
— Ну, ладно, — протянул лейтенант, — придет время — выясним. — Вернувшись в кухню, лейтенант положил ружье на стол.
— Припасы есть?
— Есть, — покорно ответил отец.
— Выкладывай на стол!.. Все, что есть — выкладывай!
Отец достал с полатей сосновый сундучок, обитый жестью, отомкнул навесной замок, откинул крышку.
— Все, что у меня есть.
— Забрать, — распорядился лейтенант.
Сержант, закрыв сундучок, положил на стол припасы, завернутые в кусок рогожи, рядом с ружьем.
Снова один за другим вернулись в горницу. На грубо оштукатуренном и во многих местах облупившемся от дождевых подтеков простенке, левее икон, висели вставленные в сосновые рамки два ровных ряда почетных грамот за ударный труд. Лейтенант сосчитал, шевеля губами:
— Восемь. Все твои? — повернулся он к отцу.
— Моих четыре. Остальные сыновей. Три — старшего сына. Одна — Ванюшки, третьего сына.
— А это что за Карл Маркс развалился в барском кресле? Ишь какую бородищу отрастил!
Лейтенант ткнул пальцем в застекленную фотографию, висевшую на стене.
— Папашка мой, — приглушенно ответила мама, — в двадцать третьем году снимался, в Тамбове.
— Его кресты-то царские?
— Его, — убито ответила мама.
— Купец или помещик при царизме?
— Да что вы, Господь с вами, двух лошадей и корову нажил лишь в двадцать втором году, а до этого кое-как концы с концами сводил. Два раза горел, всем миром помогали встать на ноги. Трое сыновей и четыре дочери.
— Рассказывай сказки, — насмешливо проговорил лейтенант. — При царе перед Георгиевским кавалером сам староста и околоточный по стойке «смирно» вставали. — Лейтенант желчно ухмыльнулся. — Бедняки да погорельцы сидели не на витых креслах, а на сосновых скамейках да на колченогих табуретках. А у батюшки твоего, смотри, какой музей. У Льва Толстого вряд ли было такое кресло.
Мама пыталась уверить лейтенанта, что фотографировался ее отец в Тамбове в павильоне, в котором фотограф пожилых и старых людей сажал на резное кресло. Некоторым на голову даже надевал шляпу, а молодых рядил в черкесские одежды, с кинжалом и газырями, а то, надев на парня казачью папаху, заставлял его просовывать голову в дыру с оборотной стороны большой картины, намалеванной масляной краской, на которой был нарисован тонконогий рысак.
Лейтенант, недоверчиво покачав головой, спросил:
— Когда умер?
— В прошлом году скончался. Хотите — письмо покажу. Сестра прописала, что умер. Показать письмо?
— Не надо, верю. Сколько прожил-то?
— Семьдесят два годка.
Видя, что лейтенант принялся снимать со стены рамки с почетными грамотами, а потом дошел до фотографии тестя, отец спросил:
— Зачем снимаете? Я получил эти грамоты за ударный труд.
— Неужели? — съязвил лейтенант.
Взгляд его остановился на фотографии, на которой была запечатлена большая, человек в тридцать, группа рабочих. По одежде, по лицам было видно, что перед объективом застыл в напряженных позах рабочий люд.
— А это что за фотка? — спросил лейтенант, всматриваясь в групповой снимок.
— Слет стахановцев Сибстройпути, — ответил отец.
— Сколько вас было на этом слете из нашего района?
— Двое. Я и Силютин.
Лейтенант, что-то припоминая, резко вскинул голову:
— Силютин… Силютин… Это, случайно, не тот самый Силютин, которого мы весной…
Лейтенант не договорил фразы. Ее завершил отец:
— …которого вы посадили в мае. А он на этом слете выступал с речью. Здорово ему хлопали в зале.
Вглядываясь в фотографию, лейтенант ткнул пальцем в середину снимка.
— А это кто в середине первого ряда? Что-то знакомые лица. А вот припомнить, хоть убей — не могу.
Отец вздохнул, словно раздумывая: «отвечать или не отвечать».
— Многим эти лица знакомы.
— Фамилии?
— Эйхе и Грядинский. Первый секретарь крайкома партии и председатель крайисполкома.
Лейтенант сел, закурил, помолчал, вертя в руках фотографию, потом положил ее отдельно от остальных снимков и накрыл ладонью, словно ее, чего доброго, сдует ветром. Какое-то ликование обозначилось на его лице.
— А известно ли тебе, что Эйхе и Грядинский всего месяц назад расстреляны как враги народа? И в своей подрывной антисоветской деятельности полностью признали себя виновными во время следствия.
Новость эта словно кипятком ошпарила отца. Перед началом краевого слета стахановцев, у входа в Дом культуры сам Эйхе пожал ему руку. Отец, возвратясь в село, не раз рассказывал об этом всем, кто расспрашивал его о поездке на слет стахановцев края.
Оба — Эйхе и Грядинский. Их имена в Сибири на собраниях в докладах упоминали после Сталина. И вот теперь… враги народа. Расстреляны.
— В газетах не писали, — только и мог он выдавить из себя.
— Напишут… Не сегодня — так завтра напишут, — сухо проговорил лейтенант и дал знак сержанту, чтобы тот положил в свой служебный чемодан Георгиевские кресты, кортик, фотографии тестя и групповой снимок в рамке, на котором отец стоит во втором ряду за спинами Эйхе и Грядинского.
— А эту трихомудию куда? — спросил сержант, тыча пальцами в стопку почетных грамот, снятых со стены.
Лейтенант с минуту колебался. Он переводил взгляд с сержанта на отца и с отца на сержанта.
— Тебе они очень нужны? — спросил лейтенант, обращаясь к отцу.
Некоторое время отец молчал, словно решая вопрос, который в какой-то мере может сказаться на его судьбе. И он принял решение.
— Товарищ начальник, для меня грамоты эти не трихомудия, как их окрестил ваш подчиненный, а последние годы работы без единого отпуска. Решайте сами. Если вы наметили мою дорогу вымостить туда же, куда отправили Эйхе и Грядинского, то оставьте их лучше детям, пусть они знают, когда вырастут, как жил и как работал их отец.
— Ну, раз ты так решил — мы их заберем. Может быть, они удержат тебя на плаву и не дадут пойти на дно, туда, куда пошли Эйхе и Грядинский.
— Решайте сами, вам видней.
Когда процедура обыска с учетом элементарных формальностей была завершена и сержант крест-накрест связал бичевой вставленные в сосновые рамки грамоты, на глаза лейтенанту попал лежавший на этажерке том Шекспира. Он раскрыл его на закладке.
— Это кто же у вас читает Шекспира? — насмешливо спросил лейтенант и, пробежав глазами страницу с закладкой, проговорил: — Ого!.. «Короля Лира» кто-то почитывает. Кто же это?
— Ваня… — словно винясь в чем-то, ответила мама. — Он у нас спит в обнимку с книгой, а над этой слезами обливался. Часами рассказывает бабушке про то, о чем в ней прописано.
— Да, видно, не плохие у вас дети, — словно думая о чем-то другом, проговорил лейтенант.
Только теперь отец и лейтенант, заслышав шелест в кустах палисадника, заметили меня. Раздвинув пожелтевшую листву хмеля, я смотрел в нижний выбитый уголок окна широко раскрытыми глазами. Полчаса назад чтение «Короля Лира» с приездом работников милиции было оборвано на том самом месте, где обманутый и преданный дочерьми старый Лир, голодный, в рубище, под раскатами грома и потоками ливня посылал проклятья всему земному. И вот теперь я вижу эту книгу в руках лейтенанта из НКВД. Меня обуял страх: вот-вот наступит минута, когда и том Шекспира, который мне дала почитать учительница, исчезнет под крышкой милицейского чемодана.
Все, кто был в избе, как по команде повернулись к двери, когда я с криком: «Вы не имеете права!» ворвался в горенку и дерзко вырвал из рук лейтенанта книгу. В глазах моих стояли слезы, губы дрожали.
Следом за мной в избу один за другим вбежали Мишка, Толик и Петька. В горницу они войти не решились, а поэтому сгрудились в кухне у дверного проема и, переступая с ноги на ногу, испуганно смотрели на лейтенанта. Все, что в горестную минуту наполняет душу испуганного ребенка, было отражено на лицах моих братьев: страх, жалость к отцу, бессилие хоть чем-нибудь помочь ему. В те минуты мы могли только плакать. Но и в этом отказывали себе, крепились.
— Не дури, Ваня, книгу твою никто не возьмет… — сказала мама.
И лейтенант резко бросил Хрякову и бабке Регулярихе:
— Распишитесь вот здесь! И вы свободны.
— Чаво?.. — хлопала бесцветными ресницами бабка Регуляриха, вытирая углом засаленного платка трясущиеся губы беззубого рта.
— Я говорю — распишись вот здесь! — почти прокричал лейтенант, после того, как Хряков со смаком, высунув язык, расписался, где ему указали. — Ты грамотная?
— Нет, мой золотой, не довелось. С семи годков по людям пошла, все чужих нянчила, а своих деток Господь Бог не послал, зато сироту вырастила.
Бабка что-то еще хотела сказать, но лейтенант безнадежно махнул рукой.
— Ладно, бабуся, с тобой все ясно. Поставь вот здесь крестик, вот тебе карандаш, и ступай домой. Больше ты не нужна. — И когда старуха трясущейся рукой поставила, где ей показали, крестик, лейтенант махнул ей рукой на дверь. — Помогла нам.
Когда понятые вышли из избы, лейтенант и сержант накинули на плечи милицейские плащ-накидки — на улице шел дождь.
Наступили тяжелые минуты прощания отца с детьми, с мамой, с бабушкой. Последнюю отец поцеловал Зину. Она хоть и не понимала, что происходит в доме, но душой, каким-то первородным детским чутьем скорее угадывала, что это — беда.
Лейтенант, видя, что мама что-то собирает в узелок на сундуке в кухне, сказал:
— Дай хозяину что-нибудь на плечи и на голову. Лучше всего стеганую фуфайку и кепку, положи и шапку — пригодится. И обязательно пару белья, носки или чулки. Если есть, — положи носовые платки, полотенца там у него не будет… Ну и табаку. Можно и немножко деньжонок.
Живет у моряков поверье, что, если за кораблем неотступно сутками, а то и неделями следуют акулы, значит, жди на корабле мертвеца. Проверено жизнью. Говорят, что змеи в горах предчувствуют землетрясение за несколько дней и, чтобы не погибнуть в расщелинах и под обвалом камней — выползают в долины. Но собака… Какое еще необъяснимое наукой чутье руководит собакой, когда она предчувствует беду, нависшую над своим хозяином?
Верный, закрытый в хлеву, завыл в ту самую минуту, когда отец стал обнимать и целовать нас, плачущих детей. А когда мама бросилась ему на грудь и, задыхаясь в рыданиях, закричала в голос — пес завыл так кладбищенски истошно, что даже у лейтенанта, уже привыкшего к горестным расставаниям, захолонуло сердце. И он распорядился, обращаясь к отцу:
— Ступай, успокой своего черта. Зверь, а чует.
Я выскочил следом за отцом и вместе с ним вошел в хлев. Видел, как отец, низко наклонясь, прощался с Верным. К горлу подкатил удушливый комок, и я горько заплакал. Отец вышел из хлева, где остался Верный, закрыв за собой дверь на щеколду.
— Не плачь, Ванец: тут вышла какая-то ошибка, там во всем разберутся, я ни в чем не виноват.
Откуда было знать отцу, что эту прощальную фразу «Там во всем разберутся… Я ни в чем не виноват», обращенную к родным, до него произносили за годы Советской власти во время арестов по политическим мотивам миллионы оговоренных и оклеветанных честных людей. Эту фразу, исповедально исторгнутую из сердца несчастных жертв, будут произносить родным, друзьям и близким еще миллионы и миллионы невинных людей. И так будет до тех пор, пока в вихревом гигантском всесокрушающем циклоне борьбы за власть в Российском государстве Зло будет одерживать верх над Добром. Пока Правда, втоптанная в вязкую грязь Лжи, не расправит свои могучие плечи и не встанет на ноги. Пока тактикой борьбы в верхних эшелонах государственной власти будут предательство, коварство, жестокость. И если к расстающимся подключать в эти минуты какой-нибудь сверхчувствительный прибор, или же всеслышащее ухо Господнее на земные стоны и вопли, то наверняка не один ты, отец, произнес в ту минуту эту последнюю утешающую жену и детей фразу. Пусть грубо, пусть приблизительно, но когда-нибудь история на своем статистическом арифмометре человеческих страданий назовет скорбное число этой фразы. Она, эта фраза-талисман, фраза-ладанка падала и долго-долго еще будет падать зерном надежды в души тем, с кем прощались обреченные, кто на смертную казнь, кто на каторжную неволю.
Уже при выходе из избы, в сенях, лейтенант, словно только что-то вспомнив, спросил:
— Да, а где твой старший сын?
Этот вопрос словно обжег отца. Сережа жил в это время в Москве, учился в Институте философии, литературы и истории.
В ту минуту, когда лейтенант ждал ответа на свой вопрос, мужественнее и мудрее всех нас оказалась мама. До сих пор не знаю, кому принадлежит авторство понятия «святая ложь», но эти два слова, будто по воле Господа Бога, слетели с уст мамы:
— Сережа уехал к дяде в Новосибирск. Пытается куда-нибудь поступить учиться. Но что-то у него ничего не получается. Собирается вернуться в Убинку.
И этот ответ для Сережи был спасительным. Больше о нем лейтенант не спрашивал.
Застоявшиеся лошади, фыркая и крутя головами, нетерпеливо переступали тонкими ногами, прядали ушами. Взяв в руки сыромятные вожжи, низкорослый сержант легко вскочил на облучок пролетки и натянул поглубже на голову брезентовый башлык.
Перед тем как сесть в пролетку, отец окинул взглядом застывших у ворот плачущих детей и маму с бабушкой. По его лицу мама поняла, что он хочет наказать ей что-то очень важное, а, может быть, самое главное. И она не ошиблась.
— Слушай, что буду говорить, — отец бросил взгляд на ворота, словно желая убедиться, что слова его никто, кроме мамы, не расслышит. — Береги детей. А Сереже пропиши про меня всю правду. Пропиши срочно. Накажи, чтобы о себе он теперь писал только тетке Сане. Она часто ездит к нам на базар.
Отец сел в пролетку с левой стороны от лейтенанта. Я успел сбегать открыть дверь хлева, из которого вырвался Верный. Выскочить на улицу ему не дала запертая на щеколду калитка. Никогда еще он так не метался вдоль изгороди, ища лаз на улицу. Верный уже не лаял, а, изматывая душу, пронзительно скулил и визжал, словно ему отдавили лапу. А когда Петька, жалея собаку, откинул щеколду калитки, пес выбежал на улицу. Пролетка с сидящим на ней арестованным отцом и конвоем и бегущими следом за ней Мишкой и мной, приближалась к проулку. Толик, поскользнувшись в свежем коровьем помете, вытянув вперед руки, лежал посреди грязной дороги и горько плакал.
Пока лошади шли мелкой рысью, мы еще кое-как поспевали за пролеткой, из-под колес которой, а также из-под копыт пристяжной кобылицы летели ошметки черной липкой грязи. Один из шматков угодил мне в лицо. Остановившись, я принялся вытирать подолом рубашки глаза и щеки. Как на грех, эту горестную картину видел отец. А Мишка, задыхаясь, не отставал от пролетки. Не отставал от нее и Верный. Его надрывный лай и броски чуть ли не к горлу пристяжной кобылицы заставили лейтенанта принять решение. После очередного наскока Верного, лейтенант вытащил из кобуры наган и, подняв его над головой, выстрелил вверх. В первую секунду звук выстрела испугал Верного. Метнувшись в сторону от дороги, он сделал круг, слегка замедлил бег, а потом с какой-то новой отчаянной и сатанинской злобой бросился на пристяжную. Второй выстрел лейтенанта был прицельный. Леденящий душу визг раненой собаки был слышен далеко окрест. Обернувшись, отец видел, как извиваясь и пытаясь подняться на передние лапы, Верный тыкался мордой в дорожную грязь.
Чтобы скорее убраться с улицы, из окон изб которой стали выглядывать любопытные, лейтенант со злостью крикнул сержанту:
— Ты что — разучился править лошадьми?
Сердитый окрик лейтенанта сержант воспринял как команду. Привстав на ноги, он резко хлестнул ременными вожжами по мокрому крупу коренника, который перешел на крупную размашистую рысь, к чему не сразу приноровилась пристяжная. Перед тем как свернуть в проулок, отец круто повернулся и увидел, как мы, подбежав к собаке и припав на колени, пытались хоть чем-нибудь облегчить страдания раненого Верного.
Встречные прохожие, знавшие отца, увидев его на мчавшемся милицейском воронке, рядом с сержантом и лейтенантом, нерешительно останавливались и молча провожали пролетку взглядом. Никто из тех, кто раньше при встречах с известным на все село столяром, здоровался, снимал шапку и жал руку, ни незаметным кивком головы, ни легким взмахом руки даже не послал ему привета или знака прощания.
С тяжелым чувством через два дня после ареста отца я покидал Убинск. Провожали меня мама, Толик и Петька. По пути на станцию я заскочил к своему другу — Шурке Вышутину. По заплаканным глазам Шурки и его матери я понял, что у них в доме что-то стряслось. И тут Шурка сообщил мне, что вчера вечером арестовали его отца. Увезли на милицейском воронке.
Через полгода, когда я приеду из Новосибирска на весенние каникулы, мы с Шуркой поклянемся сделать все для освобождения наших отцов.
Укус гадюки
Случилось это во время моих очередных школьных каникул, где-то в июле месяце. Бабушка в тот день истопила баню. А на поветях не оказалось ни одного веника. Младшая сестренка Зина, ей тогда шел восьмой год, побежала с подружками-ровесницами в рям, где вперемешку с молодыми сосенками росли низенькие березки. Через полчаса она вернулась с недетской охапкой березовых веток. Бабушка тут же на наших глазах связала два аккуратных веничка и, увидев на глазах внучки слезы, спросила:
— Что с тобой, голубушка, почему ты плачешь?
Зина гладила слегка припухшую ножку.
— Меня змея укусила, бабуля, — ответила она и пальчиком указала на еле заметную ранку на щиколотке правой ноги.
Бабушка внимательно разглядела ранку, но девочке не поверила: решила, что ножку она чем-то уколола.
Когда мы, распаренные и покрасневшие, пришли из бани, то увидели на постели горько плачущую Зину. Опухоль заметно увеличилась. Озабоченная бабушка отвела нас с Мишкой на кухню и прошептала:
— Наверное, все же змея. Нужно везти в больницу.
От нашей избы до больницы в центре села — больше километра. Донести на руках сестренку нам, подросткам, оказалось не под силу.
Был воскресный день. Бабушка вывезла из сарая тележку, положила на нее одеяло и две подушки, и мы повезли Зину в больницу. Уже темнело. Слезы сестры и ее сдавленные стоны подгоняли нас. По Пролетарской улице тележку мы катили уже бегом. Навстречу попадались знакомые, задавали вопросы, но нам было не до ответов. И, как на грех, в больнице оказался только фельдшер, о котором в селе ходила хула как о пьянице. Развязав узлы двух пионерских галстуков, которыми мы затянули ножку Зины, фельдшер расспросил нас, где и как это случилось, достал из шкафа толстый справочник, долго листал, потом минут пять что-то читал и вышел из кабинета. А когда вернулся, то по лицу его мы с Мишкой поняли, что дела наши плохи.
— Нужных лекарств нет, — сказал фельдшер. — А где родители?
С трудом сдерживая слезы, Миша ответил дрогнувшим голосом:
— Мама в Коммуне на выпасах.
— А отец?
Ни Мишка, ни я не знали, как ответить на этот вопрос.
— Я спрашиваю, где отец?
— В тюрьме, — еле слышно и словно виновато ответил Мишка.
— И давно?
— С прошлого года. С сентября.
Больше о родителях фельдшер не расспрашивал. Каждый взрослый житель села знал, что сентябрь тридцать седьмого года прокатился по району, а также по всей Новосибирской области огненным валом. Почти в каждом третьем доме арестовали мужчин, и всех по политической, 58-й статье, по пункту 10-му. Даже мы, дети, знали эту статью и ее пункт.
— Помочь ничем не могу, нужных лекарств нет.
На лице фельдшера застыла такая беспомощность, что мне показалось — он вот-вот заплачет вместе с нами.
— Что же нам делать? — еле слышно спросил Мишка.
— Везите сестренку к бабке Подгорбунчихе, говорят, она помогает.
— Да не пустит она нас, ведь уже темно, — борясь со слезами, произнес Мишка.
— Достучитесь и скажите, что я вас послал.
Туго затянув марлевую повязку на ноге Зины, фельдшер легко приподнял ее на руки и сам вынес во двор, где стояла наша тележка. Уложил ее бережно, словно свою дочку.
— Вы знаете, где она живет? — спросил он, когда Мишка взял оглобли тележки.
— Знаем, — хором ответили мы и бегом выкатили тележку с больничного двора.
Вряд ли кто в селе не знал бабку Подгорбунчиху. Ее низенькая, приплюснутая к земле избенка являла собой образец беспросветной бедности. Подоконники двух покосившихся окон почти касались земли. В детстве, по неопытности, я думал, что если окна избы с годами все ниже и ниже оседают к земле, то это происходит от тяжести стен: их, мне казалось, засасывает земля и предотвратить этот провал невозможно. Только после войны, уже наглядевшись на останки дряхлых белорусских избушек со сгнившими почти до окон бревнами стен, я понял, что если деревья стареют и гибнут с вершины, то деревянные дома сгнивают с нижних венцов, постепенно, незаметно для глаза превращаясь в мучную рыжеватую труху.
Хоть и темно было на улице, но избенку бабки Подгорбунчихи мы нашли сразу. Рядом с ней не было ни сарайчика, ни дровника, ни уборной. Минут пять Мишка кулаком стучал в расхлябанную, покосившуюся дверь сенок. В ответ никто не подавал никаких признаков жизни. Тогда Мишка подошел к окошку, опустился на колени и из нижнего глазка рамы кулаком вытолкнул набитый сухой травой мешочек. Только тогда мы услышали старческое кряхтенье.
— Бабушка, откройте дверь, нам нужна помощь.
— Кто такие? — донеслось из глубины избушки.
— Мы ваши соседи, бабушка, помогите нам, — с мольбой, сложив рупором ладони, кричал в пустой глазок окна Мишка.
— Ну, иду, иду-у-у-у, — послышался протяжный голос.
Когда распахнулась дверца сенок и из них показалась голова Подгорбунчихи, с опущенными на плечи седыми космами, мы с Мишкой испуганно отшатнулись. В наши дни при съемках телевизионных фильмов со сказочными сюжетами, в которых действующим лицом является ведьма, вряд ли мог найти художник-оформитель более подходящий прототип.
— Спички есть? — спросила бабка.
Мишка в последний год курил уже почти открыто, поэтому всегда имел в кармане спички.
— Есть, бабушка, есть. Зажечь?
— Зажги.
По яркой вспышке, осветившей сенки, я понял, что Мишка прижег сразу несколько спичек. А когда мы объяснили, что привезли сестренку, которую три часа назад укусила змея, бабка властно распорядилась занести ее в избу и положить на кровать.
Теперь, когда Мишка поднял на руки Зину и, осторожно ступая, занес ее в сенки, дорогу в избу освещал ему я, зажигая спичку за спичкой. Шаря старческой рукой где-то на загнетке русской печки, бабка достала черепичный горшочек с топленым жиром, из которого торчал темный фитилек, и поставила его на табуретку рядом с кроватью, застланною ватным одеялом, сшитым из разноцветных лоскутов.
— Зажгите коптюшку.
Я поднес зажженную спичку к фитильку в черепушке, и он медленно заголубел слабым пламенем.
— Где укус? — спросила бабка.
Мишка пальцем показал темную точку спекшейся крови на ноге у Зины. С минуту Подгорбунчиха, склонившись, смотрела на ранку, потом, опираясь на суковатую палку, подошла к столу, выдвинула ящик и вытащила из него длинный нож, которым в крестьянских избах скоблят полы. Зина, не сводя с Подгорбунчихи испуганных глаз, даже перестала стонать. Теперь уже в них отражался ужас. Не по себе было и нам с Мишкой. Но тут случился конфуз, которого мы не ожидали. Опускаясь на табуретку, стоявшую рядом с кроватью, бабушка громко пукнула, потом этот звук, дробный и утихающий, повторился трижды. Есть в природе человеческой психики необъяснимый изъян: иногда в полутрагическую минуту на человека нападает дурацкий истерический хохот. Мишка, зажав рот ладонью, пытался заглушить раздирающий его душу смех. Следом за ним прыснул смехом и я. Подгорбунчиха обвела нас строгим взглядом и костлявым пальцем указала на дверь.
— Вон отсюда!..
Не в силах подавить истерический смех, мы с Мишкой кинулись в сенки и закрыли за собой дверь. Но и здесь, в абсолютной темноте, мы не сразу задушили в себе идиотский хохот. А когда успокоились и вновь осознали трагизм нашего положения (месяц назад от укуса змеи умер десятиклассник Барышев, высокий красивый парень с кудрявой шевелюрой), то по всхлипам поняли, что теперь уже плачем.
Те несколько минут, которые мы провели в мучительном ожидании, когда нас позовет бабка, показались нам пыткой. А когда дверь с шумом хлестнула о стенку и из избы упал в сени сноп тусклого света, Подгорбунчиха нас позвала.
— Увозите ее. Если есть малиновое варенье, пусть больше пьет с ним чаю. Завтра привозите перед закатом солнца.
Наши настенные ходики показывали уже час, когда мы доставили Зину домой. По тускло освещенному окну поняли, что в избе никто не спит. А когда Мишка на руках с Зиной перешагнул порог, то я увидел: бабушка стоит на коленях в углу перед иконами и, шепча молитвы, просит Господа Бога о помощи.
Мишка положил сестренку на перину маминой постели и прислонился губами к ее залитой слезами щеке. В глазах его я прочитал испуг.
— Что? — спросил я.
— У нее жар.
Я прислонил ладонь ко лбу сестры. Градусника в доме не оказалось, но по тому, как полыхали щеки Зины и как она часто дышала, понял, что температура Зины достигла крайней отметки. А когда она стала метаться по перине и звать маму, мы с Мишкой окончательно растерялись.
— Маму… позовите маму… — пересохшими губами с трудом выговаривала Зина.
Наказав бабушке, чтобы она поставила самовар и напоила Зину чаем с малиновым вареньем, мы с Мишкой побежали за мамой в Коммуну на выпас, куда с мая и до сентября колхоз выгонял скот. Мама в то время работала дояркой.
Ничто нас с Мишкой не испугало: ни темная ночь, ни опасная дорога, на которую выползали змеи из ряма. Стояла пора цветения багульника, удушливый запах которого так не любят гадюки. И мы бежали все пять километров. Боялись перепугать маму, которая в последнее время начала жаловаться на сердце, но не сообщить ей о болезни сестренки было нельзя.
Только теперь, после смерти мамы, я понял, какой она была мужественной женщиной: стойко вынесла погром раскулачивания, когда нас выгнали из родного дома, лишили всего того, что было нажито за многие годы крестьянского труда… А каким ударом по ее сердцу оказался арест отца. И его она вынесла стойко. Заметно отразился на ее здоровье приход почтальона с извещением о гибели на войне ее сына Михаила, павшего, как сообщалось в похоронке, смертью храбрых. А потом… сколько еще «потом» выпало на ее долю такого, что может вынести только сердце русской женщины, счастливой матери и любящей жены.
Наше появление в Коммуне произвело целый переполох. Уже светало, когда мы с Мишкой переступили порог бригадирской избы, на полу которой, где на матрасе, набитом сеном, где просто на охапке соломы или сена, спали глубоким сном доярки. Их было человек десять. Маму мы увидели сразу. Она лежала рядом с окном, подложив, как часто это делают дети, под щеку ладонь.
Вызвав ее на улицу, Мишка рассказал о нашей беде. После слов «укусила змея» почти все доярки вскинулись, словно сдутые ветром. Самая молоденькая, певунья и хохотушка Наташа Устюжанина, даже не поправив распущенные косы, выскочила из избы и метнулась в шалаш деда Агафона, который возил из Коммуны на маслозавод сливки. Тот быстро запряг свою Рыжуху и почти всю дорогу подбадривал ее ременным кнутом, не давая при этом перейти в галоп, — боялся загнать. Доехали мы быстро. Я и сейчас, спустя шестьдесят лет, вижу лицо мамы. На нем не было ни слезинки. Она тихо вошла в избу, сняла с ног грязные галоши и босиком прошла в горенку, где на ее постели лежала Зина. Как и два часа назад, бабушка на коленях, нашептывая молитву, клала земные поклоны.
Зина спала. Мама прислонилась губами к ее лбу и разбудила дочку. Мы с Мишкой увидели, как мамины слезы поплыли по щекам Зины.
Сейчас я почти уверен, что Зину спасли молитвы бабушки и старания Подгорбунчихи. Целое воскресенье Зину поили чаем с малиновым вареньем. К вечеру у нее пришла в норму температура, слегка спала опухоль, которая поднялась было уже выше колена. Мы не знали, что нам делать: везти ли Зину перед закатом солнца к Подгорбунчихе или теперь уже не надо. Но мама твердо настояла на том, чтобы везли обязательно.
Когда солнце уже опускалось за сараи кирпичного завода, мы с Мишкой уложили Зину на подушки и повезли к бабке. Вслед за тележкой шла мама. По дороге мы подробно рассказали ей, как обнаружили змеиный укус, как возили в больницу и как фельдшер посоветовал обратиться за помощью к бабке. В качестве подарка за лечение мама завязала в белый узелок коровьего масла и горшочек со сметаной. Не рассказали мы маме только о том, как овладел нами дурашливый идиотский смех в ту минуту, когда он был греховен.
На этот раз в избушку к бабке Зину заносила мама, мы с Мишкой даже не перешагнули порога сеней. Мой братец успел искурить две закрутки самосада, пока мы дожидались маму и Зину.
Обрадованные сообщением о том, что кризис миновал и Зина будет жить, мы покатили тележку со скоростью, на которую только были способны. Когда приехали домой, солнце уже село. Обрадованный Верный, которого нам удалось вылечить после полученной от лейтенанта раны, радостно визжал и лизал Зине больную ногу. На ней еще остались два следа от пионерских галстуков.
Улыбка на лице бабушки засветилась лишь тогда, когда она увидела, как Зина, слегка прихрамывая, сама вошла в горенку. Теперь уже плакали все. Но это были слезы радости возвращения к жизни.
Закончилось мое пребывание в Убинске. Надо было возвращаться в Новосибирск, где меня ждала школа, новые друзья и новая встреча с Ниной, о которой я постоянно вспоминал и очень хотел снова увидеть.
Однако застенчивость мешала мне, и первый раз я решился пригласить Нину на танец только на выпускном вечере 21 июня 1941 года. И танцевали-то мы в наши молодые годы не так, как сейчас. Мы боялись даже близко прижаться к девушке. Это считалось чем-то неприличным, даже греховным.
Уже на рассвете всем классом вышли мы на берег Оби. И вот тут Нина взяла меня под руку. Господи, какое волнение я испытывал в те минуты! А утром, разойдясь по домам, мы все узнали горькую новость: началась война.
Фронтовики и военные статистики в своих официальных письмах и документах считают, что наибольшие потери понесли в войне призывники 1923 года рождения.
А такими были все мальчишки нашего 10-го класса.
Закончились мои детские годы, насыщенные множеством событий и горьких, и счастливых.
Часть вторая ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
Прощание с Мишей
Мое поколение, душой впитавшее героику всех предыдущих войн по фильмам «Мы из Кронштадта», «Чапаев», «Броненосец Потемкин», «Трактористы» и другим, сообщение о начале войны приняло если не с затаенной радостью, то, по крайней мере, с готовностью как можно скорее получить оружие, пройти необходимую подготовку и броситься на врага. Со сдержанной мужской тревогой встретило эту печальную весть старшее поколение, уже понюхавшее порох на гражданской, финской войне, в боях на Халхин-Голе.
Я и два моих друга-соклассника Миша Целищев и Петр Мурашкин, еще с 9-го класса бредившие о поступлении в Высшее военно-морское училище, где-то в апреле прошли военно-медицинскую комиссию, были признаны здоровыми для службы в морском флоте и послали в Севастополь свои заявления. Где-то в мае мы получили ответ о том, что нас допускают к экзаменам, и сообщили, что бесплатное довольствие на время дороги нам должны предоставить местные военкоматы, где мы приписаны. Названо было также число в начале июля, в которое мы должны прибыть в Севастополь для сдачи вступительных экзаменов. Больше всего нас троих пугала радиоинформация о том, что фашисты ежедневно бомбят Севастополь, и нам не оформят не только денежное довольствие, но и бесплатные проездные билеты. Но к нашей радости, никаких указаний военкоматам не было. Все трое мы за неделю до отъезда из Новосибирска получили железнодорожные билеты на плацкартные места, проездные деньги и командировочные документы. Я успел съездить в село Убинское, где прожил два дня, ходили на станцию, где видели, как с востока на запад грохочут тяжеловесные товарные вагоны с пока еще не обмундированными мужиками. В некоторых эшелонах мы насчитывали полсотни и более груженых вагонов. Опираясь грудью на засов, у широких раскрытых вагонных дверей стояли мужики, их лица были землисто-серые, небритые, так мне, по крайней мере, показалось, и они выражали чувства, что едут не к теще на блины, а на войну. И по их возрасту можно было догадаться, что они хлебнули ее еще во время кадровой службы.
Трижды я видел погрузку убинских мобилизованных в товарные вагоны, плач жен и детей, причитания, наказы писать письма и беречь себя. Все это сливалось в разноголосый гул скорбного прощания.
Возвращаясь со станции, мы, довоенные мальчишки, как-то сразу становились взрослее. И каждый думал о своем отце или старшем брате, которые уже получили повестки.
Сережу война застала в Москве, где он, только что получив документы об окончании Московского института философии, литературы и истории, жил в студгородке на Стромынке, 32 и тоже ждал призыва. Мой второй брат, Миша, служил в кадровой армии уже год, и мама всякий раз, когда встречала баб, идущих на станцию смотреть проводы своих убинских мужиков, просила их, чтобы они на случай, если увидят ее сына Мишу, то пусть передадут ему, что она и бабушка, а также братья будут молиться за него, и пусть он бережет себя. А в кадровой армии Миша служил в Белове Кемеровской области, он должен был со дня на день проехать в таком же товарном вагоне мимо станции Убинская на запад.
Вернувшись в Новосибирск, я пошел на вокзал и нашел военную комендатуру, спросил, не подходил ли эшелон с солдатами из Белова? Дежурный офицер с повязкой на рукаве посмотрел какие-то списки и ответил мне, что только вчера прибыл из Белова стрелковый полк, который должен сегодня погрузиться в пассажирские вагоны и вечером отправиться. При этом дежурный сказал мне, в каком околовокзальном здании сейчас размещается этот полк. Собственно, это были не здания, а ряд больших солдатских казарм, построенных несколько лет назад для учения солдат, которые прибывают в большой сибирский город на транзитных военных поездах.
И мне повезло. В одной из этих казарм, где был клуб, звучала музыка. Еще не войдя в клуб, я уловил четкую ритмику матросского «яблочка», исполнявшегося на аккордеоне, стук каблуков пляшущего. Каково удивление, когда я, открыв дверь, увидел на маленькой невысокой сцене пляшущего Мишу! Я был не просто удивлен, а восхищен и, стоя на пороге, поднял руки. Увидев меня, Миша прекратил плясать и прыгнул со сцены. «Это мой родной братишка!» — громко крикнул он залу, заполненному солдатней. Мы обнялись, расцеловались, на что зрительный зал ответил громкими аплодисментами и возгласами одобрения, а когда из задних рядов донеслись крики «доплясать, доплясать!», Миша махнул рукой и громко воскликнул: «Допляшем после войны!» Положил мне руку на плечо и увел меня из клуба в свою казарму, где у него была койка, тумбочка и чемодан с личными вещами. Мы с Мишей не виделись больше года, с тех пор, как его призвали в армию. Он возмужал, стал выше и раздался в плечах. Глядя на его треугольники в петлицах, я спросил:
— Ты что, уже командир отделения?
— Нет, — ответил Миша, — бери выше, я уже помощник комвзвода, мой командир отличный мужик. Он собрался жениться, а плясать не умеет. У него скоро отпуск должен быть, он просил меня научить его плясать «Яблочко» и чечетку.
— И что же ты? — спросил я.
— Я обещал научить, но, видишь, помешала война.
Выйдя из казармы, мы выпили в буфете по бутылке пива и, присев на крашеной лавочке на привокзальной площади, закурили. О чем-то задумавшись, глядя в землю, Миша грустно сказал:
— Вот так-то, Ваня, скоро и тебя обмундируют и дадут винтовку-трехлинейку. Смотри, не храбрись, война есть война. Не горячись, как тогда на Сибирской улице, когда мы выручали своих «вертунов». Помнишь, как Прикуска гайкой проломил тебе голову, я пришел в бешенство, когда увидел твою ладонь, залитую кровью.
Не забыл я драку на Сибирской улице, когда Прикуска, заядлый в селе голубятник, загнав пару наших лучших голубей-вертунов, не хотел их отдавать даже за высшую цену выкупа — пять рублей за каждого. Это было пять лет назад. И хотя Миша был двумя-тремя годами моложе Прикуски и ростом ниже его, но он при виде крови на моей голове так отчаянно бросился на Прикуску, что сразу же сбил его с ног и начал тузить кулаками по морде. Его стащили с Прикуски два мужика, соседи по Сибирской улице. Отчаянным и бесстрашным мальчишкой рос мой брат. В наших детских военных играх в «красных и белых» он всегда командовал «красными», а меня назначал начальником разведки. И я гордился этим. И вот теперь мой старший братишка всю отвагу своей души вез на войну.
Вечером, перед закатом солнца, батальон Миши был полностью погружен в пассажирские вагоны. Взвод Миши разместился в предпоследнем вагоне поезда. Моему брату досталась средняя полка. Уйдя из вагонной толчеи, мы с Мишей уединились в тамбуре. Не знали мы оба, что это будет последний прощальный разговор братьев. Бросив взгляд на широкий морской ремень, которым я был подпоясан, Миша, улыбнувшись, спросил:
— Где достал-то?
Я ответил, что купил у матроса с эшелона, который с Тихого океана шел на фронт. Как и я, Миша с раннего детства мечтал служить в военно-морском флоте и иметь вот такой же широкий кожаный ремень, на медной начищенной бляхе которого красовался морской якорь. Я молча снял с себя ремень, скрутил его крепко вокруг медной бляхи и протянул Мише.
— Дарю!
Миша попытался почти силком вернуть мне его, но я твердо сказал:
— Отдашь мне его, когда оба живыми вернемся с войны.
Эти мои слова словно магически подействовали на брата. Он снял с себя узенький сержантский ремень, свернул его и засунул в мой карман. Чтобы посмотреть, как выглядит брат, подпоясанный морским ремнем, я на шаг отступил от него.
— Идет! Очень тебе идет, — сказал я, и, сойдясь вплотную, мы крепко обнялись. Слезы, появившиеся на глазах Миши, меня растрогали. Последний раз слезы на его глазах я видел в день ареста отца в 37 году.
— По возможности, почаще пиши маме и бабушке, не забывай и обо мне, — с трудом подавляя беззвучные рыдания, произнеся.
С подножки вагона я спрыгнул лишь тогда, когда поезд уже тронулся и набирал скорость.
А после войны, возвратившись домой, я узнаю из писем Миши, которые мама бережно хранила в отдельном узелке, что полк их сразу же, прибыв в действующую армию, почти с колес вступил в бои. И Миша добровольно пошел в разведку рядовым солдатом. В этом же письме Миша писал, что в разведку не назначают, в нее идут добровольно. А после краткосрочных курсов приказом командира дивизии его назначили командиром разведвзвода. В этом же узелке с сыновьими письмами были треуголки, в которых однополчане, его подчиненные солдаты-разведчики, писали, какой бесстрашный и мужественный командир был ее сын. А из одного письма солдата-разведчика я узнал, что, уходя на очень опасное боевое задание, Миша наказал своим разведчикам, что если он из этого задания не выйдет живым, то схоронить его, не снимая с него матросского ремня, который подарил ему младший брат. Растрогало меня это письмо. Вспоминая нашу последнюю прощальную встречу с Мишей в Новосибирске, я до утра не мог уснуть. И вот сейчас, уже в старости, когда во мне все сильнее и сильнее живет вера, что после смерти человек обретает новую, вечную, потустороннюю жизнь, я горячо надеюсь на встречу с братом, чтобы рассказать ему, как я вернулся с войны живым и здоровым, как поступил в Московский университет, как с отличием его окончил и как стал известным писателем. Я уверен, что он будет счастлив. Он так любил меня на этой горькой и грешной земле какой-то особой, трогательной и нежной братской любовью. Это он заронил в мою душу семена любви к есенинской поэзии, с которой я никогда не расстаюсь.
Дорога в Севастополь
Сейчас даже смешно вспоминать, как мы, трое одноклассников 24-й средней школы Новосибирска, уже зная о том, что на западе идет война, что немцы бомбят не только Брест, Киев и другие города, но и Севастополь, получив проездные документы за три дня до войны, все-таки решили ехать и боялись, как бы нас не остановили и не вернули. Мы не допускали мысли, что война будет затяжной, что если мы доберемся до Севастополя, то нас к приемным экзаменам даже не допустят, а тут же отправят назад, домой. И все-таки нам, семнадцатилетним, было «море по колено». Поезда на запад шли с большим опозданием, они все чаще и чаще уступали дорогу груженым товарным эшелонам с мобилизованными мужиками.
В Москву мы приехали на пятые сутки. Я с трудом уговорил Петра Мурашкина и Мишу Целищева заехать к моему старшему брату Сергею, который в этом году закончил московский институт. Я его не видел больше года. О такси у нас не было и понятия. Улицу Стромынка, дом 32, уже четыре года стоявшую на конвертах Сережи, я помнил отлично, а поэтому до метро «Сокольники» доехали без труда, а там две трамвайных остановки шли пешком, так как трамваи были забиты.
На наше счастье, Сережу мы нашли быстро. Постучавшись в комнату, номер которой нам назвал комендант общежития, я услышал родной голос Сережи:
— Можно!
Кроме брата, в комнате никого не было. Он лежал на койке в ботинках и пиджаке и курил, а когда узнал меня, быстро вскочил и никак не мог понять, как я мог очутиться у него, в Москве? Я рассказал ему, что мы, три друга, едем поступать в Высшее военно-морское училище в Севастополе и по пути завернули к нему.
— Сумасшедший! — изумился Сережа. — Ведь Севастополь бомбят каждый день, куда вы едете!
— Мы едем на запад, Сережа, куда едет вся Россия, — спокойно ответил Миша Целищев.
После обеда в студенческой столовой Сережа проводил нас на Курский вокзал, помог нам закомпостировать билеты. Я рассказал ему о житье-бытье дома, о том, что Миша уже поехал на фронт. В вагоне мы распили на четверых бутылку водки, простились, и мне почему-то стало так жалко Сережу, ведь он закончил такой элитарный институт, который, как он писал нам в письмах, можно сравнивать с Царскосельским лицеем. Одет он был во все заношенное и, как мне показалось, с чужого плеча, купленное на барахолке. Поэтому, ничего не говоря, я снял с себя пиджак и сказал:
— Разденься, Сережа, померь.
Он разделся и надел мой пиджак, который в те довоенные годы можно было считать и модным, и дорогим, из коверкота. И, ничего не говоря брату, я надел его выгоревший на солнце пиджак, в котором он приезжал домой на каникулы три года назад. Он уже тогда выглядел поношенным и старомодным.
— Носи, Сережа, мне он уже не нужен. Я в Севастополе получу все новенькое, морское.
Петр Мурашкин и Миша Целищев меня поддержали.
— Нам даже в военкомате сказали, чтобы надели на себя чего-нибудь похуже, потому что все это пропадет.
Сережа поблагодарил меня за этот братский жест, пожал руку и поцеловал. Из вагона он вышел, когда поезд уже тронулся, и некоторое время, ускоряя шаг, шел рядом с нашим окном по перрону. Так я простился со своим старшим братом, с которым жизнь соединит меня уже после войны.
Севастополь встретил нас надрывной сиреной боевой тревоги и перекатистым гулом разрывающихся где-то вдали бомб. Из репродуктора, прикрепленного к стене вокзала, неслись тревожные слова: «Всем в укрытие!» Укрытие… Но где оно, это укрытие? Мы не знали. Однако инстинкт спасения сработал незамедлительно, и мы трое, подхватив свои чемоданчики, ринулись за потоком людей, спешащих к спуску в подземные своды каменного вокзала. Хоть и несколько глуше, но разрывы немецких бомб доносились и до подземных сводов убежища, где нам предстояло пробыть около часа.
Выйдя из подземных катакомб, на привокзальной площади мы обратились к прохожему морскому офицеру с вопросом, как нам дойти до штаба и казарм Высшего военно-морского училища? Офицер окинул взглядом нас и наши обшарпанные чемоданчики, как мне показалось по его улыбке, понял, кто мы и зачем приехали.
— Пойдемте со мной. Я тоже спешу в штаб, — сказал офицер и дал знак быстро следовать за ним.
Когда же он узнал, что мы из Сибири и что в Севастополь приехали поступать в Высшее военно-морское училище, то тут же огорчил нас сообщением, что в этому году первый курс училища функционировать не будет, что абитуриенты, приезжающие со всех городов и весей страны, в тот же день по приезде получают проездные документы и отправляются по домам. И что по этому вопросу уже есть приказ командующего Черноморским флотом. Так что дорога на крутую сопку нам показалась и физически трудной и нерадостной.
Фашистская Германия, напав на нашу страну, сломала нашу мечту.
В штабе училища мы были поставлены на двухдневное довольствие, и высокого роста мичман нас сопроводил в каптерку, где мы получили уже подержанные постельные принадлежности. Тот же мичман провел нас в казарму, которую он называл кубриком, что нам, семнадцатилетним юнцам, понравилось, и показал на железные незастланные койки в углу огромной комнаты, которую и мы будем называть эти два дня не казармой, а кубриком.
За два дня пребывания в Севастополе мы на себе испытали шесть бомбежек. Тяжелые бомбы разрывались совсем недалеко, где-то у моря. Первые вспышки разрывающихся бомб мы видели, когда бежали из кубрика в подземное укрытие, видели и глубокие окопы, заполненные нашими ровесниками, которые как и мы, сибиряки, приехали, чтобы стать морскими офицерами. Гул рвущихся бомб у моря гнетуще давил на душу и какой-то необъяснимой зловещей силой повергал обитателей убежища в тягостное молчание. Днем, после завтрака и до обеда, мы, абитуриенты, рыли окопы, блиндажи и ходы сообщения между ними. За эти два дня мы узнали, что из ребят, окончивших первый и второй курсы училища, формировали роты морской пехоты. Кое-кто из приехавших абитуриентов просил зачислить их в морскую пехоту, но командиры были строги: бросать под огонь опасного и жестокого врага необученных юнцов, которых на уроках военного дела дальше рукопашного боя с деревянными винтовками ничему не научили, считали преступлением. Так что, получив в штабе училища все необходимые проездные документы и деньги на довольствие, мы покинули Севастополь.
Почему-то маршрут возвращения в Сибирь у нас пролегал не через Москву, а через Харьков, где у нас была пересадка. Таких красивых городов, затопленных цветами и буйной зеленью, мы, сибиряки, еще не видели. Наш общий прокуренный вагон был забит пассажирами так, что некоторые из них, измученные ночью сидением на нижних полках, как-то ухитрялись умещаться на полу или забирались на верхние багажные полки, откуда, привязавшись ремнем или полотенцем к трубе отопления, рисковали свалиться. Но на это осмеливались лишь молодые. Я тоже, сразу же войдя в вагон и прикинув обстановку, нашел на одной из верхних полок свободное место и положил туда свой чемодан и узелок с двумя буханками хлеба, купленными в Харькове, где мы, трое сибиряков, пройдя по магазинам, были поражены обилием разных булочек, кренделей, калачей и их дешевизной. На станциях больших городов мы выходили на перрон, покупали свежие газеты, слушали радиоинформацию о боевых действиях, где часто сообщалось о бомбежке Севастополя, и снова почти на ходу, ныряли в вагон.
Навстречу нам гремели воинские эшелоны, набитые солдатами, пушками и доселе неизвестной нам военной техникой. Казалось, что все живое и неживое двигалось на запад, чтобы спасти Россию от жестокого врага, напавшего на нас без объявления войны. Не знаю, как мои друзья, но я, выйдя из вагона и сразу же попав в завихрение вокзального люда и местных жителей, чувствовал какую-то душевную неловкость, даже стыд от мысли, что вся Россия движется на запад, к войне, а мы, молодые, торопимся на восток, подальше от войны. Но эти горестные мысли и чувства гасли, когда я, привязанный бабушкиным полотенцем к обогревательной трубе, лежал на своей верхней полке и думал о доме, о маме, с утра до вечера пропадавшей на колхозной ферме, о старой и уже больной бабушке, о двух младших братьях, о сестренке. Война вырвала из недр семьи трех молодых и сильных старших братьев — Сережу, Мишу и меня. Кто теперь накосит 25 копен сена нашей кормилице Майке, которая в день давала 10 литров молока? Томясь в ночной бессоннице, я лежал с закрытыми глазами и подсчитывал копны: для бычка 15, для каждой овцы, а их у нас было пять, нужно накосить тоже пять копен. С уборкой картофеля, капусты и свеклы мои младшие братья и сестренка хоть и с трудом, но справятся. Огород наш был большой, плодоносный. А что, если война затянется до весны, кто тогда вскопает сорок соток, кто тайком, без ордера райлесхоза, почти воровски привезет дрова? Эти тревожные мысли, повергнув меня в бессонницу, точили мозги.
Петя Мурашкин и Миша Целищев были по рождению жителями городскими, их не тревожили мысли ни о воде, которая шла из крана, ни об отоплении дома, у них не было ни огородов, ни скотины, за которой нужно ухаживать и которую нужно кормить. Над столом, за которым они делали школьные уроки, висела «лампочка Ильича», а не пятилинейная закопченная керосиновая лампа, еле освещавшая комнату, керосин для которой нужно не просто купить, а где-то с трудом достать. Но, судя по выражению лиц моих друзей, нетрудно было догадаться, что и их души томила какая-то тревога. Шесть пышных булок роскошного украинского хлеба, а также дюжину калачей с изюмом мы съели еще при подъезде к Уралу. Таким хлебом мы, сибиряки, не полакомимся не только годы, но, пожалуй, десяток военных и послевоенных лет, когда мы за милую душу чуть ли не в завтрак съедали дневную норму «черняшки» или серого, смешанного с отрубями, хлеба. То будут жестокие годы послевоенной карточной системы.
Станция Убинская, где прошли мои детские годы, находится как раз посередине пути между Омском и Новосибирском. А когда мои друзья-соклассники узнали, что я буду выходить на станции, где живет мама и моя семья, то они приготовились к прощанию. Хотя школу мы заканчивали в одном классе, но сказать, что мы были друзьями, я не могу. Мы были просто товарищами, разными по интересам, по убеждениям и по личным биографиям. Если моя натура была замешана на поэзии Есенина, Блока и Лермонтова, то их интересы скорее клонились к технике, а поэтому наши шутки, наши разговоры как-то не находили единодушия, хотя уважительное отношение друг к другу никогда не нарушалось. Проезжая мимо Барабинских топей и болот, заросших камышами, я рассказал своим друзьям о том, как мы с отцом или с Мишей охотились в этих местах. Не знал я тогда и не мог знать, что через четыре с лишним года, возвращаясь с войны, я напишу стихотворение, в котором душевно отмечу эти болота и озера. Вот они, эти строки:
Здесь-то, вихрастый, босой, Я умел по-утиному крякать И под жесткой отцовской рукой, Хоть убей, не хотел заплакать. Впереди распласталась даль, По бокам размахнулась ширь, Под ногами грохочет сталь, Ну а в сердце — ты, Сибирь.На перроне моей станции поезд стоял всего одну минуту. Мы обнялись, поцеловались и пожелали друг другу счастья. С Мишей Целещевым мы уже никогда не встретимся, он погибнет где-то за Днепром в жестоких боях. Петя Мурашкин, вернувшись после ранений с войны, окончит какую-то юридическую школу, станет председателем народного суда, который размещался у вокзала, и где я на 4 курсе обучения в МГУ буду проходить судебную практику. Могли ли мы знать тогда, что судьба напишет такой трагико-драматический сценарий, над которым будет висеть табличка с надписью «Тайна будущего».
Я думал, что мама и бабушка будут огорчены, когда узнают от меня, что я не был принят в Высшее военно-морское училище в Севастополе. И почему-то был почти убежден, что братья, Толя и Петя, расстроятся, что я не стал морским офицером. Домой я вернулся не в клешах и не в матросской тельняшке, над которой будут трепыхаться ленточки бескозырки, а в поношенном, заляпанном пятнами сером пиджаке, который я выменял у Сережи в Москве. Я жестоко ошибся! Слезы мамы, бабушки, которые ежедневно с утра до вечера старались узнать из висевшего на стене засиженного мухами репродуктора о том, как там бомбят или не бомбят Севастополь, были слезами благодарения Богу за то, что их сын и внук живой и здоровый вернулся оттуда, где идет война, где убивают. Небольшого размера уже не новая тельняшка, которую я купил на базарчике при севастопольском вокзале, Толю не просто обрадовала, а восхитила. Он тут же надел ее и, повертясь перед зеркалом, кинулся ко мне с объятиями. Пете я подарил бескозырку, на ленточках которой золотом были выведены буквы «Черноморский флот». Ее я выменял у одного матроса в Севастополе, который отслужил свой положенный срок и уже собирался домой, как грянула война. За бескозырку я дал матросу наборный мундштук и портсигар, он был очень рад и долго жал мою руку. Зине я подарил завернутую в красочно-яркую обертку плитку шоколада, которую я на последние деньги купил в магазине кондитерских изделий в Харькове. Она тут же, расцеловав меня, куда-то поспешно убежала, чтобы спрятать ее от братьев, которые, как ей казалось, будут обязательно просить у нее хоть какие-нибудь маленькие дольки, чтоб попробовать. И словно чувствуя свою вину перед бабушкой и мамой, которые остались без подарков, я повернулся к ним и виновато развел руками.
— Ну, а вам, милые, я привезу подарок после войны, если вернусь живой.
В ответ на мои слова бабушка повернулась к иконам и, перекрестившись, что-то прошептала. Мама поцеловала меня в щеку и тихо, затаивая слезы, сказала:
— Вот мой подарок, ты мой подарок.
За пару бутылок водки маме выделили делянку, где косили сено в прошлом году и сметали 90 копен. Принимая от мамы подарок, бригадир сказал:
— Трава в этом году небывалая, по пояс и выше, на делянках своих ты накосишь более ста копен.
Ну, а нам, для нашей скотины, хватило бы и семидесяти копен, так мы рассчитали с мамой и братьями.
В райвоенкомате, куда я прибыл, чтобы доложить о том, что я вернулся из Севастополя и что набора на первый курс в этом году в училище не будет, я спросил, на какой срок я могу рассчитывать, чтобы заняться покосом. Узнав, что мое совершеннолетие наступит только в ноябре, райвоенком спокойно сказал:
— Ну что ж, август и сентябрь можешь спокойно заняться хозяйством, раньше октября мы тебя не побеспокоим.
Покос
Пока мы с Петром точили косы и топоры, Толя помогал бабушке собирать продукты для покоса: мешок картошки, ведро квашеной капусты и огурцов, холщовые мешочки с пшеном и горохом, сухари и несколько буханок хлеба, испеченного в русской печи. Все это Толя, бабушка и мама умащивали на небольшой телеге, в которую уже начали впрягать молодого бычка, послушного и начинающего понимать команды. Отбивая косу, я зорко следил за тем, как Толя и мама грузят продукты и как они закрепляют их веревками. Толик, уже начинающий тайком от мамы и от меня покуривать, как-то незаметно для всех ухитрился сунуть в вязанку подушек маленький брезентовый мешочек с самосадом. Это мы обнаружим, когда приедем на покос, станем строить шалаш из длинных березовых жердей. Бабушка не забыла положить в телегу две бутылки подсолнечного масла, соль и спички, не забыт был и уложен в телегу также покрытый ржавчиной лом, на который вешали над кострищем трехлитровый медный чайник с водой и чугунный котел с картошкой. Вряд ли с такой тщательностью и продуманностью великие полководцы Александр Македонский, Александр Суворов и Наполеон готовились к своим завоевательным походам, и все это пригодилось, когда мы, три брата и Зина, соорудив надежный шалаш, в котором постель на осиновых жердях, покрытых душистым сеном и большим брезентовым пологом, мы назвали «царское ложе».
Так мы начали свой покосный сезон. Подбросив над головой горсть легонького сена, уловив направление движения ветра, я встал спиной к ветру и пошел в прокосе первым, за мной пошел Толя, за ним Петр. Возрастная субординация строго соблюдена, но на третий день нашей косьбы вторым в этом строю был Петр. Толя, хотя и был старше Пети на год, ростом был ниже и телом слабее, и он почему-то всегда считал и боялся, что Петя подкашивает ему пятки, а поэтому он легко согласился смениться местами с ним. Как бы шутя. В нашем штатном семейном расписании я распределил строго рабочие обязанности. Мы трое, я, Петр и Толя, косари, копенщики и скирдометатели, потом прибавилась еще новая четвертая забота — добывание сухих дров в колках для наших кострищ. Мама была нашим штатным будильщиком, главной поварихой и посудомойкой. Зина — ее помощницей. А когда в покосных рядках подсыхало сено, они его ворошили, это было уже после завтрака и после обеда. Так что работы всем хватало. Не раз я замечал, как мама, со стороны наблюдая за сыновьями, сияла лицом. Тогда я понимал ее радость, но сейчас, в старости, понимаю и чувствую эту радость еще острее. Тогда она была молодой, ей только исполнилось сорок лет, но эта, ниспосланная Богом, материнская радость будет жить в моем сердце и тогда, когда ей будет 70 и более лет, когда, уединившись в комнате и тихо нашептывая одними губами, она будет читать мои романы, повести и рассказы. Когда в один прекрасный день сельская почтальонша принесет ей толстую бандероль, в которой будет завернута тяжелая книга «Русский фольклор», учебник для филологических факультетов университетов и педагогических институтов. Эту книгу, по которой будут учиться студенты всей страны, создал ее старший сын Сергей Георгиевич, профессор, доктор филологических наук, заслуженный деятель науки, член ученого совета Московского государственного университета.
Проводив маму и Зину, до обеда мы косили, а после обеда и перекура с дремотой до самого вечера копнили. Поставили еще восемь копен и нарубили длинных осиновых жердей для ограды вокруг стога, который мы поставим посреди огорода, как это делал отец. Уже под вечер, сливковоз, остановив на дороге свою телегу с бидонами, помахал нам газетой. Мы подошли к нему все трое. Забавным нам показался этот старикашка. Эти две газеты «Советской Сибири» стоили 6 копеек, а он спросил с нас полтинник, сказав при этом, что стоял за ними в очереди полчаса. Газеты дочитывать нам пришлось у горящего костра. Дела на фронте были плохи. Наши войска отступали, мы сдавали все новые и новые города. В обеих газетах сообщалось, что бомбили Севастополь.
Словно на наше счастье, утренняя роса была обильная, а дни стояли жаркие, без единого дождичка. Во время обеденного перерыва, когда братья крепко уснули, я на березовой коре написал плакатик: «Летний день кормит год», и повесил его над входом в шалаш. Разбуженный мной Толя, прочитав плакатик, спросил:
— Не понимаю, чего ты этим хочешь сказать?
И, словно ожидая этого вопроса, я назидательно ответил:
— Это придумал не я. А наши деды, прадеды и прапрадеды. Они были мудрые.
Толя ничего не ответил и, взяв грабли, пошел сдвигать сено в валы. Следом за ним, взяв вилы, пошел Петя. Работали они ловко, сноровисто, копнить им приходилось еще до ареста отца. Уже под вечер приехали мама и Зина. Их привез пьяненький сливковоз, который, как потом скажет мама, свою законную четвертинку в два приема выпил, не слезая с телеги, на ходу. Даже не постеснялся при этом попросить у мамы чем-нибудь закусить. Та протянула ему луковку и разломила надвое калач.
Мой плакатик, висевший над входом в шалаш, маму умилил. А десятилетней Зине пришлось растолковывать значение этого лозунга. Сгрузив с телеги привезенные мамой продукты, я с трудом отправил словоохотливого старичка. Уж так ему хотелось поговорить про жизнь, про войну.
К концу августа мы накосили 75 копен, поставили из них три огромных стога.
Всякий раз, проезжая мимо нашего шалаша, сливковоз приносил нам два-три номера «Советской Сибири» и всегда спрашивал: не нужно ли кого-нибудь подвезти до Убинска.
Много замечательных, даже известных и знаменитых людей я встречал в жизни, знакомился с ними, общался, но шли годы, и как-то незаметно стирались в памяти их имена и даже фамилии, а вот имя старичка-сливковоза помню до сих пор — Филиппок. Филиппок — так он, по крайней мере, представился нам. Помню его жиденькую с проседью бороденку, его облупившийся под солнцем курносый нос и маленькие бегающие серые глазки, в которых был запечатлен вечный вопрос и готовность помочь людям. И эту помощь он ценил невысоко, всего лишь в четвертинку.
В одну из августовских пятниц к нам неожиданно нагрянули две пары пароконных бричек с четырьмя кормачевскими мужиками, привезли какие-то обязательные госпоставки. Я не видел, что они привезли, так как мы были на покосе, но знал, что уехать из Убинки они могут только в понедельник, когда получат какие-то товары. Сообразив, что субботу и воскресенье они будут бездельничать, мама поманила меня в горенку и сказала, что есть у нее два отреза ситца, отрез мелестина и кое-какая одежда, оставшаяся от дяди Васи, ее брата, как нам стало известно по его письму, призванного на фронт. В посылке, которую он прислал бабушке, было две новеньких рубашки, костюм и два очень цветастых галстука. В своем последнем письме перед войной он сообщал, что собирается жениться, а поэтому, как нам показалось, вся эта полученная нами его одежда была предсвадебной. Вынув из сундука вещи самого младшего сына, нашего дяди Васи, бабушка положила их на кровать и как-то скорбно сказала:
— Вернется живым, наживет. А уж если что, то так, видно, угодно Господу Богу.
Я не был свидетелем, как мама договаривалась с кормачевскими мужиками, но когда я спросил, сколько она заплатит за их работу, она махнула рукой и сказала:
— Договорились о всех трех стогах, перевезут, — расскажу потом. Мужики совестливые, тоже ждут со дня на день повестки в военкомат. Будут работать субботу и воскресенье.
Толик и Петя на погрузке не пригодились. Кормачевские мужики так привычно и так ловко грузили на пароконные брички сено, что я любовался ими. В их движениях я видел что-то отцовское, привычное мне. За субботу и воскресенье они перевезли все три стога и жерди, из которых был сооружен наш шалаш. Их хватило на изгородь вокруг стога на огороде. Третий стожок, поменьше, кормачевцы сметали на сеновал над хлевом, где у нас зимовали корова, бычок и несколько овец. После обеда в понедельник кормачевцы загрузили свои брички в железнодорожном пакгаузе бревнами, досками и брусьями, а также кровельным железом и рулонами толя. Все это предназначалось для строительства начальной школы. За кирпичом и цементом они планировали приехать в следующую пятницу.
На воскресном базаре, что был на бугре за нашими огородами, мама продала две кожаные спиртовые подошвы, еще чего-то и купила три пол-литра водки. Эти толстые блестящие спиртовые подошвы я помнил, когда учился в 3 классе, они лежали на самом дне бабушкиного сундука и на что хранились, я не знал.
Но здесь они пригодились в расчете за перевозку сена, и за сметанный стожок над хлевом, и скирду в огороде.
В воскресенье утром Петя отрубил голову самому драчливому петуху, который пойдет на воскресный ужин, а ужин по крестьянским меркам был роскошным: блюдо соленых пупырчатых огурцов, которые бабушка планировала поставить на стол, когда приедем Сережа и я, пьянило не только своим видом, но и божественным запахом укропа, смородины, чеснока и хрена. Рядом с огурцами бабушка поставила блюдо с солеными грибами. Выкатив из печки ведерный чугун, из которого вкусно дымила картошка, мама попросила старшего кормачевца:
— Андреич, вывали вот это в блюдо.
На что тот реагировал как-то благоговейно и усердно. Натянув на свои могучие лапы торчавшие из печурки брезентовые рукавицы, он поспешно подхватил чугун и аккуратно опрокинул его в огромное блюдо, стоявшее посреди стола. Кстати пришелся и увесистый шмат свиного сала. Заминка получилась из-за стеклянной посуды, из которой предстояло пить. В доме было всего две стограммовых стопки и четыре граненых стакана. Когда за стол сели четыре кормачевца, мама и я, то из замешательства маму вывел опять же Андреич:
— Будем праздновать окончание покоса так, как нас учил Ленин, который сказал, что социализм, это прежде всего учет.
С этими словами он, взяв в правую руку бутылку водки, резко хлопнул левой ладонью по ее дну. К потолку выскочила пробка. Почти не дыша, мы смотрели, как он наливал до краев стопку и выливал ее в граненый стакан, а когда стаканы были наполнены, налил стопки и, чокнувшись с мамой и со мной, сказал:
— Ну, Сергеевна, ты теперь зиму одолеешь легко. Ехали мы через все село с возами и ни у кого на сеновале не видели даже навильника сена, да какого! Это не сено, а ягодник, хоть чай заваривай.
С этими словами Андреич двумя глотками опорожнил стакан и поставил его на стол. Поймав на себе предупреждающий и просительный взгляд мамы, я слегка поднял над столом руку и показал ей указательный палец, что означало — я выпью только одну. Мама кивнула головой и пару маленьких глоточков отхлебнула из своей стопки. Второй тост провозгласила мама, я его помню:
— За то, чтоб скорее кончилась война, и кончилась она нашей победой!
Есть что-то родственное в трапезе российских крестьян и российских солдат. В своей книге о солдате Василии Теркине Твардовский сказал:
Ел он быстро, но не жадно, Отдавал закуске честь.Сказано кратко, но поистине мудро.
Больше тостов не было. Пили только одни кормачевцы. Хвалили огурцы и грибки бабушкиного засола, нет-нет да и меня похваливали за то, что я за один месяц одолел такую большую работу, руководя младшими братьями. Похвалили и за осиновые подсохшие жерди, которые пошли на изгородь к огородному стогу.
Тихоокеанский флот
Памятным на всю жизнь стал для меня тот августовский ужин с колхозниками из Кормачева. Но, а дальше, дальше волны жизни понесли меня своим течением по руслу, очертанному судьбой и Богом. В первых числах октября я был вызван в военкомат, где прошел комиссию, и после нее меня предупредили, что отъезд через день. Я-то думал, что меня определят в команду, которая будет дислоцироваться где-нибудь на западе, где за какой-нибудь месяц-другой подготовят и бросят на передовую линию. Все получилось по-другому. Сработал перст судьбы. Я и еще один мой односельчанин, более того, одноклассник, Коля Белов, были определены для службы в Тихоокеанском флоте. Вот уж никогда не думал, что вместо Черноморского флота судьба забросит меня на Тихоокеанский. Да и звучало это в моем сознании как-то особенно значительно — Океанский флот!
В 30-е и 40-е годы допризывников и солдат возили в грузовых вагонах, которые называли «телячьими». Так вот, нас, призывников Убинского района, тридцать человек, которые были призваны на Тихоокеанский флот, погрузили в «телячий» вагон. Мне досталась средняя полка. Мы как-то ухитрились не расставаться с Колей Беловым и всегда держались рядом.
Перед тем, как проститься, бабушка опустилась на колени и долго молилась перед иконами в правом углу нашей горенки. Потом, видя, что я вскинул за плечи вещевой мешок, она тяжело привстала, обняла меня, поцеловала и перекрестила, сказала какие-то слова из молитвы, я их теперь уже забыл. До станции меня провожали мама, братья и Зина. Оказалось, что нашу команду из тридцати человек провожало человек сто. Были здесь бабушки, дедушки, родители, братья, сестры. Хоть и не на запад везет нас эшелон, но без слез прощания, без наставлений и объятий не обошлось. Плакала и моя мама и несколько раз просила, чтоб я поаккуратнее себя там вел в океане, чтобы не утонул, хотя она знала, что плавать я умею и плаваю хорошо. При этих ее просьбах я заметил, что и на глазах Толика появились слезы. Петя, хоть и на год моложе его, но натурой был покрепче и потверже.
Двенадцать суток колеса нашего вагона стучали на стыках рельсов, словно выговаривая тягучую и тоскливую мелодию марша. Владивостокский сектор береговой обороны располагался на островах Японского моря. Во Владивостоке нас обмундировали, посадили на тральщик, и часа три мы плыли до острова Русского. Не назвал штатный морской глагол «шли», а употребил обычное «плыли», так как это ближе народному слуху. На море была изрядная качка, и нас за эти часы так потрепало, что многих из нас, «салажат», краснофлотцев-первогодков, чуть ли не повиснувших на бортах тральщика, так «травило», что выветрило из души всю романтику морской службы. А потом почти всю ночь с одним только привалом мы поднимались к вершине Русского острова, чтобы, преодолев ее по каменистой дороге с серпантинами, спуститься вниз и через дамбу, соединяющую Русский остров с островом Шкота, дойти до штаба дивизиона. Там, перед дамбой, получив разрешение на десятиминутный отдых, мы повалились на землю и в одну-две минуты все мертвецки уснули.
Так в ноябре 1941-го началась моя тяжелая морская артиллерийская служба на Тихом океане. И проходила она на двух островах: Попов и Рикорд. На острове Попов я служил на центральном посту тяжелой артиллерийской батареи, построенной еще в конце XIX века. Военная история русской армии гласит, что мощью своего огня эта батарея послала ко дну Японского моря не один неприятельский корабль во время Русско-японской войны.
Тяжесть службы на центральном посту, главным образом, заключалась в том, что корректировать огонь батарей на аппарате-трансформаторе азимута и дистанции (ТАД) приходилось в потерне, вырытой на глубину 6–7 метров в гранитной скале, куда спускались по вмонтированным в стену железным скобам. Никакого притока свежего воздуха в потерну не было. В те годы Россия еще не придумала и не создала никаких кондиционеров, а поэтому застойный воздух давал себя знать. Отстоишь вахту у ТАДа и, несмотря на свою молодость, с трудом поднимаешься на поверхность. Конечно, никакая бомбежка, никакие обстрелы тяжелыми снарядами вражеских кораблей нашей потерны не достигнут, слишком мощное гранитное покрытие над нашими головами.
На регулярно проводимых политзанятиях комиссар каждый раз сообщал нам сводки с фронтов Отечественной войны. Радости в них, конечно, никакой не было, а поэтому, я думаю, что ни один десяток краснофлотцев из нашей батареи написали комбату Козубскому рапорт с просьбой отправить в действующую армию на запад. Два таких рапорта написал и я. На первый мой рапорт со стороны командира батареи капитана Козубского и его замполита не было никакой реакции, а вот после второго рапорта меня вызвали в штаб и сам капитан Козубский меня так отчитал, что кроме стыда я не вынес в своей душе ничего, когда выходил из его кабинета. Свой ответ на мой рапорт он завершил словами, которые я помню и сейчас:
— Я посмотрел документы и понял, что ваши родители и вся ваша семья находятся где-то недалеко от Новосибирска, посередине нашей великой страны. А вот село моих стариков дотла сожжено немцами, и где они сейчас находятся, я не знаю. Вы можете понять состояние моей души, которое заставило меня, как и вас, написать командованию Тихоокеанского флота рапорт с просьбой отправить меня на фронт. Но в моей просьбе было отказано.
Мудр был тот человек, который первым сказал, а историки-летописцы записали его слова в фольклор русской народной мудрости: «Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда могут сойтись». С капитаном Козубским, командиром тяжелой артиллерийской батареи на острове Попов, с которым я расстался глубокой осенью 1942 года, мы встретились через 40 лет в мягком вагоне СВ, когда мы с женой Валей возвращались из Калининградского драматического театра, где был поставлен спектакль по моей пьесе. Рядом с нашим купе ехал, если судить по морскому командирскому кителю, правда, без погон, на котором пестрело своим разноцветьем множество орденских колодок, как мне показалось, отставной морской офицер, а то и адмирал. Чтобы сосчитать колодки и определить, что за ордена были на груди этого ветерана войны, я даже специально остановился у окна и, кося взглядом, вначале пересчитал. Их было более двадцати. Медальных планок было всего лишь четыре штуки, а остальные — боевые ордена, да какие ордена! Суворова, Ушакова, Нахимова… Длинной одноцветной полоской бросались в глаза колодки боевых орденов Красного Знамени. Как фронтовик, я знал, что ордена Суворова, Нахимова и Ушакова давались только командирам высшего ранга — генералам и адмиралам. Значения многих колодок я не знал, но счел их за ордена иностранных государств, прилегающих к берегам Северного Ледовитого океана. Как только я не напрягал свою память, чтобы вспомнить это выражение лица, этот взгляд, слегка нахмуренный и сосредоточенно задумчивый. Много раз я прошел мимо гиганта-ветерана, всякий раз вглядываясь в его лицо, то в профиль, то ища мгновения, когда он повернется в мою сторону и наши взгляды встретятся. Но память моя не срабатывала, я возвращался в свое купе, бросался на нижнюю полку, закрывал глаза и мучил свою Валю тем, что бессилен был вспомнить лицо этого человека, которое было до боли мне знакомо и известно. Валя уже начинала умолять меня, чтоб я не мучил себя и ее. Я пытался уснуть, чтобы забыться, но ничего не получалось. Мы уже проехали станцию Александров и подъезжали к моей даче в Абрамцеве, я глядел в окно, делая вид, что любуюсь этими подмосковными елочками, березами и опушенным снегом кустарником. Но вдруг в какое-то мгновение, когда наши взгляды встретились, меня словно обожгло. И я вспомнил этого человека. В купе я почти вбежал с возгласом:
— Валя, я узнал его, это наш капитан с Тихоокеанского флота! Это комбат Козубский, тогда он был такой же высокий, но очень тонкий и худощавый лицом, но глаза, глаза те же! Я пойду к нему, я разговорюсь с ним.
С этими словами я вышел из купе и подошел к морскому ветерану. И сейчас помню слова, которые я, слегка коснувшись его руки, произнес:
— Вы капитан Козубский?
— Козубский. Но уже давно не капитан.
— Вы командовали батареей на острове Попов в 41 и 42-м годах?
— Да, командовал.
— Я Ваш краснофлотец, моя фамилия Лазутин Иван Георгиевич. В Вашей батарее я служил на центральном посту на ТАДе.
Ветеран, словно помолодев лицом, сказал:
— О, как это было давно… А кого вы из батареи помните?
Я назвал фамилию и звание его заместителя по политической части, назвал повара батареи Виктора Мищенко, толстощекого, румяного новосибирца, который по-землячески иногда мне нет-нет да и подбрасывал лишний котелок каши, если она оставалась после обеда. Но когда я напомнил ветерану, как он отчитал меня за мой второй рапорт, в котором я просил отправить меня на фронт, и как он почти в гневе рассказал, что село его сожжено фашистами, что родители неизвестно где находятся, Козубский крепко взял меня за руку и властно повел в свое купе.
— Голубушка, ты помнишь, как осенью 1942, когда мы служили на острове Попове я пришел домой сердитый и почти в лицах рассказывал тебе, как я отчитывал салажонка-первогодка за то, что он написал два рапорта, в которых просил послать его на фронт? Своим упорством он меня тогда довел до того, что я начал рассказывать ему, что немцы сожгли мое село и я не знаю, где мои родители. И что я тоже подавал рапорт, но мне резко отказали в моей просьбе. Скажи, ты помнишь этот вечер? Ты еще выговорила мне за мою строгость и бессердечие.
Жена Козубского, вглядываясь в мое лицо, а мне уже тогда было около 60 лет, тихо ответила:
— Да, отлично помню, какой ты был в тот вечер взбешенный и сердитый.
— Так вот, это он. Он случайно меня узнал и подошел ко мне. Его фамилия…
И, видя, что он мучительно хочет вспомнить мою фамилию, я помог ему.
— Лазутин, Иван.
— Да, да, помню, Лазутин Иван. Я еще и фамилию его тогда называл тебе. Помнишь, называл?
— Вот этого не помню, — виновато ответила жена.
— А где вы сейчас? Кто вы сейчас? Очевидно, уже на пенсии или подходите к ней? — спросил Козубский.
— До пенсии мне еще два года, а по профессии я писатель. Прозаик и драматург. У вас на Украине издавались мои книги, ставились мои пьесы. А «Сержант милиции» шел, как мне стало известно, почти во всех городах Украины.
Козубский и его жена аж всплеснули руками. Оказалось, что они не только смотрели спектакль по «Сержанту милиции», но читали саму книгу. Я рассказал им, что еду из Калининграда с премьеры спектакля и что, к сожалению, ничего не могу подарить им из своих книг, так как все раздарил на премьере.
Если бы узнавание состоялось час назад, то за этот час мы бы столько вспомнили, столько наговорили друг другу… Так как за окном показались московские дома, а пассажиры вагона уже начали с чемоданами двигаться к выходу, я протянул жене Козубского визитную карточку, где стояли мой московский адрес и телефоны, и сказал, что буду счастлив видеть их своими гостями. Козубский сказал мне, что он сейчас в отставке и руководит в Днепродзержинске Комитетом ветеранов войны. Он написал на клочке бумаги свой адрес, домашний телефон и тоже пригласил нас с Валей к себе в гости. К стыду своему, этот клочок бумажки я в суматохе потерял и сколько не искал, найти не мог. А также полагая, что ему пошел девятый десяток, я не уверен, что он жив, иначе бы он меня поздравил с Днем Победы, потому что в его руках осталась моя визитная карточка.
Да простит мне Господь Бог, что капитана Козубского я вспомнил, когда стал работать над мемуарами и на своем жизненном пути, длиною в 76 лет, набрел на каменистый остров в Тихом океане, остров Попов, где судьба подарила мне встречу с командиром нашей батареи, который остался в моей памяти как образ чести и мужского достоинства.
Командованием Владивостокского сектора береговой обороны из батарей нашего дивизиона была сформирована группа человек в сорок для отправки в действующую армию на Западный фронт. Мы, батарейцы с острова Попова, были крайне возбуждены. Позже, когда нас везли на тральщике на остров Шкота, где находился штаб дивизиона, мы, общаясь, узнали друг от друга, что все мы, поповцы, писали на имя командира батареи рапорты с просьбой об отправке на фронт.
На острове Шкота перед штабом нас построили, зачитали по списку фамилии и сказали, что часть из нас отправляется не на фронт, а на остров Рикорд для продолжения службы на Тихоокеанском флоте.
Нас, двадцать человек, собранных из различных батарей дивизиона, посадили на тральщик и увезли на остров Рикорд. Скорбно шутя, мы называли себя «рикордистами». Туда двумя неделями раньше были доставлены еще двадцать с лишним человек, которые рыли землянки и ходы сообщения между ними.
Погода на Дальнем Востоке, особенно на островах Японского моря, всегда теплая, и природа изумительно красивая. Сопки покрыты золотом молодого дубняка и ягодных кустарников. Нам, поповцам, предстояло вырыть для установки зенитных батарей четыре орудийных дворика. Орудийный дворик — это не уставное понятие, но так, по законам фольклора, оно закрепилось почти во всех видах артиллерии. Со стороны Южной бухты отчетливо виделся остров Пахтусов, на котором, как мы сразу узнали, были заключены преступники из Ленинграда, обвиненные в убийстве Кирова. В основном, это была интеллигенция. Хотя пролив между островами Рикорд и Пахтусов был довольно-таки тихим, все-таки во время шторма иногда рыбаки с острова Пахтусова просились к нам в Южную бухту, чтобы избежать штормовых бедствий. В основном, заключенные с Пахтусова занимались рыбным промыслом на своих маленьких японских суденышках «кавасаки». Лагерь зеков был разбит на две части: женскую и мужскую половину. Общение между ними строго наказывалось.
Землянки для личного состава батареи и орудийные дворики для установки зенитных пушек мы соорудили где-то в середине ноября. До тех пор мы проживали в огромной брезентовой палатке со слюдяными окошечками. Постелями служили деревянные нары, на которых лежали набитые морской травой матрасы. Стояли в нашей палатке и чугунные буржуйки, которые мы еще не топили, но дрова для которых были привезены.
Запомнившимся событием в службе на острове Рикорд было то, как рыбачки с острова Пахтусова в Южной бухте вытащили в своем прочном неводе огромную четырехметровую акулу. Вытащенная из невода на берег, она без воды жила четверо суток. Близко к ней подходить мы боялись: есть что-то зверино-опасное в холодном ледяном взгляде, которым она зорко следила за тем, кто подходил к ней. На пятый день тремя выстрелами из пистолета акулу убил командир батареи.
И еще запомнилась мне одна памятная деталь. Когда через Южную бухту шел косяк рыбы, то чайки сопровождали ее так низко и поднимали такой крик, что он был слышен наверху в нашей брезентовой палатке.
На берегу у пирса были причалены три наших батарейных лодки, которые шли в работу, когда мимо берега проходил косяк камбалы. Вахтенные батарейцы успевали сесть в лодку, захватить с собой невод и умело бросить его в середину косяка. И всякий раз подбежавшие сверху бойцы вытягивали килограммов по сто рыбы. Больше двух носилок дежурные по кухне наверх не уносили, потому что лишнюю рыбу хранить было негде, не было ни холодильников, ни ледничков. И вот чем удивляло нас море и его живность. Мед инструктор, несколько раз отряхнув рыбу, вытирал ее полотенцем и клал на весы, и всякий раз мы убеждались, что вес рыбины из одного косяка до грамма был одинаков. В основном, вес трепанги был около килограмма или чуть тяжелее. Так что рыбой наша команда была обеспечена сверх всяких норм. Вода в бухте была такая теплая, что кое-кто из смельчаков в отведенное для туалета время не только входил в воду, но и, разбежавшись с пирса, нырял.
И все-таки стройбатовская работа, подъемы и отбои закончились в конце декабря. Половину команды, выкрикнув по списку, погрузили на тральщик, который через несколько часов привез нас во Владивосток. Вот теперь-то мы твердо поняли и поверили, что нас, в конце концов, повезут на действующий Западный фронт. А когда во время вечерней поверки морской офицер с нашивками капитана первого ранга дважды задаст нам вопрос: есть ли среди нас больные, то ответом ему будет глухое молчание. Капитан первого ранга прошелся вдоль строя, поздравил нас с тем, что предстоит нам впереди, а также пожелал успехов и здоровья, назвал нас молодцами. А в конце дня наша команда пополнилась новой группой, прибывшей с каких-то других островов Владивостокского сектора. И какова же была моя радость и удивление, когда во время вечерней переклички вдруг произнесли фамилию: Белов Николай. Уж чей-чей голос, а басок Николая Белова, который играл заглавные роли в спектаклях драматического кружка в нашем Убинском клубе, ни с чьим голосом я спутать не мог. Дождавшись, когда прозвучит команда «вольно» и перекур на 10 минут, я тут же отыскал Николая Белова. Оба были рады и возбуждены, даже расцеловались, словно не виделись много лет. Мы с Николаем Беловым, подойдя к командиру роты, объяснили ему, что мы не просто односельчане, но одноклассники и друзья с самого детства. Командир роты какой-то пометкой в списке объединил нас в одном взводе. Так что утром, на следующий день, мы уже лежали на средних нарах в теплушке, которые будем называть «палатой лордов». На них намного теплее, чем на нижних нарах, прозванных «холодильником», и дышалось свободнее, чем на верхних нарах, кем-то названных «вонючей парилкой», где крепкий табачный дым мешался с запахом пота, портянок, висевших вокруг трубы раскаленной чуть ли не докрасна чугунной буржуйки.
От Владивостока до Красноярска наш эшелон под номером 1369 мчался со стремительной скоростью, иногда даже обгоняя пассажирские поезда. На многих мелких станциях Восточной Сибири он даже не останавливался, только слегка сбавлял скорость. А в Красноярске эшелон зачем-то был загнан на запасной путь и по чьему-то высокому приказанию отцепили около десятка вагонов, в том числе и наш. Мы срочно выгрузились и почти полночи маршем шли до Качинских старинных казарм, построенных еще в первой половине XIX века.
С Николаем Беловым мы в эшелоне лежали рядом на одних средних нарах. И здесь, в Качинских казармах, старались не разлучаться ни на минуту. Вооруженные знанием иерархии вагонных и казарменных нар, пропитанных запахом хлорки и табака, мы с Николаем, не растерявшись, заняли средние нары. Сколько нас здесь продержат, мы не знали, а поэтому на второй день жизни в Каче я с казарменной почты дал домой в Убинку телеграмму маме о том, что едем на фронт, номер эшелона 1369, временно остановились в Красноярске.
Это «временно» продолжалось около месяца. Стояла лютая зима, морозы, бураны. Никакой боевой подготовкой мы не занимались, зато политчасы были по нескольку раз в день. Утром, после команды «подъем», нас почти выгоняли на мороз для физзарядки. Умываясь пригоршней снега, мы докрасна вытирали полотенцем мокрое лицо. Кормежка была, хотя и трехразовая, но очень слабая. На завтрак давали треть котелка пшенной или овсяной каши, кусок хлеба и два кусочка сахару. На обед — полкотелка супа, в котором плавали три, а то и четыре кусочка американской тушенки. Если их сложить, то получится объем спичечного коробка. На второе — та же утренняя каша, а слабо заваренного чая — хоть упейся. На ужин дублировалось меню завтрака. Уснуть после отбоя удавалось не сразу. С верхних нар, где, как мы поняли с Николаем, играли в очко, часто доносились полублатные монологи и диалоги, которые иногда чуть ли не заканчивались драками. И правильно я поступил, когда на второй же день после прибытия в Красноярск дал телеграмму домой, что еду эшелоном 1369. Это для них означало, что мама и братья должны были от дежурного по станции узнавать, проходил или не проходил на фронт эшелон 1369.
В город на базар из Качинских казарм нас не пускали. И тот, кто пытался каким-то образом улизнуть, чтобы выменять на обмундирование или купить за деньги буханку хлеба и бутылку молока, бывал строго наказан.
А когда мы были погружены в эшелон и тронулись, я на одной из станций снова дал телеграмму, что из Красноярска мы выехали. Номер эшелона был уже другой, я его написал в телеграмме.
В Западной Сибири морозы в январе стояли такие же жестокие, как и в Восточной Сибири. Чтобы не остужать вагон открытием дверей, мы с Николаем еще в Чулыме потихоньку вышли из вагона на тот случай, если в Убинске эшелон не остановится, то мы хоть сбросим с тормоза письма и какие-нибудь приметы нашего проезда. Однако, все получилось не так, как мы планировали. Поезд от Чулыма до Убинска шел два часа, нам даже показалось, что за всю дорогу от Владивостока он никогда не шел так медленно. А мороз с каждой минутой крепчал, и ноги наши не просто окоченели, но даже подламывались и ввергали нас в панику. Пожалуй, никогда раньше я так истово не молил Бога, чтобы эшелон остановился на станции Убинской. Стоило только впереди заалеть красному семафору, мы сразу же почувствовали по стуку колес, что поезд замедляет скорость. Николай, который лучше меня знал правила железнодорожного движения, твердо и как-то уверенно сказал:
— Ну все, будем стоять не меньше часа. Паровоз будет набирать воду.
И он был прав. Когда же эшелон остановился и наш вагон оказался метрах в пятидесяти от станционного домишки, мы спрыгнули с тормоза и, с трудом передвигая окоченевшие ноги, побежали к станции.
Глухая январская ночь, на перроне ни одного человека, кроме станционного служителя с фонарем в руках. Мы с Николаем кинулись в наш ветхий деревянный вокзал. И что же увидели? Все, кто сидя на лавках, кто скрючившись на полу, завернувшись в шубейку, кто просто привалившись к стене, спали. Своего брата Петра я узнал сразу по полушубку и по старым отцовским валенкам, подшитым кожей. Он крепко спал, положив голову на мешок с продуктами, которые принес мне как угощение. Николай Белов полагал, что его встретить могут только две младших сестры. Из писем он знал, что мать вот-вот ждала ребенка, поэтому в таком положении она пойти ночью встречать сына не могла.
Узнав от дежурного по станции о том, что паровоз нашего эшелона будет заправляться водой и что на это уйдет не менее 45 минут, а то и час, так как подача воды была очень ослаблена из-за морозов, Петя сразу нашел решение. Сняв с себя валенки, он натянул повыше шерстяные носки и, сказав, что побежит за мамой, выскочил на перрон. Окрикнув Петра, Николай попросил его о том, что когда он будет пробегать мимо их дома, постучал бы в окно и сказал, что он едет на фронт.
От станции до нашей избы на Рабочей улице не меньше километра, а поэтому я полагал, что Петя должен привезти маму на салазках, как он сказал, убегая, не позже, чем через полчаса. Я нервничал, искурил не одну самокрутку пока, наконец, не увидел, как через переезд на салазках человек быстро вез кого-то. Это Петя вез маму. Накинув на нее старый полушубок и ватное одеяло, он подвез маму к самому вокзалу, помог ей подняться с санок и, придерживая ее, дал нам обняться и расцеловаться. Обливаясь слезами, мама что-то причитала, приговаривая. Я успокаивал ее, но и сам сдержать слезы не мог. Продукты и табак, которые Петя привез мне, я сразу же передал надежным ребятам на наши средние нары и сказал, чтобы взяли по щепотке табаку, а больше пока ничего не трогали.
За длинную дорогу от Владивостока до нашей станции мы с Колей привыкли друг к другу как братья и знали, что дурного никто никому не сделает. Минут за пять до отправления эшелона сестры Коли Белова привезли на салазках мать. Она была настолько тяжела уже, что они опасались, как бы не начались роды. И опасения девчонок были не напрасны. Как мне показалось по ее крику, у нее начались родовые схватки, а поэтому Николай расцеловал мать и сказал сестрам, чтобы они везли ее скорее в больницу, вернее в родильный дом, что плачущие сестренки послушно сделали.
При двух зажженных лучинах наша средняя «палата лордов» из семи человек начала пировать. В брезентовом мешке, который принес на станцию Петя, оказалось три буханки хлеба, кусок соленого свиного сала, две продуманно уложенных бутылки крепкого самогона-первача, который, как сказал мне Петя, послал мне в подарок наш сосед, друг моего отца, Тихон Тихонович. Наша «палата лордов» была крайне возбуждена. Никто не спал. Последнюю неделю в Красноярске с куревом было совсем плохо, а поэтому сибирский самосад, нарубленный Петром, всем понравился. А командир взвода, лейтенант наш, о нем сказал даже «художественно»:
— Крепок, сатана! Пробирает аж до копчика, не то, что моршанская махорка, которой мы дымили всю дорогу.
Из брезентовой сумки, в которой сестры Николая Белова привезли ему продукты, тот вытащил семь кусков жареной баранины и разложил ее на полотенце. Я из своей сумки вытащил кусок сала и, отрезав от него пласт, разделил его на семь частей. Лейтенант разрезал на семь частей буханку моего хлеба и тоже положил на полотенце. Так что каждому «лорду» досталась солидная кучка добротной закуски.
— Закуску будем делить по солдатскому закону? — спросил лейтенант.
И будто ожидая этого вопроса, все «лорды» с наших нар хором прогудели:
— По солдатскому, по солдатскому.
Лейтенант положил ладонь на крайнюю кучку закуски и, приказав Иванову отвернуться, спросил:
— Кому?
— Ларину! — почти на весь вагон выкрикнул Иванов.
После дележа закуски началось разливание самогона.
Ради соблюдения справедливости нашлась на этот случай в моем мешке и стеклянная стопка. Не найдя в своем мешке водки, Николай Белов пробасил:
— В мой мешок это добро отец не положил, он у меня непьющий, интеллигент. Наверное, боится, чтоб я не напился и не выпал из вагона.
В ответ на эту шутку донесся хохоток с противоположных нар вагона, куда я, как только тронулся эшелон от станции Убинская, отправил полный кисет самосада и был очень доволен, что огоньки самокруток светились на всех трех нарах второй половины вагона. А когда командир взвода намекнул, что обитатели «холодильника» и «жарилки» нашей половины вагона страдают без курева, то Николай Белов поспешно вытащил из своего мешка две осьмушки крепкой бийской махорки и протянул их на верхние и нижние нары. Крепкий дымок мы почувствовали сразу, хотя огоньков самокруток не было видно. А когда я разлил в протянутые ко мне алюминиевые кружки первую бутылку самогона, то лейтенант, подняв руку, сказал:
— Без тоста, братцы, нельзя.
Мы потребовали от него, как от командира, тост. По образованию лейтенант был филолог. Самым любимым и самым великим писателем мира он считал Льва Толстого. Мы ждали от него хорошего тоста. И видя, что, склонив голову, он о чем-то сосредоточенно задумался, мы замолкли.
— Гениальный русский писатель Лев Николаевич Толстой сказал: «Истинная мудрость немногословна, она как „Господи, помилуй“, а поэтому тост мой будет короткий: за победу!»
Хором, словно по команде, мы повторили его тост и, чокнувшись алюминиевыми кружками, выпили крепкий самогон. И все семеро благодарственно крякнули. По-русски, по-крестьянски. Закусывали неторопливо, со смаком и почему-то все шесть «лордов» наших средних нар посматривали на меня, и я понял, что они ждали, буду ли я открывать вторую бутылку. А когда я, о чем-то раздумывая, достал ее из мешка, то они перестали есть, очевидно, не желая оставить вторую дозу без закуски.
Второй тост лейтенант предложил, вернее попросил, сказать мне. Тост мой был ни какой-нибудь высокопарный, а от души сказанный. Я предложил выпить за здоровье родных и близких. И снова, чокнувшись алюминиевыми кружками, мы молча выпили. Самогоном были наполнены не простые водочные бутылки, а бутылки из-под портвейна по 0,75 с изображением трех семерок на этикетке, а поэтому на семь человек нам пришлось полтора литра крепчайшего самогона, который, если после первой стопки дал себя знать, то после второй побежал по сосудам ласково и горячо. А когда Николай Ларин попытался своим тоненьким тенором запеть «Катюшу», которая уже тогда была знаменита, я жестом попросил его остановиться и повернулся к Николаю Белову:
— Коля, дай-ка про Стеньку Разина! Помнишь, как наш сельский клуб грохотал аплодисментами, когда ты ее пел последний раз Первого Мая на концерте?
И Николай, прокашлявшись и немного помолчав, начал:
Из-за острова на стрежень, На простор речной волны Выплывают расписные Стеньки Разина челны.Несмотря на ритмичный стук колес, его голос, крепкий, басовитый, сочный, звенел четко и выражал в песне состояние души.
На передней Стенька Разин, Обнявшись, сидит с княжной, Свадьбу новую справляет Сам веселый и хмельной.На середине второго куплета в бас Коли Белова врезался тоненький гибкий тенор Ларина.
Позади их слышен ропот: Нас на бабу променял. Одну ночь с ней провожжался, Сам на утро бабой стал.В этом куплете тенор Ларина взлетел на такую высоту, что весь вагон, кроме поющих, замолк, словно затаившись, что же будет дальше. Но стоило поющим начать предпоследний куплет песни, как во второй части вагона, по-моему, с соседних «лордовских» нар, зазвучали голоса:
Мощным взмахом поднимает Он красавицу княжну И за борт ее бросает В набежавшую волну.Тут уже не выдержал и я, человек совсем даже не поющий и музыкально не одаренный. Я вспомнил, как пел эту песню отец во хмелю, и тоже подключился. Последний куплет гремел на весь вагон, его подхватили два «холодильника», две «палаты лордов» и две «жарилки».
Волга, Волга, мать родная, Волга русская река, Не видала ль ты подарка От донского казака.Поистине, в народной песне, как и в вине, живет своя сила, своя энергия и своя стихия.
Почти до Барабинска, а это в восьмидесяти километрах от Убинска, гремела в нашем вагоне русская народная песня. Будут умирать старики, и на смену им будут приходить новые поколения, но народная песня, русская песня, рожденная в недрах великой нации с великой и легендарной историей, будет жить вечно.
Впереди нас ждала Москва, а за Москвой — война.
Залпы гвардейских «катюш»
При подходе к Москве наш воинский эшелон почти два часа не останавливался. Стояла полночь, у электричек был ночной перерыв. Командир взвода еще с вечера объяснил своим подчиненным, что до солдатских казарм мы пойдем походной колонной пешком. Где находится это Хорошевское шоссе, он не знал, так как в Москве до войны не был ни разу. Среди бойцов взвода не было ни одного москвича. Помню до сих пор, как в последний день нашей тревожной дороги на фронт при подъезде к столице все острее и острее озадачивал нас вопрос, в какой род войск мы вольемся: в артиллерию ли, в пехоту, в морской или в воздушный десант. Не знали мы, и не знал наш командир взвода. Весь последний день нашей дороги он озабочен, главным образом, был одним: чтобы у всех его подчиненных были подшиты чистые белые подворотнички и надраены сапоги, и чтобы люди в Москве, глядя на нас со стороны, понимали и верили, что идут тихоокеанцы, а не какая-нибудь пехота «не пыли». Очевидно по распоряжению начальника эшелона, выгрузка была поочередной. Первой из шести вагонов выгрузилась наша рота. Была сделана перекличка, и колонна, возглавляемая командиром роты и сопровождаемая по бокам командирами взводов, вышла на пустынную широкую привокзальную площадь, выстроилась и двинулась в сторону Садового кольца, которое, по мере нашего бесконечного марша, мне покажется гигантской подковой, постепенно заворачивающейся все левее и левее. Курить во время движения колонны было строго запрещено. Зато с какой жадностью мы разворачивали свои табачные кисеты во время двух привалов, один из которых я запомнил по старинному, приземистому зданию на углу, против которого через 25 лет будет выстроен высотный особняк на площади Восстания, где начинается старая московская улица Красная Пресня. О том, что эта старая улица, вымощенная узорчатым булыжником, называется Красной Пресней, во время второго привала командир роты сказал командирам взводов. И тут же наказал, что когда будем подходить к деревянному мосту, перекинутому через железную дорогу, то пусть бойцы знают, что слева в березняке и липах находится Ваганьковское кладбище, где похоронены великие люди России, упомянул при этом и имя Сергея Есенина. Чтобы поднять у нас дух, командир роты также сообщил, что нашему маршу еще длиться не более тридцати минут. Пятиминутный перекур, отдых, а также информация, что будем проходить старинное кладбище, на котором похоронен Сергей Есенин, нас как-то взбодрили, прогнали сонливость. При подходе к мосту головы бойцов, как по команде «Равнение налево», все были повернуты в сторону кладбища.
Октябрьские казармы, расположенные в глубине огромного двора, на котором в беспорядке стояли длинные барачные столовые, спортплощадка, плац для строевой подготовки, чем-то очень напоминали нам Качинские казармы на окраине Красноярска. Те же неоштукатуренные кирпичные стены темно-красной кладки с широкими окнами, те же ничем не застланные трехэтажные дубовые нары, на которых спали русские солдаты нескольких поколений. Никак не предполагали мы, валившиеся с ног от усталости после перехода через всю Москву, что нам в этих пустынных казармах придется пробыть больше месяца. Недели две мы не знали, в какой род войск в качестве пополнения мы вольемся, и только где-то на третьей неделе командир роты, словно по секрету, сообщил, что воевать нам придется в гвардейских минометных частях, которые тогда уже получили свое лирическое наименование в народе: «Катюши». Об огневой мощи этого новейшего оружия мы уже знали по статьям из газет, по сообщениям на политинформациях. А поэтому мы были горды, что командование готово доверить нам такое почетное и мощное оружие, которое мы в натуральном виде пока еще не видели.
За время пребывания в Октябрьских казармах нас два раза походной колонной поротно водили в кино. Беговая улица тех далеких сороковых по своему виду чем-то напоминала окраину захолустного городка. Со стороны этой улицы по субботам и воскресеньям до наших казарм доносились частушки голосистых девок и еще не подлежащих армейскому призыву парней. Однако Красная площадь и Мавзолей Ленина мы, тихоокеанцы, повзводно посетили все. Это было нашим праздником. И были очень огорчены сообщением о том, что гроб с телом вождя мирового пролетариата был вывезен в глубь страны. А с каким замиранием духа, словно окаменев, мы слушали двенадцать ударов боя часов на Спасской башне! Это была торжественная минута.
И хотя мы азы армейской службы прошли уже год и более тому назад, когда служба протекала на островах Японского моря, все-таки как было противно повторять то, что нам уже известно и чем мы владели в совершенстве: строевая подготовка, политчасы, рытье индивидуальных окопов, готовность к санитарной обороне, к химической защите в случае применения немцами отравляющих веществ. Все эти хлоры, иприты, люизиты, фосгены, дефосгены мы проходили, когда сдавали нормы на значки «БГТО» и «ГТО» еще до военного призыва. Умели ползать и под колючей проволокой. Стрельбой из винтовки занимались с удовольствием. Занятия по уставу караульной службы и строевому уставу мы несколько раз проводили на Ваганьковском кладбище, и вот это нам тоже нравилось. И нравилось не потому, что мы в двадцатый там, сотый раз повторяли, что дважды два четыре, а потому, что кругом были красивые знаменитые памятники, а на них портреты, надписи, фамилии тех, кто под этими памятниками захоронен. И всякий раз, когда наши занятия проходили на кладбище, мы непременно посещали могилу Сергея Есенина. Однажды, когда кто-то из бойцов наизусть прочитал половину стихотворения Есенина «Ты жива еще, моя старушка…», текст которого уже переродился в народную русскую песню, я не вытерпел и тоже прочитал два стихотворения Сергея Есенина, записанные в замусоленной тетрадке старшим братом Мишей, которую он принес из школы за голенищем сапога.
Через каждые 3–4 дня наша рота численно уменьшалась. Когда командир роты, построив личный состав, произносил несколько фамилий и командовал выйти из строя, а потом приказывал собрать вещи и приготовиться к выезду для отправки в подразделение, где им предстоит продолжение службы, не нравились нам эти туманные формулировки «для продолжения службы». Ведь мы ехали не служить в подразделениях, а воевать, защищать родину. Но воинская дисциплина всех времен исключает всякие редактуры любых команд, которые нужно безропотно выполнять.
Наконец, наступил тот день, когда и мою фамилию в числе десяти других произнес командир роты и дал команду выйти из строя и приготовиться к отъезду. Правда, на этот раз нашему отделению не пришлось идти пешком от Хорошевского шоссе до Ярославского вокзала, как это было месяц назад, когда наш эшелон прибыл на этот старинный московский вокзал. До станции Правда, где дислоцировался 13-й запасной автополк, нас сопровождал помкомвзвода. От него мы узнали, что месяца два, а то и три нас будут готовить на шоферов, а потом отправят в действующую армию, где нам предстоит сражаться в гвардейских минометных частях, причем эту фразу, я дословно помню, помкомвзвода произнес с какой-то торжественной приподнятостью, словно желая выразить, какую высокую честь нам оказывают этим назначением. В отличие от Красноярских, Качинских казарм — каменных и мрачных с виду, а также Октябрьских казарм в Москве, деревянные, двухэтажные казармы в Правде, окруженные цветущей сиренью и цветниками с прометенными дорожками, нам показались девственно чистыми, какими-то домашними и уютными, даже двухэтажные деревянные нары, застланные соломенными матрасами и подушками, под каждой из которых виднелись свернутые байковые одеяла, своей веселой разноцветностью нас манили к отдыху, к душевному покою. Но это было первым впечатлением. На второй же день пребывания в этом режиме запасного полка мы поняли, что чем ближе к войне, тем дисциплина строже и безоговорочнее. Подъем, трехсотметровая пробежка, называемая физзарядкой, умывание под присмотром старшины роты, который следил, чтобы ледяная вода омывала не только лицо, но грудь, руки и живот, все это говорило о том, что режим Качинских и Октябрьских казарм был лишь цветочками, а ягодки только начинаются. Как и во всех армейских запасных частях питание в полку было настолько слабым, что вряд ли мог найтись хоть один боец нашей команды, прибывший из Октябрьских казарм, кто за два месяца в этом полку не прожег в поясном ремне две новых дырки. Увольнения не давали не только для поездки в Москву, но даже на несколько часов не пускали в лес за грибами в выходные дни. В кино водили организованно, строем. Маловато было и любителей спортплощадки, где можно было показать себя у турника, у штанги, на брусьях и на кольцах. А однажды кто-то из бойцов пустил слух, а старшина роты его подтвердил, что там вон, в конце поляны, за красивой крашеной штакетной изгородью живет на даче знаменитая артистка, которая сыграла главную роль в кинофильме «Актриса», даже назвал ее фамилию — Сергеева Галина. Этот фильм еще ранней весной прошел по всем военным гарнизонам не только Московского военного округа, но и в далекой Сибири, а также на островах Японского моря. Эта информация оказалась сенсацией, и всякий раз, когда мы на этой поляне в каких-то двадцати-тридцати метрах от калитки дачи знаменитой актрисы занимались материальной частью автомобиля ЗИС и Студебеккера, то мы на всякий случай, нет-нет, да посматривали на крыльцо и калитку этой знаменитой дачи. А однажды, уже перед концом пребывания в этом 13-м запасном автомобильному полку, один из взводных бойцов, помню, с Вятки, который нас годами помоложе, учил формуле «ешь — потешь, работаешь — холодашь, а ковда идешь — чуть-чуть в сон бросает». Эту деревенскую вятскую частушку он возводил в ранг мудрости и главной философии в жизни человека. И однажды, когда на улице шел дождь, он вбежал запыхавшийся в казарму и огорошил всех нас сообщением, что только что своими глазами видел, как Галина Сергеева, эта знаменитая актриса, «вместе с Чапаевым» под зонтиком прошла через поляну и вошла в дачу. Мы повскакивали со своих нар, кинулись к окнам, чтобы увидеть актрису Сергееву и знаменитого на весь мир киноартиста Бориса Бабочкина. Но, облепив окна казармы, мы стояли до тех пор, устремив свои взгляды на дачу Сергеевой, пока не послышалась команда на ужин. Было очень обидно, так и не увидели мы живьем знаменитых киноартистов. А когда мы узнали от штабного писаря, что Галина Сергеева вот уже два месяца на гастролях на 1-м Белорусском фронте, куда ее пригласил лично командующий фронтом генерал Рокоссовский, то вятский философ долго был предметом насмешек и подначек, закрепив за собой кличку «трепач» и «врун». А перед самым концом пребывания в автомобильном полку всем стало известно, что он доврался до того, что стал рассказывать, как он «Чапаева» и Сергееву не просто повидал на поляне, но поздоровался с ними «Чапаев» крепко, пожал ему руку и даже угостил папиросой «Казбек».
Как тут не вспомнишь весельчака и балагура Василия Теркина! Василия Теркина, который живет в каждой солдатской роте.
И на этот раз нам с Николаем Беловым повезло. После прохождения курса в учебном автомобильном полку, получив права шоферов, мы с ним попали в одну команду. На московском пересыльном пункте, где готовились пополнения для гвардейских минометных частей, думали, здесь-то нас разлучат. Но на наше счастье и здесь мы были назначены в одну команду и отправлены во вновь формирующийся отдельный гвардейский минометный дивизион, который находился где-то на окраине Москвы, вблизи поселка, название которого я уже забыл. Но через несколько дней пребывания в этом дивизионе, куда с каждым днем поступали все новые и новые боевые установки и Н-13, смонтированные на новеньких «Студебеккерах», я заболел. Если всю дорогу от Владивостока до Москвы, а также во время пребывания в Качинских и в Октябрьских казармах меня мучила изжога, от которой я спасался сухой золой и двумя-тремя глотками воды, то здесь боль под ложечкой и в правом подреберье доходила до того, что все кончалось рвотой. И так почти после каждого приема пищи. Водитель боевой установки, по национальности татарин, лет под сорок, опытнейший шофер, был обеспокоен состоянием моего здоровья. Чуть ли не силком прогнал меня к врачу и даже сам пошел со мной. Военврач, майор медицинской службы, выслушав мои жалобы, велел мне раскрыть рот и высунуть язык. Когда он на нем что-то увидел, то даже покачал головой и сказал:
— Да, молодой человек, запустил ты свою изжогу. Пораньше надо было бы появиться у меня.
Потом он заставил меня лечь на спину и обнажить живот. А когда он кончиками пальцев уперся в мое правое подреберье и попросил глубоко дышать, то я почти вскрикнул, чувствуя, как болезненно перекатывается что-то под его пальцами. В свои 19 лет я, деревенский житель, еще не знал, где находится печень, хотя анатомию человека уже где-то в 7 или 8 классе проходил. Прослушав мое сердце, военврач спросил:
— Еще на что-нибудь жалуешься?
— Нет! — бойко ответил я.
Бросив взгляд на шофера, который пришел со мной, военврач спросил:
— Вы что, с одного боевого расчета?
— Да, — ответил шофер. — Я — водитель боевой машины, он — мой дублер.
Остановив взгляд на гвардейском значке на гимнастерке моего шофера, военврач сказал:
— Ну, вот что, гвардия, для боев в таком состоянии ваш дублер не годится. Сейчас ему нужно немедленно в больницу, в госпиталь. Отправляю его сегодня же. Вот там месяцок-другой подлечат, и в добром здоровье, с Богом, на Берлин. А сейчас идите к командиру батареи и доложите ему, что я отправляю его сегодня же в госпиталь. Через час явишься ко мне, тебя будет сопровождать медсестра.
Очень жалею, что забыл фамилию этого замечательного душевного человека из Татарстана, помню только его имя — Ямиль. Весь последний час моего пребывания в этом отдельном гвардейском дивизионе мы пробыли вместе.
Зная, что вот уже второй день как у меня кончился табак, Ямиль достал из своего вещмешка нераспечатанную осьмушку бийской махорки и половину высыпал в мой кисет. Помню и его слова, когда он, проводив меня до санитарной машины, в которой меня ждала медсестра, пожал мою руку и сказал:
— Ну, Ваня, с Богом! Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда могут сойтись. Лечись хорошенько и возвращайся в свой дивизион, может быть, и успеешь.
На мой вопрос, куда меня везут, медсестра ответила, что мы едем в самый центральный коммунистический военный госпиталь имени Бурденко, что находится недалеко от центра Москвы, в Лефортове. И тут же прибавила, что этот главный военный госпиталь обслуживает раненых и больных гвардейских минометных частей. Она была права, этот госпиталь мне показался огромным по территории и старинным по архитектурному строению. Высокий, с внушительным парадным подъездом, с солидными въездными воротами и пропускной будкой. Медсестра сказала еще, что в этом главном военном госпитале страны лечат генералов и рядовых солдат. А один из больных нашей палаты сказал, что госпиталь этот самый старинный в Москве, что построен он еще во времена Петра Первого.
Пролежал я в нем полтора месяца, лечили интенсивно, очень внимательно и бережно, но один из пожилых больных, по званию подполковник, сказал, что с нашим диагнозом, (а у нас обоих был гепатит), после лечения дают статью нестроевой службы и командируют в пересыльный пункт, откуда можно попасть в стройбат или в какую-нибудь хозяйственную роту. Эта информация меня не только опечалила, но и привела в глубокое уныние. За что меня, краснофлотца Тихого океана, который ехал воевать в гвардейской части на «Катюше», и вдруг в хозвзвод! В стройбат! Эти горькие мысли я как позорную тайну носил два дня. Потом не вытерпел и сообщил ее лечащему врачу. Тот улыбнулся и ответил:
— Не волнуйся, голубчик, после лечения направим тебя в пересыльный пункт гвардейских минометных частей, откуда пришел к нам, туда и уйдешь. — И чтобы приободрить меня, добавил:
— Вы еще молодой, организм ваш сильный, он все победит.
Эти слова лечащего врача окрылили меня, и он был прав.
После выписки меня направили в пересыльный пункт гвардейских минометных частей, где я, пробыв два дня, был передан в распоряжение гвардии майора Лютова, заместителя 22-й гвардейской минометной бригады, который по каким-то делам был командирован в Москву вместе с инженером бригады. Оформив документы, майор Лютов посадил меня в свой «виллис», за рулем которого сидел уже немолодой шофер, и отвез на улицу Земляной вал, где во дворе дома стояла нагруженная какими-то приборами и тюками грузовая машина ЗИС. Увидев из окна «виллис» майора, из дома вышли двое мне неизвестных военных. Как оказалось потом, это были водители грузовой машины. Вместе с майором и инженером они приезжали за каким-то грузом. А перед тем как проститься со мной, майор приказал шоферам:
— Вот что, гвардия, это новичок нашей бригады. Сухой паек вы на него получили еще в Речице, так что кормите его исправно, водки ни грамма. Он из госпиталя, сидел полтора месяца на диете. Матрас и одеяло есть на машине?
— Два комплекта новеньких, товарищ майор. Есть и две подушки, одна даже перьевая, — ответил тот, что с виду был постарше. — Довезем как принца.
Майор всем троим крепко пожал руки, сел в свой «виллис» и выехал со двора. Он как-то сразу понравился мне своей определенностью, твердостью и четкостью.
В Речицу, где на окраине города стояла 22-я гвардейская минометная бригада, входившая в состав 5-й краснознаменной Калинковической гвардейской минометной дивизии, мы ехали два дня. На ночь останавливались в полуразрушенных, полусгоревших смоленских и белорусских селах и деревнях. Находили у доброго местного населения приют, добротно ужинали, стянув из кузова машины два матраса и одеяла с подушками, расстилали их на полу, крепко засыпали. А когда кто-то из нас начинал расспрашивать о немцах, старики, как правило, молчали. Старушки входили в такой раж, такое рассказывали, что мурашки пробегали по телу. Теперь уже не помню названия села, где мы остановились на первую нашу дорожную ночь. Но бабку Акулину, которая наварила для нас троих огромный чугун картошки, достала из подполья целое блюдо квашеной капусты, век не забуду. Помню и ее маленькое морщинистое лицо, к которому она то и дело подносила фартук, чтобы вытереть катящиеся по щекам слезы. Печальные у нее были воспоминания. Когда она увидела, что два шофера по имени Алексей и Николай попросили у нее всего два стакана, чтобы налить в них самогон, всполошилась.
— А парню? Парню-то как же? Ему тоже нужно налить. Вы-то, поди, сидели в теплой кибитке, под ногами греет мотор, а он наверху лежал, на ветру. Нет, ему тоже бы нужно налить.
Тот, что помоложе, Алексей, который был призван в армию с Алтая, ответил бабушке:
— Нет, бабуля, он только что из госпиталя, ему нельзя. У него диета, не велели.
Слова Алексея бабушку не смутили. Она тут же напахнула на плечи старенькую шерстяную шаль и кинулась куда-то в сенцы, на ходу приговаривая:
— А у меня и для него есть лечеба. Молочко, только что подоила.
Вернувшись из сенок, поставила на стол крынку еще не остывшего молока, рядом с ней поставила три черепушечных кружки.
— Всем, всем хватит, мои детки, всем, пейте на здоровье!
В этой связи не могу не вспомнить выступления по телевизору великого русского писателя, лауреата международной Нобелевской премии Александра Солженицына. Это было года три-четыре назад. Я был глубоко потрясен пророческим предсказанием. Его утверждение о том, что спасение великой Российской державы он видит только в братском единении трех славянских народов — России, Белоруссии и Украины, с их кровно родственными языками, культурой и национальным духом, а также единой православной верой. И уж коль я вслед за Солженицыным заговорил о духовном единении славян, то не могу не выразить свое глубоко искреннее признание в том, что если мне задали бы сейчас затасканный и опошленный вопрос о том, с кем бы я пошел в разведку, предоставив мне выбор из более ста национальностей, населявших Советский Союз, предательски разваленный тремя представителями великой державы — русским, украинцем и белорусом, — то я, не задумываясь, ответил бы, что в разведку пойду с белорусом. Познав глубину натуры этой национальности еще в годы Великой Отечественной войны, я и сейчас уверен, что белорус не продаст, не выдаст, не обманет, не струсит, не схитрит, где нужно честно смотреть в глаза друг другу. Из всех 16 президентов Союза независимых государств, которые до раскола Советского Союза представляли из себя союзные республики, президента Белоруссии Лукашенко я считаю самым достойнейшим из достойных президентов этих государств. По своему нравственному статусу и чистоте политических убеждений он стоит на целую голову выше бывшей партийной номенклатуры Советского Союза и республик, возведенных в ранг самостоятельных государств. И это не академик, не секретарь Центрального комитета Коммунистической партии союзной республики, а председатель колхоза, которого сейчас народы Белоруссии называют ласково «батькой». Этого имени, этого признания нужно заслужить делом. Да и его личная и семейная жизнь, как говорят об этом средства массовой информации, является образцом чистоты и высокой нравственности. И все-таки находятся, как в России, так и в белорусской оппозиции, трехкопеечные политологи, которые, прорвавшись на телеэкран или на газетные полосы, пытаются очернить имя Лукашенко, его политику и работу. Как славянин и собрат, в русском народе он видит старшего брата и не боится тех критиканов, которые опошлили само понятие «старший брат». О духовном родстве русского и белорусского народов я заговорил потому, что в воспоминаниях своих подошел к участию в Отечественной войне на 1-м Белорусском фронте, которым командовал генерал Рокоссовский. Командующим артиллерией 1-го Белорусского фронта был личный друг Рокоссовского генерал Василий Иванович Казаков, с которым судьба через много, много лет сведет меня. Когда я буду работать над романом «Суд идет», а он — работать в Министерстве обороны главнокомандующим артиллерией. Большую и конкретную помощь окажет мне он, когда я буду писать главы о реабилитации незаконно репрессированных в 37-м и 38-м годах высоких артиллерийских начальников. Многим поможет маршал артиллерии Казаков в восстановлении доброго имени, когда в 1956 году после смерти Сталина начнется реабилитация незаконно репрессированных генералов Советской Армии.
Гвардии рядовой первой батареи первого дивизиона 22-й гвардейской минометной бригады, я был, согласно уставу строевой службы, поставлен на довольствие как заряжающий и как дублер водителя боевой машины. Однако, учитывая, что в расчете еще один боец имел шоферские права, было два дублера. Основному водителю я почему-то сразу приглянулся, поэтому он стал меня натаскивать и к вождению «студебеккера». Командиром дивизиона был высокий, стройный и красивый майор по фамилии Шмигель. Я был очень удивлен, когда узнал, что на фронте его вот уже полгода сопровождает жена. Тоже высокая и такая же картинно стройная женщина лет тридцати. Раньше я почему-то думал, что это допустимо с особого разрешения высшего командования и то только в тех случаях, когда это позволяла боевая обстановка.
А боевая обстановка на 1-м Белорусском фронте в ноябре и декабре 43 года была относительно спокойной. Очевидно, поэтому нашу 5-ю гвардейскую минометную дивизию обслуживала концертная группа Улан-Удэнского музыкально-драматического театра во главе с ее главным режиссером Циденжаповым Гамбо Циденжаповичем. Личный состав и боевые машины нашей 22-й минометной бригады в то время дислоцировались на окраине города Речицы. Штаб бригады располагался в центре города. На довольствие группу бурято-монгольских артистов поставили в нашу 22-ю бригаду. Никаких гостиниц в полуразбитой Речице, конечно, не было. Да и были ли они до войны, можно сомневаться. По сему случилось так, что артистов разместили в избах, где располагались бойцы нашей бригады. И вот однажды в наш дом вошел офицер из штаба и, бросив взгляд на печку в кухне, увидел на ней три пары босых ног и скомандовал:
— Подъем, святая троица!
Среди этой троицы заряжающих, лежавших на горячих кирпичах русской печки, был и я. Все трое мы сразу вскочили. Штабной капитан, обращаясь к нам, распорядился:
— Вы, все трое, пока мы стоим в Речице, можете дислоцироваться на этой своей «огневой позиции».
Повернувшись, он пошел в горницу и на пороге остановился:
— А вам, гвардия, кто расположился на кроватях, на полу и на лавках, придется всем семерым переселиться в соседние избы. Здесь, в горнице, неделю, а то и полторы, будут проживать улан-удэнские артисты самого большого театра этой республики. Первый свой концерт они дадут в городском театре для нашей бригады. Так что, покидая эту горницу, хорошенько подметите и наведите в ней полный порядок. В дубовую бочку с краном, что стоит в кухне, натаскайте из колодца воды, а перед уходом распахните настеж окна, чтобы вытащило из горницы дым и запах самогонного перегара. Задача понятна?
— Понятно, — кто раскуривая цигарку, а кто только заворачивая ее, прогудели гвардейцы.
Целую неделю мы одной семьей жили со знаменитыми артистами Бурятии. С каким сыновьим и дочерним почтением и глубоким уважением подчиненных относились артисты к своему руководителю, народному артисту СССР Циденжапову Гамбо Циденжаповичу. Он был строг, но строг той благородной справедливой строгостью, которая вызывает только любовь и уважение в душе подчиненного.
Однажды я был невольным свидетелем того, как Гамбо Циденжапович утром, когда артисты проснулись, отчитывал почти публично одного провинившегося актера за то, что на вчерашнем вечернем банкете после концерта он злоупотребил спиртным. Я не видел лица артиста, когда он дрогнувшим голосом просил прощения у руководителя группы. Но по тону и голосу, которыми были произнесены эти слова, я чувствовал, какую глубину и горечь стыда испытывал этот артист. Не буду называть его фамилию, он является одним из самых любимых артистов бурятской публики.
Мой близкий друг, писатель Африкан Бальбуров, ныне покойный, не раз мне с восхищением будет рассказывать о нем. Когда я в дружеском застолье вспоминал свои далекие фронтовые были и дали, то рассказывал, как судьба подарила мне семь дней совместного проживания с бурятскими артистами в просторной белорусской избе. Заслуженная артистка Бурятской республики Надежда Петрова; солист балета Бадмаев; стройная и тоненькая, как былинка, балерина Мэри Шалтыкова; могучего сложения баянист Иван Сергеевич Дворников — и все они на долгие годы остались в моей памяти. А после войны, когда я закончу Московский университет и стану писателем, в журнале «Байкал» (это бурятский литературный журнал) будут публиковаться мои повести и роман «Черные лебеди». Главным редактором журнала был мой друг Африкан Бальбуров. Связь с бурятскими друзьями будет еще прочнее. Эта связь, может быть, обусловливалась еще и тем, что я острее почувствовал единение душ русского человека и бурята. Много общих черт я нашел в характере россиянина и бурято-монгола…
Было как-то даже обидно читать в газетах и слушать по радио информацию о том, что на других фронтах наши войска наступали, отбивая у врага все новые и новые города и села. Наш 1-й Белорусский фронт, как нам казалось, главный фронт, который острием своим направлен прямо на Берлин, словно набрав в рот воды, молчал. Вернее, не молчал, а не изменял свои географические координаты. Но в этом, как мы додумались сами, был какой-то высокий масштабный, вернее, верховный стратегический смысл.
Мне даже было немного обидно, когда батарейцы вспоминали битву на Орловско-Курской дуге. Жестокие танковые сражения на Прохоровском поле и под Понырями, где танки Гудериана шли в лобовую атаку на наши танки. Грохот разрывов, дым и пламя огня застилали и заглушали землю и небо.
Вспоминали батарейцы и о боевых друзьях, которые остались лежать в земле на Орловско-Курской дуге. Слушая эти воспоминания, я мрачно и как-то полустыдливо молчал. Они прошли это, а я еще не только не вкусил азарт боя с огневой мощью «Катюш», но даже и теоретически не мог себе представить силу звука одного летящего в небе с огненным хвостом снаряда, похожего, как мне рассказывал техник вооружения, на рев двух десятков свиней, которым в одно мгновение вонзили в грудь кинжалы. И это всего лишь один снаряд издавал такой звук, а если во время залпа эти снаряды сходят с направляющих боевой установки не десятками, а сотнями и тысячами, образуя собой безумно ревущую огненную стихию, то можно себе представить душевное состояние тех, кто дает этот залп, находясь в одиночном или парном окопе в каких-то двадцати или тридцати метрах от боевой установки. Но все это придет, когда 1-й Белорусский фронт тронется и пойдет на запад.
Этот день наступил. День, который я считаю своим фронтовым крещением. Боевую машину я заряжал на запасной позиции, вместе с расчетом ехал на ней на огневую позицию, где должен был произойти залп. Но об этом солдат не знал. Об этом знали командиры. Они выполняли приказ, у них была карта той местности, где находилась огневая позиция. Я вместе с солдатом Пережогиным лежал в одном окопе и видел огненный вал, взметнувшийся над боевыми установками и устремленный в сторону врага. Туда ушли наша пехота и наши танки. Они завершат то, что начала наша огневая мощь осколочных и фугасных снарядов.
Хотел бы особо отметить два состояния души. Ночью перед нашим предстоящим утренним залпом, который даст дорогу пехоте и танкам, и во время самого залпа, когда лежишь в окопе и ощущаешь, словно вал этого огня идет не просто с машин, а хлынул из твоей души в ту сторону, откуда идет неприятель, чтобы тебя убить, — в эти секунды инстинкт защиты перерождается в инстинкт победного уничтожения врага. Это состояние солдатской души походит на состояние ликования, на состояние торжества. Однако, учитывая, что многое из своей личной фронтовой жизни, из боевой жизни я передал частичками, эпизодами действующим лицам моих романов и рассказов, которые много раз были изданы в книгах, то я не буду повторяться, чтобы не обкрадывать самого себя. И не намерен нарушать железное правило логики, как выражено в римской формуле non bis datum — «не дважды об одном и том же».
Характерной особенностью боевых действий гвардейских миномётных частей «Катюш» является то, что до тех пор, пока на направляющих лежат боевые снаряды, они представляют собой огневую мощь, но, отстрелявшись, после залпа для расчета боевой установки главным и почти единственным средством ведения огня является автомат с обоймой патронов. Солдат-ракетчик становится практически солдатом-пехотинцем. И чтобы избежать бомбежки или артобстрела, нужно вовремя смыться и уходить на запасные позиции, где есть маскировочные средства и возможность вновь зарядиться и ждать новых команд.
И все-таки некоторые эпизоды из окопно-блиндажной и боевой жизни не могу не вспомнить. В Речице, где больше двух месяцев дислоцировалась наша бригада, мы с Сашей Загороднюком и солдатом Пережогиным были переведены из дома, где проживали вместе с бурятскими артистами, на другую улицу к одинокой старой бабушке, у которой, кроме картошки и свеклы, в погребе не было ничего. Печку она топила через день старыми, полусгнившими жердями от изгороди. Жалко нам ее стало, мы привезли ей с окраины города разрушенный немецкой бомбежкой сарай, перепилили с Сашей бревна, а Николай Пережогин переколол чурбаки: Поленья сложили в сенках и были рады, когда бабушка нас заверила, что дров этих ей хватит до лета.
Рассказы о зверствах немцев спокойно слушать мы не могли. Из полученного нами на троих сухого пайка бабушка варила суп, из муки пекла блины и делала затируху. Жалела она нас, жалела той сердечной материнской жалостью, которая, как мне кажется, присуща только славянским крестьянкам. Стирала наши портянки, сушила их и каждое утро ставила самовар. А когда у простуженного Саши Загороднюка чирьи на шее слились в единый карбункул, и он от невыносимой боли не находил себе места и никак не хотел ложиться в полевой походный госпиталь, бабушка достала из сундука целый рулон льняного волокна, распушила его и заставила Сашу лечь на широкую лавку, велев при этом расстегнуть пуговицы на груди гимнастерки. Почти двухметровый Саша ее приказания выполнял послушно, как ребенок. Невесомый распушенный пучок льна бабушка прикладывала Саше на затылок к шее, подносила к нему зажженную лучину. Лен вспыхивал, образуя огненное облако. Бабушка беззубым ртом шептала какую-то молитву, крестила Сашу и гасила пламень огня чистым полотенцем. Так длилось до тех пор, пока облачко роспушенного льна почти не сгорало совсем. Эти народные процедуры она проделывала три раза в день: утром, в обед и вечером. Когда в один из вечеров к ее избушке подошла санитарная машина и военфельдшер приказал Саше собираться в госпиталь, он наотрез отказался. При этом заявив: «Возьмем Варшаву, вот там и лягу в госпиталь, если не лягу в землю».
Перед тем как бригаде изменить дислокацию, мы скинулись по 50 рублей и передали эти деньги бабушке, потому что кой-какой базарчик в Речице все-таки был. И были очень растроганы, когда узнали, что на эти деньги бабушка в местной церквушке купила три маленькие иконки Георгия Победоносца, чтобы на прощанье благословить нас и подарить их нам. Так она и сделала. По формату эти бумажные иконки, наклеенные на тонкую картонку, были не больше игральных карт, так что мы их без труда попрятали кто во что: я в комсомольский билет, Саша Загороднюк — в кожаный кошелек, а Николай Пережогин — в небольшой альбом фотографий, который он хранил в своем солдатском мешке.
А об этих иконках Георгия Победоносца я написал биографическую документальную повесть и назвал ее «Иконка». Где-то в семидесятых годах она была опубликована в журнале «Огонек», а позже была издана маленькой книжечкой в издательстве «Правда». Но строгая цензура в журнале Центрального Комитета КПСС, а также в издательстве «Правда» совершенно не допустила назвать фронтовую повесть божественным словом «Иконка». Главный редактор журнала Анатолий Софронов, которому повесть понравилась, специально позвонил мне и с огорчением сказал, что цензура сняла название «Иконка». Предложил мне назвать ее «Бабкин лазарет». Мне и это название понравилось. Так что под названием «Бабкин лазарет» документальная повесть вышла в самых престижных издательствах страны. В этой же книге был опубликован документальный рассказ «Метель», в котором я описываю, как чуть не погиб в те три ураганных дня, когда выполнял приказ командира дивизиона майора Шмигеля. Не буду пересказывать в своих мемуарах содержание этого рассказа о той метели, которая безумствовала трое суток подряд, оставив дивизион без продовольствия, потому что все дороги были настолько заметены, что транспорт бригады встал. После того, когда продукты были на лошадях подвезены крестьянами к пункту дислокации дивизиона, майор Шмигель меня так обнял, что хрустнули мои солдатские кости. Он налил в граненые стаканы водки, чокнулся и сказал:
— Ты, Лазутин, совершил подвиг.
Почти полный стакан я выпил одним духом и через несколько минут захмелел.
А было это так: от штаба дивизиона, поблизости от которого располагались наши боевые машины, до деревни, где находился продовольственный склад бригады, полз я по сугробам почти сутки. На какие-то минуты я даже терял сознание и веру в то, что останусь жив. Но, наверное, меня хранила иконка Георгия Победоносца. Вдруг, впав в какое-то блаженное забытье, я услышал ржанье жеребенка. Прислушался: ржанье усилилось, потом услышал лай собачий и тут понял, что нахожусь на краю деревни. Ржанье жеребенка и собачий лай влили в меня силы, я с новым упорством пополз по сугробам на эти сигналы. Это была та самая деревня, где располагался продовольственный склад нашей бригады. Была ночь.
Детали этой борьбы со стихией я привел в рассказе «Метель». Моя история с бабушкиной иконкой в повести «Иконка» в журнале «Огонек» выброшена, но быль эта мне дорога, и я хочу ее вспомнить для моего читателя.
Весной, когда линия фронта приближалась к польской границе и наша 22-я гвардейская минометная бригада продвигалась на запад в боевых порядках танков, однажды парторг дивизиона вызвал меня в штабную землянку и сказал:
— Тебе, Лазутин, уже пора вступать в партию. Такого же мнения и командир дивизиона майор Шмигель. Как ты на это смотришь?
Пауза для меня была тяжелой. Невольно вспомнив историю со вступлением в комсомол в 8 классе 24 средней школы в городе Новосибирске, когда из-за репрессии отца мне было отказано в приеме в комсомол, я растерялся, сказал, что для вступления в партию я еще не готов. Я мало воюю. Но, видя мою нерешительность и растерянность, парторг сказал:
— Испытанием для вступления в партию может быть всего-навсего одна атака, в которой проявляется мужество, характер и смелость. А ты, Лазутин, все эти черты солдата твердо показал за те трое метельных суток, когда полз по приказанию майора Шмигеля в деревню, где находился продовольственный склад, чтобы передать начпроду бригады приказ командира дивизиона о доставке продуктов на лошадях. И ты этот приказ выполнил.
Парторг прикурил самокрутку и тоном упрека продолжил:
— Не забывай, что в бригаде ты не новичок, что воюешь ты уже полгода и батарейцы знают тебя как мужественного солдата, даже отчаянного.
— Но ведь для вступления в партию нужны рекомендации, — возразил я.
И словно заранее подготовленный к этому возражению, парторг ответил:
— Эту рекомендацию даю тебе я. Вторую ты получишь от коммуниста нашего дивизиона.
Из штабной землянки я вышел с тяжелым чувством. Мучила меня и мысль о том, что при написании заявления о вступлении в партию я должен был обязательно сообщить, что отец мой, по происхождению крестьянин, осиротевший в два года, с образованием в два класса церковно-приходской школы, был как «враг народа» в 37 году репрессирован по 58 статье пункт 10: антисоветская пропаганда и агитация. Это было приписано плотнику сельской артели из пяти человек, в которой самым грамотным был мой отец.
Этот обязательный разговор с парторгом у меня состоялся. Тяжелый разговор. Это было летом, когда в чудом уцелевших садах полусгоревшего большого белорусского села уже наливались яблоки. По укрепрайону на окраине этого села три дня назад мы давали залп. Грустно было смотреть на искореженную глубокими воронками землю этого некогда красивого села. Увидев у видавшего виды старенького «виллиса» парторга, который что-то чинил в нем, я подошел к нему. Прежде чем поздороваться со мною, он протер чистой сухой солдатской портянкой замасленные руки, достал сложенный вчетверо листок бумаги, развернул его и протянул мне.
— Вот уже три недели ношу. За это время дали три залпа, продвинулись на запад на 30 километров, и все не нахожу времени, чтобы передать тебе эту рекомендацию.
Я прочитал ее и положил на капот «виллиса». Сразу же понял, что парторг перехвалил меня, сказав это авансом. Вот тут-то, усевшись на бревне и закурив, я рассказал ему об отце, о его раннем сиротстве, о том, что он был усыновлен своим дядей, о раскулачивании в 31 году и, наконец, об аресте. Рассказал о грамотах, о похвальных листах, которые он получил как стахановец за шесть лет работы в селе Убинском Новосибирской области. Рассказал я подробно и о братьях.
Старший брат перед войной закончил Московский институт философии, литературы и истории и сейчас воюет где-то недалеко от нас тоже на 1-м Белорусском фронте. Второй мой старший брат Михаил 18 февраля 1944 года погиб после освобождения города Шимска Новгородской области. Последние полтора года он командовал разведротой стрелковой дивизии. Рассказал я и о двух младших братьях, один из которых, Анатолий, с пятнадцати лет, после окончания ремесленного училища, работает в Сибири сталепрокатчиком. Самый младший брат, Петя, и сестренка Зина — школьники, живут в Убинском с матерью-колхозницей.
Слушал меня парторг внимательно, глядя в землю, время от времени жадно затягиваясь самокруткой. А когда он затоптал окурок, то взял с капота рекомендацию, сложил ее вчетверо и протянул мне.
— Запомни слова Сталина, что сын за отца не отвечает. Ты когда-нибудь слышал эти слова?
— Слышал, — ответил я. И, вытащив из кармана гимнастерки комсомольский билет, вложил в него рекомендацию парторга.
Садясь в свой «виллис», он крепко пожал мне руку, как-то хорошо улыбнулся и сказал:
— Если останемся живы, то принимать тебя в партию будем, когда возьмем Варшаву.
А через неделю, во время зарядки боевых установок снарядами, мы попали под такой ливень, а он длился больше часа, что все мы промокли до нитки. О рекомендации в партию и о бабушкиной иконке Георгия Победоносца я вспомнил лишь тогда, когда боевые машины были уже заряжены, накрыты брезентом и забросаны сверху зелеными ветками нарубленного кустарника. Чтобы просушить гимнастерки, брюки и даже нижнее белье, а также бабушкины иконки, мы с Сашей незаметно отделились от своих батарейцев, нашли маленькую солнечную полянку. Саша расстелил на ней кусок брезента, взятого у командира боевой машины, и сухую газету, на которую мы для просушки разложили свои комсомольские билеты и иконки. А рядом со своей иконкой я положил рекомендацию в партию. Несколько букв в ней расползлись от сырости. Растелешенные, в одних солдатских кальсонах, мы с Сашей, перекурив, не заметили, как уснули. Июльское солнце ласково пригревало. Для войны эта ситуация и наше положение были просто неестественны, и даже смешны. Внезапное появление почти у нашего изголовья парторга было настолько неожиданным, что мы оба с Сашей оробели и пристыженно молчали. И как на грех, наши комсомольские билеты лежали рядом с иконками Георгия Победоносца. Такое положение в криминалистике называется «схвачены с поличным». Нашу суетливость и желание побыстрее надеть брюки и гимнастерки, а также обуться, парторг понял правильно.
— Не взыщите, что разбудил вас, — шутливым тоном произнес он.
Мы надели гимнастерки и брюки. Когда Саша Загороднюк объяснил парторгу, откуда мы взяли одни и те же иконки и как речицкая бабушка истратила на него весь лен, когда лечила его карбункул, и как на прощанье она подарила нам эти иконки, парторг задумчиво произнес:
— Ну, что ж, хорошо, если верите в молитвы бабушки. Храните эти иконки.
— А это все совместимо? — спросил я как-то виновато, положив на левую ладонь комсомольский билет, рекомендацию в партию и иконку.
Парторг на серьезный вопрос ответил строго, раздумчиво:
— Не только совместимо, но и естественно. Вы знаете о том, что гениальный физиолог, великий русский ученый Иван Павлов был глубоко верующим человеком. Правда, некоторые ученые, коллеги называли его чудаком. Павлов к этим осуждениям и насмешкам относился по принципу народной пословицы «собака лает, а караван идет».
И все-таки, на всякий случай, я осмелился спросить, можно ли в одном кармане гимнастерки носить комсомольский билет и иконку? На что парторг, вместо ответа, достал из кармана гимнастерки партийный билет, раскрыл его и показал мне маленькую иконку, заложенную в нем.
— Эту иконку мне подарила родная бабушка. Отсюда делайте вывод. И говорю я это вам не для протокола, не для публичного обозрения. Понятно?
— Понятно, — почти одновременно ответили мы и положили свои иконки в комсомольские билеты.
Парторг взглянул на часы и предупредил, что через 20 минут будет обед. Сказал и, круто повернувшись, ушел с полянки к штабному блиндажу.
В этот момент парторг чем-то мне напомнил моего родного дядюшку Егора, старшего брата моей мамы, начитанного и умнейшего человека, который утверждал, что первым коммунистом на земле был Иисус Христос.
По мере успешного наступления наших войск на всех фронтах настроение солдат становилось веселее, все увереннее. Расстояние до Варшавы сокращалось, а за Варшавой был Берлин. Свои предрассветные залпы по вражеским позициям мы совершали, словно священнодействуя. Вот тогда-то, в те победные дни успешного продвижения наших войск, я истинно поверил в реальность гениальной строчки великого поэта «есть упоение в бою». На фронте я много раз бывал под бомбежкой и под артобстрелом. И к этой «музыке» летящей над головой смерти относился по-разному. Вначале я никак не мог понять, почему бомба, падающая с неба, действует на нервы лежащего в окопе солдата не просто угнетающе, а сковывает человека в безотчетном страхе, вдавливая его в землю, почему-то заставляет его крепко обхватить голову, словно защищая только ее. Но к шелесту пролетевшего над головой снаряда я относился спокойнее, потому что в 9 классе, изучая физику, знал, что скорость летящего снаряда намного больше, чем скорость свободно падающего тела, а из опыта бывалых фронтовиков был осведомлен, что если снаряд над головой шелестит, значит, он уже где-то разорвался. Значит, он тебя не убьет. А потому надрывный, усиливающийся вой бомбы, которая разорвется не совсем близко от тебя, солдат нервами своими воспринимает обостреннее, сливаясь грудью и локтями с землей, к которой он приник. Видел я и таких молодых отчаянных сорванцов, которые, играя со смертью в поддавки, картинно, в полный рост возвышаясь на бруствере, наблюдали за разрывами бомб или снарядов, и делали это до тех пор, пока окрик командира не заставлял их нырять в окоп. Но это уже признак натуры, отчаянной и бесстрашной.
По мере приближения передовой линии к польской границе, мы, солдаты, замечали, что если выразиться языком экономической географии, народонаселение фронта все увеличивалось и сгущалось. На дорогах Пруссии становилось все теснее и теснее. Танки, как правило, двигались по обочинам, кустарники и мелколесье им были не помехой. Царица полей — пехота почтительно уступала место для движения «богам войны»: тяжелым орудиям, самоходкам и нашим гвардейским минометам. И все-таки упоение пиршеством боя при штурме Варшавы я не испытал.
В середине сентября меня неожиданно вызвали в штаб бригады, и начальник штаба сказал:
— Командируем тебя, Лазутин, учиться во Второе гвардейское минометное артиллерийское училище. Таких ракетных военных училищ в нашей стране пока только два: в Москве и в Омске.
Видя мою огорошенность, полковник предложил мне присесть.
— Ты растерялся? — спросил полковник. — Но ничего, когда-нибудь это наше доверие ты оценишь по-настоящему. Ракетное оружие — это оружие будущего. Командовать этим оружием должны высококвалифицированные талантливые командиры. Твою кандидатуру предложил командир дивизиона майор Шмигель.
При этом он как-то особо подчеркнул: — Если успешно закончишь училище, мы тебя через отдел кадров ракетных и артиллерийских войск заберем к себе в бригаду.
Из штаба бригады я вышел словно хмельной. Как-то все сразу, в одну кучу смешалось: и гвардейское минометно-артиллерийское училище, по окончании которого я стану офицером, и почти заверение начальника штаба забрать меня в 22-ю минометную бригаду. Саше Загороднюку я сказал, что меня направляют в училище. Завистливым человеком Сашу Загороднюка, этого высокого, статного красавца, назвать нельзя. В душе его гнездилось больше благородных чувств, чем чувств, грешащих даже малейшими признаками зависти, но все-таки он удивился, почему выбор для командировки на учебу в Омск пал на меня, а не на него, который участвовал в боях на Прохоровском поле, на Орловско-Курской дуге?
Простившись с батарейцами своей боевой установки, я зашел в палатку парторга дивизиона, уже знавшего, что меня командируют в Омское училище, поблагодарил за доверие, которое он оказал мне своей рекомендацией, и спросил его, что мне с ней делать.
— Вступай с ней в партию в училище. Сейчас есть указание из Центрального Комитета партии о том, что в штатской жизни фронтовые рекомендации в партию действительны. Так что с Богом, Ваня, по-братски желаю тебе успеха и счастья. Пиши, когда поступишь.
Зашел я и в палатку майора Шмигеля, чтобы проститься с ним и поблагодарить за такое участие в моей судьбе. Его в палатке не было, по какому-то срочному делу он был вызван в штаб дивизии.
Теперь уже не помню тот небольшой белорусский городишко, до вокзала которого нас с Сашей довез шофер майора Лютова. Грустным было это расставание. Уже в вагоне Саша распечатал заткнутую тряпицей бутылку самогонки и мы выпили на прощанье.
За дорогу до Омска много дум пронеслось в моей голове. И одной из них была печальная мысль сожаления, что мне не пришлось со своими батарейцами участвовать в штурме Варшавы и расписаться на стенах Рейхстага. Наверное, с молодых еще лет я несу в душе своей честолюбивые желания.
В Омске в январе или феврале в наше училище с новым маленьким пополнением прибыл Саша Загороднюк. Как мы оба были рады этой встрече! В Омское училище его направил тот же полковник, начальник штаба нашей бригады, который определил и мою дальнейшую участь. Полковник помнил меня, даже передал мне привет и напомнил о своем обещании. Это приятно было услышать… А когда я спросил у Саши о майоре Шмигеле, он как-то поник и сообщил мне, что командир дивизиона майор Шмигель при штурме Варшавы погиб, сраженный осколком снаряда. Привез он мне и привет от парторга дивизиона, сообщив при этом, что последнее время он что-то стал прихварывать. Жаловался на здоровье и Саша Загороднюк.
Если война с ее неожиданными и то трагическими, то драматическими сюжетами непредсказуема и новизной своей всегда волнует, то размеренная гарнизонная жизнь с ее строгой дисциплиной в глубоком тыловом городе порой навевает занудливую скуку. Незаметно и медленно вызывает разочарование. Пробовал писать стихи, но они получались без огонька, резонерскими и вымученными. В увольнение в город отпускали только курсантов дисциплинированных и отлично успевающих по политическим и военным предметам. В число этих курсантов я не вписывался, а поэтому за полгода пребывания в этом училище в город я сходил на увольнение лишь два раза. Омск был напичкан почти десятком уже старых военных училищ, еще дореволюционных времен. Особенно почетным и привилегированным училищем было пехотное, построенное в прошлом веке. Наше училище, Второе гвардейское минометно-артиллерийское, расположенное на проспекте Маркса, своим фасадом выходило на городской сад с огромным фонтаном в центре и красивыми аллеями цветов. И как мне стало известно, девяносто процентов всех военных училищ Омска были сформированы из бывалых фронтовиков. Десять процентов курсантов составляли дети военачальников Омского гарнизона. Они-то в увольнение уходили каждую субботу. Вопросы эти они решали через своих родителей, полковников и генералов.
И вот тут-то, задумываясь над своей судьбой, я начал понимать, что для военной жизни я не рожден. Некоторые из нас, курсанты училища, кто уже четвертый год нес на своих плечах тяжелую глыбу воинской службы с ее фронтовыми лишениями, начали охладевать чувством «упоения в бою». Всех нас впереди ждала размеренная, гарнизонная жизнь, не совместимая ни с поэзией, ни с творчеством.
Теперь нас все сильнее и сильнее начали волновать события на фронте, бои за Берлин. И вот, наконец, этот день Великой Победы в Великой Отечественной войне наступил. Хотя мы, как и вся страна, уже два дня знали, что победа пришла, что Берлин был взят, и все-таки утром 9 мая в час торжественного построения училища на площади перед казармами, замерев в напряженной стойке «смирно», мы, более тысячи курсантов и офицеров, смотрели в одну точку — на трибуну, на которой развевалось знамя нашего гвардейского училища. Нелегкой походкой поднимался по ступеням на трибуну уже немолодой генерал, начальник училища, грудь которого была увешана боевыми орденами. За ним на трибуну поднялись старшие и средние офицеры, и тоже все в орденах и медалях. Помню и напряженные лица наших командиров, помню и почти минутную, словно мертвящую паузу, молчания, которая повисла над площадью. Не забуду и слова, которые генерал, подняв левую руку, произнес без всякой бумажки:
— Дорогие мои гвардейцы! Поздравляю вас с Днем Великой Победы в Великой Отечественной войне!
Эту волнующую фразу он произнес без всякого микрофона, чем пользуются избалованные в теперешние годы ораторы на трибунах и артисты на сценах. Но голос генерала был услышан всеми, и его возглас «Ура!» был трижды повторен тысячью курсантов и офицеров, стоявших на площади.
После праздничного завтрака, за которым курсанты получили по двойной порции рисовой каши, по двойной порции сливочного масла и сахара, а также по две сосиски, казармы и территория училища словно вымерли. Каждый курсант получил увольнительную до 10 часов вечера. Проходная не справлялась с потоком курсантов, выходивших на улицу, а по сему открыли настежь ворота. Да, это был колоссальный праздник! Планетарный праздник человеческого счастья. Победа! Победа над мировым злом, грозившим человечеству уничтожением, победа над фашизмом. Город Омск ликовал, он был заполонен праздничным штатским и военным людом. Начальники военных училищ Омска словно сговорились, почти на каждых вторых погонах военного пестрели номерные знаки училищ, выраженных буквами и цифрами. Из всех 10 училищ Омского гарнизона гвардейским училищем было только наше. И мы этим гордились, даже во взглядах девчонок читали какое-то улыбчивое выражение. Значение слова «Катюша» знали не только первоклассники, но и старики, знали и огневую мощь этого оружия.
У нас с Мишей Похиленко, с которым я сдружился в училище, всего в карманах было по 3 рубля с копейками. Не хватало даже на четвертинку! И когда мы подошли к квасной бочке и налили в толстые стеклянные кружки квасу, чокнулись и пригубили, то вдруг увидели: из распахнутого окна соседнего домика выпрыгнул штатский человек лет сорока. Он был с тросточкой и заметно хромал. На груди его была прикреплена медаль «За отвагу» и две желтых нашивки о тяжелых ранениях. Не дожидаясь, пока мы до конца допьем свой квас, он выхватил из наших рук кружки, сердито выплеснул остатки кваса на землю и поставил рядом с продавщицей.
— Не то пьете, гвардия! — произнес он и потащил нас к распахнутому окну. А там нас ждали протянутые руки, они втащили нас в широкое и невысокое просторное окно. По лицам и торжественным приветствиям нас, фронтовиков, мы видели, что они были уже изрядно навеселе. Я даже не заметил, как перед моим лицом и лицом Миши появились два граненых, наполненных водкой стакана. Мы чокнулись и выпили по половине стакана. За плечами нашими зазвенели женские голоса «горько, горько, до дна пейте, до дна!». Запив выпитую водку квасом и закусив кусочком хлеба и соленым огурцом, мы с Мишей в первые минуты вели себя несколько растерянно. Уж очень красивыми и разрумянившимися нам показались девчонки и молодые женщины. Среди них всего два мужика: вот тот, на протезе, имеющий два тяжелых ранения и с медалью «За отвагу», и еще человек постарше. И тоже, видно, хлебнул Великую Отечественную, пальцы его левой руки были искорежены, отчего все делать он старался правой рукой. А когда девчонки ввели в горенку молодого, кудрявого гармониста с широкой белозубой улыбкой, то от него потребовали женщины плясовую. Я попросил жестом у веселой компании дать пошире круг, и тут же чьи-то руки потащили в сторону стол, стали раздвигать стулья и скамейки. Видя по моему лицу, что я ловлю момент, с которого включусь в пляску, все гости замолкли, не спуская с меня взглядов. Я чокнулся с Мишей и выпил, за что заработал аплодисменты девчонок. Во мне взыграло что-то отцовское, плясовое, водочный хмель уже по-хорошему давал себя знать. И тут я сделал в плясе выходку, ту, которую делал две недели назад в клубе пехотного училища, где выступали курсанты всех училищ города.
От нашего училища выступал с матросским «яблочком» я и стихи Лермонтова «Песня о купце Калашникове» декламировал мой друг, тоже гвардеец, прибывший с 1-го Украинского фронта. Плясал я лихо, самозабвенно и всякий раз подавал знаки гармонисту, чтобы он наращивал темп. Когда я сделал последнее па и поклонился в сторону девчонок, то почувствовал, как две из них вцепились в меня своими руками, душили меня в объятьях, целовали в щеки. Одна так подлетела и чмокнула меня прямо в губы, да так смачно и так звонко, что мне даже понравилось. Это был первый поцелуй в губы румяной, блондинистой слегка захмелевшей девушки, а ведь мне был уже 21 год. Последние три с половиной года были вырваны из моей юности войной.
Что касается школьных лет, то греховно было целоваться с девчонкой не только в губы, но даже в щеку. В губы я целовался трижды только в Пасху с бабушкой, с мамой, с крестной. Но те поцелуи были святые, они шли от Бога. До войны мое поколение слова «секс» и «эротика» не знало, зато теперь эти слова слетают не только с телевизионного экрана, но из уст школьников и школьниц. А некоторые изощренные кандидаты и доктора педагогических наук, опираясь на свой «богатейший» опыт преподавания, доказывают с пеной у рта, что в программы средней школы необходимо внедрить новую дисциплину «Сексуальная педагогика». Господи, куда мы идем! Что мы делаем из своей молодежи! Это не только греховно, но и преступно. Как юрист и как писатель смею утверждать, что эту педагогику нужно квалифицировать как развращение несовершеннолетних, как нарушение святых традиций воспитания наших детей и внуков.
Эти традиции завещаны нам нашими дедами, прадедами, отцами и матерями. И особенно больно и горько становится, когда видишь, что эту сексуальную педагогику среди нашей молодежи видит наше правительство, наш парламент и окружение президента. Мой первый, публичный, можно сказать, поцелуй с девушкой, поцелуй средь бела дня я запомнил на всю жизнь и считаю его святым, ибо он прозвучал звонко в день Великой Победы, когда в столицах мира гремели салюты торжества победы над фашизмом. И целовала она не меня, русоволосого статного парня, а фронтовика, солдата победителя. А когда мы всей компанией во главе с гармонистом выкатились на улицу и стали на панели танцевать фокстрот, то к нам присоединилась счастливая, опьяневшая улица.
В казарму мы с Мишей Похиленко пришли в половине десятого вечера. Девушки проводили нас аж до самой проходной будки у ворот училища. Только теперь, прощаясь, мы узнали, что это были студентки 3-го курса Омского медицинского института. Их было четверо. А мы с Мишей Похиленко были вдвоем, а поэтому, захмелевшие, как-то сразу на второй день забыли их имена. Вернее, не забыли, а перепутали. Однако имя той, голубоглазой, румяной, что обдала меня жаром поцелуя в избе, перед окнами которой стояла бочка с квасом, я помню и сейчас — ее звали Леной. По моим теперешним подсчетам, она, студентка 3-го курса, была моей ровесницей. Где ты сейчас, раскрасавица? Дай Бог тебе здоровья и той славянской красоты, которую щадят годы.
10 мая половина курсантов, вернувшихся с увольнения, были изрядно пьяны. А несколько десятков человек вернулись уже утром. А по сему до середины июня за ворота училища ни один курсант не вышел в увольнение. Мы с Мишей Похиленко не хотели потерять своих девчонок из мединститута, но наш отъезд в лагерь в Юргу на все лето сломал наши планы. Было очень обидно. А когда мы в августе вернулись из лагеря, то нам стало известно, что распоряжением наркомата обороны наше 2-е гвардейское минометно-артиллерийское училище было закрыто, а личный состав был расформирован по артиллерийским училищам страны. Мою роту влили в Пензенское артиллерийское училище. Остальные роты были направлены в другие училища страны. Этот перевод из престижного гвардейского ракетного училища в самое рядовое артиллерийское вызвал не только во мне, но и у других курсантов уныние. Как на грех, из-за неважного питания разыгрались мои хронические гастриты и гепатиты, которые я с некоторым трудом гасил столовой содой, покупаемой на стипендию на базаре. Мои обращения в медицинскую часть Пензенского артучилища кончились тем, что я прошел медицинскую комиссию и был признан негодным к строевой службе.
Вопрос о моей демобилизации занял всего полдня. А 16 октября 1945 года я вышел из общего вагона пассажирского поезда на моей станции Убинская Новосибирской области, где прошли мои детские годы. Огляделся на пустынном перроне и по брустверу канавы зашагал на мою Рабочую улицу. В переулке у избы, окруженной тополями, мне попалась какая-то чудная ненормальная баба лет сорока, размахивая руками, она что-то тревожно и взволнованно говорила мне, но я ничего не мог понять. Потом, как-то конвульсивно захохотав, она побежала вдоль улицы. При повороте на нашу улицу я встретил очень постаревшего безрукого пастуха, который когда-то гонял наше стадо, и спросил его, что это за баба, которая привязалась ко мне с каким-то чудным разговором. И он ответил:
— А ты что, не знаешь, это же наша известная всему селу Нюра-дура. Она откуда-то появилась в селе сразу после того, как куда-то пропал Саня Говор.
Саня Говор — это был знаменитый своими чудачествами дурак моего детства. Когда я уходил в армию, он был еще жив. И тут я невольно вспомнил, что читал в какой-то одной из повестей Тургенева, что русская деревня не живет без дураков: стоило одному где-то погибнуть, пропасть, как тут же на смену ему приходит другой дурак или дура. Они словно выныривают из воды и также неожиданно исчезают неизвестно куда, как и предыдущие дураки. Эту мысль о дураках оборвал выскочивший мне навстречу наш тигристый пес Верный. Четыре года, и удивительное совпадение: в товарный вагон-теплушку я сел 16 октября 41 года и открыл калитку нашей ограды в 45 году тоже 16 октября. Вот она, тайная астрономия человеческой судьбы. Никаких телеграмм о своем выезде из Пензы и моей демобилизации из училища я домой не давал. А когда я узнал, что два дня назад домой вернулся с войны старший брат Сережа, который сейчас спал где-то на сеновале после вчерашней браги, радость и ликование в доме были бурными. Прослезившаяся от счастья мама целовала меня как ребенка. А переросший меня на полголовы самый младший брат Петя обнял так, что я уже не буду спрашивать потом, как это ему, школьнику, удавалось обычной штыковой лопатой вскапывать четыре года подряд огород в 45 соток и накашивать сена на двух коров, одного бычка и пятерых овец.
Когда Петя настраивал к дубовой водовозной бочке крышку, привязывая ее петлями из веревок, я по лесенке поднялся на сеновал и что же увидел: в уютном непромокаемом шалаше, напоминающем лисиную нору, под отцовским длинным тулупом лежал Сережа. На голове его была шапка-ушанка, сшитая мамой из серой собачьей шкуры. Это было в первый год нашего приезда в Сибирь. На лице Сережи светилась такая блаженная, счастливая улыбка, словно он второй раз брал Берлин. Я не стал будить его и спустился по лесенке.
— А он у тебя, шалаш-то, односпальный или при случае может быть и двухспальным?
Этот мой вопрос с подковыркой несколько смутил Петю, и он, покраснев, ответил не сразу:
— Танцы по субботам у нас иногда заканчивались в первом часу ночи, а последние киносеансы тоже не раньше двенадцати часов. Вот и неохота будить маму и Зину, а иногда и ружьишко кладу с собой рядом на случай, если какой-нибудь хмырь вздумает со скирды, что в огороде, стащить пару матрасов сена.
— А что, бывают такие случаи!
— Один раз это уже было перед рассветом. После первого выстрела дробью, он схватил свой матрас, до половины набитый сеном, и побежал в сторону кирпичного завода. А когда я дал второй залп, он бросил свой матрас, стеганул так, что поминай как звали. На утро я среди ребятни пустил слух, и больше этого уже не повторялось. Нашу хватку в Убинке знали.
Верный не спускал с меня своих преданных, зачарованных глаз. Я — в палисадник, и он за мной, я — к бане, он тут же рядом и все старается лизнуть мне руку, а все потому, что почувствовал во мне нашу кровь, кровь отца, который месячным щенком принес его из Крещенки.
Тополя, посаженные Мишей в палисаднике в 34 году, еще до ареста отца, разрослись так буйно, что положили свои не облетевшие бронзовые кроны на крытую камышом крышу, которую Миша вместе с отцом стелили в 35 году, после того, когда Сережу исключили из школы и он уехал доучиваться в Новосибирск к тетушке. Сразу же бросилось мне в глаза и то, что Верный слегка прихрамывал на переднюю правую ногу. Невольно вспомнился сентябрь 1937 года, когда отца, арестованного, увозили из дома на паре милицейских рысаков три служителя районного отдела милиции. Тогда их звали энкаведешниками. Первый выстрел из нагана, сделанный старшим начальником в небо, не остановил Верного, и он все продолжал набрасываться на вороного коренника, чтобы впиться ему в горло. Второй же выстрел был прицельным, он угодил в правую лопатку Верного, тот упал, покатился вдоль дороги.
В горенке и на кухне все было так же, как и до войны. Чисто побелено, на окнах висели ситцевые занавески, вышитые бабушкиными рисунками, на передней стене висели стахановские грамоты отца, три похвальных грамоты Сережи и две похвальных грамоты мои. Все они были, как и раньше, застеклены, протерты и придавали горенке какой-то маленький торжественный уют. Целы были и бабушкины иконки в правом углу. Перед ними висела старинная позеленевшая лампада, над фитильком которой мерцал голубоватый огонек. Вот только потолочная матица так выгнулась, провиснув своей серединой, что не могла не вызывать тревоги. Хорошо, что Петя успел вовремя заметить трещинку посередине матицы и подставил под нее толстый сосновый брус. Столешница кухонного стола меня рассмешила: за 4 года моей отлучки из дома ее столько раз скоблили во время мытья, что сучки, не поддающиеся скоблению, на плоскости столешницы выглядели как нарывы, и когда я сказал об этом Пете, тот ухмыльнулся и уже, как я понял, не раз думая об этом, деловито сказал:
— Ничего. К ноябрьским праздникам я доски столешницы перебью вниз нарывами, пусть ими любуются кошка и котята.
Победное застолье
Заслышав доносившийся из избы возбужденный разговор, Сережа спустился с сеновала. По его широко раскрытым глазам я понял, что встречи со мной он не ожидал. Последний раз мы виделись с ним в Москве, это было четыре года и четыре месяца назад. Хотя по натуре своей Сережа был человеком несколько сухим, обнялись мы с ним крепко, по-братски. И снова, как и десять минут назад, по щекам мамы потекли слезы.
— Что ты плачешь, мама, радуйся! Мы вернулись, — сказал я.
— А вот Миша… Миша больше никогда не встанет рядом с вами, он никогда не вернется, — навзрыд запричитала мама.
Восемнадцатилетний Петя, чтобы утаить слезы, повернулся и ушел в горенку. Уткнувшись лицом в грудь мамы, зарыдала и Зина. Один Сережа, мужественно выдержав минуты страдания, не проронил ни слезинки. Лицо его скорее выражало ожесточение, чем скорбь.
Вечером, когда стемнело, мама принесла из чулана висевшую там десятилинейную керосиновую лампу, которую мы зажигали только по великим праздникам и в особо торжественных случаях, налила в нее керосину, и Петя повесил ее в горенке. В первые же минуты пребывания в родной избе я сразу же почувствовал, что мне чего-то не хватает, и не хватает очень важного. Но вскоре я догадался, что нет в доме бабушки, нет ее постоянного кружения от печки к столу, от стола за чем-нибудь в подполье или в чулан, где у нас стояли кадушки с квашеной капустой, солеными огурцами и клюквой. Но грусть эту я утаил от мамы, боясь опять ее расстроить.
Из соседей мама к застолью пригласила только одного друга отца Тихона Тихоновича, конюха из райземотдела. Все четыре года войны он помогал нашей семье с привозом из леса дров. Об этом моя мама писала в письмах на острова Тихого океана, писала об этом и на фронт. Приглашать его и его глуховатую жену мама направила Петю.
Почти всю первую половину дня мы с Сережей провели в беседе. Он рассказывал мне о своей службе в штабе командующего 1-м Белорусским фронтом Рокоссовского, о том, что его непосредственный начальник был генерал Батов Павел Иванович, с которым ровно через 25 лет судьба сведет меня, когда я буду писателем и буду работать в аппарате Союза писателей у Леонида Соболева ответственным секретарем Комиссии по военно-художественной литературе. А Павел Иванович Батов будет заместителем председателя Всесоюзного комитета ветеранов Великой Отечественной войны и будет вручать нам, московским писателям-фронтовикам, знаки Почетных ветеранов Великой Отечественной войны. В число этих писателей войду и я за роман-дилогию «В огне повенчаны», став лауреатом Всесоюзного конкурса, проводившегося Министерством обороны СССР и Союзом писателей СССР. Много интересного мне расскажет генерал армии Батов о моем брате Сереже, который был у него в штабе фронта уважаемым офицером и одним из самых грамотных. Все-таки диплом Московского института философии, литературы и истории что-то значил. Уже в одном наименовании этого института усматривается и высота, и глубина. Рассказывал мне Сережа о том, как его уговаривали генерал Батов и даже сам Рокоссовский не торопиться с демобилизацией, обещали направить его учиться в академию Генерального штаба. Но Сережа, уже давно наметивший свой путь в будущее — в науку, на соблазн их не поддался и после демобилизации заехал в Москву, нашел своего профессора фольклориста Петра Григорьевича Богатырева и тут же вскоре за какие-то полмесяца оформился в аспирантуру МГУ на филологический факультет по кафедре русского фольклора.
Я рассказал Сереже о своей службе на островах Японского моря, о трудной дороге, — с задержками в Красноярске и в Москве. А потом о боях на 1-м Белорусском фронте в 22-й гвардейской минометной бригаде. Хоть и далек был лейтенант штабной службы от ракетной артиллерии, но ему было известно, какое значение придавал им сам Рокоссовский и генерал Батов. А когда я рассказал Сереже о том, что приказом министра обороны Второе Омское училище было закрыто и расформировано по другим артиллерийским училищам страны, он даже оборвал меня возгласом:
— Тебе повезло! Господь Бог спас тебя от военщины. У тебя в жизни другая дорога, только не военная, я-то тебя знаю. Храм твоих надежд — это литература, а еще точнее — поэзия. Сегодня ты читал мне свои стихи и стихи океанские, я почувствовал, что в тебе уже созревает профессиональный поэт и не вымуштрованный, а поэт от Бога. Запомни это.
Стук в дверь и кашель, глухой кашель в сенцах, оборвали нашу беседу. Пришел со своей глуховатенькой женой Тихон Тихонович. Не виделись мы с ним шесть лет. Он сильно постарел, и нет двух передних зубов. Но кисть руки твердая, пожатье крепкое. Оглядывая нас, сразу обоих, он даже отступил к печке.
— Ну что ж, поздравляю, что вернулись целехоньки и невредимы. А вот Мишуху, Мишуху жалко, хоть озорным рос, а стал командиром разведки. Теперь нужно ждать отца. Я подсчитываю, осталось год и одиннадцать месяцев.
С этими словами он разделся, повесил на крюк свой картуз и вытащил из кармана зипуна бутылку, заткнутую тряпицей. На этикетке большой бутылки были изображены цифры: три семерки. Такие же три семерки я уже видел на этикетке на одной из бутылок, которую Тихон Тихонович прислал вместе с Петей к нам на вокзал, когда наш эшелон проходил на фронт мимо станции Убинской. Хорошо, что Сережа дал о своем приезде телеграмму маме, когда выезжал из Москвы. Петя зарезал старую овцу, которая вот уже два года не ягнилась. Половину мама продала на базаре и купила четыре пары свиных ног. Так что студня наварила столько, что ешь неделю и не съешь. А солеными пупырчатыми огурцами, которые свежо хрустят до самой весны, и квашеной капустой с морковью наш дом славился на всю Рабочую улицу. Секрет засола моя покойная бабушка Анастасия Никитична взяла у своей бабушки, переняла у нее и передала этот секрет маме. А весь-то секрет состоял, как шутила иногда бабушка, в том, чтобы не жалеть хрена, чеснока, укропа и лаврового листа. При заквашивании капусты она выбирала самую сочную морковь-коротель, отчего капуста была не только вкусной, но и какой-то приятно розоватой. Так что когда Тихон Тихонович прошел в горницу, остановился у своего места, где он всегда сидел, когда еще отец был дома, и, окинув взглядом стол, почти воскликнул:
— Вот это да, и сам царь Петр под такую закуску махнул бы целый ковш самогона! И не простого самогона, а первача!
Садясь на единственный в горенке расшатанный венский стул, он дал какой-то знак жестом своей жене. Она достала из сумки шесть поставленных друг в друга стеклянных стопок.
— А это зачем, Тихон Тихонович? — удивилась моя мама.
И тот, потирая усы, наставительно ответил:
— Вот соседствуем с вами уже пятнадцать лет, а все никак не приучу к порядку. Неправильно вы пьете, не по-русски. Чтобы налить в граненый стакан сто грамм, нужно быть аптекарем, а наливать по полному нельзя. Он поведет тебя после второго тоста. А вот стопочка, святая стопочка, налей ее под завязочку, аккуратно, так, чтобы, когда чокаешься, не расплескать водку и выпить мужикам двумя, а бабам тремя глотками до донышка, так, чтобы зла не оставалось.
Тихон Тихонович с напряжением и с трудом вытащил из бутылки тряпочную пробку и положил ее в карман. Самогон по стопкам разливал твердой рукой неторопливо и прицельно так, чтобы недолив был не больше трех миллиметров. А для своей старухи, которая, как бабушка говорила еще до войны, была старше его на целых пять лет, он налил полстопки. А когда мама упрекнула Тихона Тихоновича, что же он обижает свою супружницу, тот глубокомысленно ответил:
— Жалею я ее, Сергевна, очень жалею. Сейчас, говорят, пошли от водки какие-то инпаркты, особенно они бьют по тем, кому уже перевалило за шестьдесят.
Тихон Тихонович, сделав знак, чтобы не чокаться, произнес первый тост:
— За Мишу, царство ему небесное! На нашей Рабочей улице по смелости и отваге ему равных не было. Да и в селе имя его гремело. Выпьем, помянем, Сергевна, и твоего братца Василия Вердина. Редкой души человек! А таких столяров, как брат твой Василий, в нашем селе и не было. Золотые руки!
Выпили молча, каждый думая о своем. Закусывали аппетитно, расхваливая мамин холодец, огурчики и опята.
— Хоть и молодая ты, Сергевна, а в засолах колдунья, — сказал Тихон Тихонович, поддев из глубокой тарелки соленый груздь.
Второй тост произносил Сережа. Встав, он поправил под широким командирским ремнем гимнастерку и как-то посуровел лицом, отчего все смолкли.
— Мама, — начал он торжественно, — пожалуй, я буду первым, кто из нашей родни поздравит тебя с великой наградой, с орденом Материнской славы второй степени. Орденом, учрежденным Президиумом Верховного Совета СССР четвертого июля сорок четвертого года. Когда был учрежден этот орден, твоей младшей дочери было уже тринадцать лет. Твой второй сын, Миша, в феврале сорок четвертого года был сражен вражеской пулей в боях за городок Шимск Новгородской области, он погиб смертью храбрых. Мы с Ваней, он солдатом, а я офицером, сражались на Первом Белорусском фронте. Твой четвертый сын, Толя, вот уже четвертый год прокатывает сталь на военном заводе. — Сережа повернул голову в сторону Пети. — А наш самый младший брат, Петя, пятый твой сын, был единственной и главной опорой семьи. На нем было все: огород, покос, дрова. Я просто поражаюсь мужеству, выносливости и терпению своего брата, который один вскапывал наш огромный огород, накашивал на всю скотину сена, тайком от контролеров райлесхоза по ночам ездил в лес за дровами, один пилил их и колол, а также снабжал все хозяйство водой. Петя, дай я тебя расцелую! — С этими словами Сережа повернулся к Пете, крепко обнял его и поцеловал. — Я только сейчас по-братски, по-настоящему оценил подвиг твоей души и характер, а поэтому этот тост я предлагаю выпить, мама, за тебя и за Петю, который находил силы вести такое огромное хозяйство и учиться в школе.
После второй выпитой стопки Тихон Тихонович, как-то сразу заметно опьяневший, обратился к Сереже:
— Серега, восемь лет назад, когда твой отец Егор был на воле, он сказал мне, что ты едешь в Москву учиться на Пушкина. А четыре года назад Сергевна мне сказала, что этот институт ты закончил. А вот про пушкинскую должность она что-то ничего не сказала, утаила, хотя я ее и спрашивал об этом. Теперь вот ты сам скажи мне, малограмотному человеку, который вырос в лесу и поклонялся одному колесу. Вот сейчас, после войны, на которой ты воевал аж у самого генерала Рокоссовского, получишь ты должность Пушкина или нет?
Этот вопрос Тихона Тихоновича развеселил наше застолье, только его жена, не осознавши абсурдность вопроса, как бы притаилась, бросив есть, и ждала, что же ответит Сережа. И Сережа ответил:
— Пушкинскую должность, Тихон Тихонович, я получу через три года. Чтобы получить ее, мне нужно еще три года учиться в Москве, в университете, в аспирантуре.
То, что учиться три года, Тихон Тихонович понял, а аспирантура и университет для него были чужими и смутными. Запрокинув голову, он смотрел в потолок и что-то, шевеля губами, подсчитывал. А потом произнес:
— Так это же что выходит, десять лет в школе, четыре года в институте, это уже четырнадцать, и еще три года, выходит семнадцать лет.
— Да, Тихон Тихонович, выходит что семнадцать.
— Это не по-божески, — огорченно произнес Тихон Тихонович. — За семнадцать лет можно не только облысеть от ума и наук, а чокнуться можно.
Снова над застольем прокатился хохоток. Однако хохоток этот не погасил у Тихона Тихоновича его интереса к пушкинской должности.
— А скажи, если это не секрет, какой оклад дают за эту пушкинскую должность?
После этого вопроса застолье совсем развеселилось. Но, не получив ответа на свой вопрос, Тихон Тихонович загрустил и перестал есть, о чем-то задумавшись. Но внезапно осененный какой-то мыслью поднял голову.
— Эх, если бы среди нас сейчас был Егор, он бы спел свою любимую песню «Бежал бродяга с Сахалина звериной узкою тропой». Как он ее жалобно пел! А когда доходил до куплета, где бродягу кормили хлебом крестьянки, а парни снабжали махоркой, я плакал.
И действительно, все увидели в глазах Тихона Тихоновича навернувшиеся слезы. И он грустным голосом тихо запел:
Шилка и Нерчинск не страшны теперь, Горная стража меня не поймала, В дебрях не тронул прожорливый зверь, Пуля стрелка миновала…Оборвав песню, Тихон Тихонович порывисто встал из-за стола и направился на кухню, откуда он тут же вернулся с четвертинкой самогона, заткнутой белой тряпицей. Самогон разлил по четырем стопкам. Своей глуховатенькой опьяневшей жене не налил, жалел ее, боялся «инпаркта». И та эту жалость мужа смиренно, если судить по ее лицу, приняла. Прежде, чем сказать тост, он встал, как это сделал Сережа, задумался и произнес:
— А вот сейчас, дорогие мои Сергевна, Серега, Ванец, Петя и Зина, разрешите мне поднять тост, чтоб нам всем в добром здоровье дождаться Егора. Этот день должен быть через год и одиннадцать месяцев. Я веду точный подсчет. Ну, с праздником!
Маму и Зину этот тост искренне взволновал. А поэтому мы, вслед за Сережей, все встали и молча выпили. Выпили до дна.
К чаю мама подала рыбный пирог и пирожки с капустой. Чай пили без сахара, с морковной заваркой. А после чая по почину Тихона Тихоновича запели всем столом любимую тюремную песню отца «Бежал бродяга с Сахалина». Пели все, пели мы, три брата, мама, пели даже Зина и глуховатенькая жена Тихона Тихоновича.
Вот, Господи, как эта послевоенная встреча далека по времени и как близка она сердцу сейчас.
Часть третья МОСКВА БЬЕТ С НОСКА
Я — московский дворник
Еще с далеких довоенных лет мною замечено, что пассажир дальнего следования, подъезжая к Москве, как-то особенно волнуется. Женщины подкрашивают губы и пудрятся, мужчины, даже солдаты, так обливаются одеколоном, что еще долго за ними тянется шлейф резких запахов.
Так и я последнюю ночь перед Москвой почти совсем не спал. Привязавшись парусиновым ремнем к отопительной трубе под самой крышей вагона, искурил полкисета самосада и делал это так искусно, словно был в блиндаже или в окопе. На нижней полке подо мной лежал старший брат Сережа. Его судьба уже определена: в октябре он был принят в аспирантуру филологического факультета Московского государственного университета. Стать его научным руководителем с легким сердцем согласился известный в литературоведении профессор-фольклорист Петр Григорьевич Богатырев, который пять лет назад рецензировал дипломную работу Сережи по поэтике русской народной песни. Увидев на пороге молодого лейтенанта, он сразу же узнал в нем своего студента из ИФЛИ. В аспирантуру Сережа поступил без труда: ведь он только что демобилизовался после окончания боев за Берлин в составе войск маршала Рокоссовского.
Мои дела были сложнее и неопределеннее. Стоял уже ноябрь 1945 года. Две волны демобилизованных изрядно насытили московские институты, и шансов поступить в какой-нибудь из них было маловато.
Вернувшись с фронта домой, я как-то прочитал брату свои стихи, написанные на фронте и в период службы на Тихоокеанском флоте. Стихи Сереже понравились, особенно «Ностальгия»:
Второй уж час Российский пляс То шелком плыл, то бился градом, Второй уж час Российский пляс С парижской полыхал эстрады. Все в этом плясе закружилось: И даль полей, и неба синь, И удаль молодецкой силы, И под дугою динь-динь-динь… Зал замирал, зал бушевал, Вставал, садился, вновь вставал, А лет двенадцати мальчишка С расспросом к деду приставал: — Чего он плачет, не пойму я? — Кто, тот седой согбенный франт? Он видит Родину. — Какую? — Свою, он русский эмигрант. Второй уж час На русский пляс Французские летели розы, Второй уж час Из чьих-то глаз Катились слезы.Строки этого стихотворения были навеяны заметкой в газете об успешном выступлении в Париже ансамбля русской песни и пляски Игоря Моисеева.
Сережа уверенно пророчил мне карьеру драматурга и горячо убеждал ехать с ним в Москву. Его упорство придало мне уверенности.
Трогательным и памятным эпизодом моей попытки завоевать Москву была минута, когда мы с братом, подхватив свои фанерные крашенные охрой чемоданы, вышли из вагона пассажирского поезда дальнего следования, такие поезда, как этот, в те годы в народе называли «пятьсот веселыми», на перрон Казанского вокзала. В темном московском небе сверкали ослепительные вспышки.
Мы, солдаты войны, знали, что после освобождения больших городов Москва давала залпы из двадцати четырех орудий. Но в честь чего сегодня, в обычный ноябрьский вечер, когда уже полгода как кончилась война, салютовала столица? Я задал этот вопрос носильщику с медной бляхой на груди, и он гордо ответил:
— Да сегодня же праздник! День артиллерии и ракетных войск!
С минуту, пока небо полыхало огнями, мы с Сережей стояли молча. Брат взволнованно пожал мне руку и сказал:
— Поздравляю.
— С чем? — не понял я брата.
— Хорошее предзнаменование. Возьмешь Москву.
Брать Москву я начал не самым героическим образом. В студенческое общежитие на Стромынке, как ни уговаривал Сережа вахтершу, меня не пустили. Тогда он повез меня на Верхнюю Красносельскую улицу, надеясь пристроить там. По дороге брат рассказал, где мне предстоит жить. Пожилая беженка со Смоленщины, у которой немцы сожгли избушку и убили мужа, дошла вместе с восьмилетним сыном до Москвы. Христом-Богом она упросила дежурного по вокзальной милиции помочь ей устроиться на любую работу с общежитием. Лейтенант оказался человеком душевным, полчаса звонил по разным ЖЭКам и еще каким-то учреждениям. В конце концов он пристроил бедную беженку дворничихой. И вот Сережа привез меня к ней.
Тетя Настя, так звали беженку, далеко не молодая, измученная непосильными трудами и бедами войны, несла на себе печать глубоких страданий и невзгод. Сережа уговорил ее приютить меня хотя бы на пару недель.
Это было мое первое пристанище в крохотной московской комнатушке насыпного барака, который когда-то был просто чуланом без окна. На полу тетя Настя постелила старый полосатый матрац в ржавых клетках. Одеялом служила моя шинель, а подушку я кое-как набил паклей, принесенной из соседнего магазина. Основным преимуществом этого жития-бытия оказалась договоренность дворничихи с милицией прописать меня на три месяца в должности младшего дворника на бесплатной квартире. Так началась моя московская жизнь.
Сережа у кого-то из друзей узнал, что Московский механический институт на улице Кирова открыл прием на подготовительное отделение. Меня, как фронтовика с хорошим аттестатом, приняли легко, даже пообещали, что при удачной сдаче вступительных экзаменов дадут общежитие в Лосиноостровской, в 20 км от Москвы.
Зима 1945 года выдалась снежной и метельной. В работу дворника я втянулся быстро. По утрам и вечерам сгребал снег в валы на мостовой и в огромном коробе на салазках завозил его во двор. После заморозков острым скребком колол ледок, подметал дорожку и тротуар, ведущие к метро «Красносельская». В то время я основательно пристрастился к куренью. Хорошо еще, что послушал Сережу и набил солдатский вещмешок крепким сибирским самосадом, нарубленным младшим братишкой Петькой. К постоянному чувству голода уже привык. Благо, что получил в институте карточку на 550 граммов хлеба и кое-какие сухие продукты. Хлеб съедал, что называется, за один присест. Когда тетя Настя кормила своего сына — второклассника Вовку, я, слушая, как она уговаривает его съесть тарелку супа или щей, буквально исходил слюной. Запах супа дурманил голову. Но однажды Вовка взбунтовался:
— Почему ты дядю Ваню не заставляешь есть? Если он будет есть, то и я буду есть.
Тетя Настя помолчала, а потом, налив полную тарелку борща, поставила ее на стол рядом с Вовкиной. Я возликовал, тем более, что она положила рядом еще и ломоть ржаного хлеба. Вовка, вытаращив глаза, восторженно смотрел на меня. Тогда я предложил ему есть борщ наперегонки. Лидерство выиграл мальчик, и довольная Настя вся просияла от столь удачного опыта.
Позже я узнал, что, кроме выполнения дворницких обязанностей, Настя убирала в соседнем магазине. Как беженку и вдову ее жалели, подбрасывали продукты. Почувствовав, что я не нахлебник, дворничиха стала поощрять наши застольные соревнования с Вовкой, и я теперь постоянно обедал, когда он приходил из школы. Чтобы чем-то ответить на доброту Насти, я стал все чаще подменять ее на фронте борьбы со снегом. Дворничиха оценила мое старание, обшила старой простыней полосатый матрац, откуда-то принесла старенькую расшатанную раскладушку, и я на полметра поднялся над уровнем холодного пола.
С одиннадцати утра до четырех вечера я проводил время на семинарах в институте, просиживал часами в библиотеке. Мой факультет «атомного ядра», как его называли в просторечии студенты, на три четверти состоял из демобилизованных фронтовиков. Шинели, бушлаты, кирзовые сапоги, протезы — все это было для первого послевоенного года обычным явлением. Хлынувшая с полей войны солдатская братия училась жадно. Девочки-москвички, выходцы из семей с достатком (а их было на сотню демобилизованных не более пятнадцати человек), одевались модно, некоторых даже подвозили на машинах. На нас, шинельную братию, они как-то не особенно обращали внимания, и, если улыбались, то снисходительно, больше из вежливости.
Однажды тетя Настя принесла от кого-то из соседей патефон, чтобы я мог проиграть купленные с рук у метро пластинки с записями Леонида Утесова и Клавдии Шульженко — кумиров моего поколения. Под их песни мы учились танцевать вальс и танго. Видя, в какой восторг привел меня джаз Утесова, тетя Настя поведала мне, что артист живет здесь рядом, на Краснопрудной. Я встрепенулся.
— И вы видели живого Утесова?
— Да, сотню раз. В прошлую зиму и осень я прирабатывала, убирала снег у их дома. Мы даже здоровались при встрече. Он всегда ласково улыбался.
С тех пор я потерял покой. Ежедневно, медленно прогуливаясь у дома на Краснопрудной, старался не пропустить ни одного мужчины, выходящего из-под арки дома. Меня даже приняла за грабителя старая толстая дворничиха.
— И щево ты тут ходишь кажный день? — говорила она с характерным татарским акцентом. — Щево смотришь в окна по этажам? Щево ты потерял в этом доме?
Я не знал, что ей ответить, и во время следующей прогулки решил рассеять ее подозрения.
— Мне сказали, что в этом доме живет Утесов. Я очень хочу его повидать.
— Защем тебе он понадобился?
И тут я дал маху, еще больше усилив ее подозрения своим вопросом:
— Может быть, скажете, в каком подъезде он живет?
Дворничиха достала свисток и дважды громко свистнула, взмахнув рукой в сторону входа в метро «Красносельская», где прохаживался постовой милиционер. Он пересек улицу, выслушал дворничиху и потребовал у меня паспорт.
— Пройдемте.
— Куда?
— По месту прописки.
Каково было удивление милиционера, когда я привел его в каморку к тете Насте, которую он видел каждое свое дежурство. Увидев на раскрытом патефоне пластинку Утесова, он по-хорошему улыбнулся.
— Теперь все понятно. Что, любимый артист?
— Он, да еще Клавдия Шульженко. Они нам так помогали своими песнями на войне! И вот я узнаю, что знаменитый артист живет в двух минутах ходу от моего дома. Очень хотелось повидать его.
Милиционер положил мне на плечо руку.
— Вряд ли тебе удастся его встретить. Машина за ним подходит к самому подъезду. Да и сейчас он уехал на гастроли.
Так я и не увидел своего кумира. Не удалось встретиться и с богиней моего воображения Клавдией Шульженко.
Вот и сейчас, когда русые кудри мои побелели как снег, я не могу без глубокого волнения слушать песни Утесова и Шульженко. В душе просыпается молодость, память уносит в далекие предвоенные годы. Если меня попросили бы заполнить анкету с вопросом «Ваши любимые русские певцы?», я, не задумываясь, ответил бы: Федор Шаляпин, Сергей Лемешев, Иван Козловский, Леонид Утесов и Клавдия Шульженко.
Думаю, что в этом раскладе у меня уже больше ничего не изменится.
В середине декабря мне повезло. Брат договорился с комендантом своего общежития, и мне разрешили проживать в его комнате аж до 15 января. С Сергеем жил лишь один химик, который уехал на целый месяц в командировку на Дальний Восток для проведения каких-то экспериментов.
Теперь каждую неделю я получал свежее, пахнущее прохладой, отглаженное постельное белье. Даже подушка была не ватная, как у моего брата, а пуховая, привезенная аспирантом-химиком с Украины. Первое время я страдал бессонницей. В студенческом клубе на нижнем этаже почти каждый вечер то устраивались танцы, то крутили кино, то выступали с концертами знаменитые артисты, которых мое поколение знало по кинофильмам. После одного из таких концертов, где мхатовцы Алла Тарасова и Анатолий Кторов сыграли сцену из спектакля «Анна Каренина», я, до предела взволнованный, не мог уснуть всю ночь. Я сочинил длинное страстное стихотворение, посвященное красавице Тарасовой, в котором признавался актрисе в любви неземной, возвышенной, готовой на подвиг. Разбирая завалы старого архива, я так и не нашел этого стихотворения. Но любовь к очаровательной Тарасовой не покидала меня всю жизнь. Несколько лет назад при посещении Введенского кладбища я положил на ее могилу четыре алых розы…
Тетя Настя, узнав, что брат надежно пристроил меня в общежитии, очень расстроилась. Обеспокоен был и Вовка, как-то сразу потерявший аппетит и получивший в день моего переезда сразу две двойки.
Больше месяца я жил как король. Аспирантской братии пришелся по душе. С утра и до обеда занимался в институте, работал в библиотеке, а к двум часам приезжал на Красносельскую. От общежития МГУ туда всего одна остановка на метро, и я успевал на обед с Вовкой. Он с удовольствием наперегонки со мной до последней ложки выхлебывал борщ или щи. Тетя Настя радовалась и после борща иногда подкладывала нам кусочек вареной колбасы или же ставила тарелку жареной картошки. А иногда и чашка компота перепадала.
После обеда меня всегда поджидали огромный, сбитый из фанеры короб на скользких полозьях и острый стальной скребок. Самым противным делом было выгребание снега и ледышек из короба. И тут я решил усовершенствовать мои сани. Выпросил у слесаря из домоуправления четыре больших петли, две дюжины шурупов, вырвал из стареньких оконных рам, штабельком лежавших во дворе, шпингалеты и соорудил два откидных борта у моей повозки: правый боковой и задний. Получилось нечто вроде кузова грузовика. Работа значительно ускорилась. А дня через три ликующая тетя Настя сообщила мне, что точно такие же бортовые сани сделали и дворники в двух соседних домах.
— Заказала такой короб и дворничиха в доме, где живет Утесов, — с торжеством сказала тетя Настя.
В справедливости ее слов я убедился через неделю, когда вышел прогуляться мимо знаменитого дома. На этот раз татарка приветствовала меня как старого знакомого.
— Хороший ты штук придумал, заходи ко мне, сто грамм поставлю.
Как-то раз за обедом, чуть отставая от Вовки, который ликовал и гордился тем, что его тарелка опустошалась раньше моей, я напомнил тете Насте об истечении срока моей временной прописки. Она словно ждала этого разговора.
— А я уже подала заявление. На полгода. Тебя, Ваня, хвалят и в домоуправлении, и в милиции, так что где-нибудь в середине февраля прописку продлят на целых полгода.
От радости я чуть не поперхнулся.
Где-то в середине января староста общежития Николай Иванович Чуканов получил письмо от аспиранта-химика, который по моим расчетам должен был вот-вот вернуться из командировки. Какова же была моя радость, когда я узнал от него, что хотя химик успешно завершил свои опыты, срок его командировки продлен еще на месяц.
Новогодний бал в МГУ
Приближался новый, 1946 год. Хотя и говорят, что с годами память слабеет и в ней затушевываются не только проходные эпизоды жизни, но и яркие, острые моменты, однако некоторые из них вырисовываются очень четко. Могу назвать, например, новогодний бал в стенах старого дома МГУ на Моховой.
И здесь мне помог старший брат. По пригласительному билету, выписанному на аспиранта-химика, я засветло прошел в университетский клуб, и я испытывал необычайное волнение, поднимаясь между высоких колонн по гранитным ступеням лестницы. Ведь по ней когда-то ступали ноги Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Александра Герцена, Николая Огарева. Свисающие с потолка между колонн многоцветные серпантины и цветные фонарики, доносившиеся откуда-то из глубины клуба волны вальса «На сопках Маньчжурии» — все это сплеталось для меня во что-то божественное, доселе неизвестное, непонятное. Не знаю, как на других, но и сейчас музыка духового оркестра, будь то военный марш или старинный вальс, будит в моей душе что-то глубокое и возвышенное.
Огромный колонный зал в седьмом часу был заполнен до отказа. Карнавальные маски и сказочные костюмы надели только девушки. Мужчины, студенты и аспиранты, еще не сбросили с себя гимнастерки, кители и бушлаты. Танцы, прерывавшиеся только на несколько минут, длились всю ночь. Музыка гремела не только в колонном зале. Через длинный коридор она долетала до самой большой в доме МГУ коммунистической аудитории.
Среди гостей бала были и инвалиды войны: на протезах, с палочками, с рубцами ожогов и шрамами на лицах. Они не танцевали, но прильнув спинами к колоннам, жадно впитывали волну счастья и радости тех, кто кружился в танцах.
Я и до войны любил танцевать вальс. Меня подогревал азарт и, не обращая внимания на мольбы девчонок, я неистово кружился всегда в одну сторону. Так было до войны, в школьные годы, и те же чувства обуяли меня, когда я почти до утра танцевал в ту памятную новогоднюю ночь. Через каждые полчаса приезжали группы известных московских артистов, которые давали летучие концерты. Музыка духового оркестра замирала, все переходили в зрительный зал клуба, заполнявшийся до отказа. Помню, я с нетерпением ждал приезда джаза Леонида Утесова, но он, к сожалению, так и не приехал. Во время одного такого перерыва в танцах актриса Москонцерта поднялась на стремянку с поднятой над головой куклой и громко спросила:
— Каким старинным русским женским именем зовут эту куклу?
И какие только имена не посыпались из уст присутствующих: Акулина, Матрена, Варвара, Пелагея, Хавронья… Так продолжалось с минуту. Казалось, весь арсенал имен был исчерпан. И тут, раздвигая плечами стоявших вокруг стремянки гостей бала, сложив в рупор ладони, я крикнул что есть силы:
— Ярославна!
Актриса принялась выискивать меня глазами, и когда я еще громче, замахав рукой, повторил имя куклы, протянула мне руку. Я протиснулся сквозь толпу студентов и получил куклу. Так я стал героем бала. «Если бы могла меня увидеть дворничиха тетя Настя, — подумал я. — Она бы или расплакалась от счастья, или разразилась неудержимым смехом».
В третьем часу ночи, в ожидании приезда новой группы артистов Москонцерта, зрительный зал был опять полон. Многие уже утомились от танцев. И вдруг… В зале воцарилась тишина. Из-за ниспадающих с потолка бархатных полотен вышли три высоких и стройных, лет двадцати трех — двадцати пяти, офицера. У каждого на груди блистали боевые ордена и медали. Вынырнувший из под занавеса лысый конферансье объявил, что сейчас гвардейские офицеры Первого Белорусского фронта исполнят романс из колымской жизни довоенных лет. Заглянув в бумажку, он назвал их фамилии. Все замерли. Смолкла даже музыка духового оркестра. Старший по званию капитан-артиллерист сел за концертный рояль, и в зал понеслись ритмы энергичной музыки.
Когда я жил в Ельцовке у дяди на окраине Новосибирска, то хорошо знал, что совсем рядом, в насыпных бараках огромного оврага проживали вчерашние зеки и те, кто со дня на день ждали приговора суда по статьям уголовного кодекса. Ворюга на ворюге, мошенник на мошеннике, хулиган на хулигане. Там я и познакомился впервые с образцами тюремного фольклора.
При работе над повестью «Сержант милиции», я, много раз посетивший Таганскую тюрьму, где знакомился с драматическими, а порой и трагическими судьбами ее узников, дотошно выискивал текст услышанного мною в Новосибирске «Колымского романса», пока не встретил одного закоренелого урку-карманника, который мне продиктовал от первого до последнего слова этот шедевр преступного фольклора. В моем архиве хранятся два пожелтевших листка, исписанных в Таганской тюрьме еще в 1953 году.
И вот теперь в зале Московского государственного университета я вновь услышал из уст молодых офицеров знакомые слова:
Помню, в холодную зимнюю ночку В санках неслись мы втроем, И лишь по бокам фонари одинокие Тусклым горели огнем. В санках у нас под медвежьею шкурой Желтый лежал чемодан, Каждый невольно дрожащей рукою Щупал в кармане наган. Помню, подъехали к зданью знакомому, Вышли мы, молча пошли, Сани с извозчиком быстро отъехали, Снег заметал их следы. Двое подлезли под двери дубовые, Чтобы запор открывать, Третий остался на улице темной, Чтобы сигнал подавать. Помню, как сверла бесшумно и крепко, Будто два шмеля жужжа, Вдруг просверлили четыре отверстия Против стального замка. Помню, как дверца бесшумно открылась, Я не спускал с нее глаз. Ровными пачками деньги советские С полок смотрели на нас… Сумму тогда получил я немалую — Сорок семь тысяч рублей. Дал себе слово покинуть столицу, Выехать в несколько дней. Чудно одетый, с букетом в петлице, В сером английском пальто Ровно в семь тридцать оставил столицу, Даже не глянув в окно. Поезд помчал меня с бешеной скоростью. Утром мы были в Москве, Вечером Харьков блеснул огоньками, Скрылся в загадочной тьме. Утром мы были на станции маленькой С южным названьем Батум. В этой природе я жил наслаждаючись, Здесь отдыхал от тюрьмы, Здесь на концерте в саду познакомился С чудом земной красоты. Узкие плечи, глаза как орлиные, Чудная прелесть лица. Она отдавалась, она говорила: «На век тебе буду верна». С этой знакомой я месяц возился, Месяц подарки дарил, Платья — пике и чулки в паутиночку, Жемчуг, кораллы дарил. Деньги мои пролетели так скоро, Снова идти воровать, Снова пришлось возвратиться В хмурый и злой Ленинград. Помню, товарищи так же приехали, Взяли на дело с собой, Ночь прогуляли, наутро легавые Нас повязали в пивной.Громом аплодисментов, криками «бис», «браво» выражали свой восторг зрители. Зал бушевал, гудел, как обвал в горах, время от времени пронзенный стрелами восторженных восклицаний. Но вот на авансцену вышел конферансье и снова наступила тишина.
— А теперь, дорогие друзья, — выкрикнул он, — наши гости-гвардейцы, студенты заочники филологического факультета, исполнят древнейшую, как мир, магаданскую песню «Мурка».
И снова зал взорвался гулом возгласов и аплодисментов.
Только три куплета знаменитой песни уркаганов успели пропеть офицеры. Раздавшийся у входных дверей сигнал милицейского свистка и дикий крик бегущего между рядами кресел администратора клуба оборвали последние слова:
Раньше ты носила туфли из торгсина, Шелковый костюмчик «на большой», А теперь ты носишь рваные галоши, Потому что стала не блатной.Гвардейцев, как девятым валом, унесло за бархатные полотнища занавеса.
Но этот эпизод не помешал вновь начаться, уже в пятом часу ночи, танцам под духовой оркестр. Каков же был восторг танцующих, когда они в кружении вальса увидели трех высоких гвардейских офицеров, которым только что бурно аплодировал зрительный зал. Танцевали они легко, улыбки на лицах солнечно светились, казалось, они были самыми счастливыми в этом вихре молодости, бурных чувств и радостей. А как только затихла музыка, гвардейцы откололи очередной номер. Купив у буфетчицы огромную корзину с пирожками, они стали угощать гостей бала — каждому по пирожку. Два лейтенанта навесу держали корзину, а капитан раздавал пирожки. Один вид пирожков и их соблазнительный запах разбудил во мне зверский аппетит. На кителе капитана золотились две полоски шевронов о ранениях. В какой-то миг взгляды наши встретились. Он махнул мне рукой и крикнул:
— Гвардия, подгребай поближе!
Я понял, что он заметил на моей гимнастерке гвардейский значок, и протиснулся к корзине. Капитан протянул мне два пирожка.
— Оба мне? — недоверчиво протянул я.
До сих пор каждый получал по одному пирожку.
— Бери, бери, не стесняйся. Оба тебе.
Пирожки были еще горячие. Но не успел я откусить соблазнительный кусочек, как какой-то наглый прыщеватый юнец в круглых очечках выхватил из руки капитана пирожок, протянутый девушке в военной форме. Офицерская гимнастерка, новенький кожаный ремень обтягивали ее стройную фигурку с осиной талией. Я как сейчас помню ее красивое славянское лицо, обрамленное крупными волнами каштановых волос. На высокой груди светились до блеска начищенные медали «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». Над ними, как и у капитана, сверкал гвардейский значок.
В секунду я принял решение и протянул свой пирожок фронтовичке. Она смутилась и стеснительно замахала рукой.
— Вы с какого факультета? — смущенно спросил я.
— С филологического. С первого курса. А вы?
— Я с юридического. И тоже с первого курса, — даже не подумав, зачем-то соврал я.
Потом, вспоминая ее ответ, я долго мучился над словами «С первого курса». Неужели она хотела продолжения диалога? Не зная, чем ответить на ее искренность, я, немного помолчав, протянул девушке выигранную куклу.
— А это вам от меня подарок. В честь Нового года.
Девушка без всякого стеснения со счастливым выражением на лице прижала к груди куклу.
— Спасибо. Я не расслышала, как ее зовут.
— Ярославна, — ответил я и хотел было продолжить наше знакомство, но тут подошедший к девушке капитан-гвардеец, обдав нас счастливой улыбкой, пригласил ее на вальс. Увел…
Прислонившись спиной к мраморной колонне, я наблюдал за танцующими и даже не заметил, как капитан и девушка с филфака покинули колонный зал. В общежитие мы с братом вернулись с первым поездом метро. Он пожурил меня, что я подарил куклу, сделавшую меня чуть не героем бала, какой-то девчонке.
— Лучше б подарил ее вахтерше Зое. Она пропускала бы тебя без пропуска…
Всякий раз, когда Сережа брал меня с собой на вечер в университет или в студенческое общежитие, я выискивал взглядом очаровательную девушку с филфака, но так ее и не встретил…
С той новогодней карнавальной ночи прошло более полвека. Годы и на ее юное лицо своим безжалостным резцом наверняка наложили отпечаток пройденного пути. Но я и сейчас надеюсь, что Господь Бог послал ей в награду за брошенную в пожар войны юность большое счастье: она этого заслужила…
В полдень 1 января, когда счастливая новогодняя Москва праздновала первый день мирного нового года, я приехал поздравить тетю Настю и Вовку. Нашлись деньжонки и на подарки, помог Сережа. Вовке я купил плитку шоколада и мороженое, тете Насте — цветную шелковую косынку в магазинчике рядом с домом Утесова. Каково же было мое удивление, когда я, открыв дверь в безоконную каморку тети Насти, увидел на моей подушке полосатый галстук, а на табуретке в изголовье раскладушки флакон тройного одеколона. Я расцеловал и мать, и сына. Последние дни я все острее чувствовал, что оба они ко мне относятся как к родственнику: тетя Настя как к сыну, а Вовка как к родному дяде.
Недолгое студенчество
Однажды Сережа принес в общежитие журнал «Новый мир», раскрыл его и положил передо мной на стол.
— Прочитай, может, пригодится. Интересное исследование.
Диссертация Сережи была связана с поэтикой русских народных песен. Статья, которую он предложил прочитать мне, была новым исследованием поэтики Михаила Ломоносова. В школьной программе тех лет, кроме двух-трех стихотворений гениального русского ученого, ничего не было. Поэтому меня, уже стихийно связавшего себя с поэзией, статья заинтересовала. Я ее не только прочитал, но и законспектировал. Приближались приемные экзамены в институт, и я подумал, вдруг да попадется вопрос по Ломоносову, уж тут-то я покажу себя. И на мое счастье это предчувствие сбылось.
После письменного экзамена по литературе, на котором я выбрал свободную тему, и успешно сданных экзаменов по математике и физике, я пошел на последний — устную литературу. И надо же так случиться: первым вопросом из трех было «Учение М. В. Ломоносова о стихосложении», а следующие — по Чехову и Маяковскому. В школьные годы я не особенно восхищался рассказами Чехова, что всегда злило моего старшего брата. А «Левый марш» Маяковского, который мы учили наизусть, мне и совсем не нравился: какой-то казенный, канцелярско-лозунговый.
На удивление преподавателей, на подготовку ответов я, вошедший с первой группой экзаменующихся, потратил не больше десяти минут. Чем детальнее развивал я поэтику Ломоносова, тем удивленнее становились лица трех преподавателей средней школы. На самой середине ответа, когда я подходил к ритмике стихосложения, седенькая учительница, возглавлявшая комиссию, остановила меня:
— Переходите ко второму вопросу.
Не выслушала она и мой анализ рассказа Чехова «Ионыч». Зато «Левый марш» Маяковского я прочитал с выражением до конца. Меня похвалили, но почему-то поставили в экзаменационный лист только оценку «хорошо», хотя я рассчитывал на высшую.
За письменное сочинение из двухсот абитуриентов никто не получил ни одной пятерки, а четверки только восемь человек, в том числе и я. Еще перед экзаменами нам объяснили, что каждый из нас имеет право ознакомиться с ошибками, допущенными при написании сочинения. Я этим правом воспользовался. Председатель комиссии любезно перелистала передо мной семь страниц, исписанных четким, почти каллиграфическим почерком. Уж очень я старался. На полях стояла всего-навсего одна «птичка», зафиксировавшая орфографическую ошибку. Слово «капитал» я написал с двумя «л».
— Как обидно, — горестно вздохнула седенькая преподавательница, — если б не эта лишняя буковка в слове — ваше сочинение было бы аттестовано высшим баллом.
Перед устной литературой, сложив все полученные за экзамены оценки, я высчитал, что спасти меня может только «пятерка» по этому предмету. Я и раньше во время занятий на подготовительных курсах чувствовал, что мои знания по литературе на целый порядок выше, чем у фронтовой братвы, приехавшей из сел и деревень необъятной России. Москвичей было мало, да и они мне казались слабее деревенских.
Поэтому, получив «хорошо», я тут же ошарашил экзаменационную комиссию дерзким заявлением:
— С вашей оценкой я не согласен.
Преподаватели переполошились, стали уговаривать, что и так поставили мне прекрасную отметку. Но я твердо стоял на своем:
— Буду решать вопрос в конфликтном порядке. Это мое право.
После этих слов я молча встал, взял со стола экзаменационный лист и шагнул к выходу из аудитории. По лицам абитуриентов я понял, что они удивлены не менее преподавателей.
Выйдя в коридор, я не находил себе места. Смолил самокрутку за самокруткой. Ждать приема у декана факультета, который проводил какое-то совещание, пришлось около часа.
Декан — молодой, с темной копной вьющихся волос профессор Ландау, который через несколько лет поднимется на уровень знаменитейших представителей мировой науки физики. Выслушал он меня внимательно, даже заинтересовался поэтикой Ломоносова, задавал вопросы. Конечно, как и я, он наверняка подумал, что недавно вышедший журнал «Новый мир» старенькие школьные учительницы не только не успели прочитать, но и вряд ли когда-нибудь прочтут. По двум другим вопросам экзаменационного билета разговора у нас не было. Профессору и так все стало понятно.
— Когда вы хотите переэкзаменоваться?
— Сейчас.
Декан не раздумывал. Он взял со стола мой экзаменационный лист и встал.
— Пойдемте.
Перед дверью в комнату, где шли экзамены, профессор попросил меня подождать. Эти три минуты ожидания стали для меня словно броском во вражеский окоп, в котором все должно решиться.
В экзаменационную комнату меня пригласила преподавательница курса современной советской литературы.
За стол приемной комиссии декан не сел, а, облокотившись о подоконник, стал рассеянным взглядом следить за готовящимися к ответу абитуриентами и приемной комиссией.
— Берите, пожалуйста, билет. И спокойно готовьтесь, — сказала старенькая учительница.
Я подошел к столу и, не глядя на билеты, взял один из них. Не отходя от стола, с минуту стоял, не шелохнувшись. Кто-то из членов комиссии предложил мне сесть. Я встретился взглядом с деканом, который, как мне показалось, смотрел на меня с интересом. «Лирика Лермонтова, — прочитал я. — Да я же могу полчаса читать его стихи наизусть…» Решение пришло мгновенно.
— А можно без подготовки?
Декан внимательно посмотрел на меня и ответил сам:
— Можно.
Хоть и волновался я, читая отрывки из кавказских стихов Лермонтова, но краем глаза все время видел удивленные взгляды экзаменаторов и абитуриентов. По второму и третьему вопросам слушать меня не стали.
Декан подошел ко мне и сказал, чтобы я подождал его в приемной. Ждать пришлось недолго. Век не забуду улыбку знаменитого ученого и твердое пожатие его руки. Он протянул мне экзаменационный лист и сказал:
— Вы зачислены. Поздравляю. До начала занятий две недели. Можете отдохнуть. Вы не москвич?
— Я из Сибири, — почему-то виновато ответил я.
— Как у вас с жильем?
Я поведал ему о своей дворницкой одиссее. Он выслушал меня, грустно улыбаясь, тут же куда-то позвонил и распорядился предоставить студенту первого курса Лазутину Ивану место в общежитии на Лосиноостровской. На прощанье декан пожал мне руку и сказал, чтобы я зашел к его заместителю, который выдаст мне ордер.
К брату я летел, как ошалелый. Сережа в этот день получил стипендию. На радостях мы позволили себе посидеть около часа в «Звездочке». В этот же вечеря дал телеграмму домой.
Вернувшись в общежитие МГУ с Верхней Красносельской, где около двух часов скребком долбил ледок на тротуаре, я с огорчением узнал, что аспирант-химик, на постели которого я царствовал два месяца, завтра приезжает. Сережа обошел несколько комнат, где предполагал найти мне приют хотя бы на несколько дней, но, как на зло, все его друзья и знакомые неотлучно проживали в общежитии. На второй день утром, сменив постельное белье химика и взяв свой фанерный чемоданчик, я отправился на Верхнюю Красносельскую. Мое разочарование можно сравнить с настроением пассажира курьерского поезда «Москва — Владивосток», которого на крохотной станции где-то под Новосибирском высадили из сверкающего зеркалами и устланного ковровыми дорожками международного вагона и посадили в общий вагон «пятьсот веселого» на третью часть нижней полки рядом с туалетом. Но что тут поделаешь! Надо «грызть гранит науки», а уж об условиях тут нечего думать. Чтобы чем-то хоть немножечко порадовать меня, тетя Настя положила на служившую мне столиком табуретку паспорт.
— Прописали на полгода. В ЖЭКе сказали — в порядке исключения.
Я открыл паспорт. В нем лежала стопка красненьких червонцев.
— А это за что? — спросил я.
— Это, Ваня, квартальная премия. За твои старания. Наши дома по чистоте заняли первое место по трем улицам.
Об ордере на место в общежитии я ничего не сказал, не желая огорчать тетю Настю. Обед у нас был почти праздничный: мясной борщ и жареная картошка. Вовка, как всегда, ел наперегонки.
Март стоял морозный, верхушки прямоствольных, как свечи, сосен, в которых тонули двухэтажные домики Лосиноостровской, сверкали на солнце серебряным блеском. Дом студенческого общежития первый же прохожий показал мне сразу. Комендантша общежития, полная женщина лет пятидесяти, в стеганой фуфайке и теплом клетчатом платке, приняла меня приветливо, хотя и удивилась:
— Куда же я вас поселю? Ведь ни в одной комнате печки не топятся: то трубы нет, то топка разрушена. И о чем это думает завхоз?
С полчаса водила меня комендантша по комнатам второго этажа с расхлестанными дверями, не закрытыми на замки. Почти ни в одной из них в рамах не осталось целых стекол. Температура — как на улице. И все-таки в одной из комнат, в которой в оконных рамах еще сохранились стекла, я задержался дольше, чем в других. В ней была цела печурка и замок вроде бы не сломан. Бросалась в глаза лишь разрушенная у самого потолка кирпичная кладка трубы. Анна Ивановна, так звали комендантшу, меня утешила обещанием, что как только схлынут морозы, печник, дядя Федот, сложит трубу в этой комнате в первую очередь.
— Дадим ему на четвертинку, и он сделает все мигом. Кирпичи уже завезены, глину, песок и цемент подвезли еще осенью.
По дороге в Москву, на Верхнюю Красносельскую, я мучительно думал о том, как сообщить тете Насте о моем предстоявшем переселении. Конечно же, эта новость огорчит ее и Вовку.
Полночи не спал, думал, что стоит, пожалуй, попросить у комендантши пару матрацев, по паре одеял и подушек и вселиться в комнату, заложив дыру в потолке. Фанерные щиты я видел во дворе общежития. В конце концов, провел же я зиму сорок третьего — сорок четвертого года в Пинских болотах. Спали на еловых ветках, накрытых брезентом. Одеялом служили шинели с расслабленным на них ремнем, подушкой — шапки-ушанки, завязанные на два узла. И удивительно — никаких простуд, никаких обморожений. И я решил попробовать. Если не выдержу, то в каморке тети Насти меня всегда ждет раскладушка с полосатым матрацем.
И вот наступил день моего переселения в общежитие. Анна Ивановна выдала мне два комплекта постельного белья, которое хранила в кладовке. Сложной задачей стало включение и выключение света. Это приходилось делать с помощью полутораметровой сухой палки, подобранной в дровнике. Под двумя одеялами и курткой, перешитой из шинели, в шапке с опущенными ушами я быстро согрелся. Блаженно закурил и раскрыл томик Есенина, с которым в последние дни не расставался. Где-то в двенадцатом часу палкой выключил свет и, накрывшись с головой, надышал тепло в своем логове. Так я провел первую ночь в новом законном обиталище.
Теперь после лекций в институте я ехал на Верхнюю Красносельскую, добросовестно отрабатывая обеды у тети Насти и полугодовую прописку.
Не ладилось у меня с высшей математикой. Задачи по дифференциальному и интегральному исчислению решались с огромным трудом. Я завидовал тем московским девчонкам и вчерашним фронтовикам, которые щелкали их, как орехи. Зато в перерывах между лекциями меня всегда окружали три-четыре тоненьких студентки, которые с восторгом слушали стихи Есенина. А уж читал-то я их с такой душой, что, казалось, сам Василий Иванович Качалов мне позавидует. Я думал, что даже Яхонтов не поднимется на ту высоту душевного волнения, на которой парил я.
Так незаметно пролетело полмесяца: общежитие, институт и Верхняя Красносельская, где бесснежный март почти освободил меня и мои «лошадиные силы» от упряжки в бортовых санях. Но не знаю почему, сердце предчувствовало какую-то незримо парящую надо мной неприятность или даже беду. Уж слишком все гладко получалось: успешная сдача экзаменов в моднейший по тому времени институт столицы, место в общежитии в лесистой Лосиноостровской, которую москвичи называли «русской Швейцарией», влюбленные глаза восторженных девчонок, слушающих стихи Есенина и Блока… И это горькое предчувствие сбылось.
Где-то в конце марта, не успел я подняться на лестничную площадку второго этажа, как ко мне подбежали две испуганных студентки.
— Ваня, за что тебя? — с жалостью в голосе спросила та из них, которая еще вчера под мою диктовку писала стихи Есенина, обращенные к матери.
Они подвели меня к доске приказов на лестничной площадке второго этажа и показали на листок с приказом. В нем значилось: студент первого курса физического факультета такой-то «отчислен, как ошибочно зачисленный». Перед глазами все поплыло: лица снующих мимо меня студентов, висевшие на стене портреты великих физиков, заиндевелые оконные рамы.
На вопрос «За что?» я не мог ответить не только тем студентам, кто пожимал мне руку и выражал искреннее сочувствие, но и самому себе.
До звонка о начале лекции оставалось несколько минут. И вопрос «За что?» я решил задать декану. Наши взгляды встретились, как только я приоткрыл двери его кабинета. Жестом он дал мне знать, чтобы я зашел к нему. Закрыв за собой дверь, я приблизился к столу.
— За что? — тихо спросил я.
— Я думал, что вы сами поймете за что, — подавленно ответил он. — Спецотдел в нашем институте работает оперативно и четко. О том, что ваш отец в сентябре 1937 года был репрессирован как враг народа по 58 статье, пункт 10, вам, как его родному сыну, должно быть известно. А вы в своей биографии и в анкете этого не написали.
Прозвучавший в коридоре звонок оборвал наш диалог. Декан заговорил только после того, когда в коридоре установилась тишина.
— По закону в справке о вашем отчислении мы должны указать истинную причину: сокрытие репрессии отца. Но в нарушение этой обязательной формальности я могу подписать справку. Укажу, что вы отчислены из института по вашему личному заявлению из-за отсутствия общежития. Вы же не москвич? Что вы выбираете: первое или второе?
Естественно, я выбрал второе.
— Справку получите у моего секретаря завтра утром.
Декан встал и, строго глядя мне в глаза, крепко пожал мою руку.
— Больше таких рискованных глупостей не делайте. Знаете же, в какое время мы живем.
Когда я вышел из кабинета декана, две поклонницы есенинской лирики при виде моего бледного лица и отрешенного взгляда расплакались. Переживая из-за меня, они решили пропустить первый час лекции. Я не стал рассказывать им о том, что мне сообщил декан. Зачем? Ведь это сегодня же разнесется по всему факультету. А может, и по институту.
Как и сказал декан, справку об отчислении из-за отсутствия общежития я получил на следующий день, утром. Старенькая секретарша в завитках седых кудряшек мне горько посочувствовала.
Перейдя улицу, я остановился у главпочтамта и долго смотрел на парадный вход института, из которого через пять лет шагнут в большую науку те, кто пришел в этот дом с полей Великой войны.
К брату я приехал в общежитие поздно вечером, с трудом упросив вахтершу разрешить мне зайти в общежитие хотя бы на час. В залог оставил паспорт. Мое отчисление для Сережи стало ударом. Но он оказался мужественнее меня, искурил несколько папирос, пока в голове его не созрело твердое решение.
— Как фольклорист, напомню тебе пословицу мудрого русского народа: «Нет худа без добра». Признаться, такой горькой ситуации я не исключал, когда ты шел подавать заявление в этот модный элитарный институт. Ты только вдумайся в слова: атомная физика, «совершенно секретно» и при этом студент — сын репрессированного.
Я только и мог на это ответить:
— «Худо» уже случилось, а вот «добра» я пока не вижу.
Озорная ухмылка скользнула по лицу Сережи.
— Ты же талантливый… Ты же поэт… Это тебе говорит не колхозный счетовод, а филолог, закончивший Московский институт философии, литературы и истории.
— И все-таки я тебя не понял, — только и мог ответить я.
Сережа взял новую папиросу и, не глядя на меня, принялся расхаживать по комнате.
— Весной, где-то в мае, я напечатаю твои юношеские стихи на машинке, а ты напишешь умную автобиографию и подашь заявление в Московский литературный институт имени Горького. Там работают мои друзья по институту. Одному из них я показывал твои стихи. Он заверил меня, что ты можешь сразу после собеседования у проректора института, заручившись хорошей рецензией на стихи у кого-нибудь из видных советских поэтов, стать студентом этого единственного в стране литературного института. А его в свое время закончили и Василий Федоров, и Константин Симонов и многие, многие классики современной русской поэзии.
Убежденность брата и его слова окрылили меня. В голове сразу же мелькнула мысль о моей бездарности в высшей математике и физике, преодоление которых казалось нереальным. Освещенный поэзией Пушкина, глубоко ощущающий нервную дрожь стихов Лермонтова, очарованный туманным Блоком, распаленный на костре душевной исповедальности Сергея Есенина, я был чужд точным наукам.
Вахтерша начала было ругать меня за то, что вместо одного я пробыл у брата около двух часов. Чтобы чем-то задобрить ее, я протянул ей конфетку, которую вез для Вовки. Она улыбнулась и перестала возмущаться.
Не заехав вечером на Верхнюю Красносельскую, я сразу же махнул на Лосиноостровскую. По печальному лицу комендантши, которая взглянула на меня сочувственно, я понял, что ей сообщили о моем отчислении. И не ошибся.
— Когда сдавать постельное белье? — спросил я.
— Когда вам удобно. Можете сегодня, можете и завтра.
Вечер стоял морозный, на заиндевелых стеклах окон красовались ветви тропических лесов с лианами и пальмами. Комендантша уговорила меня заночевать в ее комнате. Я согласился, опасаясь, что простудный кашель последней недели может усугубиться: за окном, как сообщила Анна Ивановна, около двадцати градусов мороза, а по радио сообщили, что ртутный столбик в Подмосковье упадет до двадцати пяти.
Два дня назад я переколол для комендантши более кубометра березовых дров, поленницей сложил их в сарае, за что Анна Ивановна собиралась меня отблагодарить. И тут подвернулся подходящий случай. До полуночи мы пили чай, заваренный душистыми листьями смородины. Нашелся у комендантши и сахарок. Она не стала расспрашивать, за что меня лишили общежития, но душой чуяла, что это не просто неприятность, а нежданно-негаданно пришедшее несчастье. А я не устоял и стал расспрашивать у нее о семье: есть ли дети, муж… Потом сам пожалел. Анна Ивановна расплакалась. Она не стала рассказывать о своем тяжком житье-бытье, а достала из старенького чемоданчика пожелтевшую газету, стертую на сгибах, и, развернув, положила передо мной. Между колонок статьи я увидел фотографию виселицы, на которой болтались пять мужских трупов. Двое в ботинках, трое в сапогах. Анна Ивановна склонилась над газетой и пальцем показала на среднего мужчину.
— Это мой Коля. Тридцать лет прожили с ним душа в душу, словом не обидел, пушинки с меня сдувал… — она еще что-то хотела сказать, но прихлынувшие глухие рыдания оборвали ее речь.
С волнением я прочитал в газете статью о том, как фашисты, окружившие в Вяземском котле три наших армии, жестоко расправились с партизанами: одних повесили, а других сожгли в овине.
— А в этом овине был кто-нибудь из ваших родственников? — спросил я.
— Дочь и внучка, — еле слышно произнесла Анна Ивановна.
— А вы? Как же вы уцелели?
— Я по заданию командира партизанского отряда ходила в Курбатовку, что в десяти верстах от нашего села. А когда вернулась… Уже не было ни села нашего, ни мужа, ни внучки с дочерью. Похоронила всех троих в одной могиле…
Анна Ивановна хотела взять со стола эмалированную чашку с отбитой ручкой, но ее пальцы только скользнули по ее поверхности. Очевидно, она хотела сделать несколько глотков чая, чтобы погасить душившие ее беззвучные рыдания. Струившиеся из глаз слезы образовали две темных полоски.
В памяти, как светлое озарение, вспыхнула строфа из стихотворения Сергея Есенина, обращенного к матери.
…Смотрит, а очи слезятся, слезятся, Тихо, безмолвно, как будто бы вдруг. Хочет за чайную чашку взяться, Чайная чашка скользит из рук.Анна Ивановна не стала дожидаться моих дальнейших расспросов и продолжила рассказ о своей жизни:
— Ну а дальше жизнь потекла, как и у всех, кто остался жив. Тележку с постелью, двумя чугунками, кастрюлей и двумя сковородками вместе с кое-какой одежкой, что осталась от пожара, катила аж до самого Можайска. Днем прятались в лесах, а ночью украдкой пробирались по шоссе к Москве.
Спать мы легли уже во втором часу ночи, после душевной, исповедальной беседы, в которой предо мной раскрылась вся нелегкая жизнь русской крестьянки: с раскулачиванием в 1931 году ее отца, с насильственным загоном в колхоз. А там она работала на совесть. Ее фотография на Доске почета, висевшая две пятилетки, предстала в моем воображении реально и зримо.
Когда я проснулся, Анна Ивановна уже трудилась у печурки над завтраком. Не выпустила меня до тех пор, пока я не съел из алюминиевой миски два больших половника картофельного пюре. Расставаясь, я поцеловал ее, по-сыновьи обнял и пожелал здоровья.
— Если с жильем будет очень трудно — приезжай. В тесноте — не в обиде.
Люди с такой тяжкой биографией, с такими трагическими изломами в судьбе не бывают долгожителями. Где, на каком кладбище сохранился бугорок могилы этой славянской женщины, одной из тех, на чьих плечах Россия пронесла тяжесть войны, неурожаи, удары социальных несправедливостей? Если и сохранилась эта могилка, поросшая дикой травой, то положит ли кто-нибудь на нее перед ржавым железным крестом несколько цветков? Царство тебе небесное, дорогая Анна Ивановна. Я навсегда запомнил твою приветливость и доброту.
И снова Сибирь
Провожал меня на Казанском вокзале Сережа. Мой вагон как раз стоял на том месте платформы, куда я ступил 19 ноября 1945 года. Тогда Москва встретила меня салютом.
Сережа пытался шутить, чтобы как-то развеять горечь в моей душе. Несколько раз заговаривал о Литературном институте, куда я должен поступить по Божьей воле, но я понимал, что его веселость была наигранной. Настроение немного улучшилось, когда за пять минут до отхода поезда, мы, сидя на нижних полках у окна, распили четвертинку водки, бутылку «жигулевского» и закусили ломтиком хлеба. Все это Сережа достал из чемоданчика, с которым никогда не расставался.
Не знаю почему, но я любил ездить в общих вагонах, где биографии пассажиров выплескиваются почти со зримой достоверностью. Через день такого общения ты видишь, как на ладони, почти всю жизнь пассажира, едущего по вербовке, в гости к теще, на побывку домой или в отпуск. Иной бедолага хранит как величайшую тайну свое пребывание в тюрьме за то, что прихватил с колхозного тока полмешка пшеницы. Нигде с такой исповедальной откровенностью люди не раскрывают свои сердца, как перед человеком — соседом по вагону, с которым ему, может быть, никогда не встретиться.
До Урала я ехал на нижней полке, занимая сидячее место, а после Свердловска забрался на верхнюю боковую под самой крышей вагона, где проходила горячая отопительная труба. Полка была узкой, лежать на ней пришлось только на боку, и, чтобы не грохнуться, я привязал себя к трубе широким ремнем, на котором за московское житье-бытье прожег две дырки. С такими «удобствами» мне предстояло ехать целых двое суток.
Делать было нечего. Я лежал и вспоминал стихи, написанные мною по дороге с войны, после демобилизации:
За спиной Урал горбатый, Чаще, чаще колесный пляс, Первый раз за войну солдата Пассажирский качал и тряс. Первый раз за войну бессонница Пригвоздила меня к окну, Столбовая дорожная конница Натянула до гуда струну. Водянистые степи Барабы Впились в небо глазами озер… Ни пригорка тебе, ни ухаба. Льется в душу родимый простор. Здесь когда-то вихрастый, босой Я умел по-утиному крякать И под жесткой отцовской рукой, Хоть убей, не хотел заплакать. Впереди распласталась даль, По бокам размахнулась вширь, Под ногами грохочет сталь, Ну а в сердце ты, Сибирь.Мысль о Литературном институте, навеянная братом, нет-нет да волновала меня, открывала какую-то перспективу на будущее. В заявлении для поступления в Литературный институт следовало обязательно приложить стихи или рассказ. Стихов, с моей точки зрения, вполне приличных, накопилось к тому времени более двух десятков.
Уже в Омске я подсчитал, что на Убинскую поезд «пятьсот веселый» прибудет где-то в одиннадцатом часу вечера, когда признаки жизни в селе будут подавать только одни собаки. Так и получилось. Я сошел с поезда на пустынный перрон все с тем же фанерным чемоданчиком. В отличие от Москвы, сибирское село тонуло в еще не тронутых солнцем сугробах.
Не с таким чувством, как в октябре прошлого года, подходил я к родному дому. Тогда душа моя была наполнена чувством победителя. Сейчас же тяжелый осадок давил на сердце. Москва вышвырнула меня. Вспомнились слова одного из друзей Сергея, аспиранта филфака: «В Москву ввинчиваются штопором, а вылетают из нее пробкой, как из бутылки шампанского, с выстрелом под самый потолок, а потом падают на пол под стол, в ноги пирующих».
Здоровенный тигристого окраса пес Верный сразу признал меня и, словно жалея, положил свои передние тяжелые лапы на мои плечи, дважды лизнув в щеки. Ему было уже девять лет, но, несмотря на возраст, он по-прежнему рьяно охранял стожок сена, стоявший в нашем огороде, и не подпускал к изгороди бродячих голодных коров, выпущенных хозяевами на вольный прокорм.
Моего возвращения мама не ожидала. Как и до войны, она узнала меня по стуку в окошко. Сломала несколько спичек, пытаясь зажечь пятилинейную лампу с закопченным стеклом. Петьку и Зину я будить не стал. Еще дорогой, мучаясь бессонницей, я долго думал, рассказывать или нет маме, что из института меня исключили как сына «врага народа», репрессированного в 1937 году. И решил пощадить ее, не расстраивать. И солгал, солгал убедительно, объяснив, что после успешно сданных экзаменов общежитие мне пообещали, а потом отказали. А у тети Насти на холодном полу простудился: последний месяц меня мучил кашель. Но не прошло и часа, после того как мама накормила и напоила меня чаем, ее материнское сердце словно почуяло, что я говорил ей неправду. Она вздохнула и, пригорюнившись, сказала:
— Не верю я тебе, сынок, жалеешь ты меня, всю правду не говоришь. Не в общежитии тут все дело, а в отце.
Не дожидаясь моего ответа, она принялась стелить мне на печке. Положила самую лучшую пуховую подушку, из-за которой мы, братья, до войны чуть ли не дрались.
Когда я проболтался, что почти полгода работал младшим дворником ради жилья в крохотной без окна каморке, мама расплакалась, напрасно пытаясь погасить беззвучные рыдания. Но стоило мне только начать разговор о поисках работы, как она, стерев со щек слезы, принялась успокаивать меня.
— Нечего тебе беспокоиться. Нас, едоков-то, осталось всего трое, а старой картошки хватит до новой, останется и на продажу. Десятиведерную кадушку капусты еще не тронули, свеклы и моркови больше трех мешков, а отелившаяся три недели назад Майка дает до восьми — десяти литров молока. Отдохни, сынок, до лета, а там начнется покос. Петру одному трудно будет заготовить на зиму дрова и сено, он, бедняга, так за войну измотался, от одного огорода руки покрылись мозолями.
Я не стал спорить, сказал, что немного отдохну, а потом посмотрим. Поднимаясь на печку, краем глаза заметил, как мать перекрестила меня и что-то прошептала.
Заснуть долго не мог, жгли бока и спину горячие кирпичи печки. Наверняка она была протоплена вчера, до слуха доносились протяжные глубокие вздохи мамы. В памяти всплыло стихотворение Марка Максимова, которое словно обожгло своей искренней душевностью:
Жен вспоминали на привале, Друзей в бою, и только мать Не то и вправду забывали, Не то стыдились вспоминать. Но было, что пред смертью самой Видавший не один поход Седой рубака крикнет «Мама!» И под копыта упадет.Я не помню, в какой газете или журнале попались мне на глаза эти стихи, но после их прочтения отыскал сборник стихов Максимова, замечательного поэта-фронтовика, судьба которого на дорогах войны сложилась так тяжело: плен, побег, мучительный путь к своим. Царство тебе небесное, дорогой Марк. Ты заслужил его как воин и как поэт…
Тяжелые мысли, как камни, ворочались в голове. Противней всего станет необходимость придумывать всякие небылицы для знакомых, которые знали, что я со старшим братом уехал в Москву и поступил в институт. Эту весть сияющий от счастья Петька наверняка разнес уже по всему селу…
Но на следующий день, когда я вышел на улицу, меня ждала неожиданная встреча, которая оказалась как раз удачной. В высоком мужчине с черными всклокоченными бровями и взлохмаченной шевелюрой я не сразу узнал Леньку Сикору, который был старше меня на три года и когда-то учился и дружил с моим старшим братом Мишей. Когда брат в девятом классе выполнял на турнике «скобку», Ленька уже крутил «солнце». Об этом знала не только школа, но и подростки всего села.
Судя по его твердой походке и гордой посадке головы, можно было предположить, что война, через которую он прошел, Леньку не искалечила. Рослый и широкоплечий, он выглядел старше своих лет. Мы обнялись, и через несколько минут сумбурного и взволнованного разговора я узнал, что он работает директором средней школы и преподает историю.
— Давай-ка, Ваня, зайдем на часок в «Шанхайку». Помянем Мишу. — Он прижал к груди свою широкую ладонь. — Поверь, прошел почти всю войну, после ранения завершил ее в Варшаве и ни разу не плакал… Даже когда хоронил боевых друзей. А вот когда мне Петька сказал, что Миша, лучший друг моего детства, погиб при взятии Шимска, плакал. Даже зверски напился в этот день.
Глаза Леньки налились слезами.
— Что это за «Шанхайка»? — спросил я.
— А это, Ваня, так теперь кличут наш местный сельский ресторан, где водку пьют не рюмками, а гранеными стаканами.
Ленька с особым нажимом сделал ударение на последнем слоге.
«Шанхайкой» теперь называли довоенную сельскую столовую, которая даже в базарные дни не заполнялась наполовину, зато во время различных районных конференций работала в две смены. Я ее посетил только один раз — в день отправки нашего эшелона с призывниками. Это было так давно.
Просторный зал с дюжиной четырехместных столиков был заполнен наполовину. В левом углу отгорожена отдельная комнатка, которой до войны не было. Тронув меня за локоть, Ленька потянул меня туда.
— А это что — для высоких благородий? — спросил я.
— Ты почти прав, для блатных. Хотя особо высоких благородиев, что приезжают из Новосибирска, наши высокие начальники предпочитают принимать у себя дома. Вечерком их потчуют баней, а после баньки — застолье.
Мы сели в углу за столик, на котором стояла высокая стеклянная вазочка с бумажными цветами. Кроме нас в этом блатном отсеке никого не было. Ленька на минуту отлучился, и следом за ним в закуток вошла высокая крутобедрая блондинка с копной вьющихся волос и большими карими глазами. Таких в Сибири по справедливости считают красавицами. Все было при ней: и стать, и рост, и зовущая, приветливая улыбка. Мне сразу же показалось, что когда-то я видел эту молодую женщину. По виду ей было лет двадцать пять, не больше. Но почему, почему она как-то по-особому улыбалась мне? Ленька представил ее.
— Это, Иван Георгиевич, директор нашей «Шанхайки», Наталья Николаевна. Когда-то мы с ней учились в одном классе.
— Ваня, да разве ты не узнал меня? — спросила Наталья Николаевна.
Обращение на «ты» меня несколько смутило.
— Узнал, но пока что-то плохо припоминаю.
— А вспомни, кто тебя учил завязывать пионерский галстук? Кто у вас в 5-А, а потом в 6-А был пионервожатой?
В памяти моей мгновенно всплыл образ высокой, тоненькой, кареглазой блондинки, от улыбки которой всегда теплело на душе. Я знал, что мой старший брат Михаил был тайно влюблен в нее, но по природной застенчивости, думаю, не только ни разу не поцеловал ее, но даже не выразил своих чувств.
— У Наташеньки двое прекрасных близнецов, оба будут народными артистами: на смотре детской художественной самодеятельности получили дипломы и денежные премии. Их на будущий год пригласят на Всероссийский смотр.
Наташа смущенно положила перед Леонидом меню.
— Что будете заказывать?
Не глядя в меню, он как-то лукаво подмигнул мне и прошептал:
— А те царские груздочки, которыми ты угощала меня и моего гостя из Новосибирска, еще не все съели наши районные партократы?
— Для вас, Леонид Максимович, найдется. Вчера из Крещенки привезли целый короб язей. Может, сжарить?
Леонид картинно приложил руку к груди и склонил голову.
— Обрадуешь, Наташенька, с самого утра во рту не было и маковой росинки.
— А пить, что будете?
— Бутылочку водки и непременно с белой головкой.
Не успела Наташа закрыть за собой дверь, как Леонид горестно вздохнул и покачал головой:
— Эх, Ваня, какая невеста прошла мимо нас с тобой. Скажу по секрету: не один твой брат был влюблен в нее. Я ведь тоже сох по ней, и она это знала, но близко к себе не подпускала. Может, поэтому я слыл озорником и хулиганом. Ведь и «солнце»-то на турнике начал крутить из-за нее. Думал этим покорить, но не получилось.
— А кто же ее счастливый супруг? — спросил я.
— Вот в этом-то Наташе крупно не повезло. Ее муж, летчик-испытатель, пошел на таран при штурме Берлина. Посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
Обслуживала нас сама Наташа. Делала она это с каким-то особым удовольствием, желая, видимо, лишнюю минуту пообщаться с нами. И всякий раз, когда она входила, я замечал, как вспыхивали цыганские глаза Леонида.
Запах соленых груздей, за войну забытый мной, щекотал ноздри. Графин доморощенного кваса, точно такого же, который до войны искусно готовила моя бабушка, вызывал зверский аппетит. Четыре ломтика ржаного хлеба аккуратной стопкой лежали на тарелке.
Только после первого тоста, не чокаясь, мы, помянув моего брата Михаила, заговорили о работе. Леонид, словно о чем-то задумавшись, докурил «беломорину», притушил ее в черепушечной пепельнице и, глядя мне в глаза, проговорил:
— Теперь, Ваня, я уже не тот Ленька, на которого вешали всех собак, если где-нибудь на селе случались озорство или беспорядок. Теперь я Леонид Максимович Сикора, не только директор районной средней школы, но и член бюро райкома партии, комитета ветеранов войны, депутат сельского Совета. — Тут по лицу Сикоры скользнула озорная улыбка. — Ну, а для тебя, Ваня, нашего убинского молодого поэта и отличника учебы, рьяного читателя, я по-прежнему просто Ленька. Вот за это и выпьем! И за нашу встречу!
Мы выпили по полстакана. Ленька продолжил:
— Братуха твой, Петр, рассказывал мне недели две назад, что ты с блеском сдал экзамены в какой-то институт, где конкурс двадцать человек на место. Хоть он и приврал наверняка, но важно другое — после окончания института ты будешь великим физиком!
Я промолчал.
После третьего тоста за наших друзей-сельчан, погибших на войне, Ленька как-то озабоченно произнес:
— А теперь, Ваня, выручай меня. Мне вот так, — он провел ладонью по горлу, — срочно нужен преподаватель физики. Наша физичка совсем некстати ушла в декретный отпуск. На предпоследнем месяце беременности. Мы даже боялись, как бы она не родила в учительской.
Предложение Сикоры меня ошарашило. Я пытался объяснить, что без диплома не имею права преподавать в старших классах, но все мои оправдания вызывали на лице Леонида только насмешливую улыбку. Дождавшись, когда я закончу свой монолог, он разлил по стаканам остатки водки и, глядя в упор, продолжал наступать на меня:
— Да будет тебе известно, что всего лишь тридцать процентов преподавателей нашей школы имеют дипломы об окончании вузов. Да и те получены на заочных отделениях. А ты, блестяще окончивший среднюю школу в Новосибирске, уже хлебнувший азы физической науки в Москве, боишься передать ученикам те знания, которые получил еще до войны и закрепил в московском институте? Да я и сам не имею диплома. Директор школы и преподаватель истории в старших классах, только этим летом стану сдавать экзамены за третий курс пединститута.
Ленька еще долго убеждал меня. Я заколебался и подумал в душе: «А чем черт не шутит?» И тут Сикора беспрекословно заявил, что завтра же согласует этот вопрос с роно и подпишет приказ о назначении меня преподавателем физики.
В наш закуток с подносом в руках вошла Наташа. Сикора поднял стакан и произнес:
— А теперь, Наташенька, мы выпьем за тебя, наша милая раскрасавица. И принеси нам еще одну белую головку. Таких язей, каких ты зажарила, нужно не только уважать, но и величать. И принеси еще стаканчик для себя. Бог любит троицу.
Из второй бутылки мы пили уже втроем. Было видно, что Наташу, которая предупредительно закрыла дверь на крючок, эта встреча взволновала. Многое, как показалось мне, ей вспомнилось.
На прощанье мы расцеловались. Наташа пригласила нас заходить почаще. Перед тем как откинуть дверной крючок, Ленька тихо, словно по секрету, сказал ей:
— А ведь Ваня еще не женат. Ты это прими к сведению. Когда твои малыши будут учиться в восьмом классе, Иван Георгиевич Лазутин станет преподавать у них физику.
Наташа расплылась в душевной улыбке.
Расставаясь, Ленька пригласил меня зайти к нему завтра в школу к десяти утра.
Домой я вернулся под изрядным хмельком и сразу же рассказал о встрече с директором школы Сикорой.
— И он уговорил меня преподавать в школе физику, — заключил я.
Мама, сидя на сундуке и положив руки на колени, как-то загадочно посмотрела на меня, видимо, решила, что я шучу.
Но восьмиклассница Зина, которая знала, что их физичка ушла в декретный отпуск, приняла мои слова всерьез.
Я попросил у мамы достать из сундука новый бостоновый костюм дяди Васи, хорошенько отгладить его, выветрить запах нафталина, выгладить его белую рубашку. Были вытащены из сундука также полосатый галстук с широким навечно завязанным узлом и дядины хромовые ботинки, вдетые в новые резиновые галоши. Мама и радовалась, и заметно волновалась. А пятнадцатилетняя сестренка, которую мы пятеро старших братьев жалели, любили и баловали, смотрела на меня влюбленными глазами.
В раннем детстве я всегда мечтал, что когда вырасту, заработаю денег и куплю себе хромовые ботинки с галошами. Предел мечты для деревенского мальчишки, которому приходилось донашивать обноски с ног старшего брата. О том, что сапоги или ботинки могут не промокать, я понял лишь в октябре сорок первого года, когда получил обмундирование во Владивостоке. И вот теперь, благодаря посылке, полученной бабушкой от дяди Васи, когда тот уходил на фронт, я впервые смог прилично одеться.
Легли спать где-то во втором часу ночи, когда все было отутюжено и приготовлено.
Приказ о назначении меня преподавателем физики, подписанный директором школы, принесла Зина. Мой первый урок в восьмом классе должен начаться в четверг с темы: «Рычаги первого и второго рода» из раздела «Механика». Для обдумывания, как начать и как вести урок, оставалось два дня. Пожалуй, никогда в жизни я не сосредоточивался так, придумывая различные варианты примеров для объяснения темы. Вспомнил и о том, как мы вытаскивали из грязи машины на фронте, и о том, как в тридцать пятом году отец со своей бригадой при помощи рычагов из бревен перекатывал когда-то стоявший рядом со школой дом районного Госбанка. Тогда почти полсела собралось на центральной площади, чтобы посмотреть на это доселе невиданное представление.
И вот наступил четверг, с которого должна была начаться моя педагогическая одиссея. Я иду в новеньких ботинках с галошами, которые не промокнут, даже если, провалившись в снег, попаду в лужу. По дороге встречаются знакомые. Здороваюсь, но как-то механически. Мысли крутятся вокруг урока, который предстоит сегодня провести в двух восьмых классах.
Войдя в класс, я поздоровался со вставшими из-за парт учениками, предложил им сесть и представился, назвав свое имя и отчество. Потом сел, раскрыл журнал на том листе, где в порядке алфавита перечислены фамилии и имена учеников с пометками о месте жительства и специальности родителей. Большинство школьников — из деревень района. Попадались знакомые фамилии односельчан.
Бросив взгляд на вешалку, сооруженную из широкой толстой доски, прибитой к стене, на которой были вбиты длинные гвозди, я увидел одиноко болтающуюся на ней одну залатанную стеганую фуфайку. И вдруг меня словно осенило. Я объявил классу, что прежде чем начать урок все должны раздеться и повесить одежду. Каково же было мое удивление и даже растерянность, когда никто не встал и не сделал даже шага к вешалке. Я повторил свои слова уже приказным тоном. И снова замерший класс даже не шелохнулся. Так прошла тягостная для меня минута. «Не подчиняются», — подумал я. И тут во мне проснулась солдатская выучка.
— Кто староста класса? — строго спросил я.
С задней парты поднялся высокий, голубоглазый парень, чем-то отличающийся по внешнему облику и по одежде от своих соклассников.
— Извините, Иван Георгиевич, но последний месяц школа почти не отапливалась, и нам разрешили сидеть в верхней одежде.
Я подошел к батарее, ощупал ее, она была чуть теплой. И тут, взглянув на сестренку, одетую в кроликовую шубейку, я вспомнил, что утром, когда она собиралась в школу, на ней было старенькое клетчатое платье с заплатами на спине и на локтях. «Убей ее — ни за что не разденется». Пятнадцати- и шестнадцатилетним девушкам предстать в старье перед молодым учителем, щегольски одетым в новый бостоновый костюм, при галстуке, казалось не только неприличным, но даже позорным. Поняв это, я деликатно промолчал и начал свой первый урок.
Объяснил классу, какое огромное значение для человека имеют рычаги первого и второго рода. Как помогали они в тяжелом труде, как с их помощью воздвигались древние пирамиды. Приводил примеры, как на фронте саперы сооружали плоты из тяжелых бревен, как прокладывали через реки и овраги перекидные мосты, по которым на запад проходили наши танки и тяжелые орудия вперед — к Берлину. Рассказал и о своей окопной солдатской жизни. Случалось, что в Пинских болотах Белоруссии наши гвардейские минометы «Катюши», буксуя, так глубоко зарывались в раскисшую землю, что только срубленные деревья спасали нас. К месту пришелся и пример об отце с его плотницкой бригадой.
Проходя между партами, я остановился у предпоследней, за которой сидели рыжеватый веснушчатый юноша и девушка в жилетке, как видно с чужого плеча. На левой откидной крышке парты был вырезан смешной чертик. Я вспомнил, что девять лет назад я сидел именно здесь. Хотя школьные парты, как правило, красят через каждые два-три года, контуры вырезанного мною чертика не поддавались краске. Лицо веснушчатого паренька показалось мне знакомым и почти по-родственному близким. Я попросил его назвать свою фамилию.
— Кудряшов Костя, — ответил юноша.
— Ты местный? Убинский?
— Нет, из Крещенки.
— У тебя есть старший брат?
— Был.
— Его звали Кириллом?
— Да, — сухо ответил Костя.
— На сколько же он был старше тебя?
Что-то прикинув в уме, Костя ответил:
— На восемь лет. Он погиб на Первом Белорусском фронте при переправе через Днепр.
Класс затих в печальной тишине. Об этом факте из жизни семейства Кудряшовых, пожалуй, никто в классе не знал.
— Так знай, Костя, за этой партой мы сидели с твоим братом Кириллом. Он был моим лучшим другом. И когда приезжал с зимних каникул из Крещенки, то всегда привозил мне полупудовых мороженых щук и по полмешка мороженой клюквы. В волейболе ему не было равных, как и ты, он был высокого роста, и когда гасил мяч, редко кто отражал его удары. Кем он был на войне, в каких частях?
— Командиром танка Т-34.
Запоздалая весть о гибели школьного друга сразу погасила во мне мой учительский азарт, и на какое-то время я забыл о рычагах и полиспастах, о которых только что вдохновенно повествовал классу.
Остановившись у стола, я окинул взглядом класс и увидел в глазах учеников свою боль, свои нахлынувшие горькие воспоминания.
— Поднимите руки, у кого из вас погиб на войне кто-нибудь из близких, родных: деды, отцы, братья, дяди.
Только две девушки не подняли рук. В войну двадцать шесть семейств из двадцати восьми потеряли кого-то из родных и близких.
Но тут я вовремя одумался и решил, что заканчивать урок траурной панихидой не педагогично. Внутренне перестроившись, перешел к теме урока.
— Я уже говорил вам, что великий древнегреческий ученый, отец раздела физической науки «Механика», сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь земной шар», а теперь подумайте и скажите, какой рычаг, какого рода, ему потребовался бы для этой работы? Те, кто считает, что ему для этого нужен рычаг первого рода — поднимите одну руку, те же, кто предпочтет рычаг второго — поднимите обе.
Только теперь после моего вопроса с лиц учеников как-то сразу, словно ветром, сдуло облако печали. Руки взлетели дружно, и каждый хотел, чтобы взгляд мой остановился на нем. Я подсчитал, что правильно ответили восемнадцать человек, остальные шестеро, поднявшие одну руку, или поторопились с ответом, или не поняли поставленной мной задачи.
Школьная сторожиха баба Фрося прозвонила на перемену. Дать задание на дом я не успел и расслабился только в учительской, где меня ждал Сикора, искренне переживавший мой дебют.
Половина учителей знали меня еще с довоенных лет и поздравили с первым в жизни уроком. Сикора познакомил меня с новыми учителями и позвал в директорский кабинет. Там он расплылся в широкой улыбке:
— А ты знаешь, ведь я подслушивал тебя. Поверь мне, ты будешь великим педагогом. Женись на нашей первой красавице Наташе и поступай в Новосибирский пединститут. Закончишь его за два-три года.
После второго урока в восьмом «Б» Сикора снова утащил меня в «Шанхайку», обмыть мой учительский дебют. И на этот раз нас обслуживала Наташа. И снова в ее глазах, больших и лучистых, вспыхивали манящие огоньки, которые я чувствовал острее и зазывнее, чем неделю назад при первом знакомстве.
О том, что я собираюсь подавать документы в Московский государственный университет, Леньке Сикоре я ничего не сказал. Этот грешок я принимаю на свою душу.
Брат Анатолий
Об успешных экзаменах по физике в восьмых классах написали даже в районной газете. Нашлись похвальные слова и об учителе-фронтовике. Заметка была подписана директором школы Леонидом Сикорой. Вместе с отпускными я даже получил премию. Мама была рада и втайне надеялась, что я осяду в Убинске прочно, закреплюсь в школе и, как Сикора, поступлю на заочное отделение Новосибирского пединститута. Зная об этом, я и не пытался ей противоречить. Но всякий раз, когда она начинала разговор о школе, я находил случай и причину перевести нашу беседу на что-либо другое.
Когда я положил перед ней на стол толстую пачку захватанных пятерок и червонцев (мои премиальные и отпускные), она просветлела лицом.
— Теперь, сынок, пожалуй, мы купим поросеночка. Я договорилась с Ионихой, она уже отметила чернилами хвостик самого крупненького, и по сходной цене.
Я молчал, глядя на маму и любуясь, как разглаживались на ее лице морщины, как радостно смотрела она в будущее, и не перебивал.
— Картошки у нас хватит до осени, мешка два даже продадим, есть свекла, есть кормовая морковь, между делом к зиме и выкормим поросенка пудов на семь-восемь. А то гляди, какой ты худющий после войны, я заметила, на ремне прожег еще две дырки. — Время от времени смачивая слюной пальцы, мама, не торопясь, беззвучно шевеля губами, сосчитала деньги. — Ну вот, сынок, теперь у нас в доме есть хозяин. Сережа в Убинск будет наезжать разве только на каникулы да в отпуск. Толя планирует учиться в Новосибирске. Петю тоже тянет в город. Так что давай, командуй нами и деньгами.
И мама пододвинула ко мне стопку ассигнаций.
Ее слова меня умилили. Я взял со стола деньги и положил перед ней.
— Нет, мамочка, уж как ты командовала всей нашей гвардией, так и продолжай. Ты всегда была у нас Чапаевым, а отец — Петькой. — Я прошелся по кухне и, мысленно подбирая более мягкие слова, сказал то, что прочно утвердилось в моих планах и чего я уже не имел права скрывать от матери.
— Мама, к сожалению, я болен Москвой, и болезнь эта неизлечима. Я подхватил ее там, в Москве белокаменной, а усугубил эту болезнь великий французский писатель Бальзак. Устами одного из своих героев он сказал: «Если ты собрался воевать с небесами, — бери прицел на Бога!..»
Очевидно, мои слова ввели маму в заблуждение.
— А причем тут небеса и Бог? — как-то виновато спросила она.
Я расшифровал ей значение этого образа-сравнения:
— До тех пор пока в центре Москвы в сотне шагов от Кремлевской стены стоит Московский государственный университет имени Ломоносова, а в этом университете есть юридический факультет, учиться в котором мы с Шуркой Вышутиным поклялись на второй день после ареста наших отцов, никаких разговоров о пединститутах в нашей семье не должно быть. Я тебя прошу об этом, мама.
Постучавший в окошко почтальон оборвал наш разговор. И, к счастью, вовремя.
Письмо было от Толика. Он писал, что пока жив, здоров, план завод выполняет, отпуск дадут не раньше августа. И тут же жаловался: вот уже третий месяц его мучает кашель, а врачи, когда температура нормальная, бюллетеня не дают. Особенно тронули меня слова:
«Мама, попроси Ваню, может, он приедет в Белово и вытащит меня из этой жаровни. С таким же кашлем двух моих друзей по цеху комиссовали, дали группу инвалидности, взяли адреса, куда они поедут, чтобы переслать им медали „За трудовую доблесть“. А ведь им, мама, всего по восемнадцати лет. И в их-то годы инвалидность? Я одного этого слова боюсь…»
Я так расстроился, что не мог сидеть дома. Дорога до озера заняла больше часа. Я искурил несколько самокруток, пока, наконец, не пришел к твердому решению. Вернулся домой, увидел на столе нетронутую пачку денег и взволнованное лицо матери. Она с надеждой посмотрела на меня и спросила:
— Ну, что будем делать, сынок?
Моя нелепая улыбка еще больше обеспокоила маму.
— Чему ты улыбаешься? Ведь нужно что-то делать, спасать Толика.
— Ступай к Ионихе, — твердо сказал я, — и скажи ей, чтоб она смыла чернила с хвостика самого упитанного поросенка, потому что покупать его мы не будем. Деньги, которые я получил сегодня, прихвачу с собой. Они могут пригодиться. Сейчас трудные дела часто решают деньги, а их у нас кот наплакал.
Сборы в дорогу заняли всего один день. Мама купила два десятка яиц, три буханки хлеба, достала из погреба припасенное к Пасхе сливочное масло, сбитое Петькой в кувшине, вечером откуда-то принесла шмат свиного сала. Петька насыпал мне мешочек крепкого самосада, и мы всей семьей отправились на станцию. Зина послала со мной маленькое письмецо, в котором сообщала, что раскрасавица Надька Юдина часто спрашивает, когда Толик приедет.
Пассажирский «пятьсот веселый» должен был прибыть на станцию Убинская в одиннадцатом часу. Чтобы не возвращаться домой, мы провели полтора часа в околовокзальном скверике, за войну так заросшем тополями и акациями, что даже солнце не пробивало их буйную листву. Последние полчаса нервного ожидания я простоял у окошечка билетной кассы, которое так и не открылось. Когда удары станционного колокола известили о прибытии поезда, я решил пойти на дерзость. Достав из планшета новые сержантские погоны, быстро прицепил их на плечи гимнастерки и, ничего не объясняя ни маме, ни сестре с братом, побежал к снижающему скорость поезду. Но двери в вагонах не открывались. Я изо всех сил стучал кулаками — все напрасно. На мое счастье, в третьем от паровоза вагоне дверь оказалась не заперта и в тамбуре не было проводника. Проводница появилась на площадке уже тогда, когда я подхватил поданные мне Петькой узелок и чемоданчик.
Думаю, помогли мне сержантские погоны и мольба матери, Христом Богом просившей проводницу не высаживать меня. Но та не взяла даже два червонца, которые я пытался опустить в карман ее форменной блузы.
— Нет-нет, не могу, сейчас за это снимают с работы, а у меня семья, трое детей…
И тут я решился на «святую ложь».
— Девушка, милая сестричка, ведь я солдат, отстал от воинского эшелона, который только что в Убинске набирал воду… А у меня в этом родном селе мать, родные братья и сестры, я их не видел целую войну, думал, успею хоть пять минут побыть в родном доме, но, как оказалось, эшелон ушел всего несколько минут назад. В Чулыме через час мы его догоним. Командиры меня даже не хватятся, а ребята не выдадут. Если вы не разрешите мне постоять час в тамбуре, меня отдадут под суд военного трибунала и посадят как дезертира…
Последние фразы я произносил в то время, когда буфера вагонов лязгнули и чугунные колеса стукнули на стыках рельсов. Проводница смягчилась.
— Ладно, довезу тебя до Барабинска или даже до Новосибирска. Только не выдавай меня, если пройдет военный комендант. Положи свои вещи в служебное купе и сиди там сколько нужно. Документы при себе?
— С документами у меня все в порядке.
Почти до самого Новосибирска я просидел в служебном купе проводницы. Она, не раз всплакнув, рассказывала о том, сколько горя принесла ее семейству война, с которой не вернулся муж, погибший при штурме Бобруйска. Глядя на медали и гвардейский значок на моей гимнастерке, она с болью и гордостью сказала, что такие же боевые награды были и у ее мужа.
— Сейчас вот поднимаю трех сиротинок, старшему сыночку десять, дочкам — семь и пять.
Я вышел из служебного купе, подхватив свои вещички, когда тамбур был уже заполнен выходящими из вагона пассажирами. Не знаю, какая душевная сила и братская нежность овладели мной, когда я от всей души поблагодарил проводницу.
Тетка, которая знала по моему письму, что я вернулся в Убинск, встретила меня с нескрываемой радостью. И только через полчаса, после беседы о житье-бытье, когда она загоревала, что ей нечем кормить свиней и в бочках ни ведра барды, я понял, что тарелку борща и пару котлет мне сегодня придется отрабатывать. Благо, что до спиртозавода было не так уж далеко. Четыре последних года перед войной, когда я учился в Новосибирске и жил у дяди, эту бардовозную разбитую дорогу люто возненавидел. Но что поделаешь: за старое добро нужно отвечать добром, хотя я, сидя в служебном купе вагона перед подходом поезда к Новосибирску, твердо решил сегодняшний день посвятить встрече с Ниной Бондаренко и Пашкой Новиковым, моими самыми близкими друзьями довоенных лет. А в Нину я был втайне влюблен. Да и я ли один?..
Но после двух привезенных десятиведерных бочек барды (я стоял в оглоблях, а тетка подталкивала бочку сзади) пропиталось потом не только мое белье, но взмокла и гимнастерка. И мне казалось, что я весь пропах этим свиным пойлом. Идти на свидание с Ниной, которая еще до войны чутко реагировала на запах духов, было просто невозможно.
В Белово я ехал уже не «зайцем», а в купейном вагоне. И все-таки нет-нет, а вспоминал милую проводницу. Приехал я в двенадцатом часу ночи. От пассажиров в купе, живущих в этом городе, узнал, что сталепрокатный завод, на котором работает мой брат, всего в двадцати минутах ходьбы от вокзала. Днем туда ходит автобус.
Адрес Анатолия я помнил. Дежурный по вокзалу сказал мне, что до общежития завода на Лесной улице всего две автобусных остановки. Нашелся мне и Попутчик, сошедший с нашего поезда.
Двухэтажный приземистый дом, чем-то напоминавший барак, был окружен шеренгой густых тополей. В доме всего один подъезд, выходящий на улицу. На всякий случай я постучал в дверь. Никто не ответил. Решив, что в общежитиях, как и в казармах, двери на замки не запирают, я открыл дверь и вошел в коридор. Слева, сразу же у дверей, стояла тумбочка, за которой, положив голову на скрещенные руки, сидела старая женщина в брезентовой блузе. Она так крепко спала, что даже громкий хлопок двери ее не разбудил.
Вспомнив, что после номера дома в обратном адресе Толика стояла цифра 23, я прошел по пустому коридору, вглядываясь в цифры, обозначающие номера комнат. У 23-й остановился. В эту минуту из соседней комнаты вышел высокий белобрысый парень с бесцветными ресницами, с серым вытертым одеялом на плечах, из-под которого торчали голые колени. На какое-то мгновение наши взгляды встретились. Я подумал, что когда-то видел это лицо. Полные мальчишечьи губы парня растянулись в широкой улыбке.
— Вы, случайно, не брат Толика Лазутина? — спросил он.
— Брат.
— Серега?
— Нет, Иван.
Мне показалось, что улыбка парня стала еще шире.
— Так это вы служили на Тихоокеанском флоте, а потом воевали на «Катюшах»?
— Так точно! — шутливо, по-солдатски, отчеканил я и тут же задал вопрос:
— А откуда ты знаешь меня и Сережу?
— Да мы же с Толиком учились в одном классе, а отец мой работал в бригаде вашего отца.
И только теперь я вспомнил, кто этот парень.
— Степин? Пашка?
Улыбка засияла на лице Степина.
— Ты что, с Толей на одном заводе? — спросил я.
— Не только на заводе, но в одном цехе, у одного станка, хотя и в разных сменах. Я заступаю в шесть утра.
— Отец-то где сейчас, все в Убинске плотничает?
Улыбку с лица Пашки словно сдуло ветром.
— Отец отплотничал в конце октября 37-го, через полтора месяца после ареста вашего отца.
Видя, что парень переступает с ноги на ногу, я не стал его задерживать и попросил зайти за мной, когда пойдет на смену.
В полупустой комнате стояли четыре железные койки. Я сразу узнал ту, которая принадлежит брату. Из-под нее торчал изрядно потертый фанерный чемоданчик с железными уголками, сделанный отцом года за два до ареста. Узнал и наволочку, на которой бабушкиными руками был вышит красный задиристый петух. Между койками вдоль стен стояли две облупленные, в чернильных пятнах тумбочки. Только теперь, бросив взгляд на стенку над койкой Толика, я увидел размазанные коричневые пятна, следы раздавленных клопов. А когда прошелся вдоль всех четырех коек, покрытых старыми, давно не стиранными байковыми одеялами, то на меня повеяло холодком омерзения и брезгливости. Сел на кровать Толика и закурил. Стук в дверь заставил меня вздрогнуть.
— Да-да! — выкрикнул я.
В комнату вошел Пашка. Он был гладко причесан, густая белокурая, как у отца, шевелюра крупными волнами ниспадала на лоб и на уши.
— Любуетесь нашей Третьяковской галереей? — спросил Пашка, перехватив мой скользящий по стенам взгляд. — А ведь перед Первым Маем стены белили. Видите, что наделали кровопийцы?
— В других комнатах такая же картина?
— В некоторых рисунки даже погуще. — Вспомнив, зачем он пришел, Степин спросил: — Может, чайку сварганить, титан у нас работает.
Я поблагодарил Пашку, сказав, что перекусил в вокзальном буфете.
Спать не хотелось. Выдвинув из-под кровати чемоданчик, который оказался незапертым, я открыл его. Под грязным бельем лежали две пачки писем, завязанных резинкой. В верхней оказались сложены мои письма военных лет, разложенные в хронологическом порядке. В одном из них была моя фотография, с которой смотрел молоденький, еще круглощекий матрос в тельняшке, в форменке и бескозырке, на ленте которой отчетливо читались слова: «Тихоокеанский флот». Предназначалась она маме. Теперь мне стало понятно, куда делась из семейного альбома эта моя матросская фотография. Мама так горевала, когда обнаружила пропажу карточки! Даже не знала, кого винить. Больше всего ее подозрение падало на Толика, который, будучи в отпуске, выпросил у мамы мои флотские письма. Тайком прихватил и фотографию.
Свои письма я читать не стал, а на прочтение Мишиных ушло больше часа. Читал я их медленно, зримо представляя лицо своего любимого брата. От Сережи не было ни одного письма. Или сказалась большая разница в возрасте, или оставалось в памяти, как старший «шибко ученый» брат изредка поколачивал непослушного сорванца…
Разувшись, не снимая брюк и гимнастерки, я залез под одеяло, решив до прихода Пашки немного поспать. Напрасно. Не прошло и нескольких минут, как я почувствовал, что по моей шее, по рукам и ногам что-то ползает. Я затаился. Но больше пяти минут лежать не мог. Боясь, что на ногах и руках, отбиваясь от кровососущей твари, оставлю точно такие же следы, какие видел на стенах комнаты, встал, зажег свет и ужаснулся: по стенке, над кроватью Толика целыми стаями ползали клопы. И, словно ведомые каким-то инстинктом, они быстро ползли не к потолку, не в сторону соседней пустой кровати, а к кровати Толика. Судя по особому, мне знакомому с детства омерзительному клопиному запаху, я понял, что несколько штук я все-таки раздавил. Дождавшись, когда испуганные светом клопы спрячутся в свои тайники, насыпал в носки крепкого самосада, почти полкисета высыпал за рукава и за воротник гимнастерки и снова лег, но одеялом укрываться не стал. Мысленно решил: «Если минут за пять успею уснуть, то потом они меня уже не разбудят».
Мои надежды и намерения оказались напрасными. Табака клопы не боятся. Теперь, как показалось мне, они стали еще злее и нахрапистее. Забирались под майку, на живот, в трусы, на грудь… Даже на фронте, коротая ночи под брезентом на снегу и в пропитанных запахом портянок и пота блиндажах, таких испытаний я не переживал.
Когда ко мне постучал Пашка Степин, я уже успел, раздевшись до трусов, вытрясти из гимнастерки и брюк виновников моего беспокойного «сна». От чая я отказался. Дорогой на завод разговор у нас не клеился. У въездных ворот рядом с проходной на стенде «Ударников социалистического труда» под стеклом висело десятка два фотографий. Среди них мне сразу бросилось в глаза лицо Анатолия. Его улыбку я хорошо знал. Так улыбался он, когда в следующую минуту собирался подколоть кого-то остротой.
Сразу же при входе в цех на меня обрушился грохот тяжелых железных прессов, отсветы вспышек электросварки и какой-то время от времени нарастающий чугунный гул. Для меня, по рождению сельского жителя, все здесь казалось чужим. Я шел следом за Степиным между рядами непонятных мне станков. И вдруг… Хотя брат стоял спиной ко мне, но по фигуре, по движению рук я узнал его сразу. До конца смены, судя по часам, висевшим на станине крана, оставалось еще семь минут. Мы остановились. Я любовался точными и ловкими движениями рук Анатолия, в которых он держал длинные железные клещи. Подхватывая за конец вынырнувшую из многотонного чугунного вала ленту раскаленного металла, еще не успевшего потерять свой малиновый цвет, он направлял ее влево под такой же чугунный вал и наблюдал до тех пор, пока вся она под него не уходила. Секунды через три из-под правого вала прокатного стана снова выползал конец ленты, на который ложились железные клещи.
Мое нетерпение передалось Пашке. Он слегка тронул меня за локоть и дал знать, что идет менять товарища.
Прошло четыре с половиной года, как мы расстались с Толиком. Это было в октябре сорок первого. Тогда ему исполнилось всего пятнадцать лет. Мне почему-то казалось, что он ниже меня ростом, но когда брат, повернувшись ко мне, вскинул руки для объятья, сразу понял — младший братишка меня перерос. От радости Толик не находил слов. Дорогой в общежитие я рассказал ему о клопах, которые чуть не съели меня. Он печально улыбнулся.
Узнав, что две последние ночи я почти не спал, Толик отвел меня к одинокой старушке, которая жила через два дома от их общежития. В ней я узнал дежурную, поднявшую с тумбочки голову лишь тогда, когда мы с Пашкой Степиным уходили на завод. Старушка, которую Толик называл тетей Пашей, постелила нам постель на двоих. Завтрак был роскошным. Я выложил на стол все, что положила в дорогу мама. Поставил и бутылку водки. Мы позволили себе выпить лишь по стопке, по второй наливать я не стал — день предстоял сложным и трудным: ведь я приехал выручать брата. Угостил я и тетю Пашу. Она позавтракала вместе с нами. Хвалила курицу и домашнее сало. А когда мы, поставив будильник на два часа, легли, накрыла нас своим ватным одеялом, перекрестила и, что-то нашептывая, тихо закрыла за собой дверь.
Я рассказывал Толику о житье-бытье в Убинске, о Петьке, который вымахал так, что потолок достает чуть ли не локтем. И умолк лишь тогда, когда услышал легкий храп брата и понял, что он крепко заснул.
Уснул я не сразу. Почему-то вспомнился первомайский праздничный вечер в сельском клубе. Показывали концерт школьной художественной самодеятельности. Играли чеховский спектакль, потом Степка Сало плясал матросское «яблочко» и «вальс-чечетку», старшеклассник Иван Слупов читал юмористические рассказы, а Белов — «Песнь о купце Калашникове». Только с физкультурной пирамидой у старшеклассников получился конфуз. У одного из парней, Коли Иванова, стоявших в первом опорном этаже, как на грех, лопнула резинка у трусов, и они скользнули с ног на пол. Вряд ли зрительный зал сельского клуба за сорок лет его существования слышал такой взрыв хохота, криков, аплодисментов и свиста. На самом верху трехэтажной пирамиды, почти касаясь головой потолка, стоял наш Толик, а в нижнем кругу пирамиды — Мишка. Пирамида начала рушиться, когда Колька, повиснув руками на плечах соседей, пытался плюхнуться голым задом на пол сцены. Но я так испугался за Толика, что мне было не до смеха и аплодисментов. Он же весьма удачно упал на кучу рухнувшей пирамиды, первым выскочил из рассыпавшегося клубка мальчишеских тел и юркнул за кулисы. Дали занавес, но зал еще долго покатывался от смеха и оглашался криками «бис». Вышедший на авансцену конферансье, так и не дождавшись тишины зрительного зала, объявил:
— А сейчас, дорогие друзья, вы увидите чудо пластики. Ученик четвертого класса Толя Лазутин исполнит «баланс со стаканом воды».
Когда поднялся занавес, на сцену вышел наш худенький Толик. В руках он держал стеклянный граненый стакан. Конферансье налил в него из чайника воды, капнул туда химических чернил и размешал подкрашенную воду карандашом. Завороженный ожиданием чего-то непонятного, зал замер.
Толик, запрокинув голову, медленно, не дыша, поставил стакан на лоб и плавно начал танцевать. Несколько раз присаживался и вставал. Потом, вытянув перед собой руки, стал медленно ложиться на спину. Если две-три минуты назад, когда шло приготовление к номеру «баланса», в зале слышались всплески смеха и гогота, то теперь, когда Толя подходил к кульминации своего номера, публика в задних рядах встала. То, что дома во время тренировок Толя называл «поворот на правый бок», «поворот на грудь», «поворот на левый бок», «на спину», на сцене сельского клуба, вмещавшего более трехсот человек, являло пластическую красоту по-змеиному гибкого мальчишеского тела. Я затаил дыхание. С пола Толя поднимался медленно. Было видно, что он, как никогда, волновался. Встав, он резко взмахнул рукой, разбрызгивая воду из стакана к потолку, где висела лампа-молния, и вышел к барьеру авансцены, низко поклонившись публике.
Четыре раза выходил Толя на аплодисменты зала, четыре раза прижимал ладони к груди. А когда я поднялся на сцену и за кулисами прошел в гримуборную, то увидел рыдающего Кольку Иванова и утешающих его друзей из нижнего ряда рухнувшей пирамиды. Поздравив Толю, я обнял его и тоже увидел на глазах брата слезы. Но это были слезы гордости за удачно выполненный номер. Такие я увижу через много лет на глазах наших русских девушек, поднявшихся на пьедестал почета на Олимпийских играх.
На следующий день, в воскресенье, о беде Кольки Иванова знало уже все село. А сам Колька как в воду канул. Только после окончания Отечественной войны, когда эшелоны, груженные танками и пушками, шли с запада на восток, где советским воинам предстояло сразиться с японскими милитаристами, из товарного вагона проходящего поезда на станции Убинская выскочил чернобровый высокий сержант. На гимнастерке его сверкали боевые ордена и медали. Торгующая молоком и вареной картошкой бабка Трубичиха узнала Иванова и, накладывая ему в котелок горячей картошки, спросила:
— Ты куда же тогда девался-то, Колюха, когда в клубе на всем честном миру трусы потерял?
Колька, улыбнувшись, ответил:
— Уехал к бабушке на Дальний Восток. Продал фотоаппарат, велосипед… Мать с отцом ночью посадили на поезд «Москва — Владивосток». Через год и они туда переехали.
На второй же день от бабки Трубичихи и ее соседок весь Убинск узнал, что Колька Иванов жив, здоров, вернулся сержантом с десятком боевых наград. Поехал на восток бить «япошек».
Под эти воспоминания я крепко уснул и вскочил лишь оглушенный треском будильника, стоявшего на табуретке в изголовье. Толя представился мне уже при «полном параде». Из расстегнутого ворота белой рубашки темнели яркие полосы матросской тельняшки. Брюки-клеш были так отглажены, что о складки можно было обрезать палец, как обычно говорили матросы, когда заканчивали гладить брюки со вставленными в них широкими клиньями. На носках до блеска начищенных ботинок посверкивали два золотых зайчика. Я восхищался братом: тем, что он вырос, тем, что красив и складен, а его фотография висит на Доске почета среди ударников социалистического труда. Но вот Толя зашелся мокрым, нездоровым кашлем, и мой восторг мигом погас.
Толя попросил тетю Пашу, у которой он хранил свою выходную праздничную одежду, поставить для меня самовар и поухаживать за мной, пока он не вернется из конторы завода.
С начальником цеха Анатолий познакомил меня еще в день приезда. Его крохотный кабинетик мне чем-то напоминал дежурный тамбур в проходной войсковой части. Рядом со сбитым из досок столом стояло несколько стульев, вдоль стены тянулась длинная лавка. Таких старомодных телефонов раньше я никогда не видел.
По виду Николаю Богдановичу было не более сорока лет. Приземистый, широкоплечий, с типично белобрысой шевелюрой белоруса, он сразу же, после первых слов знакомства, показался мне человеком, с которым можно говорить по душам и который всегда пойдет тебе навстречу. Я, прошедший войну через городишки и села Белоруссии, научился чутко улавливать диалект этого небольшого, но душевного народа.
От моего предложения пообедать завтра в ресторане Николай Богданович отказался наотрез. По его словам, месяц назад в горкоме партии он получил «втык» за то, что пил с молодыми рабочими в ресторане. Отказался и отобедать в комнате у тети Паши, ссылаясь на занятость. Но стоило мне на его вопрос, где и в каком роде войск я «хлебнул» войну, назвать Первый Белорусский фронт и 22-ю Гвардейскую минометную бригаду, как начальник цеха сразу оживился и даже вскинул руки.
— С «Катюшами» воевали?
— От первого и до последнего дня.
— Мой младший брат тоже с «Катюшами» воевал в гвардейских минометных частях. От Ельни дошел до Варшавы, и там сложил свою голову.
Когда я упомянул, что наша пятая гвардейская ордена Красного Знамени дивизия именуется Калинковической, Николай Богданович привстал из-за стола и, как-то сразу просветлев лицом, широко раскинул руки.
— Так вы освобождали мой родной город? — дрогнувшим голосом спросил он.
— Получается так, — ответил я и тут же почувствовал плечами силу его объятий.
— В Калинковичах и сейчас живут мои мать и отец.
Теперь Николай Богданович уже не отказывался пообедать у тети Паши. Условились, что за ним завтра к двум часам дня зайдет Анатолий.
И вот это завтра наступило. Тетя Паша пустила в ход все, что привез я и что прикупил Топик на рынке. Огромная сковорода картошки, жаренной на домашнем свином сале, большая тарелка пупырчатых соленых огурцов, вздрагивающие при малейшем толчке стола отвалы студня, тарелка блинов, жирно смазанных сливочным маслом, вся эта роскошь теперь стояла на столе. Посредине возвышалась бутылка «Московской» с белой головкой. Вторая у меня была припрятана в чемодане.
Первый тост я произнес за знакомство и за память о наших родных братьях, погибших на полях войны. Выпили молча, не чокаясь. Хруст соленых огурцов перемежали разговором. В моей памяти были еще свежи названия белорусских сел и городов, при освобождении которых наша пятая гвардейская дивизия давала свои могучие залпы. При названии почти каждого села или городишки Николай Богданович тревожно вскидывал руку и восклицал, что там у него живет родной дядя или двоюродный брат, что в этом городе он учился в техникуме, а в церкви этого села его крестили.
Выпили «За Победу!», и Николай Богданович стал заметно пьянеть, как мне показалось, не столько от водки, сколько от разговора о его родной Белоруссии, о ее городах и селах, которые освобождали его брат и я. И это чем-то роднило нас, сближало по духу и биографии.
В четыре часа Анатолий, извинившись, ушел, а Николай Богданович, не дождавшись, когда я налью по третьей, сам наполнил стопки.
— А теперь я скажу тост. — Он поднял стопку, чокнулся и, пристально глядя мне в глаза, продолжил. — Выпьем за нашу дружбу, Ваня! И скажи мне, чем я могу помочь? Тебе и твоему брату. Он очень хороший парень, и на заводе Анатолия любят все. В прошлом году, когда праздновали День Победы, на концерте заводской самодеятельности он показал такой номер, что его минут десять не отпускали со сцены!..
— «Баланс» со стаканом воды! — воскликнул я.
— Да, да! Директор завода даже распорядился на второй же день выдать ему премию и дать внеочередной отпуск, что я и сделал.
Мы отдали честь искусно пожаренной тетей Пашей картошке и студню. Хотя я и захмелел, но не забыл того главного, ради которого приехал к брату, и попросил уволить Анатолия по собственному желанию, ссылаясь на его здоровье, мучивший его кашель. Николай Богданович, склонив голову, молчал. Заговорил он лишь тогда, когда я, исчерпав свои доводы, закурил, вытащил из чемодана вторую бутылку и поставил на стол. В эту минуту я больше всего боялся, что начальник цеха скажет «больше не могу». Но этого не случилось. Когда я наполнил водкой стопки и сел на свое место, он встал, крепко пожал мне руку и твердо сказал:
— Хотя это трудно, очень трудно, но я сделаю для Толи и для тебя, Ваня, все, что в моих силах. А силенки у меня еще хватает. Уважает меня высшее начальство.
С этими словами он вскинул над головой руку, показывая пальцем в потолок.
В завершение застолья Николай Богданович поведал мне горькую для меня новость. Оказывается, ко дню парада Победы на Красной площади, в числе лучших рабочих завода, Анатолий был представлен к правительственной награде — ордену Трудового Красного Знамени, но, к его великому огорчению, из списка в обкоме партии фамилию Толи вычеркнули.
— Отец… — сразу же сказал Николай Богданович, предупреждая мой вопрос. — Тридцать седьмой год… пятьдесят восьмая статья, пункт десять… «Враг народа». Все так же, как и у меня. Мы с Толей несем один общий тяжелый крест.
Уже по дороге, когда я провожал Николая Богдановича домой, он рассказал мне, что живет холостяком, в Речицах ждут его жена и две дочери, одна из которых, старшая, собирается выходить замуж.
У подъезда своего дома начальник цеха, положив мне левую руку на плечо, твердо сказал:
— Считай, Ваня, что Толя в конце этой недели будет дома. Этот вопрос я решу завтра с утра. А бюрократа-врача, который считает Анатолия здоровым и ждет, когда он докашляется до инвалидности… — плюнув в ладонь, он крепко сжал кулак и потряс им перед собой, — я возьму в такой пресс, что справку о противопоказании работать в горячих цехах он сам принесет. Когда будешь уезжать из Белова — сообщи через Толю. Я провожу тебя. Часок-другой посидим в моей холостяцкой хижине.
Свое слово Николай Богданович сдержал. Медицинское заключение врачебной комиссии о том, что по состоянию здоровья Анатолию противопоказана работа в горячих цехах, ему выдали во вторник. Не знаю, был ли он так счастлив когда-нибудь раньше, как в этот день.
Все трое посидели мы в «холостяцкой хижине» Николая Богдановича. Отметили наш отъезд и в вокзальном буфете. Хотя поезд в Белове стоял всего восемь минут, но и в купе вагона за столиком у окна успели братским тостом закрепить нашу дружбу, мою благодарность и память о нашей встрече.
По возбужденному лицу Анатолия я видел: он до сих пор не может поверить, что вырвался с завода, который в письмах матери называл жаровней. Почти до полночи мы стояли в тамбуре вагона, курили. Я рассказывал ему о войне, о том, какие города пришлось освобождать, о преподавании физики в школе, о своем московском житье-бытье… Перед тем как лечь спать, я спросил Толика, почему мама не знает о его представлении к ордену. На мой вопрос Анатолий ответил не сразу. Грустная улыбка легла на его лицо.
— Не стал ее расстраивать. А то вдруг по простоте душевной напишет отцу, а для него эта новость будет посильнее плевка в лицо. Да еще лежачему.
— Ты прав, Толик. Вижу, что взрослеешь.
Судя по тому, как долго ворочался и вздыхал брат, я понял, что, как и меня, его томила бессонница.
Тетка в Новосибирске встретила нас сердечно, начала суетливо готовить завтрак. Но когда я увидел, что она в сенках повесила на гвоздь пропахшую бардой робу, я понял: сегодня нам с братом предстоит сделать не один маршрут на спиртозавод.
Несколько лет назад бездетные дядя и тетка официально усыновили меня, чтобы получить дополнительную хлебную карточку иждивенца. Тогда я не придал этому никакого значения. А вот сейчас, когда репрессия отца стала причиной исключения меня из института, понял, что с биографией моей, если писать ее правдиво, продолжение дальнейшего образования невозможно. Поэтому я и указал в своей автобиографии, направленной в МГУ, на факт усыновления, ни словом не упоминая об аресте родного отца, сельского плотника. Но разговор об этом с дядей и теткой я решил отложить на вечер.
Мои предположения сбылись: после завтрака тетка подмигнула Толику, похлопала его по плечу и шутливо сказала:
— Ты, Толик, пойдешь коренником, а я в пристяжку.
Меня тетка пожалела, зная еще по годам моего детства, что больше всего на свете я ненавидел эту вонючую работу.
Этот день пребывания в Новосибирске, где прошли три года моей юности и где по-школьному я тайно и безответно влюбился, принес мне неожиданную радость. Мой лучший друг Павлик Новиков, голубоглазый паренек, на которого еще в начале войны пришли две похоронки, оказался жив и здоров. Он пребывал на каком-то фильтрационном пункте КГБ для бывших военнопленных. Об этом мне сообщила его мать, тетя Дуня. Никогда я не видел ее такой счастливой и возбужденной. Прежде чем показать мне письма, полученные от Павлика, она долго их целовала, прижимала к груди, обливаясь слезами.
— Я никогда не верила!.. — всхлипывая, говорила она. Не верила, что может погибнуть мой единственный сын. Все эти четыре года я молилась и вымолила у Господа Бога своего Павлика. Оказывается, его тяжело ранили под Смоленском, и он попал в плен. Немцы его не убили только потому, что приняли за своего — голубоглазого и светлокудрого, вылечили и направили во французскую зону оккупации.
Я с волнением читал эти письма. Почерк Павлика знал прекрасно: он был таким же плавным и слегка наклонным, какими мне казались его походка, манера здороваться и вести разговор.
Если короткую стрижку тети Дуни седина посыпала реденьким серебром, то голова отца Павлика, Ивана Васильевича, была совсем белая. Весь он как-то усох, сузился в плечах и даже ростом стал ниже. Не перебивая жену, не смея даже словечком остудить ее радость, он сидел на табуретке посреди комнаты, как чужой. По его небритым щекам текли слезы. Оказывается, все эти письма родители Павлика получили неделю назад. Тетя Дуня обегала и объездила всех своих родных и знакомых в городе, пытаясь выяснить, где находится этот фильтрационный лагерь. Не знала она, что, пройдя через фильтр КГБ, ее сыну придется еще немало хлебнуть горя, прежде чем он через пять лет получит диплом об окончании Томского политехнического института.
Как и полагается по русскому обычаю, меня пригласили к столу. У Ивана Васильевича нашлась где-то «заначенная» бутылка. Солнце уже начинало скрываться за насыпью Сухарного моста через овражную грязную речушку Ельцовку, когда они меня отпустили.
После двух поездок с десятиведерной бочкой на спиртозавод Толя успел еще съездить в техникум физкультуры, ознакомиться с условиями приема и, вернувшись к тетке, искурил в ожидании меня полпачки «Норда». Василий Петрович, мой дядя по отцу, каменщик по профессии, в свои сорок восемь лет изрядно постарел. Угрюмый по характеру, безотказный в работе, он всю жизнь нес тяжкий крест «подкаблучника» у своенравной, властной жены. Она вертела им как хотела, упрекала за то, что муж мало работает сверхурочно.
Однако, когда я завел разговор о том, что при поступлении в институт в своей биографии буду писать об усыновлении меня ими, тетка не возражала и показала мне паспорта, где в графе «дети» было записано мое имя и год рождения. Крестный даже перекрестил меня. И это его благословение было в моей судьбе той спасительной ладанкой, которая оградит меня от многих бед при поступлении в Московский университет.
Не знал я, что эта встреча с крестным будет последней. Через два года его истощенный организм окончательно сломила почти неизлечимая профессиональная болезнь трубочистов — силикоз. А ведь он, бедняга, безответный перед своей властной женой и перед начальством, последние десять лет очистил столько промышленных труб, что гарью и сажей, вычищенных из них, можно было загрузить не один десяток товарных вагонов. Эта гарь и ядовитая сажа, поднимающаяся кверху, оседала в его легких. Еще мальчишкой я видел на снегу вокруг нашего барака какие-то черные ледышки. Не сразу понял, что это следы отхаркивания крестного. Уже тогда он удушливо кашлял. Царство ему небесное. Зная его безропотный характер и добрую душу, не могу допустить, чтобы он мог причинить кому-нибудь зло. Помнится и прощание с ним. Расцеловавшись в сенцах, мы шагнули через порог и вдруг, откуда ни возьмись, между наших ног проскочила на улицу черная кошка. Я не придал этому значения, но крестный весь переменился в лице. Уже приехав домой, я спросил у мамы, почему крестный так среагировал на кошку, она задумалась и как-то грустно ответила:
— Это, сынок, плохая примета. Больше, наверно, вы с крестным не увидитесь.
Когда крестного по просьбе тетки выписывали из больницы, он со слезами на глазах умолял врачей оставить его там, но воля супруги взяла верх. Он умирал дома мучительно, задыхаясь в тесной каморке без окна, рядом с печкой, на которой с утра до вечера кипела в чугунах и кастрюлях барда для свиней.
В день приезда домой я был огорчен новостью, которую мне сообщила мама. Оказывается, Сашу Феллера, поклонника Зины, успешно закончившего восьмой класс, административно, с группой молодых парней выслали в Кузбасс на работу в шахты. Не дали дальше учиться лишь потому, что он по национальности немец. По опухшим от слез глазам Зины я понял, что предстоящая разлука была для нее ударом. Помню, когда она меня познакомила с Сашей, мы сыграли две партии в шахматы, и обе я продул. Как на грех, я сказал Зине, что когда Саша вырастет, то станет походить на Фридриха Шиллера. Очевидно, это ее заинтриговало. Через неделю, войдя в горенку, я увидел, как Зина положила под подушку какую-то толстую книгу большого формата. Я подошел к ее кровати и вытащил книгу из-под подушки. Это был Шиллер. Лицо сестры вспыхнуло яркой краской. Я тогда ничего не сказал, пожалел ее, пощадил девичью влюбленность. Ей было пятнадцать лет. В такие годы целомудренные души хранят любовь как великую тайну.
Я и раньше знал, что всех уже давно обрусевших немцев с Поволжья насильственно переселили в Казахстан. Но в годы войны, когда слово «немец» ассоциировалось с фашизмом и с несправедливой войной, в которой погибали мои соотечественники, я почти равнодушно отнесся к жестокому проявлению воли Верховного главнокомандующего. Вкрадывались в голову грешные мысли: наверное, есть за что. Но вот теперь, когда на их глазах свершилась несправедливость, когда прекрасного молодого человека, воспитанного и безупречного в своем поведении, по решению чьей-то высшей воли лишают права на образование, я по-другому оценил жесткую волю Сталина.
Тут же невольно вспомнил, как к нам пришла уже немолодая калмычка, живущая в землянке за нашими огородами. Она попросила у матери взаймы ведро картошки и чуть ли не со слезами на глазах стала жаловаться, что ей нечем кормить дочку. Я, чтобы не слышать разговоры матери с калмычкой, закрыл дверь в горенку и включил радио. А когда мать насыпала женщине два ведра картошки и проводила ее во двор, я никак не мог понять, чем могла ее рассмешить эта худенькая, нищая калмычка. Мама рассказала мне историю этой несчастной семьи. Оказывается, ее муж, мобилизованный в самом начале войны, погиб в боях за Киев, и она носит на груди за пазухой похоронку, завернутую в клеенчатый лоскут.
— Так что же тут смешного? — недоумевал я. — Муж этой калмычки, отец голодающей девочки, погиб в боях за родину, а его семья, сметенная с родной земли, живет в сырой землянке.
Словно устыдившись, мама рассказала мне, что калмычка приходила не только за картошкой: она сватала за меня свою пятнадцатилетнюю дочь Нюрку. Причем калым назначила небольшой — всего пять мешков картошки.
— Уж как я старалась не обидеть бедную женщину, убедить ее в том, что у тебя есть невеста в Новосибирске, она ничего и слушать не хотела. Сначала снизила калым до четырех мешков, а потом и вообще до трех. Убеждала, что уж больно понравился ты им обеим, кудрявый и хорошо улыбаешься. Насилу проводила.
Это сватовство дурманило мою душу дня два. Через двадцать лет в Центральном доме литераторов в Москве я встретил своего друга, известного калмыцкого поэта Давида Кугультинова. Во время этой встречи я поведал ему о горьком сватовстве в дни моей далекой юности. Стоило мне рассказать о крохотной сырой землянке за нашим огородом, нищей девочке и матери, готовой выдать ее замуж за три мешка картошки, как лицо Давида заметно помрачнело, подковы его губ стали круче, а глаза неподвижно застыли на скатерти.
— Ты плеснул мне, Ваня, кислотой на незажившую рану, — мрачно произнес он.
Много горького и печального рассказал мне Давид о своей несправедливо поруганной и обездоленной нации…
Первые дни после приезда домой Анатолий не знал, чем заняться. Пробовал читать, но книги его не волновали. А когда наточил пилу, два топора и железки от рубанков, то его потянуло к хозяйству, хотя в малолетстве он не любил им заниматься. Я восхищался братом, когда он с душой ремонтировал и омолаживал заборчик палисадника, над которым трудился еще Мишка. Четыре тополька, зеленые, разлапистые, в серебряной одежке коры, посаженные им, вскоре поднялись выше печной трубы. Мне казалось, что когда Толя за работой беззвучно шевелит губами, он как бы разговаривает со старшим братом Михаилом, погибшим на Волховском фронте.
Спасибо тебе, милая мама, за твое мужество!
Эту главу своих воспоминаний я пишу на 77-м году своей жизни. После того покоса, когда два брата вернулись с войны и вместе с двумя братьями, Анатолием и Петром, встали в один ряд и, без передышки, пройдя добрых полсотни метров, остановились, чтобы подточить косы, глядя на нас ты вспомнила, мама, что наш старший брат Миша уже никогда не увидит нас.
А вот отец, которому еще полтора года было суждено пробыть на сталинской каторге, может быть, доживет до того дня когда увидит своих сыновей на Волковском займище, где учил нас владеть косой лет десять-пятнадцать назад. Но не эта картина скатившихся с твоих щек слез взволновала меня и перенесла на целых пятьдесят лет назад от последнего нашего покоса, в течение которых остались в живых я и сестренка Зина.
Когда-то, в двадцать два года с отличием закончившая филологический институт Воронежского университета, на уроки в 9-е и 10-е классы она шла взволнованно и вдохновенно, словно молодой актер идет на свой премьерный спектакль.
Репрессирование нашего отца в 1937 году по 58-й статье была для нас, его детей, потрясением и глубоким ударом. Мужественней, чем мы, сыновья и дочь, вела себя мама. Она не верила, что отца посадят. Она твердо считала, что случилась какая-то ошибка или предательский оговор. В его поведении, отношении к работе она видела пример рабочего-стахановца и ударника. Когда нужно было для дела, он безропотно работал без выходных, а когда в 1935 году шла стройка двухэтажной каменной школы, работа без отпусков — и никакого ропота. Он знал, что и пятый, самый младший его сын, сядет за парту в первый класс. А в последнее лето строительства школы, когда осенью ее должны были сдавать, даже мы, старшие братья: Сережа, Миша и я, все лето работали на строительстве нашей школы: драли дранку, убирали участок, месили глину и цемент, подносили кирпичи. Среди нас были дети 13,14 и 15 лет, дети рабочих, но мы никогда не видели детей служащих и администрации села.
А когда в конце сентября отца арестовали и местная районная тюрьма была настолько забита, что для арестованных не хватало места на 3-х ярусных нарах, то однажды после последнего киносеанса из клуба прибежал вспотевший брат Толик и тревожно сообщил, что заключенных начинают перегонять на станцию, что на запасную платформу уже подали три свободных вагона, мы, все четыре брата, кинулись на станцию. Первым бежал Миша. Шестилетний Петя отставал, но мы его щадили, время от времени держали его за руку. Чтобы не вызвать подозрения скопившейся у дома милиции толпы, мы свернули за Пролетарскую улицу и побежали по ней. Но и на этой, несколько удаленной от центра улице, чувствовалось оживление. По доносившимся репликам людей не трудно было понять, что об отправлении из тюрьмы заключенных знало уже все село. Когда мы подбежали к запасной платформе, где стояли три распахнутых настежь вагона, нас грубо остановил милиционер: Дальше нельзя!..
Ночь была темная. Две лампочки на столбах были или специально выкручены, или разбиты. Как мы, братья, ни напрягали зрения, чтобы увидеть своего отца у полуоткрытых дверей вагонов, куда по деревянной ступенчатой лестнице, согласно списку поднимались заключенные, мы так и не увидели его. Не услышали и его фамилии среди других, глухо произносимых конвоирами.
Кто-то из заключенных пересохшим ртом пробил воды, но из цепочки охраны ему никто ничего не ответил.
Когда погрузка арестованных закончилась, двери вагонов металлически лязгнули и, как будто по чьей-то команде, время от времени усиливаясь, разнесся бабий вой. Плач звучал надрывно. Такой рвущий душу плач я слышал только на кладбище во время похорон.
Через два дня мама от кого-то узнала, что убинских арестованных увезли в Мариинск, где их будут судить. Собрав кое-каких продуктов, мама вместе с такими же несчастными женами арестантов собралась в Мариинск. Почти до полуночи она о чем-то тихо разговаривала с бабушкой, очевидно, наказывала ей как вести хозяйство. А когда мы, три брата, утром, собирались в школу, мамы дома уже не было.
Неделя ее ожидания была тяжелой и мучительной. За всю эту неделю мы не только не подрались, но даже не поссорились. И словно стыдясь чего-то, не смотрели в глаза друг другу. В глаза, воспаленные от слез.
Без всяких споров ухаживали за скотиной, привозили из дальнего колодца воду, в запас рубили дрова, облегчая тем самым тяжесть души, и все это делали как-то молча и неторопливо, заглушая трудом тяжесть сиротства. И каждый вечер все трое, кроме маленького Петушка, у которого расхудились сапоги, ходили на станцию встречать маму. И какой же была наша радость, когда мы увидели как с тормоза товарного вагона, вздыхая и что-то причитая, неуклюже сошли три женщины, среди которых была наша мама. Боже мой, как она изменилась лицом, как она постарела. Миша не просто заплакал, а зарыдал, давясь горловыми спазмами. Обняв его, рыдала и мама.
До самого дома мы шли почти молча, время от времени отирая слезы со щек. И только у соседских тополей Миша приглушенно спросил у мамы:
— Сколько дали отцу?
Мама тихо ответила:
— Десять лет, сынок. Всем нашим мужикам дали по десять лет, и без права переписки. А один мужик из Кормачей не выдержал дороги и умер прямо в вагоне, не доезжая до Мариинска.
Через полгода каким-то чудом мы получили от отца маленькую весточку, подписанную его рукой. В ней он сообщал, что находится на Дальнем Востоке вблизи реки под названием Бурея. Работы там идут тяжелые: строят железную дорогу, шахты и что-то еще. Жаловался на здоровье и плохое питание. Адрес на затертом треугольнике, свернутом из страницы клетчатой тетради, был написан не отцовским почерком. Значит, он попросил кого-то сбросить на станции Убинской это скорбное послание.
Сережа во время ареста отца уже был студентом Московского института философии, литературы и истории. Об аресте отца он узнает не скоро, а только через год, когда приедет на первые летние каникулы. Узнав о горе в нашем семействе, в ту же ночь уедет в Новосибирск, где последние два года жил на иждивении родного дяди и где закончил успешно среднюю школу. Ему посчастливилось — в Московский институт он поступил еще до ареста отца.
Институт, в котором учился Сергей в довоенные и военные годы, считался самым престижным институтом в стране. Кое-кто из высокообразованных людей считал его царскосельским лицеем новых времен, чем студенты этого высшего учебного заведения достойно гордились.
Впоследствии все три его факультета слились с факультетами Московского государственного университета. Оставшиеся в живых студенты этого института после Великой Отечественной войны стали видными учеными и доросли до высоких званий академиков. О некоторых из них я еще напишу в своей второй книге, если Бог даст силы и здоровья для этого труда.
Первые пять лет заключения отца мы, братья, писали письма с ходатайствами о помиловании отца. И кому только не писали: и Михаилу Ивановичу Калинину, и самому Сталину, писали в НКВД самому наркому и всем писали о помиловании отца. А теперь уже не помню, кто-то подсказал нам написать самому главному начальнику в НКВД по фамилии Гулаг. Правда, имя и отчество этого высшего начальника не сказали. Как сейчас помню адреса на этих конвертах: Москва, НКВД, тов. Гулагу. И в первых строчках своего письма просили прощения, что не знаем имени-отчества высокого начальника. Как правило, свои детские письма мы подписывали вчетвером: Миша, я, Толя и Петя — по возрастающей субординации. Кроме листов с текстом письма мы вкладывали в конверты фотографии его похвальных и ударных грамот.
Ни на одно из этих скорбных писем ответа мы не получили. Так продолжалось почти до конца войны, пока в наших душах не погасла надежда на ответы. Писала письма по этим же адресам и мама. Но, удивительно, она ни у кого из вождей и начальников не просила отца помиловать. В своих письмах она твердо считала, что он ни в чем не виноват ни перед государством, ни перед партией, ни перед Господом Богом, ни перед народом. Однажды она с нами, детьми, даже поспорила, что отец не совершил никаких тяжких грехов, чтобы получить такое суровое наказание — 10 лет, что милуют грешников, а безгрешных не милуют: в их делах и проступках разбираются и выносят справедливое решение. Только теперь я понял, почему некоторые высокие генералы и адмиралы, получившие несправедливые сроки уголовного наказания, отвергают президентское помилование и твердо настаивают на пересмотре их дела, в котором они обвиняются. Конечно, это удел сильных людей, людей гордых, готовых предстать перед праведным Божьим судом. Только теперь я понял, что эта глубокая логика и философия мамы была основана на ее религиозных убеждениях. И она была права. Она все-таки достучалась до сердца человека, который понял ее горе и дал указание соответствующим органам прокуратуры пересмотреть дело отца. Этим человеком был самый популярный в те годы военный и государственный деятель, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ефремович Ворошилов. Письмо к нему мама писала две ночи сама. В эти пятидесятые годы нас, сыновей и дочерей, с ней не было. Мы жили в разных городах.
По указанию К. Е. Ворошилова дело было поручено Новосибирской областной прокуратуре, которая приняла решение о реабилитации нашего отца из-за отсутствия состава преступления. Об этом было официально сообщено матери, Лазутиной Марии Сергеевне. Очень жалко, что отец, умерший от тяжелой болезни в августе 1953 года, не дожил до этого святого документа. Как бы он был рад, как бы он был счастлив!
И Господь тебя вознаградил, мама! Ты умерла без мук, без болезни, вечером помолилась, легла спать, а утром твоя чистая, добрая душа полетела к Богу! Царство тебе Небесное и вечный покой, милая, родная, воспитавшая нас мама!
МОСКВА, КРЕМЛЬ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
тов. К. Е. ВОРОШИЛОВУ
От Лазутиной М. С.
г. Новосибирск, ул. Жданова № 31
Дорогой Климент Ефремович!
Обращаюсь к Вам с просьбой о пересмотре соответствующими органами дела о судимости моего покойного мужа Лазутина Георгия Петровича с тем, чтобы полностью его реабилитировать.
Мой покойный супруг Лазутин Георгий Петрович родился в 1899 году в селе Пичаево Тамбовской области, происходил из крестьян-бедняков, малограмотный, беспартийный, был в 1937 году осужден «тройкой» УНКВД Новосибирской области и был приговорен к 10 годам лишения свободы по статье 58 пункт 10 УК РСФСР.
Предъявленные ему обвинения были необоснованные, надуманные, а поэтому незаконные. Но в результате принуждения обвинительное заключение им было подписано. Вины же его, предусмотренной статьей 58–10, совершенно не было.
До 1931 года мой муж занимался земледелием, а с 1931 года работал на предприятиях плотником. Накануне ареста он работал плотником в детском доме Убинского района Новосибирской области. На его иждивении, кроме меня, находилось шестеро детей. После ареста мужа я вместе с детьми вступила в колхоз «Заветы Ильича» Убинского района Новосибирской области, в котором работала дояркой до 1947 года, до потери трудоспособности.
В письмах меня муж просил, чтобы я не жалела сил на воспитание детей. Одна, с помощью колхоза, я воспитывала детей. Три сына: Сергей, Михаил, Иван участвовали на фронтах Великой Отечественной войны. Михаил погиб в 1944 году на Волховском фронте, Иван вернулся инвалидом. Сын Анатолий, будучи подростком, во время войны работал на военном заводе, имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
В 1947 году мой муж отбыл срок наказания и был освобожден без поражения в правах, вернулся на старое место жительства, где поступил сторожем в Убинскую среднюю школу. Проработал четыре года, а затем тяжело заболел и скончался в августе 1953 года от рака желудка.
Еще во время болезни муж, будучи сам очень малограмотным, просил меня подать ходатайство о пересмотре его дела. До последних дней своей жизни он говорил мне, что отбывал наказание совершенно невинно.
Я прожила с мужем большую и трудную жизнь и могу твердо заверить, что мой покойный супруг был честным тружеником. За ударную работу он имел несколько похвальных грамот и благодарностей. По своему политическому убеждению он был всегда предан Родине, народу, Советской власти.
Дорогой Климент Ефремович, будучи глубоко убежденной в том, что мой покойный муж был осужден совершенно невинно, прошу Вас дать указание соответствующим органам о пересмотре его дела с целью полной реабилитации моего мужа.
К письму прилагаю некоторые сохранившиеся документы, характеризующие его трудовую деятельность до ареста.
Мой адрес: город Новосибирск, улица Жданова № 31. Лазутиной Марии Сергеевне. 8 апреля 1956 г.Эпилог
Родничок литературного пробуждения я почувствовал в душе своей очень рано, еще в дошкольные детские годы. С каким-то особенным наслаждением я запоминал наизусть стихи, которые учил мой старший брат Сережа. В ритмике поэтических строчек я улавливал свою особую музыку, и это придавало моей памяти остроту и заинтересованность. Это уже потом, ученица средней школы, я узнал, что в своем детстве мама страстно любила поэзию. Моя бабушка, Настасья Никитична, будет нам, внукам, рассказывать о том, как наша мама, ученица церковно-приходской школы, спрятавшись от взрослых, читала французские и английские романы, а также стихи Пушкина, Лермонтова и Некрасова. Это продолжалось до полночи, пока дедушка не «вкатывался» в ее маленькую спаленку и не тушил молча пятилинейную керосиновую лампу.
Позже, когда я стану профессиональным писателем, то я твердо буду знать, что страсть к художественной литературе, особенно к хорошей русской поэзии, мне как бы генетически передалась от мамы.
Уже после войны, когда я вернулся в родительский дом в село Убинское Новосибирской области, куда по воле судьбы нам пришлось переехать из Тамбовской губернии после раскулачивания деда, я, теперь уже не помню, где достал сборник стихов Бориса Пастернака, который прочитал на одном дыхании и открыл для себя нового русского талантливого поэта. Я даже не заметил, как мама взяла со стола сборник стихов Пастернака и, уединившись на кухне, принялась его читать. Через час она вошла в горенку, где я лежал на кровати, и, тронув меня за плечо, сказала:
— Какой прекрасный поэт. А я ведь раньше его не читала. — Она положила сборник на подушку и добавила: — Я тут ногтем отметила один куплет, один мудрый и волшебный куплет.
Эта строфа, отмеченная ногтевой вдавленкой, меня буквально обожгла сегодня утром, когда я читал стихи. Вот они, полные глубокой мудрости и пророчества пастернаковские стихи:
О, если б знал, что так бывает, Когда пускался на дебют, Что строчки с кровью убивают, Нахлынут горлом и убьют…Я посмотрел в глаза мамы и удивился: такого мятежного огня в ее глазах я еще никогда не видел. Я встал с кровати, поцеловал ее в щеку и сказал:
— Это хорошо, мамочка, что стихи эти тебя потрясли. Теперь мне понятно, в кого я уродился.
Очень тяжелыми для меня были вторая половина 51-го и первая половина 52-го годов, когда я пытался устроиться в редакцию какой-нибудь московской газеты или журнала. После знакомства с афишей выступлений молодых московских поэтов, где значилась и моя фамилия, а также с пригласительным билетом на поэтический вечер студии поэтов Московского университета, руководимой в то время широко известным поэтом, лауреатом Сталинской премии Павлом Антокольским, меня бойко и твердо вводили к главному редактору и представляли чуть ли не как находку для их редакции. Но после представления заполненного «листка по учету кадров» все кончалось тем, что сотрудники секретариата предлагали мне позвонить им через «несколько дней». И я звонил, уже заранее зная, что ответ будет отрицательным.
На мое счастье летом 1952 года вышел приказ Министерства «просвещения» о введении в программу 9 и 10 классов средних школ новых предметов психологии и логики, но преподавателей для этих дисциплин в институтах еще не готовили. И тут мне повезло. Директор 122 московской школы, что находилась в пятидесяти шагах от памятника Пушкину (тогда он стоял на старом месте), Трофим Никитич Полищук, познакомившись с моим университетским дипломом и контрольным листком о сдаче вступительного экзамена по логике в аспирантуру МГУ, протянул мне чистый лист бумаги и твердо сказал всего несколько слов:
— Заявление напишите на мое имя. Будете преподавать логику и психологию.
С этого дня мы с директором стали близкими друзьями.
Эти же предметы я несколько лет преподавал еще в двух школах: № 73 на старом Арбате, откуда на театральный небосклон взошла звезда народного артиста Вячеслава Шалевича, уже в школьные годы отмеченного божественной печатью таланта, дружба с которым у меня продолжается всю жизнь, и в школе на Беговой улице, откуда вышла в мир советского кино и театра Людмила Крылова.
Параллельно с преподавательской работой в общеобразовательных и Московской юридической школах началась творческая работа в прозе и драматургии. За полвека непрерывного литературного труда мною написано шесть романов, несколько повестей, десятки рассказов и пьес, поставленных в драматических театрах страны и за рубежом. Причем почти все пьесы написаны мной по мотивам моих романов и повестей после обращения ко мне руководства театров с просьбой дать им право инсценировать только что вышедший роман или повесть. В этой «перелицовке» моей прозы театром я, как правило, отказывал: очень боялся «стряпни» окололитературных «жучков» и театральных дельцов.
Об этом я расскажу во 2-м томе своих воспоминаний.
Моим литературным дебютом была повесть «Сержант милиции», за которую я в 1955 году на Всесоюзном конкурсе художественной литературы о работе советской милиции получил премию. Конкурс проводился Союзом писателей СССР и МВД СССР.
Дебют был удачным. Крутые повороты в моей литературной судьбе начались с романов «Суд идет», «Черные лебеди» и «Матросская тишина».
Приступая к работе над воспоминаниями, я никогда не думал, что строки некоторых глав будут насыщены болью и слезами. Пришлось заново в подробных деталях пережить трагедию раскулачивания трудовой крестьянской семьи и ареста отца, малограмотного плотника, событий, которые роковой печатью легли на дальнейшие двадцать лет моей биографии.
Только в 1956 году, после посмертной реабилитации отца, в «личном листке по учету кадров» можно было не заполнять «позорную» графу о репрессиях ближайших родственников.
Дальнейшие удары судьбы будут описаны во 2-й книге. Но жизнь принесет и счастливые моменты: женитьба, рождение детей, встречи с интересными людьми, дружба с которыми мне придаст новые силы и новые духовные опоры.
Гениальный скульптор Евгений Вучетич; восьмикратный чемпион СССР по боксу Николай Королев; последний председатель товарищества передвижников, председатель АХРРА Павел Родимов; блистательный клоун и киноактер Юрий Никулин; народные артисты СССР Николай Черкасов и Василий Меркурьев; боевые генералы и маршалы Советской армии.
Несколько деловых встреч у меня было с маршалом Советского Союза Василием Ивановичем Чуйковым, который как действующее лицо вошел в мою документальную повесть и пьесу «Тысяча первый поединок».
С маршалом авиации Евгением Яковлевичем Савицким мне посчастливилось в составе группы писателей-фронтовиков провести месячную командировку в войсках ПВО страны, где мы дружески общались с «подъема» до «отбоя». Интересный и красивый человек. Герой войны и прославленный спортсмен-теннисист.
С маршалом артиллерии Василием Ивановичем Казаковым у меня было несколько деловых встреч и даже одно совместное выступление в День артиллерии и ракетных войск. И где бы вы думали? В магазине «Детский мир», где директором была подруга жены маршала со школьных лет.
Не мог без восхищения читать военные мемуары моего земляка и друга генерал-полковника, Героя Советского Союза Василия Митрофановича Шатилова, с которым, как издавна говорилось на Руси, мы дружили домами.
Навсегда останется в памяти встреча в Советском комитете ветеранов войны с генералом армии Героем Советского Союза Павлом Ивановичем Батовым и легендарным героем войны Алексеем Маресьевым, на которой нам, писателям-фронтовикам, написавшим книги о войне, они вручали удостоверения и Знаки почетных ветеранов комитета ВОВ.
Встречи с трижды Героем Советского Союза маршалом авиации Иваном Кожедубом были у меня хоть и короткими, но зато незабываемыми. Много и как интересно мне рассказывал о нем его ведомый, летчик-истребитель Сергей Макарович Крамаренко, который за сбитые им немецкие самолеты получил звание Героя Советского Союза и после войны стал генералом. С семьей генерала Крамаренко дружат моя жена и мои дети. Пожалуй, единственный из этого почетного списка героев войны, кто ныне здравствует и продолжает трудиться на боевом посту, возглавляя клуб Героев Советского Союза и Героев России, мой ровесник Сергей Макарович Крамаренко.
Пишу эти печальные строки, а душой возношусь в молитве: «Царствие вам Небесное, мои дорогие друзья. Вы заслужили не только славу, но и покой».
Библиография
1. Бабкин лазарет. Повесть и рассказ. М., «Правда», 1983 (Библиотека «Огонек»).
2. В графе «отец» — прочерк. Драма в 2-х действиях. (Отв. ред. Малашенко). М., ВААП, 1976 (отпечатано на ротаторе).
3. В графе «отец» — прочерк. Драма в 2-х действиях. (Отв. ред. М. Ефимов). М., ВААП, 1983.
4. В огне повенчанные. Роман. М., Воениздат, 1979.
5. В огне повенчанные. Роман. М., Московский рабочий, 1984.
6. В огне повенчанные. Высота. М., Патриот, 1995.
7. Высота. Роман. М., Воениздат, 1990.
8. Живая память. (Сборник рассказов). М., «Художественная литература», 1970. (Роман-газета, № 10).
9. Избранные произведения в 2-х томах. М., Воениздат, 1984.
10. Избранные произведения в 2-х томах. М., Воениздат, 1984.
11. Избранные произведения, т. 1. — 1983, т. 2. — 1984.
12. Крах миллионера. Пьеса в 2-х действиях. М., ВААП-Информ, 1986.
13. Круги замыкаются. Драма в 2-х актах. М., ВААП-Информ, 1979.
14. Крылья. (Очерки о передовых авиаторах). М., Изд-во ДОСААФ, 1971.
15. Крылья и цепи. Роман. М., Современник, 1979.
16. Крылья и цепи. Роман. Барнаул. Алтайское книжное изд-во, 1985.
17. Крылья и цепи. (Черные лебеди). Роман. М., Советская Россия, 1990.
18. Матросская тишина. (Роман и повесть). М., ПКФ «Динамит»; ПКФ «Печатное дело», 1994.
19. Матросская тишина. Роман. Бомба Геринга. Повесть. Барнаул. АО «Полиграфист», 1994.
20. Обрывистые берега. Роман. М., Советский писатель, 1988.
21. Ордена павших. Повесть и рассказы. М., «Московский рабочий», 1972.
22. Ордена павших. Повесть. Рассказы. М., «Московский рабочий», 1980.
23. Помните!.. Героическая драма в 3-х актах. М., ВУОАП, 1969.
24. Помните!.. Героическая драма, новая редакция. М., ВААП, 1977.
25. Приметы судьбы. Героическая хроника в 2-х частях. М., ВААП-Информ, 1985.
26. Родник пробивает камни. Роман. М., Современник, 1974.
27. Родник пробивает камни. Роман. М., Советский писатель. 1978.
28. Родник пробивает камни. Роман. 2-е изд. М., Про-физдат. 1981.
29. Родник пробивает камни. Роман. М., Советская Россия, 1983.
30. Родник пробивает камни. Роман. М., Современник, 1988 (Библиотека российского романа).
31. Сержант милиции. Повесть. М., Воениздат, 1957.
32. Сержант милиции. Повесть. М., Воениздат, 1958.
33. Сержант милиции. Повесть. Ташкент. Объединенное изд-во «Кзыл Узбекистан», «Правда Востока» и «Узбекестони сурх», 1958.
34. Сержант милиции. Повесть. Алма-Ата, Казгосиздат, 1959.
35. Сержант милиции. Повесть. Новосибирск. Кн. изд-во, 1959.
36. Сержант милиции. Повесть. Смоленск, Кн. изд-во, 1959.
37. Сержант милиции. Повесть. Кызыл, Тувкнигоиздат, 1960.
38. Сержант милиции. Пьеса в 4-х действиях, 12 картинах. М., Отдел распространения драматических произведений, ВУОФП, 1960.
39. Сержант милиции. Повесть. (Издание дополненное и переработанное). М., Воениздат, 1961.
40. Сержант милиции. Повесть. (Издание дополненное и переработанное). Фрунзе, «Мектеп», 1966.
41. Сержант милиции. Повесть. (Издание дополненное и переработанное). Фрунзе, «Мектеп», 1967.
42. Сержант милиции. Повесть. М., Воениздат, 1972. (Военные приключения).
43. Сержант милиции. Повесть. Йошкар-Ола, Мар. кн. изд-во., 1978.
44. Сержант милиции. Повесть. Барнаул, Алт. кн. изд-во, 1980.
45. Сержант милиции. Повесть. М., «Правда», 1988.
46. Сержант милиции. Повесть. Барнаул, АО «Полиграфист», 1994.
47. Сержант милиции. Повесть. М., «Диана» и др., 1994.
48. Сержант милиции. Роман. Новосибирск. Кн. изд-во, Гурьевск, ИЧП «Книга», 1994.
49. Суд идет. Роман. (Книга 1). М., Советская Россия, 1962.
50. Суд идет. Роман. (Книга 1). М., Советская Россия, 1963.
51. Суд идет. Роман. (Книга 1). М., Советская Россия, 1964.
52. Суд идет. Роман. (Книга 1). Петрозаводск, Кн. изд-во, 1964.
53. Суд идет. Роман. (Книга 1). Петрозаводск, Карельское кн. изд-во, 1965.
54. Суд идет. Драма в 3-х актах. М., ВУОАП, 1966.
55. Суд идет. Роман. М., «Московский рабочий», 1990.
56. Суд идет. Роман. Новосибирск. Кн. изд-во, 1991.
57. Суд идет. Роман. Барнаул. АО «Полиграфист», 1994.
58. Суд идет. Роман. Новосибирск. Кн. изд-во, 1994 (Домашняя библиотека).
59. Судьба актрисы. Драма в 2-х актах. М., ВУОАП, 1968.
60. Тысяча первый поединок. Рассказ и повесть. М., Изд-во ДОСААФ, 1971.
61. Тысяча первый поединок. Героическая драма в 2-х актах с прологом. М., ВУОАП, 1972.
62. Тысяча первый поединок. (Документальная повесть и рассказы). М., Изд-во ДОСААФ, 1975.
63. Укротители молний. Пьеса в 2-х действиях. М., ВААП, 1974.
64. Укротители молний. Пьеса. М., Советский писатель, 1977.
65. Черный лебеди. Крылья и цепи (Черный лебеди). Роман. М., 1990.
66. Черный лебеди. Роман. Улан-Уде. Бурятское кн. изд-во, 1990.
67. Черные лебеди. Роман. М., Патриот, 1991.
68. Черные лебеди. Роман. Барнаул, АО «Полиграфист», 1994.
69. Черный лебеди. Роман. Новосибирск, Кн. изд-во; Гурьевск, ИЧП «Книга», 1994. (Домашняя библиотека).
70. Процесът продължава. Перев. от рус. Сидер Флорин. София, «Народна култура», 1966.
71. Presheri I mlticise. Romin. Tiranë, 1959.
72. Through thorns to the stars. Jan Butter. Moscow, Progress, 1979.
Фотографии
Бабушка по матери —
Анастасия Никитична.
Я с бабушкой по отцу — Татьяной Павловной и моими братьями:
Сережей, Мишей, Толей и Петей (на руках).
Лето 1928 г.
Старший брат матери (1 ряд в центре):
Егор Сергеевич Бердин, солдат русско-японской войны.
Отец, Лазутин Егор Петрович.
1921 г.
Брат матери — Василий Сергеевич Бердин,
солдат кавалерийского полка в г. Омске.
Отец, Лазутин Е. П., со своим братом Василием и старшим сыном Сергеем.
г. Новосибирск, 1937 г.
Иван Лазутин — инструктор авиамодельного кружка детской технической станции.
с. Убинское, 1936 г.
И. Лазутин с классом в походе (стоит в фуражке).
1937 г.
И. Лазутин с друзьями-одноклассниками.
1940 г.
Иван Лазутин с матерью.
г. Новосибирск, 1941 г.
Павел Бардюков — друг старших братьев Лазутиных.
Сельский силач, разгибал руками железные подковы.
Степан Яковлев (сельская кличка «Сало»),
знаменитый плясун и ведущий актер сельского народного театра.
Брат Михаил Лазутин с друзьями Иваном Слуповым и Федором Дряховым.
И. Слупов на областном конкурсе художественной самодеятельности занимал
первое место как комический актер и был приглашен работать в театр «Красный факел».
Иван Лазутин с другом детства и юности Александром Вышутиным.
1940 г.
Друзья довоенного детства Михаил Трубицын и Александр Вышутин.
1940 г.
Брат Михаил — преподаватель средней школы — с учащимися.
Март 1941 г.
Краснофлотец Иван Лазутин.
Владивостокский сектор береговой обороны Тихоокеанского флота.
1941–1942 гг.
И. Лазутин.
Солдат 22-й Гвардейской минометной бригады 1 Белорусского фронта.
Брат Сергей Лазутин с однополчанами.
1944 г.
И. Лазутин — курсант 2-го Гвардейского минометно-артиллерийского училища.
г. Омск, 1944 г.
И. Лазутин — курсант 2-го Гвардейского минометно-артиллерийского училища.
г. Омск, 1944 г.
Группа курсантов ГМАУ на лагерных сборах в г. Юрга.
Иван Лазутин справа от гармониста, 1 ряд.
Отец, Лазутин Е. П. (стоит).
Лагерь политзаключенных.
1944 год, Дальний Восток.
Брат Михаил, погибший в боях за город Шимск Новгородской области.
18.02.1944 г.
Брат Сергей.
1945 год.
«Московский дворник» — Иван Лазутин.
1945 г.
И. Лазутин. 1946 г.
А жизнь продолжается!
С братом Анатолием.
1946 год.
С братом Петром.
1950 год.
И. Г. Лазутин — преподаватель логики и психологии в старших классах.
г. Москва, 1947 г.
Наша семья после возвращения отца из лагеря:
мама, сестра Зина, отец, братья — Анатолий, Сергей, Петр и я.
1948 г.
Стромынка.
Февраль, 1948 г.
Мама с моим сыном Егором.
Абрамцево. Лето 1964 г.
Лето 1965 г. Абрамцево.
И. Лазутин и П. Лазутин у братской могилы,
где захоронен старший брат Михаил.







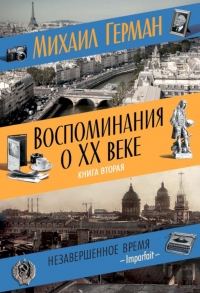
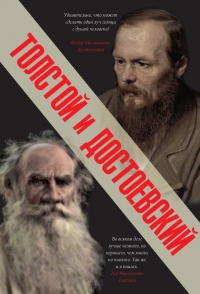
Комментарии к книге «Судьбы крутые повороты», Иван Георгиевич Лазутин
Всего 0 комментариев