Борис Рунин
Писательская рота
Борис Рунин. Записки случайно уцелевшего. М.:
Возвращение, 2010.
ISBN 978-5-7157-0238-8
В книгу Б. Рунина «Записки случайно уцелевшего»
вошли две повести — «Мое окружение» и «Писательская
рота».
Борис Рунин
Писательская рота
На опушке березовой рощи, где нас нельзя
обнаружить с воздуха, раздается, наконец, долгожданная
команда: "Привал!" Совершенно измочаленные
многокилометровым переходом с полной выкладкой
(только без шинелей, которые нам еще не выдали), мы
успеваем лишь прислонить винтовки к деревьям и без сил
валимся на землю. Некоторое время все лежат молча.
Потом как-то вяло, словно нехотя затевается разговор о
выносливости.
— Что ни говорите, а на марше старики утерли нос
юнцам,— доносится до меня чья-то ехидная реплика.
Кажется, это Николай Афрамеев, бывший секретарь
Литфонда.
Мне двадцать восемь лет, и я здесь один из самых
молодых. Моложе меня из литераторов, наверное, только
Данин и Казакевич. Да и то ненамного. Мы невольно
прислушиваемся. Идет ленивое, с большими паузами
выяснение, кому сколько лет.
— Вы что! — говорит Михаил Лузгин Василию
Дубровину, который только что стыдливо признался, что
ему уже за сорок.— Вон во второй роте Ефим Зозуля
шагает, ему пятидесятый идет. Или с ним рядом Бела
Иллеш, тот всего года на три моложе. А вы еще вполне
кавалер. Вот Фраерман, пожалуй, старше всех...
— Мы с Иллешем ровесники,— вставляет Иван
Жига.— Оба девяносто пятого года.
— Я тоже девяносто пятого...— Это подает голос
Марк Волосов.
Наша ополченческая рота необычна во многих
отношениях. Достаточно сказать, что она укомплектована
преимущественно профессиональными литераторами,
членами Союза советских писателей — прозаиками,
драматургами, поэтами, критиками. Но, кроме того, она
не соответствует обычным представлениям о воинском
подразделении и по возрастному составу. Здесь
представлены не просто разные годы рождения, но
буквально разные поколения.
Разговор, начавшийся так лениво, постепенно
привлекает все больше участников. Мы полулежим,
опираясь на вещевые мешки, снять которые просто не в
силах. Да и зачем, если с минуты на минуту прозвучит
команда, и мы двинемся дальше. Некоторые расстегнули
ворот гимнастерки и домашним, совсем еще штатским
жестом обмахивают лицо пилоткой. Некоторые,
преодолев каменную усталость, неторопливо
перематывают обмотки, по-нашему макароны. Ах, эти
чертовы обмотки! Сколько проклятий раздается в их
адрес: не затянешь — обязательно на ходу размотаются, а
затянешь потуже — затекут ноги.
Усталость такая, что даже закурить лень. А ведь
нам еще идти и идти. Где же взять силы на новый
переход? Словно прочитав мои мысли, Фурманский
незаметно сует мне в руку кубик сахара. Мы уже знаем —
в подобных обстоятельствах ничто так не бодрит, как
сахар. Но все четыре куска, выданные на рассвете, я уже
давно высосал самым эгоистическим образом. А вот
Фурманский оказался и предусмотрительнее и добрее.
Разговор о возрасте все не иссякает. Выясняется,
что Мафусаил у нас не кто иной, как Бляхин. Да, тот
самый Бляхин Павел Андреевич. Да, по его сценарию
были поставлены знаменитые в дни моего детства
"Красные дьяволята". Я смотрел их, еще живя в Харькове.
Господи! Ведь это было давным-давно, так давно, что
даже не верится,— в начале двадцатых годов. Мог ли я
тогда предполагать, что окажусь в одном батальоне с
автором этого фильма о гражданской войне и что мы оба
— "тот самый Бляхин" и я — станем солдатами Великой
Отечественной войны!
Впрочем, подобное удивление я уже испытал еще в
самом начале. Когда мы только вышли из Москвы и
остановились на два дня в Архангельском (да, в том
самом, юсуповском), где нам выдали обмундирование и
где мы построили для себя из нарубленных березок
уютные шалаши (безжалостно уничтожив ради одной
ночи целую рощу!), я невольно обратил внимание на
невысокого седеющего человека в полувоенном костюме
и мягких сапогах, которому старший лейтенант сказал: "А
вы, Либединский, могли бы остаться в своей одеже".
Дело было не в том, что я позавидовал этому
немолодому бойцу (хотя, конечно, сапоги куда удобнее
ботинок на шнурках и обмоток, а обмундирование цвета
хаки куда уместнее выданной нам серо—голубой формы,
видимо предназначавшейся фезеушникам). Просто это
был тот самый Юрий Либединский, чью "Неделю" я когда
—то проходил в школе. А не сразу я его узнал, наверное, потому, что, уходя в ополчение, Либединский сбрил свою
широко известную по портретам и многочисленным
шаржам мушкетерскую бородку.
Да и глядя на Белу Иллеша, неразлучного даже в
этих условиях со своим кофейником, я испытывал то же
странное ощущение внезапной перетасованности всех
человеческих сроков, всех призывов. Ведь роман
участника венгерской революции 1919 года Белы Иллеша
"Тиса горит" я тоже читал еще школьником.
Однако Бляхин оказался старше и Фраермана, и
Зозули, и Белы Иллеша, не говоря уж о Либединском.
Ничуть не кичась исключительностью своего возраста (да
и своей биографии — член партии с 1903 года, участник
революции 1905 года, прошедший через ссылку), скорее
даже смущенный этим обстоятельством, Павел Андреевич
очень просто, как-то по-домашнему говорит, что ему
пятьдесят четыре года, но это ничего не значит...
Он и потом никогда не претендовал ни на какие
льготы или привилегии, на которые вполне мог бы
рассчитывать. И уж во всяком случае, Павлу Андреевичу, человеку необычайно скромному, была чужда какая бы то
ни было учительность или просто снисходительная
назидательность в общении с окружающими. В его
мягкой, ровной, я бы даже сказал — ласковой, манере
разговаривать абсолютно отсутствовала столь
естественная в его годы интонация превосходства — мол, поживите с мое. Нет, он был ровней со всеми, даже с
самыми молодыми из нас. Мне потом довелось прожить с
Бляхиным примерно с неделю в одной землянке, и он ни
разу не дал мне почувствовать, что почти вдвое старше
меня.
— Да, неплохо бы дотянуть до вашего возраста,
особенно в наше безмятежное время,— мечтательно
произносит, глядя на Бляхина, драматург Павел Яльцев, автор популярной в тридцатые годы пьесы "Ненависть".
По моим тогдашним представлениям он тоже
немолод — во всяком случае, лет на десять старше меня, что, впрочем, не помешало нам уже в те дни стать
истинными друзьями.
Но вот в разговор вступают поэты.
— А ты, Вадим, о какой контрольной цифре
мечтаешь? — обращается к Стрельченко наш
правофланговый. Это поэт Саша Миних, человек
огромного роста и неисчерпаемого добродушия.
— Я бы хотел прожить столько, сколько будут
писаться стихи,— с легким украинским акцентом
отзывается тот.— Ты же знаешь, поэты, почти все без
исключения, рано или поздно переходят на прозу. .
Воспользовавшись спором, возникшим на эту тему,
ко мне пододвигается лежащий рядом Роскин.
— Про себя могу сказать только одно,— тихо
говорит он, так, чтобы не слышали другие.— В самом
близком будущем меня не станет.
Я, внутренне содрогнувшись, оборачиваюсь к
нему, но он совершенно спокоен.
— Не подумайте, что я малодушничаю или
рисуюсь,— продолжает он.— Просто я это слишком
хорошо знаю...
Как реагировать на подобное признание? Роскин
уже однажды говорил мне о своих мрачных
предчувствиях, но не с такой прямотой. Не скрою, моему
самолюбию начинающего литератора льстит
расположение этого очень уважаемого и очень
авторитетного критика, который уже давно служит для
меня примером профессиональной порядочности. Но ведь
нельзя же оставить его реплику без ответа. Однако
усталость словно лишила меня и всякой мыслительной
активности. Притупленное сознание ничего, кроме
пошлых возражений, мне не подсказывает, и я, к стыду
своему, предпочитаю промолчать.
Между тем разговор об отпущенных нам судьбою
сроках вопреки недавнему состоянию всеобщей
прострации становится все оживленнее.
— Что касается меня, то я хотел бы дожить до
нашей победы, а там посмотрим,— как всегда, чуть
насмешливо заявляет Эммануил Казакевич и, поблескивая
очками, весело оглядывает собеседников.
Мы уже привыкли к тому, что среди нас немало
очкариков. Данин тоже был снят с учета по зрению. С
очками не расстаются Лузгин, Гурштейн, Афрамеев,
Замчалов, Винер, Бек. Последний также принимает
участие в разговоре.
— А как вы думаете, сколько продлится война? —
с простодушнейшим выражением лица и затаенным в
глазах лукавством обращается он ко всем вообще и ни к
кому в частности.
Когда-то давно, будучи в командировке в Кузнецке,
я с интересом прочел, так сказать, на месте действия
очерки Александра Бека о русских металлургах. Вот уж
не думал встретить в его лице человека, столь глубоко и
надежно спрятанного за искусной маской чуть ли не
детской наивности. И это при явном уме и
доброжелательстве к окружающим. Что это — привычка к
осторожности, предусмотрительная защита от возможных
ударов судьбы?..
— Кто же это может знать! — попадается на
удочку торжествующего Бека Павел Фурманский,
слывущий среди нас знатоком военной теории и истории.
— Но давайте помнить о том, что империалистическая
война длилась четыре года.
— На этот вопрос каждый должен для себя
наложить запрет, — советует маленький, тщедушный, но
необычайно выносливый Рувим Фраерман, мудрый автор
"Дикой собаки Динго".
— Вы знаете,— напоминает о себе поэт Вячеслав
Афанасьев,— у меня такое ощущение, будто война
началась давным-давно. Будто мы вышли из Москвы еще
в той жизни. Будто мы уже годы шагаем по жаре, и этот
марш никогда не кончится.
— И только пыль, пыль, пыль, пыль от шагающих
сапог. И отпуска нет на войне! — дополняет мысль Славы
Афанасьева стихотворной цитатой молодой критик поэзии
Даниил Данин.
— Да, вся наша прежняя жизнь разом
отодвинулась куда-то в далекое прошлое, — невесело
замечает Роскин.— Теперь только понимаешь, насколько
мы не ценили былые радости.
— Я... бывало...— подхватывает драматург Петр
Жаткин, подражая качаловскому барону,— проснусь
утром и, лежа в постели, кофе пью — кофе! — со
сливками... да!.. Кареты... кареты с гербами!..
— Друзья, вы даже не знаете, где мы находимся! —
Из-за кустов появляется чрезвычайно возбужденный
Натан Базилевский. Его географическая
любознательность давно уже всеми замечена. Вот и
сейчас, несмотря на сбитые ноги, он все-таки отправился
на рекогносцировку — его чем—то заинтересовали
здешние места. — Ведь это же наша родная Малеевка!
Вон оттуда сквозь деревья виден дом творчества...
Сообщение Базилевского порождает взрыв
энтузиазма. Особенно взволнован Афрамеев, один из
инициаторов создания Малеевки. Но в этот момент ветер
доносит до нашего слуха далекую команду: "Подъем!..
Становись!.." Повторяясь на разные голоса, она
неумолимо приближается к нам.
И вот мы опять шагаем на запад, к фронту, в
сторону Смоленска. Куда-то в неизвестность.
Таким мне запомнился этот маленький и, казалось
бы, ничем особенно не примечательный эпизод,
относящийся примерно к середине июля 1941 года.
Привал как привал, один из множества на нашем нелегком
пути из Москвы к фронту.
Почему вообще таким памятным оказалось для
меня это первое военное лето? Иной раз даже кажется,
что я и сейчас, спустя сорок четыре года, так же
отчетливо вижу и эти поля, и эти леса, и эти дороги, а
главное — окружавших меня тогда людей. А ведь
ополчение — это было только начало, только каких-
нибудь девяносто дней. Война же потом, уже совсем
другая, длилась еще долго—долго, пока не насчитала свои
1418 дней.
А мне еще после победы довелось побывать на
Дальнем Востоке, на войне с Японией. И конечно, были в
моей, пусть даже самой скромной, военной биографии
события и более яркие, и более значительные, и уж
наверняка более драматичные, чем тот привал возле
Малеевки. Но почему-то они не заслонили его. Почему-то
прихоть памяти настойчиво возвращает меня именно к
этому эпизоду куда чаще, чем к какому-либо другому. Да
и вообще трехмесячное мое пребывание в так называемой
писательской роте осталось для меня и поныне самой
задушевной порой моей военной судьбы.
Разумеется, все это объясняется прежде всего тем,
что первые впечатления всегда самые памятные. Однако
новизна армейского существования и еще только
формирующихся представлений о войне совпала для меня
тогда и с необычностью, даже исключительностью среды, в которой я оказался. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что, попав в третью роту первого батальона 22-го
стрелкового полка 8-й Краснопресненской дивизии
народного ополчения Москвы, я оказался среди людей во
многом замечательных, давших мне тогда очень многое на
всю последующую жизнь. Не в плане профессиональном,
а именно в плане общечеловеческом, ибо своим
поведением они преподали мне немало ценных уроков
для понимания сложностей жизни, ее противоречий, ее
велений.
Да, моему тогдашнему сознанию начинающего
литератора весьма импонировала сама возможность
делить тяготы походной жизни с людьми, чьи имена были
мне в большинстве своем заочно известны и
ассоциировались для меня, прежде всего, с такими
категориями, как ум и талант. Среди них и впрямь было
немало талантливых писателей, но еще более важно,
наверное, подчеркнуть их этическую высоту.
Теперь, когда я вспоминаю те дни, мне кажется,
что никогда ни до того, ни после не окружало меня такое
количество сердечных, отзывчивых, доброжелательных
людей, попросту говоря — настоящих товарищей.
Наверно, на самом деле это заблуждение и процент
хороших людей, представленных в нашей роте, был такой
же, как и в любом другом подобном коллективе. Наверно, во второй роте, где писателей было поменьше (кроме уже
упомянутых, помню Степана Злобина, Сергея Острового,
Ивана Молчанова, Павла Железнова, Бориса Вакса,
Самуила Росина, Андрея Жучкова, Владимира Тренина,
Евгения Сикара), тоже сразу установился этот же дух
товарищества и взаимовыручки.
Помню, как во время длительного ночного марша
по темным лесным дорогам, когда все изнемогали от
духоты, пыли, бессонницы, непосильной тяжести
снаряжения и амуниции, да к тому же еще наш
батальонный начальник штаба сбился с пути и привел нас
в ту же деревню, из которой мы несколько часов назад
вышли, только с другого конца,— помню, как я в тот раз
стал засыпать на ходу. Я еще шел, но сознание уже не
участвовало в этом процессе, и ноги продолжали шагать
сами по себе, выписывая немыслимые вензеля. Вот тут-то
и разбудил меня Фраерман, оказывается, давно
наблюдавший за мной. Я немного знал его еще до войны
— мы познакомились после того, как я напечатал в
"Правде" восторженную рецензию на его "Дикую собаку
Динго". Но сейчас дело было не в этом.
— Борис Михайлович,— обратился он ко мне тихо,
так, чтобы не слышали другие,— давайте я понесу ваш
сидор. Для меня это дело привычное...
Сидором, чего многие теперь, наверное, уже не
знают, почему—то назывался тогда вещевой мешок.
Желая мне помочь, Фраерман не случайно завел
речь именно о сидоре. Он—то понимал, что многие из нас
по неопытности несут за спиной вещевые мешки
непомерной, никак не уставной тяжести. Ведь каждый,
словно мы сговорились, уходя на фронт, прихватил с
собой по нескольку книг. Вася Кудашев, близкий друг
Шолохова, нес весь "Тихий Дон", надеясь заново
перечитать его целиком вместе с заключительным,
недавно вышедшим четвертым томом. Примерно так же
Сергей Кирьянов (некоторое время он был политруком
нашей роты) рассчитывал перечитать "Последнего из
удэге" своего старшего товарища (еще по РАППу)
Фадеева.
Помню, как мы обманывали сами себя,
перекладывая любимые книги из сидора в сумку
противогаза, как будто эта операция могла облегчить
тяжесть ноши. Помню, как обливалось кровью мое сердце
заядлого библиофила, когда на одном из привалов Данин
нашел в себе решимость расстаться сразу с тремя книгами
и сохранил только томик Хлебникова. Да и вообще в
первые дни на местах наших привалов неизменно
оставалось по нескольку книг: вынужденные довести до
минимума свой воинский груз, вопреки непреодолимому
стремлению избавиться от лишней тяжести за спиной мы
все-таки оставляли в мешке печатное слово, уже
преимущественно стихи.
Никогда не унывающий и бесконечно участливый
Фраерман, который в годы гражданской войны
партизанил на Дальнем Востоке, поражал всех своей
походной тренированностью. И хотя я скрепя сердце не
воспользовался его предложением, он скоро уже шагал с
двумя вещевыми мешками — кто-то не устоял перед
соблазном переложить на него часть своего груза.
Дух солидарности и взаимопомощи как-то сразу
воцарился в нашей роте, объединив литераторов и
представителей других профессий в одно целое. Тут
следует заметить, что наша рота хотя и вошла в историю
войны как писательская, но целиком таковой не была.
Однако литераторы и люди иных интеллигентных
профессий в ней действительно преобладали, что, кстати
сказать, на первых порах не раз повергало нашего
молодого ротного командира, только что выпущенного из
училища лейтенанта, в состояние, близкое к отчаянию.
На одной из первых утренних поверок он
прошелся вдоль строя, с надеждой вглядываясь в наши
лица, и бодро скомандовал:
— Землекопы, три шага вперед!
Ни в первой, ни во второй шеренге никто не
двинулся с места,
— Плотники, три шага вперед! — уже не так лихо
скомандовал лейтенант.
Снова никакого эффекта.
— Повара, три шага вперед! — стараясь скрыть
свое презрение к такого рода публике, попавшей под его
начало, и уже не надеясь
на успех, произнес обескураженный лейтенант.
Но и поваров среди нас не оказалось.
Как бы прося извинения за нашу
профессиональную неполноценность, из второй шеренги
донесся сожалеющий голос Бека:
— Тут больше имажинисты, товарищ лейтенант...
Рота грохнула от хохота. Не понявший причины
смеха, лейтенант с досадой махнул рукой:
— Машинисты мне сейчас не нужны.
Смех опять прокатился вдоль строя.
Видимо, с той поры Александр Бек и взял на себя
роль нашего ротного Швейка. Человек недюжинного ума
и редкостной житейской проницательности, он, очевидно, давно уже привык разыгрывать из себя этакого
чудаковатого простофилю. Его врожденная
общительность сказывалась в том, что он мог с самым
наивным видом подсесть к любому товарищу по роте и,
настроив его своей намеренной детской
непосредственностью на полную откровенность,
завладеть всеми помыслами доверчивого собеседника.
Тут же замечу, что Бек никогда не употреблял эту
свою способность во зло. Просто он испытывал
душевную необходимость в подобных экспериментах.
Видимо, таким способом он удовлетворял свою
ненасытную потребность в человеческих контактах.
Кроме того, для него как для писателя это был
повседневный психологический тренинг. Думаю, что
вопреки своему кажущемуся простодушию Бек уже тогда
лучше, чем кто-либо из нас, ориентировался в
специфических условиях ополченского формирования да
и в прифронтовой обстановке вообще. Словом, это был
один из самых сложных и самых занятных характеров
среди нас, притом что писательская рота отнюдь не
испытывала недостатка в ярких индивидуальностях и
необычных биографиях. Особенно это касалось наших
"стариков". Среди них насчитывалось немало бывалых
людей, таких, как наш ротный старшина прозаик
Константин Клягин, прошедший через
империалистическую войну и занимавший разные
командные должности в Красной Армии в годы
гражданской войны. Или — тоже участники
империалистической войны и притом георгиевские
кавалеры — поэты Арон Кушниров и Александр Чачиков.
Георгиевским кавалером, даже дважды, был и Марк
Волосов, прозаик и переводчик с английского. В годы
первой мировой войны он бежал из немецкого плена в
Норвегию, оттуда в Америку, а потом несколько лет
плавал по морям и океанам на разных кораблях и в
разных должностях.
Или возьмите биографию драматурга Бориса
Вакса, который в предреволюционные годы стал
политическим эмигрантом, скитался по всему миру,
учился в университетах Италии и Швейцарии, а после
Октября работал в Наркоминделе и в составе советской
делегации присутствовал на Генуэзской конференции,
после чего был принят Лениным.
А веселый, остроумный Виталий Квасницкий,
прежде чем стать малоформистом, автором коротеньких
юмористических рассказов, забавных скетчей, смешных
реприз, успел повоевать на Дальнем Востоке в
партизанском отряде и в частях Народно-революционной
армии против Колчака и японских интервентов,
поработать подпольно в тылу у белых, зарекомендовать
себя опытным армейским политработником.
Итак, ополчение связало в один узел самые
различные судьбы, самые несходные характеры, зачастую
уже давно определившиеся, отмеченные в прошлом
значительными делами, интересными сочинениями. Но
даже на этом весьма выразительном фоне личность
Александра Бека выделялась неоспоримой
оригинальностью. Стремление к розыгрышу сочеталось в
нем с несколько авантюрными наклонностями, а явная
доброжелательность — с тщательно маскируемым
лукавством. Не было для него большего удовольствия,
чем спровоцировать окружающих на спор, разговорить их
или под видом невинного вопрошателя внушить
собеседнику собственные идеи и намерения. В какой-то
мере тут сказывались профессиональные навыки Бека. В
свое время он активно сотрудничал в созданном по
инициативе Горького при редакции "Истории фабрик и
заводов" так называемом "Кабинете мемуаров", который
был призван накапливать воспоминания деятелей
отечественной промышленности. Вызывать их на
разговор было для Бека привычным делом...
Пользуясь тем, что наша дивизия формировалась,
что называется, на ходу и испытывала острую
потребность в транспортных средствах, Бек стал
методично внедрять в сознание ротного командира мысль
о том, что без грузовой машины ему со всем его
хозяйством не обойтись. Надо сказать, что после эпизода
с имажинистами молоденький лейтенант уразумел, что
если он не будет снисходителен к фокусам Бека, то лишь
поставит себя в смешное положение. Впервые
столкнувшись с человеком такого типа и такого
непредсказуемого поведения, лейтенант, к его чести,
негласно принял предложенные Беком условия игры.
Всегда спасительное чувство юмора в данном случае
помогло лейтенанту. Дело в том, что Бек взял себе за
правило после каждой вечерней поверки, когда лейтенант
по традиции спрашивал у выстроенной роты, есть ли
вопросы, в свою очередь простодушно осведомляться:
— Товарищ лейтенант! Когда же вы меня
командируете в Москву за полуторкой?
Подобный спектакль разыгрывался перед всей
ротой изо дня в день. В конце концов, лейтенант, у
которого молодая смешливость, видимо, взяла верх над
уставной строгостью, решил обновить эту ставшую уже
почти ритуальной игру. И однажды он в ответ на
традиционный вопрос Бека с такой же лукавой
серьезностью скомандовал:
— Боец Бек! Шагом марш в Москву за полуторкой!
—— Есть в Москву за полуторкой! — отчеканил
Бек.
Без тени улыбки он вышел из строя и на глазах у
притихшей от такой дерзости роты энергично зашагал по
прямой куда-то в лес. Через минуту его фигура исчезла в
чаще как раз за спиной у лейтенанта, которому чувство
собственного достоинства не позволяло обернуться вслед
своевольному бойцу. Он лишь скомандовал положенное
"разойдись!" и отправился по своим делам.
А Бек исчез. Исчез не на шутку. За это время мы
еще продвинулись на запад, в сторону фронта, и после
нескольких дней марша снова остановились для боевой
учебы и строительства очередного рубежа обороны. На
таких стоянках мы занимались строевой подготовкой,
учились обращаться с оружием, ходили на стрельбище,
знакомились с боевым уставом пехоты, но главное —
рыли противотанковые рвы, пулеметные гнезда,
стрелковые ячейки и ходы сообщения, а иногда строили
блиндажи и землянки. После чего шли дальше.
Первая собственноручно вырытая мною ячейка
полного профиля памятна мне до сих пор. Мне кажется,
до меня и сейчас доносится этот неповторимый запах
разрытой земли, в которую я с каждым взмахом лопаты
постепенно погружаюсь, сначала по колено, потом по
пояс и, наконец, по плечи. Усталый, вспотевший,
голодный, я опускаю винтовку в окоп и осторожно,
стараясь не засорить песком затвор, устраиваюсь на дне.
Наконец-то можно передохнуть и закурить. Внезапно
масштабы громадно несущейся жизни, масштабы идущей
на земле великой войны сужаются для меня до размеров
моего убежища, и его надежная укромность сразу
становится до боли родной, невольно настраивающей на
мысль о судьбе, о будущем, о доме...
Да это ли не мой дом? Ведь здесь, в окопе, я
впервые после Москвы сам по себе. Круглые сутки на
людях, а тут — один. Кажется, от всего мира для тебя
остались лишь эти слои потревоженной, взрезанной
глины да одинокая звезда, обозначившаяся над головой в
вечереющем небе. Так бы и не ушел теперь отсюда,
обороняя до последней пули этот клочок смоленской
земли, с которой столь неожиданно породнила тебя
простая лопата...
Но на рассвете мы уже опять шагали на запад...
На этот раз мы остановились где-то уже на
приднепровском рубеже, оставив позади станцию
Семлево, к тому времени буквально сметенную с лица
земли немецкой авиацией. И опять потекли
ополченческие будни — рытье окопов, строевые занятия, БУП, стрельбы.
Через несколько дней, когда мы уже освоились на
новом месте и даже привыкли к гулу далекой канонады,
доносящейся по ночам из-за Днепра, в расположение
роты неожиданно въехал пикап с московским номером. В
кабине рядом с водителем сидел не кто иной, как Бек. Он
не торопясь отворил дверцу, ступил на землю и по всей
уставной форме отрапортовал командиру:
— Товарищ лейтенант, ваше приказание выполнил.
Машина с шофером прикомандирована к нашей части.
Во всей этой истории удивительным было даже не
то, что Беку удалось раздобыть пикап с водителем — в
конце концов, многие учреждения и предприятия
эвакуировались тогда на восток и передавали остающиеся
автомобили армии. Разумеется, на то требовались
соответственные бумаги, но и их, наверное, можно было
получить в штабе тыла нашей дивизии. Непонятно
другое: каким образом Бек, являвший собой как боец уж
очень непрезентабельное зрелище (огромные ботинки,
обмотки, которые у него поминутно разматывались и
волочились по земле, серого цвета обмундирование, а в
довершение всего нелепо, капором, сидящая на голове
пилотка, не говоря уж об очках), — как мог он в таком
виде, без всяких документов добраться до Москвы,
которая, по существу, уже была в ту пору прифронтовым
городом?
Если учесть, что гитлеровцы на смоленском
направлении то и дело выбрасывали воздушные десанты
(мы сами дважды участвовали в прочесывании окрестных
лесов в поисках вражеских лазутчиков), если учесть, что
все дороги, ведущие к Москве, были надежно перекрыты
системой контрольно-пропускных пунктов, а на улицах
столицы свирепствовали многочисленные патрули,
которые, не рассуждая, заметали любого мало-мальски
подозрительного прохожего, и если учесть еще
необычайно стойкие слухи, будто город кишит шпионами,
— если учесть все это, то приходится признать: Бек
сотворил чудо. Сам же он в ответ на расспросы
товарищей лишь пожимал плечами, и лицо его при этом
приобретало какое-то не то отсутствующее, не то просто
дурацкое выражение.
Конечно, затеяв такую эскападу, Бек подвергал
себя огромному риску. Вся авантюра очень легко могла
кончиться трибуналом. Думаю, что именно
несбыточность самой задачи и спасла Бека от весьма
серьезного наказания. Но так или иначе, его не подвергли
никакому взысканию, и он как ни в чем не бывало
продолжал свое причудливое швейковское существование
в нашей роте, где-то на грани умышленной
непосредственности и мнимой наивности. Казалось, он
пытается таким способом перехитрить свою судьбу.
Однако молва о "бравом солдате Беке"
распространилась по всей дивизии. Его популярность
приобрела неслыханные размеры. На него приходили
смотреть из других батальонов. На него показывали
пальцем, говоря: "Это тот самый боец Бек..." Нет ничего
удивительного, что он стал душой нашей роты.
Война шла уже недели две. "Рядовой,
необученный, ограниченно годный в военное время" —
так значилось в моем военном билете. Я два раза
наведался в военкомат и оба раза услышал в ответ:
"Ждите повестку". Между тем ходить ежедневно на
службу, пусть даже в близкую моему сердцу редакцию
"Нового мира", где я тогда ведал библиографией, становилось невмоготу. Мне казалось просто
кощунственным жить по-прежнему — заказывать и
вычитывать рецензии, править гранки, словом, вести себя, как и до войны.
Конечно, отбор книг для отзывов пришлось срочно
пересмотреть, но ведь распорядок существования в
основном оставался прежним, притом что в жизни
страны, в жизни народа все трагически сместилось. Это
несоответствие инерции мирного бытия и надвигающейся
грозной судьбы угнетало мое сознание до того, что я
готов был исполнять любые обязанности, только бы они
были непосредственно связаны с войной. Поэтому, когда
выяснилось, что в Союзе писателей идет запись
добровольцев, решение пришло сразу.
Примерно те же чувства испытывал и мой друг
Даниил Данин, в ту пору начинающий литератор,
внештатный сотрудник "Знамени". Мы с ним созвонились
и числа 8 или 9 июля с утра отправились на улицу
Воровского, 52, в оборонную комиссию к автору
известной тогда книги "Преступление Мартына"
Владимиру Бахметьеву, который этой комиссией ведал.
Но Бахметьев отправил нас к секретарю парткома
Хвалебновой. Дело в том, что хотя мы и работали в
редакциях и печатались в журналах, но в Союз нас еще не
приглашали (тогда такая форма практиковалась), сами же
мы подавать заявление о приеме пока не решались.
Однако Хвалебнова нас не знала и,
воспользовавшись тем, что мы не члены ССП, именно на
этом основании отказала нам. Совершенно
обескураженные, мы стояли в вестибюле столь
притягательного для нас "дома Ростовых", не зная, что
теперь делать и как быть. Ведь мы уже оповестили
родных и друзей о своем решении. Я даже успел зайти к
себе в "Новый мир" и поставить в известность
ответственного секретаря редакции Юрия Жукова (ныне
председатель Советского комитета защиты мира и
политический обозреватель «Правды") о том, что ухожу
на войну. И вот такая незадача!
По счастью, в этот момент в вестибюль поднялся
по лестнице заместитель Хвалебновой, мой однокашник
по Литературному институту Михаил Эдель. Узнав, в чем
дело, он не без иронии произнес:
— Хотите, ребята, по блату попасть на фронт?
Ладно, устроим.
Не прошло и четверти часа, как все уладилось. Мы
вышли из Союза писателей с предписанием явиться со
всем необходимым в общежитие студентов ГИТИСа в
Собиновском переулке, где находился один из пунктов
формирования Краснопресненской дивизии. Отчетливо
помню тот нескончаемо долгий знойный день в самом
разгаре лета. Помню ни с чем не сравнимое чувство
полуторжества-полутревоги, которое не мог не
испытывать я, отдавая себе отчет в том, что вот сейчас
сам, по своей воле решительно и бесповоротно меняю
свою судьбу, вмешиваюсь в ее естественный ход. Помню
даже строчку Пастернака, почему-то привязавшуюся в тот
день ко мне, очевидно навеянную видом пышных
деревьев Никитского (ныне Суворовского) бульвара:
...Разгневанно цветут каштаны.
Изнывая под тяжестью рюкзаков, мы с Даниным
молча шагали к цели, отчетливо понимая, что для нас
начался новый отсчет времени, как сказали бы теперь, что
все, что было до сегодняшнего дня, вот-вот станет
прежней жизнью. День клонился к закату, и город был
как-то празднично пронизан косыми лучами солнца. Но в
самом ритме уличной жизни улавливалось что-то новое,
какая—то величавая, почти театральная замедленность,
словно масштабы всемирно-исторической драмы, какой
уже каждым осознавалась война, продиктовали жителям
столицы суровую сдержанность во всем. И вот этот
контраст между кричащей, избыточной роскошью
ослепительного летнего дня и скромной, тихой, несуетной
озабоченностью, так устойчиво запечатленной на лицах, откладывался на сердце неизъяснимой печалью.
Я шел и думал о том, о чем война настоятельно
заставляла думать всех нас, и чем дальше, тем больше: как складываются человеческие судьбы в такие времена, как соотносятся между собой твои стремления и твоя
воля, с одной стороны, и непредсказуемые экспромты
бытия — с другой? Превратности судьбы — ведь мы не
случайно так говорим... Вот и сегодня, если бы нам не
встретился в вестибюле ССП Миша Эдель, наша жизнь
уже сейчас текла бы по-другому. Конечно, мы все равно
попали бы в ополчение, не так уж, наверно, трудно стать
добровольцем. Но мы бы оказались не в
Краснопресненской дивизии, а в какой-нибудь другой. И
неизвестно, какой вариант приобрело бы в этом случае
наше дальнейшее существование. Разве кому-нибудь дано
проникнуть в свое воображаемое будущее, если и без того
любое жизненное обстоятельство способно в корне
изменить всю последующую цепь причин и следствий?
В какой-то книге о первой мировой войне я читал
об эмпирически сложившемся на фронте солдатском
правиле: ни от чего не увиливать, но и ни на что не
напрашиваться. Мол, это единственная мудрость, которая
остается солдату перед лицом той безжалостной и
неумолимой реальности, какой является война. Мол, на
войне все дело слепого случая, а потому не вмешивайся, все равно не угадаешь, что из этого выйдет. Может быть, с
этой точки зрения мы сегодня бросили вызов судьбе?
С этими мыслями я и вошел во двор общежития
ГИТИСа. Пер вый, кого я увидел за воротами, был
знакомый мне по Литературному институту
преподаватель кафедры художественного перевода
Николай Николаевич Вильям-Вильмонт. Очень похожий
на мистера Пиквика, каким он описан у Диккенса,
Вильмонт уже тогда был известен в литературных кругах
не только как весьма авторитетный германист и эстетик, тонкий знаток творчества Шиллера и Гёте, но также и как
давний, еще с гимназических времен, друг Пастернака.
Здороваясь с Вильмонтом, я, конечно, менее всего
мог предполагать, что именно с ним у меня будет в
ближайшее время ассоциироваться ощущение голода и
сытости, впрочем, голода куда чаще, ибо не кто иной, как
Николай Николаевич уже очень скоро станет командиром
нашего хозвзвода. Иначе говоря, в его ведении окажется
наша батальонная кухня с ее бессовестными поварами,
которые, пользуясь полной отрешенностью своего
начальника от всего, что связано с грубой материей,
целиком погруженного в проблемы пищи духовной, будут
нещадно нас обворовывать.
Не позже чем через две недели после
описываемого дня я попал в наряд на кухню вместе с
другими бойцами, среди которых, помимо знакомого
официанта из ресторана Дома журналиста (тогда Дома
печати) Филатова (в мои студенческие годы он иногда
кормил меня там в кредит), помню некоторых писателей: Григория Шторма, Осипа Черного, поэта Александра
Чачикова и двух неразлучных драматургов Вячеслава
Аверьянова и Андрея Наврозова. Мы сидели в лесочке на
каких-то ящиках и усердно чистили картошку, а
лейтенант Вильмонт, стоя над нами, увлеченно
рассказывал о влиянии Достоевского на Томаса Манна.
Мне уже тогда бросилось в глаза, что наши повара при
этом недвусмысленно перемигивались у Вильмонта за
спиной и всячески потешались над ним, явно считая
своего начальника чокнутым. Вскоре двое из них, с
опаской поглядывая на нас, незаметно завернули что-то в
плащ-палатку и отправились с этим свертком в деревню.
Я и ныне бесконечно уважаю Николая
Николаевича Вильмонта, который несколько лет назад
отметил свое восьмидесятилетие, но должен признать, что
в те дни во всей дивизии нельзя было найти человека,
менее подходящего для командования хозвзводом. К
счастью для Вильмонта, после вяземского окружения,
откуда он в числе немногих благополучно выбрался, ему
предложили службу, более соответствовавшую его
знаниям и складу характера. Если не ошибаюсь, он
окончил войну начальником седьмого отделения одной из
южных армий. Думаю, что даже среди "седьмых людей", где тогда собрался весь цвет советской германистики,
Вильмонт выделялся своей компетентностью, не говоря
уж о человеческом обаянии. Во всяком случае, на
поприще контрпропаганды он мог принести куда больше
пользы армии, нежели на хозяйственном поприще.
Но это я забежал вперед. Помимо Николая
Николаевича, тогда в общежитии ГИТИСа я встретил
немало знакомых. На втором этаже в зале на полу у
стеночки лежал на газетах и читал толстую книгу мой
давний приятель драматург и сценарист Павел
Фурманский, автор популярной до войны пьесы
"Маньчжурия — Рига". Это был человек, буквально
начиненный неожиданными сведениями, занимательными
историями, увлекательными сюжетами и интересными
замыслами. Он в изобилии выкладывал их любому
подвернувшемуся слушателю, ошеломляя того
неиссякаемостью своих запасов. Вот и сейчас он шумно
обрадовался мне и без всякого перехода, как всегда почти
до шепота понизив голос, будто доверительно, принялся
излагать сюжет какой-то задуманной им пьесы о войне. Я
даже не успел пристроить куда-нибудь в уголок свой
рюкзак.
Меня выручил проходивший в это время через зал
Александр Роскин, которому я всего недели три назад,
еще до войны (ах, как давно это было!), заказывал
рецензию для "Нового мира". Я был знаком с ним
шапочно, но очень почитал его и как критика — автора
злободневных статей по вопросам искусства в
"Известиях", и как литературоведа — вдумчивого
исследователя творчества Чехова, и как человека,
близкого к Художественному театру.
Роскин был в моих глазах образцом литературного
вкуса и, хотя мне не раз приходилось слышать о его
колючем характере, образцом литературной порядочности
и принципиальности. Родившийся еще в прошлом веке,
Роскин вызывал мое уважение и как представитель
старшего поколения литераторов, а то, что он
приветствовал меня здесь вполне по-дружески, еще
больше меня к нему расположило.
Вместе с тем я уже в тот момент обратил внимание
на затаенную в его взгляде невыразимую печаль,
объяснение которой пришло ко мне позже, когда мы с ним
сблизились настолько, что он стал делиться со мной
своими мрачными предчувствиями.
Ныне я живу в одном доме с дочерью Роскина
Натальей Александровной, тоже тонким знатоком Чехова, автором многих комментариев к его наиболее полному
собранию сочинений. И каждый раз, по-соседски заходя к
ней, я с грустью смотрю на портрет ее отца на стене: чуть
вытянутое лицо, умный скепсис во взгляде, ежик
седеющих волос. Но я запомнил его иным — загорелый
интеллигентный человек в пилотке и романтично
ниспадавшей с его плеч плащ-палатке, в общем-то
искусственно на нем выглядевшей. Чувствовалась какая-
то неорганичность его присутствия на войне. Какое-то
странное сочетание внутреннего душевного достоинства
и неумения вписаться в предлагаемый обстоятельствами
антураж...
Впрочем, противоречивость его натуры была до
наглядности очевидна и в мирное время. "Высокий, крупный, черноглазый седой человек, неуклюжий от
застенчивости, но музыкальный в этой своей
неуклюжести, легко краснеющий, легко все понимающий,
легко уходящий в свою скорлупу,— этот трудный человек
был мой отец",— вспоминает Наталья Александровна.
А вот что говорит о нем Паустовский: "Мне он
помог тем, что, несмотря на нашу дружбу, предостерег
меня от опасности впасть в книжную экзотику и
нарядную "оперность" стиля". И еще: "Он был человеком
сложным и выдающимся как по обширности своих
познаний, так и по острому насмешливому уму... Всегда
он был сдержан, немного замкнут, как большинство
одиноких людей, был способен и к резкости, и к
необыкновенной нежности".
Но тогда в общежитии ГИТИСа я встретил просто
одинокого, очень одинокого человека, особенно на людях, который, записавшись в ополчение, понимал всю
бескомпромиссность этого шага и потому, может быть
впервые в жизни, жаждал большого, доверительного,
откровенного разговора, разговора напоследок, интимного
подведения итогов. За те несколько дней, что Роскин
провел здесь на казарменном положении, он, по-
видимому, много размышлял о судьбах страны и о своей
собственной судьбе, относительно которой не питал
никаких иллюзий. Даже по тем нескольким репликам,
которыми мы успели на ходу обменяться, я мог
заключить, что он видит во мне того молодого
собеседника, которому он с большей охотой, чем
сверстнику, раскроет свою смятенную душу.
Тогда этот разговор у нас не получился, да и не мог
получиться, потому что меня и Данина встретили тут
именно так, как встречают в любом подобном коллективе
новеньких,— нетерпеливыми расспросами. О чем?
Главным образом о положении на фронтах, о
достоверности различных слухов, недостатка в которых
тогда не было. А слухи в те дни циркулировали по городу
самые невероятные, вплоть до того, что наши войска
якобы прорвались к Кенигсбергу, но что об этой операции
почему-то до времени сообщать нельзя.
Ополченцы за эти дни уже обжились здесь и кое-
как приспособились к условиям казарменного быта.
А солнце уже садилось, и надо было как-то
устраиваться — представиться по начальству,
определиться, стать на довольствие, позаботиться о
ночлеге, то есть занять указанное на полу место. Однако
не успели мы что-либо предпринять на этот счет, как со
двора донеслась зычная команда:
— Выходи строиться!
Эти слова ни на кого особенного впечатления не
произвели.
— Что-то сегодня рано поверка,— заметил всегда
спокойный Фраерман.
Но тут со двора послышалась дополнительная
команда, которая мигом всех взбудоражила:
— С вещами!
Через каких-нибудь полчаса наша пестрая, потому
что еще штатская, но все-таки уже ополченская колонна
вытягивается из ворот Театрального института,
неторопливо пересекает Арбатскую площадь и не
слишком стройно двигается вверх по улице Воровского.
В перекрещенных бумажными лентами оконных
стеклах бушует великолепный закат. Редкие прохожие на
тротуарах останавливаются и провожают нас долгими
взглядами. Некоторые машут нам и пытаются произнести
какие-то напутственные слова. Но большинство сохраняет
суровое молчание. Только сейчас я замечаю, что нашу
колонну сопровождают жены. Видимо, они пришли к
отбою в общежитие и теперь, идя по обе стороны
колонны, переговариваются напоследок со смущенными
мужьями.
Мысленно мы прощаемся с притихшей Москвой.
Вот он, настал момент, когда для каждого из нас
начинается неведомая военная судьба.
Мы топаем по мостовой, сгибаясь под тяжестью
рюкзаков, стараясь хоть как-то держать строй, косясь на
иностранных дипломатов, стоящих у ворот посольств.
На город опускаются сумерки. Впереди заминка —
кто-то говорит, что по Садовому кольцу идет кавалерия, и
мы должны ее пропустить. Оттуда действительно
доносится цокот копыт.
Мы стоим, как будто это нарочно кем-то
придумано, у самого входа в Клуб писателей, как тогда
именовалось старое здание нынешнего ЦДЛ. И конечно,
не обходится без шуток вроде того, что хорошо бы
заглянуть сюда после войны. Никто еще не знает, что
именно здесь, за этими вот дверьми, в вестибюле старого
здания будет лет через шесть-семь установлена первая, еще неполная, мемориальная доска е фамилиями
погибших московских писателей. В том числе и тех, кто
стоит сейчас рядом со мной.
Уже в полной темноте, немало попетляв по
неведомым мне улочкам Красной Пресни, где в отличие
от чопорной улицы Воровского на тротуарах полно
народу, особенно много женщин, предлагающих нам
пироги, молоко, воду, мы входим во двор школы № 93.
Короткая стоянка. Перекличка. Мы вливаемся в общую
колонну. Построение — и двигаемся дальше.
Теперь мы являем собой внушительное зрелище.
Шутка сказать — стрелковый полк! Коломенский завод,
фабрика имени Мантулина, другие предприятия Красной
Пресни. Но никто нас уже не видит: комендантский час, затемнение, духота... По не застроенной еще улице 1905
года, мимо Ваганькова, по пустынной, словно
затаившейся Беговой, растянувшись во всю ее длину, идет
несчетное множество людей, одетых пока кто во что
горазд, но уже готовых расстаться со своей штатской
психологией, уже подчиняющихся тем отрывистым
командам, которые перекрывают топот тысяч ног.
В ту незабываемую ночь мы ушли на войну.
Ушли в полном, а не в привычном переносном
смысле этого слова. Ибо именно так, в пешем строю,
шагали мы потом несколько недель хотя и с остановками, но все дальше и дальше на запад, в сторону Смоленска, за
который уже тогда шли ожесточенные бои.
Но в ту ночь мы еще не знали, куда идем. С
Беговой свернули на безлюдное, погруженное во мрак
Ленинградское шоссе — и мимо стадиона "Динамо", мимо центрального аэродрома (где сейчас аэровокзал),
мимо поселка Сокол. Позади осталась развилка дорог...
Рассвет пришел такой же душный, какой была
ночь. Миновали канал Москва — Волга. А мы все шагаем
и шагаем, изнемогая от усталости и жажды. Рядом со
мной идет немолодой человек в очках, лицо которого
теперь, когда взошло солнце, кажется мне знакомым. Не
зная этих мест, я обращаюсь к нему:
— Вы не скажете, где мы находимся?
— Это Волоколамское шоссе.
— Если не ошибаюсь, вы недавно приходили в
"Новый мир"? — продолжаю я разговор.
— Да. Я Александр Бек. Может быть, слыхали? —
как всегда, не то шутя, не то серьезно осведомляется он.
Теперь, когда это название — Волоколамское
шоссе — и это имя — Александр Бек — привычно
сочетаются на обложке одной из самых популярных книг
о войне, как-то не верится, что сам он тогда и не
подозревал об этом. Между тем именно на
Волоколамском шоссе Беку суждено было найти свою
судьбу. Именно там поджидала его слава.
Как потом выяснилось, война сулила литературную
славу в наших рядах не ему одному. Позади нас шагали
два худощавых молодых человека примерно одного роста, что и сделало их соседями в строю, хотя во всем
остальном между ними было мало общего. Но когда
раздалась команда: "Песню!" — они, недолго думая и не
сговариваясь, очень ладно, с хорошим украинским
выговором и незаурядной музыкальностью затянули:
"Распрягайте, хлопцы, коней..." Одного из них я уже
заочно знал и заочно ему симпатизировал, потому что
читал его только что вышедшую и уже замеченную
критикой книгу лирики "Моя фотография" — к
сожалению, последнюю из вышедших при его жизни. Это
был хороший поэт и славный человек Вадим Стрельченко.
Его соседа, того, что в очках, как я потом уяснил себе, во
всем, что он делал, парадоксальным образом отличала
последовательная серьезность в сочетании с
последовательной иронией. За стеклами его очков
угадывался проницательный и веселый взгляд на мир. Это
был Эммануил Казакевич, мало кому тогда известный
поэт. Во всяком случае, в ту пору мне его имя ничего не
сказало. Его слава была впереди.
Незадолго до октябрьских боев нашу роту всю
перешерстили. Еще раньше многих литераторов, главным
образом пожилых, стали отзывать по требованию
ГлавПУРККА во фронтовую печать. Помню короткие, но
трогательные прощания. С Фраерманом, Черным и
Лузгиным. С Бляхиным и Корабельниковым. С Зозулей,
Жучковым и Петровым. С Юрием Либединским и Белой
Иллешем. Потом со Степаном Злобиным и Иваном
Жигой. Наконец, с Сергеем Кирьяновым, который
переходил в газету нашей же 32-й армии. Расставание с
ним особенно опечалило меня.
Как известно, война самым причудливым образом
сводила и разводила людей. Через три года судьба снова
свела нас самым неожиданным образом, но уже далеко на
Севере. Кирьянов — бравый майор политуправления
Карельского фронта. Занесенный снегом Беломорск,
заполярная Кандалакша, разбомбленный Мурманск...
А потом война закинула нас на Дальний Восток,
когда нам довелось побывать и в Харбине, и в Порт-
Артуре, и в Пхеньяне.
Наши послевоенные встречи носили характер не
менее дружеский, но, кроме того, были связаны с
литературной работой. Дело в том, что Кирьянов после
войны на протяжении тридцати с лишним лет, почти до
самой смерти, руководил редакцией литературы народов
СССР издательства "Советский писатель".
Таковы уж, видно, причуды памяти — где бы ни
приходилось мне потом видеть Сергея, я неизменно
возвращался в мыслях к нашей первой встрече, к
пятиминутному предрассветному привалу в реденьком1
подмосковном перелеске. Вот и сейчас почему-то не могу
отделаться от этого далекого воспоминания...
Однако самую тяжкую разлуку судьба уготовила
мне еще раньше. Уходя на войну, мы с Даниным со всей
штатской (а может быть, юношеской) наивностью
полагали на фронте не расставаться. Теперь мне даже не
верится, что мы были столь далеки от понимания
истинного положения вещей. Изменчивость,
непостоянство, неизбежность внезапных перемен — один
из законов фронтового бытия. Уже в конце августа Данина
от нас забрали. Данина и Казакевича как комсомольцев
переводили в другую дивизию на укрепление.
Это расставание сыграло очень значительную роль
в моей военной судьбе. И дело даже не в том, что я считал
Данина самым близким своим другом. Конечно, он был
для меня живым напоминанием о моем прежнем
существовании, о доме, о семье, об общих знакомых, о
литературных привязанностях, да мало ли о чем! С его
уходом все это как бы разом отсекалось от меня. Но, как
потом оказалось, существеннее было другое.
С Казакевичем мы просто обменялись теми
адресами, по которым, как предполагалось, в любом
случае можно будет друг друга разыскать после войны.
Это была хотя и трогательная, но явная условность. Мы
оба отлично понимали всю призрачность подобных
надежд. В то время понятие "после войны" казалось
совершенной фантастикой. И все же сам ритуал обмена
адресами хоть как-то, и притом без сантиментов, выражал
взаимную привязанность. Он заменял собой высокие
слова. Но Данин поступил иначе.
— Я хочу оставить тебе на память эту вещицу,—
сказал он и, сняв с руки, протянул мне хотя и старинный, но прекрасный армейский компас.
И мы расстались. Надолго. До демобилизации в
1946 году.
Обе наши писательские роты после этих отозваний
в значительной степени изменили свое лицо. Однако тот
дух благородства и дружелюбия, который с легкой руки
наших "стариков" утвердился в обеих ротах с самого
начала, успел, оказывается, приобрести характер стойкой
традиции. Ее действие ощущалось и потом, даже когда
часть оставшихся писателей распределили по другим
подразделениям.
Марк Тригер, по образованию врач, был назначен
на какую-то командную должность в санчасть. Будучи
драматургом, он постарался собрать там вокруг себя
людей, так или иначе причастных к театру. Под его
началом вскоре оказались драматурги Жаткин и
Базилевский, критик Роскин. Туда же определили и
Волосова. Помню, Волосов, как бывалый солдат-
фронтовик, даже там раньше всех каким-то образом
ухитрился обзавестись длинной шинелью и каской.
При новом распределении людей мою судьбу, сколь
это ни покажется смешным, решило наличие у меня
компаса. Когда-то, учась в техникуме, я изучал геодезию и
теперь однажды показал товарищам по отделению, как
ориентироваться на местности и ходить по азимуту.
Только что назначенный командир роты ПВО,
случившийся тут же, после этого эпизода затребовал меня
с моим компасом к себе. Заодно в формируемую роту
ПВО откомандировали и моих приятелей Павла
Фурманского и Шалву Сослани.
О Шалве тут необходимо сказать хотя бы
несколько слов. Он тоже был фигурой необычайно
колоритной. Грузинский крестьянин по происхождению, с
четырнадцати лет батрак, он впоследствии становится
актером-студийцем, а затем переезжает в Москву,
поступает на литфак и начинает писать русскую прозу.
Когда в самом начале тридцатых годов в "Красной нови"
появилась его повесть "Конь и Кэте-вана", издававшаяся
затем неоднократно (последнее издание относится к 1984
году), о Шалве Сослани говорили, что он с маху въехал в
литературу на своем романтическом коне.
И впрямь на его появление на литературном
небосклоне восторженно откликнулись писатели самых
разных направлений. "Шалико! Мне чертовски
понравилась твоя работа! О таком стиле, поистине
живописном и романтическом — умном — ироническом
стиле можно сказать, что ему... будет дана широкая
дорога... Не прими это за дифирамб, но — не могу
молчать!" Это из письма Фадеева Шалве. Правда, они
были близкими друзьями. Но вот отзыв человека, не
знавшего Сослани вовсе: "Помню, когда лет 35 назад
прочел в первый раз еще гимназистом "Пана" Гамсуна, веяло на меня такой же свежестью... И не сердитесь за это
сравнение с Гамсуном; оно в устах старого писателя
молодому — большой комплимент. Вот уж кому хочется
сказать: "Пишите, пишите",— так это Вам". Это из
письма Андрея Белого Шалве Сослани.
Но тогда всего этого я не знал. То есть "Коня и
Кэтевану", конечно, читал, еще лет десять назад читал, но
как-то не принимал это в расчет. Дружбы в ополчении
складывались менее всего на основе наших литературных
репутаций. Я до сих пор мысленно горжусь тем, что,
когда нам было предложено при рытье противотанковых
рвов разбиться на пары, Шалва выбрал меня в напарники.
Шалва с его могучими крестьянскими руками, с детства
привыкший иметь дело с неподатливой грузинской землей
(в отличие от большинства из нас, горожан), на
строительстве оборонительных рубежей выполнял свой
урок играючи. В тех условиях такого рода способности
были куда актуальнее романтического стиля.
Как-то невзначай сблизился я и с Василием
Бобрышевым, стараниями которого в значительной мере
делался горьковский журнал "Наши достижения".
Однажды, когда немцы выбросили неподалеку от нашего
расположения воздушный десант, мне довелось провести
с ним в дозоре ночь. Мы укрылись в стоге сена и,
вглядываясь до боли в глазах в отведенный нам сектор
наблюдения, шепотом беседовали обо всем на свете. Вся
обстановка и то обстоятельство, что мы вынуждены были
разговаривать шепотом, придали нашей беседе особую
сердечность. Бобрышев был, как теперь принято
говорить, человеком трудной судьбы. Но для меня он
остался в памяти, прежде всего, человеком хорошей
души. Помню, что утром я вылез из стога с чувством
искреннего расположения к нему. Смею думать, что это
чувство было взаимным.
Наша рота ПВО, точнее, именно наш взвод — и мы
этим очень гордились — первым из всей дивизии открыл
боевые действия против фашистов. За околицей большого
селения (названия я, к сожалению, не помню), где
расположился в сентябре 22-й полк, ставший к тому
времени по общевойсковой нумерации 1299-м, мы
построили себе на высотке с широким обзором блиндаж,
а возле него оборудовали гнездо для крупнокалиберного
пулемета ДШК. Он был укреплен в центре на треноге, а
над ним мы натянули маскировочную сетку. Когда над
нами появлялся разведывательный "фоке-вульф", а это
случалось часто, так как мы располагались неподалеку от
железнодорожного моста через Днепр и мост этот очень
привлекал гитлеровцев, мы определяли по моему компасу
курс вражеского самолета, открывали по нему огонь и
оповещали по полевому телефону другие посты
воздушного наблюдения. И хотя ни одного самолета сбить
нам так и не удалось, но мы все-таки заставили врага
облетать нашу высотку стороной.
От нас эти действия требовали мгновенной
реакции и были связаны с риском не только угодить под
ответный огонь с воздуха, что бывало, но главное —
сбить не вражеский, а свой самолет. Ибо для
распознавания у нас был лишь один плохонький бинокль.
Правда, наших самолетов в небе тогда почти не было.
Во взводе преобладали молодые и очень славные
ребята с Коломенского завода. Все они действовали очень
спокойно и слаженно, особенно Воронцов и Набатчиков.
В качестве "научной силы" к нам перевели из второй роты
аспиранта-физика Джавада Сафразбекяна. И в самый
последний день — из той же роты — писателя
Константина Кунина.
О Косте Кунине я должен рассказать особо: этот
человек очень дорог моему сердцу и его образ
сопутствует мне в мыслях вот уже сорок с лишним лет.
Говорю об этом без всяких преувеличений, хотя
знакомство наше оказалось необычайно скоротечным.
Впрочем, степень дружбы на фронте определялась — и я
в этом потом не раз убеждался — не столько стажем,
сколько неуловимой нравственной ситуацией:
синхронным напряжением душевных сил, совместно
пережитым потрясением. Как бы там ни было, от того
момента, когда Костя Кунин появился у нас на высотке, до
той минуты, когда он у меня на глазах упал в кузове
полуторки, скошенный трассирующей очередью, время
измерялось даже не неделями, а днями и часами. Если не
ошибаюсь, мы с ним дружили целых четверо суток, и эти
четверо суток до сих пор остаются для меня одним из
самых памятных военных воспоминаний. В значительной
мере благодаря Косте.
Интенсивность и стремительность нашего
духовного сближения объясняется, наверно, тем, что
знакомство это пришлось на самые трагические дни в
истории нашей дивизии. Как известно, 2 октября
гитлеровцы на Западном фронте прорвали нашу оборону
и глубоко запустили свои танковые клинья в направлении
Москвы. Поздно вечером нас подняли по тревоге, и всю
ночь и утро мы провели на марше. Наконец была
объявлена дневка в густом лесу. Там нам выдали
новенькие шинели, а также добавочный боекомплект.
Все это время мы с Куниным почти ни на минуту
не разлучались. На душе было тревожно, обстановку на
фронте никто из нас, простых бойцов, себе не
представлял, но каждый понимал, что от встречи с
противником нас отделяют считанные часы. Вот оно,
наступило то, что рано или поздно должно было
наступить. Наверно, этим затаенным волнением,
неизбежным перед боем, и объяснялось наше безотчетное
стремление поведать друг другу как можно больше
личного, сокровенного, по-человечески важного.
Я, конечно, не в состоянии теперь воспроизвести
даже приблизительно наш лихорадочный и предельно
откровенный диалог. Мы говорили обо всем на свете, без
всякой логики перескакивая с темы на тему, нисколько не
смущаясь импрессионистичностью и горячностью этой
внезапной встречной исповеди. Мы в страшном темпе
открывали друг друга, словно боясь не успеть это сделать.
Да так оно, в сущности, и оказалось.
Из того рваного разговора у меня в памяти
сохранились только клочки биографических сведений о
Кунине. Да, это был типичный ленинградец, вежливый,
корректный, деликатный в любых обстоятельствах,
интеллигент в лучшем смысле этого слова. Вместе с тем
это был физически очень крепкий и душевно очень
здоровый человек. Широкоплечий, коренастый,
улыбчивый, всегда приветливый и внимательный, он,
казалось, всем своим видом излучал уверенность и силу.
Будучи энциклопедистом, одним из последних могикан
этого исчезающего племени разносторонне образованных
людей, Кунин менее всего походил на книжного червя.
О себе и своих литературных успехах он говорил
крайне скупо. Да, он близок к Шкловскому, и в недавней
книге Виктора Борисовича о Марко Поло ему, Кунину,
принадлежит пространный научный комментарий. Да, он
женат. Рита в первые дни войны вынуждена была уехать и
собиралась скоро вернуться, но вот он ушел в ополчение, так и не дождавшись ее...
Это уж потом, после войны, я узнал, что у Кунина
было больное сердце, что он был полиглотом, что его
отличала феноменальная память, что его считали
крупным авторитетом в области истории и экономики
народов Востока, что его перу принадлежит несколько
увлекательных книг о знаменитых путешественниках, что
рекомендацию в Союз писателей ему в свое время дал,
кроме Шкловского, один из лучших и безотказных бойцов
нашей третьей роты известный детский писатель Михаил
Гершензон.
Пока мы, очень довольные нашими новенькими
теплыми шинелями, столь поспешно узнавали друг друга, произошло нечто такое, что приличествует лишь дурной
беллетристике. На опушку, где мы с Куниным
пристроились на пеньках, ожидая команды на построение, неожиданно выехал грузовик с московским номером.
Когда он остановился, в кузове поднялся на ноги, а потом
как-то смущенно и неуверенно слез через борт на землю
высокий представительный человек в роскошной шубе с
модным тогда длинным шалевым воротником из кенгуру.
Где-то я его видел, но кричащая чужеродность светского
облика этого человека на фоне войска на привале
заслонила от меня эту мысль, и я только потом вспомнил, что это сотрудник аппарата Союза писателей, который,
если не ошибаюсь, был одно время администратором
писательского клуба. Тем временем из кабины грузовика
еще более смущенно сошли на землю две женщины. Все
трое приехавших, озираясь по сторонам, видимо, искали
начальство, к которому следовало обратиться.
И вдруг мой невозмутимый, по-медвежьи слегка
неповоротливый Кунин, издав какой-то неведомый мне
клич, возможно, это было просто "Рита!", бросился к
одной из приехавших женщин и стал ее неистово
обнимать и целовать.
Ну конечно, это была его жена. Грузовик доставил
подарки писателям-ополченцам от Литфонда, и в качестве
особой чести жене Кунина и жене поэта Росина,
отвозившей свою девочку с эшелоном ССП в Чистополь,
где был создан интернат для эвакуированных
писательских детей, а потому тоже не попрощавшейся с
мужем, разрешили эти подарки сопровождать.
Однако Костино свидание с женой оказалось
непродолжительным.
— Нас перебрасывают под Ельню...
Слух немедленно охватывает все подразделения и
вскоре подтверждается. Более того, наш взвод первым
отправляется на новый рубеж.
И вот мы уже сидим в несколько рядов на досках,
переброшенных поверх бортов какой—то
мобилизованной полуторки. В передней части кузова на
прибитой к полу треноге — наш ДШК. Даже
зачехленный, он выглядит достаточно внушительно. В
кабине рядом с водителем — только что назначенный в
нашу роту политрук. У него желтое лицо, его треплет
малярия. Я сижу у борта с правой стороны. Рядом со мной
Кунин. Передо мной Фурманский. Он теперь наш
отделенный командир. Висящий у него на шее бинокль —
красноречивое свидетельство его особого положения
среди нас. Перед Фурманским — Сафразбекян. С ним
рядом Бек.
Вообще—то Бек не в нашем взводе. Больше того,
он вообще отозван из дивизии в распоряжение журнала
"Знамя". Но упросил командование и вот теперь едет с
нами. Мы сидим, положив вещевые мешки у ног,
поставив винтовки между коленями. Бек уже без
винтовки. Впервые на моей памяти он молчалив и
серьезен.
Пока командир роты уточняет с водителем
маршрут, русоволосая жена Кунина ходит вдоль нашей
машины и, то и дело улыбаясь Косте, наделяет каждого из
сидящих в кузове бойцов большим бутербродом— кусок
ослепительно белой булки с красной икрой. Подумать
только — с икрой! Что касается подарков, то их, кроме
папирос, раздать не успели.
Жена Росина стоит поодаль с мужем, специально
вызванным из второй роты на это неожиданное и
радостное свидание. Через несколько минут мы
отправляемся в путь. За нами еще две или три машины.
Наш ротный в последней.
Забегая вперед скажу, что дальнейшая судьба обеих
женщин, так же как и администратора клуба, не выяснена.
При каких обстоятельствах они погибли, никто не знает. Я
видел тогда Кунину и Росину первый и последний раз.
Неизвестно, при каких обстоятельствах погиб и сам
Росин.
Много—много лет спустя в коктебельском доме
творчества ко мне подошла молодая красивая женщина,
приехавшая сюда, к теплому морю, с двумя своими
девочками—подростками. Мне накануне сказали, что это
жена писателя Иона Друцэ. Но я не знал, что это дочь
Росиных. Она надеялась услышать от меня хоть что—
нибудь о судьбе родителей. К сожалению, я мог рассказать
ей лишь то, что уже поведал читателю.
Быстро вечереет. Мы едем какими—то глухими
проселочными дорогами. Первое время еще слышатся
разговоры, шутки, даже смех. Правда, в нем
проскальзывают нотки нервозности и минутного
возбуждения. Но вот мы проезжаем разбомбленный,
сожженный Дорогобуж и все умолкают. Даже Бек не
раскрывает рта. Только мы с Костей словно по инерции
еще обмениваемся изредка случайными репликами.
С наступлением осенней темной ночи на горизонте
возникает и постепенно ширится багровое зарево. Порой
оттуда доносятся звуки далекой канонады. Потом и они
смолкают. Мы едем с погашенными фарами, в полной
тишине, и только на лесных участках от деревьев
тревожно отдается гул мотора. Дорога то и дело петляет, но, судя по компасу, мы продвигаемся на юго—юго—
запад. А зарево становится все обширнее и все ближе —
видимо, оно—то и служит теперь водителю главным
ориентиром.
В какой—то большой, но по—ночному
совершенно безлюдной деревне, словно вымершей, мы
останавливаемся и поджидаем идущие за нами машины.
Однако тщетно. За нами никого нет. Неужто они
заблудились и теперь плутают во мраке? А время идет, и
водитель нервничает: ему приказано достигнуть пункта
назначения еще затемно. Ко всему прочему у политрука, по—видимому, высокая температура — он почти
безучастно сидит в кабине и тяжело дышит.
И мы едем дальше. Одни. Едем долго. Наконец
останавливаемся в каком—то селении, проехав его из
конца в конец: надо все—таки уточнить, где мы.
Фурманский стучится в последнюю избу. Все правильно,
наш водитель молодец! Следующая деревня — конечный
пункт нашего маршрута. До нее рукой подать. Однако
дорога туда плотно забита эвакуируемым на восток
огромным стадом, как выясняется, заночевавшим тут с
вечера. Из—за скопления коров не только проехать —
пройти невозможно.
— Куда вы торопитесь? — ехидничает по нашему
адресу какой—то дед из числа сопровождающих стадо
погонщиков.— Там же, небось, еще с вчера немцы...
Этого еще не хватало! Ведь в ту деревню с минуты
на минуту должны прибыть наши подразделения.
— Пошли, друзья,— говорит Фурманский.—
Необходимо срочно разведать, что тут происходит. Иначе
быть беде.
После недолгих переговоров с хозяевами крайней
избы мы укладываем там на лавку нашего политрука.
Кунин с остальными бойцами остается у пулемета.
Фурманский, Сафразбекян и я устремляемся в сторону
интересующей нас деревни. Надо торопиться—на востоке
уже маячит светлая полоска.
Длинными перебежками вдоль темнеющего
лесочка нам удается быстро приблизиться к цели.
Странно — на горке кое—где огоньки. Неужели в окнах?
Осторожно, крадучись, иногда ползком пробираемся к
огородам злополучного селения. Злополучным оно
оказалось еще и потому, что с севера к нему, как теперь
выясняется, можно проехать и другой дорогой. Уже
начинает светать, и это становится все очевиднее. Как же
быть? Ведь наши могут воспользоваться именно ею.
Впрочем, сначала надо выяснить, кто в деревне. Судя по
силуэтам, там и в самом деле ночует неприятельская
воинская часть: на фоне светлеющего неба угадываются
очертания незнакомых больших грузовиков ("бюссингов", которых я потом, в окружении, повидал немало). Но вот
стали появляться человеческие фигуры. Похоже, что на
взгорке у колодца умываются солдаты. До них метров
полтораста, но видимость еще слабая.
Мы лежим, затаившись в кустах. Фурманский с
биноклем у глаз подозрительно молчит. Но вот он так же
молча протягивает бинокль мне, а сам начинает отползать
в сторону лесочка, кивком приказывая следовать за ним. Я
быстро наставляю окуляры на резкость и впервые вижу
немцев. Я вижу их совершенно явственно. Люди в чужой
форме. Они ведут себя в деревне по—хозяйски уверенно, нисколько не таясь, даже не соблюдая элементарную
осторожность, хотя, расхаживая по горке, представляют
собой отличную мишень. И это особенно злит. Да, именно
злость испытал я тогда в большей мере, чем какое—либо
другое чувство.
Я отдаю бинокль Сафразбекяну и ползу за
Фурманским! Вскоре по шороху сзади догадываюсь, что
Джавад меня догоняет. В лесочке мы наскоро совещаемся.
Итак, наших войск впереди нет. Нет даже боевого
охранения. Никого. В сущности, нет фронта. Вернее, он
почему—то открыт. Но это, как говорится, не нашего ума
дело. Мы же не знаем стратегических соображений
командования. Мы знаем только, что необходимо как
можно скорее перекрыть обнаруженную нами дорогу,
иначе наши подразделения могут угодить прямо немцам в
руки. Решено: Сафразбекян возвращается к полуторке и
докладывает обстановку ротному, если он уже нас догнал.
Фурманский и я образуем заставу на обнаруженной
дороге где успеем, но не ближе чем за тем поворотом —
вне пределов видимости немецких часовых на горке.
Наша предусмотрительность оказалась не
напрасной. Едва мы с Фурманским добрались до
намеченной позиции, как обнаружили вдали движущуюся
в нашу сторону колонну грузовых машин. Они быстро
приближались.
Мы передвигаем винтовки за спину и решительно
перегораживаем дорогу, скрестив над головой руки в знак
запрета. Однако передняя машина, отчаянно сигналя и не
сбавляя скорости, мчит прямо на нас. Но мы все—таки
стоим, "стоим насмерть". В последний момент она
тормозит и сворачивает на обочину. Из кабины
выскакивает разъяренный старший лейтенант, если не
ошибаюсь, командир нашего третьего батальона.
— Какого черта! — кричит он, угрожающе тыча в
нас пистолетом.
Он явно раздосадован тем, что колонна и без того
опаздывает, а тут еще какая—то непредвиденная
задержка.
Мы пытаемся объяснить ему, в чем дело, но он до
того горячится, что не придает нашим словам никакого
значения. Он нас просто не слышит.
— Там, на горке, немцы,— втолковываем мы ему.
— Откуда, к черту, немцы! — кричит он на нас и
явно собирается ехать дальше.— Там должны уже быть
наши!
В это время из следующей машины выходит
незнакомый капитан. Он жестом утихомиривает старшего
лейтенанта, задает нам два—три вопроса по существу,
внимательно выслушивает и под конец осведомляется, кто
мы такие. Оказывается, мы в суматохе забыли
доложиться. Смущенный Фурманский исправляет
ошибку.
— Разрешите идти? — спрашивает он в
заключение теперь уже по всей форме.
— Спасибо за службу,— говорит капитан, тоже
прикладывая руку к фуражке. Да, в отличие от наших
командиров он, видимо офицер связи, был в фуражке, а не
в пилотке.— Идите!
Мы направляемся к своей полуторке и,
обернувшись, видим, как задержанная нами колонна
медленно сворачивает с дороги и втягивается в
ближайшую рощицу.
На востоке солнечный диск уже приподнялся над
горизонтом. День обещает быть ясным. Очень хочется
спать...
Впоследствии, уже в окружении, мы с Фурманским
не раз вспоминали этот предрассветный час, когда
впервые воочию увидели немцев и впервые принесли хоть
сколько—нибудь реальную пользу своим.
Обидно только, что никто никогда не запишет это
происшествие нам в актив. Даже поблагодаривший нас
капитан, если он еще жив, и тот, конечно, уже позабыл об
этом...
Но, оказывается, нашлись люди, которые не забыли
и в самом деле записали. Оказывается, у добрых дел на
фронте тоже была своя эстафета.
В январе 1942 года, примерно месяца через
полтора после того как я, выбравшись вместе с
Фурманским и Сафразбекяном из глубокого окружения и
пройдя через ряд проверок, был временно направлен в
редакцию иллюстрированных изданий ГлавПУРККА
литературным секретарем, мне как—то позвонили из
оборонной комиссии Союза.
— Мы пересылаем вам копию поступившего на вас
отзыва.
— Какого отзыва, от кого он поступил? —
удивился я.
— От полкового комиссара Катулина.
— И что, он благоприятный, этот отзыв? —
поинтересовался я.
— Вполне.
Сообщение показалось мне более чем странным.
Профессор Московского университета Н. 3. Катулин был
заместителем командира нашего 22—го полка по
политчасти. Это мне было известно, я даже раз издали
видел его — комиссар выступал у нас на полковом
митинге в лесу. Но тогда я еще не знал, что за человек
профессор Катулин, и потому недоумевал. В самом деле, чем я, простой боец, каких в полку было не менее тысячи, не совершивший никаких подвигов, да к тому же еще
окруженец (что в те времена отнюдь не украшало мою
военную биографию),— чем я мог привлечь внимание
полкового комиссара? Ведь я его ни о каком отзыве не
просил, а сам он вряд ли вообще подозревал о моем
существовании.
При всех обстоятельствах одно было отрадно:
значит, профессор Катулин остался жив, значит, еще
одному человеку из нашей многострадальной дивизии
удалось перейти линию фронта.
Вскоре я получил по почте копию написанного им
отзыва. Наряду с лестной оценкой меня как солдата он
свидетельствовал о том, что я участвовал в боевых
действиях в составе роты ПВО и ходил в разведку. Так как
кроме случая, описанного выше, мне в разведке
участвовать не приходилось, я мог заключить, что кто—то
все—таки о нас полковому комиссару тогда доложил.
Либо поблагодаривший нас капитан, либо с его слов наш
непосредственный командир роты ПВО (если не
ошибаюсь, лейтенант Морозов).
Как бы там ни было, выходит, полковой комиссар
Катулин обо мне знал. И не только знал, но счел своим
долгом лично прийти в Союз писателей и написать такой
отзыв. И о Фурманском отдельно тоже. Сам с трудом
выбравшийся из окружения и, как я потом выяснил, в
связи с этим хлебнувший немало, он хорошо понимал,
сколь полезны будут его оставшимся в живых
подчиненным подобные отзывы при дальнейшем
прохождении службы.
Люди, знавшие Катулина по университету,
говорили мне потом, что рассказанная выше история
вполне в его духе. Судя по их воспоминаниям, это был
человек святой порядочности и обостренного чувства
нравственного долга. Да оно и видно. Во всяком случае, немногословным отзывом комиссара Катулина я дорожу
до сих пор...
Не буду досконально рассказывать о первом бое,
который принял наш полк в районе Ельни в тот же день, на поспешно занятом нами совсем новом рубеже. Не
считаю себя вправе подробно говорить об этом, ибо мой
взвод находился несколько в стороне от позиций наших
стрелковых подразделений. Мы занялись опять своим
прямым делом — вели огонь из ДШК по немецким
самолетам. "Мессеры" изредка пикировали на нас, но, как
ни странно, за весь день не причинили никакого ущерба.
Впечатления того дня как бы заслонены от меня
событиями, разыгравшимися уже вечером, когда совсем
стемнело. Помню только, что, несмотря на шум близкого
боя и реальную опасность (не говоря уж о "мессерах", мины ложились рядом), весь день хотелось спать —
сказывались две бессонные ночи. Помню, что Бек
попрощался с нами и ушел на позиции родного первого
батальона. Почему—то помню неизвестно откуда
взявшегося Кушнирова, который, сидя на земле,
продолжал невозмутимо перематывать портянки, когда
совсем близко разорвалась мина.
Возле нас в высоком кустарнике находился
исходный рубеж какого—то танкового подразделения, как
видно приданного нашим частям. Его помощь стрелкам
выражалась в том, что время от времени несколько легких
танков выдвигались вперед и отгоняли немецких
автоматчиков, напиравших на наш передний край. Потом
танки возвращались на исходные позиции. Но, судя по
звукам, с обеих сторон преобладал пехотный огонь, и не
такой уж ожесточенный. Видимо, главный удар противник
наносил в стороне. Часам к четырем—пяти пополудни
стрельба стала стихать, но по неуловимым признакам
можно было заключить, что положение для нас
складывается неблагоприятно. Вскоре это ощущение
превратилось в уверенность.
— Ребята, вы что, остаетесь? — удивленно
обратились к нам танкисты, с которыми мы за эти шесть
—семь часов близкого соседства успели сдружиться.— А
мы получили приказ срочно отойти.
Вскоре стрельба совсем стихла. Танки ушли. На
землю опускались сумерки. Настроение катастрофически
падало. Больше всего томила полная неопределенность.
— Может быть, нас оставили здесь в качестве
заслона?— рассуждали мы.— Но если так, нам бы
приказали снять ДШК и зарыться в землю.
Мы строили самые различные предположения,
пытаясь хоть как—то понять, что происходит.
Уже совсем стемнело, когда ротный, в очередной
раз вернувшийся с КП полка, бодро скомандовал:
— По машинам!
В какую—нибудь минуту мы заняли свои места и
двинулись куда—то в ночь.
Теперь машина ротного идет впереди. А мы в
своей уже ставшей родной полуторке едем за ним. Все по
—прежнему: оклемавшийся за день политрук в кабине,
мы на досках в кузове. Я у правого борта. Рядом Кунин.
Передо мной Фурманский, перед ним Сафразбекян.
Вещевые мешки у ног, винтовки держим вертикально.
Едем без фар и очень медленно в полной темноте.
Тем не менее на открытом месте становится ясно, что
передняя машина значительно оторвалась от нашей и
расстояние это возрастает. Кругом царит удручающая
зловещая тишина. Так мы едем минут двадцать. Куда?
Судя по компасу, на восток...
Внезапно тишина взрывается длинной пулеметной
очередью. Светящиеся трассы устремлены в сторону
машины ротного. Мы не успеваем осознать происшедшее,
как впереди с характерным хлопком взвивается в черное
небо осветительная ракета." Мне это кажется, или в
самом деле откуда—то доносится хриплое: "Хальт!".
Теперь и нам навстречу мчатся светящиеся трассы — это
словно наперебой строчат в нас автоматчики. Мне
мерещится или нет какой—то тонкий, беспомощный звон
разбитой фары. Ракета повисает над нами. В ее
отвратительном мертвенном свете местность мгновенно
приобретает фантастическое обличье. Наша машина
застывает на месте. По мере снижения ракеты
стремительно и жутко смещаются на земле тени, словно
все кругом пришло в движение.
Я успеваю заметить впереди справа немецкий танк.
Это оттуда бьет пулемет.
— Засада! — кричит нам, приоткрыв дверцу
кабины, политрук.—
Крайним залечь и открыть огонь!..— Он кричит
что—то еще, но уже невнятно.
Сафразбекян, Фурманский и я, сидящие в затылок
друг другу, перемахиваем через борт и стараемся
отбежать от полуторки в сторону поросшего кустарником
бугорка. Как ни странно, глаз успевает подметить
множество деталей, но мозг не сразу их осмысливает.
Немецкие автоматчики, видимо, переносят свой веерный
огонь на нас троих. Пулемет тоже как будто
разворачивается в нашу сторону.
— Джавад! Павел! — кричу я.— Сюда!
К счастью, ракета быстро догорает, и автоматчики,
стреляющие "от пуза", бьют наобум. В нашу сторону рой
за роем летят стремительные светляки. Отчаянно
размахивая левой рукой, а в правой держа винтовку
наперевес, я бегу к спасительному бугорку и, лишь
плюхнувшись на землю, понимаю, что у меня под
мышками только что пронеслись два таких светляка. "Это
же немцы по мне...— проносится у меня в сознании.—
Это же пули!.." Но раздумывать над тем, как счастливо я с
ними разминулся, сейчас некогда. Я, как меня учили,
торопливо досылаю патрон в патронник и нажимаю на
спусковой крючок, целясь туда, откуда вылетают на меня
светляки. От волнения я плохо держу винтовку в руках, и
она больно отдает прикладом мне в плечо. Слышу, что
Сафразбекян и Фурманский рядом — тоже стреляют.
Теперь весь вражеский огонь сместился в нашу
сторону. Над головой то и дело отвратительно
посвистывает. Мы успеваем сделать по нескольку
выстрелов, прежде чем в небо снова взвивается
осветительная ракета. И в то же мгновение наша
полуторка внезапно оживает. Взревев мотором, она вдруг
делает крутой разворот и устремляется по дороге обратно, газуя вовсю...
Немцы спохватываются не сразу. Они какое—то
время еще держат под обстрелом наш бугорок, но потом
оставляют нас в покое и дружно палят машине вдогонку.
Последнее, что я успеваю заметить в призрачном свете
гаснущей ракеты,— Кунин... Как—то нелепо вскочив и
зачем—то вскинув руку, он падает на дно кузова...
Но вот становится опять темно, и немецкие трассы
уже без толку прошивают огненным пунктиром пустоту.
Наша машина умчалась, и гул ее мотора бесследно
растворился в ночном пространстве. Передней машины
тоже не видно и не слышно.
Немецкий пулемет вскоре умолкает. Постепенно
прекращают пальбу и автоматчики. Мы трое еще какое—
то время лежим за своим бугорком, полностью пока не
сознавая всего драматизма происшедшего с нами за
последние десять минут. Потом, тихо перекликаясь,
отползаем в заросли. И опять молча лежим на земле,
стараясь прийти в себя.
Так в темноте и тишине проходит примерно
четверть часа. Мы шепотом совещаемся — что делать?
Возвращаться бессмысленно, тем более пешком: там
наших частей уже нет, очевидно, надо обойти засаду
стороной и двигаться в том направлении, куда мы ехали.
А куда мы ехали? Видимо, на восток...
Однако поднявшаяся над дальним лесом луна
очень скоро меняет наши представления о случившемся.
Совершенно круглая луна в абсолютно чистом холодном
небе. В мире сразу становится до ужаса светло. Теперь
малейшее наше движение вызывает автоматные очереди
со всех сторон. "Наверно, десант..." – успокаиваем мы
себя, медленно, но методично продвигаясь по компасу на
восток.
Так, соблюдая осторожность, мы, наконец,
выходим из зоны обстрела. Однако, если десант, почему
так тихо кругом? Почему никаких признаков наших
войск? Ведь где—то здесь должны быть наши части! Вон
там, чуть южнее, темнеют силуэты каких—то машин... И
как бы в насмешку над нашими надеждами ночная
тишина тут же доносит оттуда обрывки немецкой речи.
Неужели вражеские силы так глубоко проникли в наше
расположение? Неужели фронт откатился так далеко, что
его не слышно? Ведь еще днем он проходил где—то
поблизости...
Беспокойная мысль, которую мы всячески
отгоняли от себя на протяжении последних двух часов, не
позволяя ей облечься в слова, требует, чтобы мы назвали
вещи своими именами: мы в окружении... Сейчас бы
закурить... Но присланные из Москвы папиросы в
вещевых мешках, а мешки в машине...
О том, как мы скитались по немецким тылам, как
догоняли фронт, как тщетно искали лазейку в
неприятельских порядках и как в результате ровно через
месяц все трое — Фурманский, Сафразбекян и я — все—
таки пробились к своим у Алексина под Тулой, я здесь
рассказывать не буду. Окружение — это особая тема, а я
пишу о людях нашей писательской роты. Поэтому еще
немного о Кунине.
В ту ночь, когда он у меня на глазах упал в кузове
полуторки, прошитый, как мне показалось, пулеметной
очередью, судьба на самом деле смилостивилась над ним.
Просто машина рванула с места, и Кунин, потеряв
равновесие, упал, благодаря чему и остался невредим,
именно таким случайным образом разминувшись со своей
пулей. Рядом кто—то, но не он, был тяжело ранен.
Обо всем этом мы узнали много позже, когда
Кунин, прослышав, что Фурманский после окружения
объявился в Москве, написал ему на адрес Союза. Кунин
тоже более двух недель выбирался из котла, только
севернее, под Вязьмой, а потом был назначен в какую—то
часть переводчиком. Оказывается, среди языков,
которыми он владел, был и немецкий.
Он писал нам с нового места службы, с передовой.
Письмо было горькое и, по существу, прощальное. Кунин
уже знал, что его жена бесследно исчезла. Он понимал, что она погибла, как и большинство наших штабных
офицеров, принимавших делегацию Союза писателей. Из
его письма явствовало, что после всего случившегося он
не возлагает особых надежд на свое будущее. Оптимист и
жизнелюб, он говорил об этом просто и серьезно, никак
не жалуясь...
И еще он просил у меня прощения за то, что,
выйдя из окружения, доложил по команде о моей гибели
— он же сам, своими глазами видел, как я, соскочив с
машины, упал, прошитый автоматной очередью.
Вот почему, пока я находился в окружении, на меня
в Союз писателей пришла похоронка. От моей жены,
эвакуированной Союзом в Казань, ее до времени скрыли.
Однако не так это все просто — есть вещи, которые
невозможно предусмотреть. Я рассказываю это к тому,
что война предлагала людям совершенно необычные
комбинации случайностей, очень далекие от привычной
логики цепочки причин и следствий. Она протягивала
среди нас свои, порой самые неожиданные связи. Я
позволю себе здесь маленькое отступление на эту тему.
Моя жена близко дружила с Антокольским и его
женой, вахтанговской актрисой Зоей Константиновной
Бажановой. В Казани эта дружба стала особенно тесной.
Они там вместе голодали и холодали. Особенно мучила
голодуха Антокольского. И вот однажды, весьма
возбужденный открывающейся перед ним перспективой,
Павел Григорьевич приносит Зое Константиновне
радостную новость: полушутя—полусерьезно он говорит
ей, что мою жену внесли в список на копченую колбасу.
Мол, она этого еще не знает, но он сейчас ей об этом
сообщит и тогда, глядишь, ему за добрую весть тоже
перепадет кусочек. Все это происходило на людях.
— Ты сошел с ума, Павлик! — закричала
испуганная Зоя Константиновна.— Пока до нее не дошло, надо ее немедленно из этого списка вычеркнуть. Пора бы
тебе, старому гурману, знать, что копченую колбасу
решено давать только вдовам...
Этот диалог относится примерно к первым числам
ноября. 13 ноября жена получила от меня телеграмму, что
я жив и вырвался из окружения. А 21—го погиб Костя
Кунин. Погиб, так и не узнав о начавшемся через две
недели нашем наступлении под Москвой.
А теперь еще об одном моем друге — о Павле
Яльцеве. О его судьбе.
Я уже говорил, что мы в ополчении делили все
трудности походной жизни истинно по—братски, даже не
отдавая себе в этом отчета. Такова была нравственная
атмосфера, естественно сложившаяся в роте с самого
начала. С момента выхода из Москвы. И чем дальше мы
от нее уходили, тем более насущными становились для
каждого из нас эти навыки повседневной солидарности. В
истории Павла Яльцева они проявились, пожалуй, с
наибольшей наглядностью.
Павел с первых же дней похода страдал от зубной
боли. Облегчить его мучения в полевых условиях не было
возможности. Он долго терпел, но потом стал проситься
хотя бы на два—три дня в Москву к стоматологу. В конце
концов командование ему разрешило эту поездку. На
целых пять дней. А произошло это в конце сентября.
Иначе говоря, мы были уже далеко. И полевая почта
работала из рук вон.
Естественно, Павлу надавали кучу писем, а еще
больше поручений — шутка ли сказать, наши жены
смогут повидаться с ним, а значит, все рассказать о себе и
все узнать про нас, да еще с такой достоверностью. И
действительно, Яльцев выполнил все наши просьбы
самым добросовестным образом, не упустив ни одной
мелочи. Лучшего посланца в тыл нельзя было и
придумать. Он вернулся через положенные пять дней и
рассказывал, как было дело.
Получилось так, что, когда Павел с трепетом
душевным после двух месяцев отсутствия поднимался по
лестнице к себе домой, его догнал какой—то парнишка,
который разыскивал ту же квартиру. Выяснилось, что ему
нужен не кто иной, как Яльцев. Это был посланец из
военкомата, который тут же на лестнице и вручил Павлу
под расписку повестку о явке. Поскольку дело
складывалось таким образом, Павел не мог не пойти. В
последний день он зашел к военкому и доложил, что
является бойцом Краснопресненской дивизии народного
ополчения.
— Отставить! — сказал ему военком.— Вы
аттестованный морской офицер запаса. Соблаговолите
немедленно отправиться во Владивосток для
прохождения службы на Тихоокеанском флоте.
— Что ж, по—вашему, я должен пренебречь тем,
что записался в ополчение? Да меня там сочтут
дезертиром. Я не имею права так поступить...
— А они у вас в дивизии не имеют права держать
вас бойцом: ваше звание по армейским меркам
соответствует двум шпалам. Вы обязаны служить
соответственно своему званию. Так что отправляйтесь во
Владивосток, иначе вас действительно сочтут дезертиром.
— Дезертиром на фронт?
— Но военком шутки не принял и сказал тоном, не
терпящим возражения:
— Завтра в десять ноль—ноль явитесь за
проездными документами.
Теперь, когда он уже в полную меру хлебнул
ополченческих тягот и не питал никаких иллюзий
относительно ополченческого будущего, коварная судьба
словно искушала Яльцева своими неожиданными
соблазнами. Она предлагала ему еще раз, повторно
сделать выбор между. . Впрочем, трудно сказать между
чем и чем. В том—то и дело, что война была чрезвычайно
изобретательна по части биографических парадоксов и
случайностей прохождения службы. Мне самому в
окружении часто думалось о том, как подвел меня
данинский компас. Ведь не будь его, меня, наверно, не
забрали бы в роту ПВО и я сейчас не скитался бы по
немецким тылам, а сидел бы где—нибудь в стрелковой
ячейке...
Конечно, я зря винил во всем компас, тем более что
в значительной мере именно благодаря ему мы вышли из
окружения, потому что могли идти на восток ночами и
пробираться к фронту глухими тропами. Кроме того,
тогда я еще не знал размеров военной катастрофы,
постигшей нас. Мне думалось, что из нашей дивизии в
окружении оказались только мы трое, в то время как на
самом деле в беде оказались четыре наши армии.
Но вернусь к Яльцеву.
Назавтра после разговора с военкомом он выехал
обратно.
— Хорош бы я был,— говорил нам Яльцев,
передав в подробностях этот диалог. — Набрал полный
сидор посылок и писем, насмотрелся на ваших жен,
которые с утра до вечера заполняли мою комнату, да еще
толпились в коридоре, а потом смылся в
противоположном направлении.— И он сердито хмыкнул.
— А приятно, наверно, носить флотскую форму, — ни с
того ни с сего добавил Яльцев задумчиво, разматывая на
ночь обмотки и прилаживаясь поспать под елкой.
Военком оказался прав. Всем ополченцам,
имевшим офицерское звание по запасу, стали спешно
подыскивать соответственные должности. Тут
выяснилось, что маленький, подвижный, нервный
Чачиков, воевавший прапорщиком еще в
империалистическую, тоже имеет две шпалы. Не помню,
куда его назначили, но из роты забрали. Перевели в штаб
и Шалву Сослани, аттестованного, как и многие писатели
накануне войны, в результате лагерного сбора.
Павел Яльцев погиб в окружении вскоре после
описанного выше возвращения из Москвы. К этому
времени его перевели в политотдел и поручили писать
историю нашей дивизии.
Когда я вспоминаю теперь три месяца ополчения, с
которых началась моя скромная военная биография, перед
моим мысленным взором, как в таких случаях принято
выражаться, неизменно возникают одни и те же картины.
Изнурительные дневные и ночные марши, уставная
премудрость боевой учебы, однообразие строительства
оборонительных укреплений. Нечеловеческая усталость,
пот, завивающий глаза, короткий сон где—нибудь в сарае
или под деревом, постоянная неутолимая жажда. А на
фоне этих непривычных физических лишений —
необычайно стойкое ощущение причастности к главному
делу современности, а также неуклонно растущее, с
каждым днем крепнущее чувство товарищества,
душевного единения с окружающими.
Писательская рота, в которой мне суждено было
начинать войну, состояла из людей сугубо
индивидуального опыта, обусловленного их профессией.
Вполне естественно, что само превращение такого
пестрого собрания индивидуальностей в некое
сплоченное содружество не могло обойтись без
некоторых издержек. Ведь это был процесс преодоления
весьма стойких социально—психологических навыков во
имя приспособления к новым, необычным формам
совместного бытия в экстремальных условиях. От одних
этот процесс потребовал в качестве душевной
амортизации каких—то нелепых чудачеств,
вымышленных эмоций. У других он был сопряжен с
гипертрофией фаталистических настроений. Третьим
инстинкт подсказывал в качестве нравственной опоры
настойчивый оптимизм, оптимизм во что бы то ни стало.
Но и те, и другие, и третьи — все мы тогда, может
быть, безотчетно, очень быстро прониклись духом
воинского братства, духом дружелюбия и взаимной
поддержки. Старые счеты, борьба самолюбий, вздорная
цеховая нетерпимость на поприще славы, зависть,
литературное местничество — все это разом отступило
перед грозным велением долга, которое принесла с собой
война.
Бек и Роскин, Яльцев и Кунин выделены мною
здесь из общей массы писателей—ополченцев не только
потому, что я их успел тогда узнать ближе других. Эти
люди были мне интересны, меня к ним тянуло. Они
лучше, чем я, понимали жизнь, и понимали ее не так, как
я.
Бек защищался от ее тягот с помощью обманного
простодушия.' Он почти по—детски играл со своей
судьбой в жмурки, хитрил с нею, отводил ее от себя,
прикидывался для этого другим человеком.
Роскин не столько защищался от тягот войны,
сколько принимал их как свою неминучую долю. Он
принес с собой в ополчение какую—то жертвенную
готовность разделить историческую участь миллионов.
Войну он ощущал как трагедию, в которой каждая личная
участь значит не меньше истории. Роскина как литератора
особенно страшило в войне ее властное и неумолимое
своеволие в море человеческих судеб. Может быть,
поэтому его так раздражали розовые иллюзии, которые у
многих тогда еще сохранились от мирного времени. В
этом смысле он принес с собой на фронт ту суровость
толкования событий, которая позволила ему провидеть
неслыханную жестокость этой войны, ее тотальный
характер, немыслимые раньше масштабы нравственных
потрясений.
Роскин дважды приходил ко мне на нашу высотку
из своей санчасти. Он приходил за несколько километров
для ночных бесед. Как я теперь понимаю, ему было
важно, чтобы я его запомнил, чтобы он о с т а лс я в м о ей
памяти. Нам никто не мешал, все кругом спали. Лишь
изредка зуммерил полевой телефон, и я в качестве
дневального откликался на проверку связи.
Мне разговаривать с Роскиным было очень
интересно и очень трудно. Я был намного моложе,
намного наивнее, намного непосредственнее. Но те наши
ночные беседы о жизни и смерти как бы стали для меня
окончательным прощанием с юностью.
Яльцев, напротив, привлекал меня своим
неистребимым оптимизмом. Интеллигент из крестьян,
Яльцев таил в своем характере, в своей внешности нечто
аристократическое. Даже в нашей ополченче—ской
форме он сохранял присущее ему строгое изящество. Я
думаю, что оптимизм его питался главным образом за
счет органического чувства внутренней свободы. Тонкое
сочетание независимости и иронии делало его характер
как бы слегка прищуренным, притом что он умел
искренне и беззаветно радоваться самым разным
проявлениям окружающей действительности.
И наконец — Костя Кунин. В этом нестройном
ряду у Кости тоже есть свое, особое место. Он был ярко
выраженным носителем сознательного, глубоко
интеллигентного долженствования. Чувство долга было в
нем сильнее всех его безмерных энциклопедических
познаний...
В заключение мне хочется вернуться к тому
разговору на привале возле Малеевки. Конечно, он был
порожден стремлением каждого заглянуть в свое будущее, угадать свою судьбу. Случилось так, что эта самая судьба
отмерила мне еще более сорока лет жизни с того
памятного дня, и я могу хоть как—то рассказать людям, какими добрыми товарищами мы были. Конкретными же
сведениями я, к сожалению, почти не располагаю. Даже о
тех, кто уцелел тогда, в октябрьских боях, я теперь мало
что могу поведать. Почти все умерли. А время в этом
смысле безжалостно, оно не щадит и тех, кого пощадила
война...
И все—таки несколько итоговых слов об
упомянутых мною литераторах добавить необходимо.
Степан Злобин был тогда же, в октябре, ранен,
попал в плен и содержался в минской лагере, где вел
подпольную работу. Он был освобожден нашими
войсками и после войны написал несколько хороших
книг.
Попал в плен и Петр Жаткин. Но ему вскоре
удалось бежать и пробраться к партизанам.
Партизанил на Смоленщине и Иван Жига.
Павел Железнов, тяжело раненный в первых же
боях, был эвакуирован в госпиталь.
Эммануил Казакевич окончил курсы лейтенантов,
стал разведчиком, был ранен и окончил войну в Берлине в
должности помощника начальника разведки одной из
армий. За свои книги о войне он дважды удостаивался
Государственной премии.
Окончил войну в Берлине и Бек. В октябре 1941—
го он быстрее других выбрался из окружения.
Бела Иллеш вошел с войсками в свой родной
освобожденный Будапешт в звании подполковника
Красной Армии.
Рувим Фраерман успешно работал в армейской
газете, а после войны написал несколько книг, которые и
сейчас доставляют радость, как детям, так и взрослым.
В числе немногих удалось вырваться из вяземского
окружения Натану Базилевскому. После войны я как—то
был у него в Газетном по случаю премьеры его пьесы
"Закон Ликурга".
Много книг написал после войны Осип Черный.
Он был демобилизован после тяжелого ранения —
осколок снаряда настиг его в Сталинграде на КП
знаменитой 64—й армии. Тем же снарядом был убит
Михаил Лузгин.
Фурманский после окружения оказался в
писательской группе при политуправлении Северного
флота. В 1944 году мы с ним встретились в Полярном,
куда я был послан в командировку от газеты Карельского
фронта. Как—то не верилось, что война снова свела нас за
тысячи километров от Ельни, где мы приняли боевое
крещение. И мы были уже другими, и война стала совсем
другой. В послевоенные годы Фурманский написал
несколько сценариев, в том числе два по произведениям
своего однополчанина Казакевича.
Не так давно отметил свое восьмидесятилетие Н.
Н. Вильмонт. У меня на полке стоит его книга "Вечные
спутники" с дарственной надписью. Он и сейчас
продолжает увлеченно работать за письменным столом.
С Сафразбекяном мы изредка видимся, но
перезваниваемся регулярно. После окружения он, как
физик—оптик, сделал много полезного для нашей
артиллерии, но в результате контузии почти полностью
утратил зрение. Сейчас он на пенсии.
С Даниным я по—прежнему дружу. Он окончил
войну военным журналистом в Праге. Если война нас
развела на четыре года, то мирная жизнь снова соединила
— последние двадцать три года мы даже живем в одном
доме, что называется, через стенку. Он стал известным
писателем и сценаристом научного кино, лауреатом
премии имени братьев Васильевых, автором двух
капитальных биографических книг — о Резерфорде и
Боре.
Каждый раз, бывая в Центральном доме
литераторов, я невольно задерживаюсь у мемориальной
доски с восемьюдесятью фамилиями московских
писателей, павших смертью храбрых на войне. Всем им
— вечная память. Половина из них — мои товарищи по
писательской роте. И почти все они погибли тогда, в
октябре сорок первого, или чуть позже. Должен
признаться, что первое время я несколько раз ловил себя
на том, что ищу в этом списке и свою фамилию. То, что ее
там нет, я и сейчас ощущаю как странную прихоть
судьбы.
Document Outline
Борис Рунин
Писательская рота
Борис Рунин
Писательская рота
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg





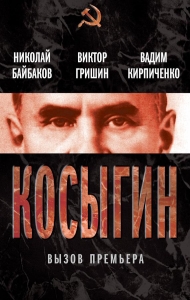


Комментарии к книге «Писательская рота.», Борис Михайлович Рунин
Всего 0 комментариев