Иван Емельянович Филоненко родился в 1934 году в степной деревне Константиноградовке, основанной украинскими переселенцами на берегу башкирской речки Уршак.
Здесь, в Башкирии, прошли его детские и школьные годы, сюда вернулся он после окончания агромелиоративного техникума помощником лесничего. После службы в Советской Армии И. Филоненко работал в подмосковном опытно-показательном лесхозе, здесь же начал писать свои первые рассказы о лесниках. Окончив Литературный институт имени А. М. Горького, несколько лет работал журналистом.
Первые повести И. Филоненко «Облака под лугом» (1968) и «Пока вырастут деревья» (1973) автобиографичны, следующие книги явились результатом размышлений над сегодняшними проблемами тружеников лесного и сельского хозяйства. Это повесть «Сотвори красоту» (1977), художественно-публицистическая книга «На холмах, посреди России» (1980), книги очерков «В сосновом красном бору» (1979) и «Земные наши заботы» (1983).
С особым интересом встретили читатели и критика новую повесть Ивана Филоненко «Хлебопашец».
Глава первая
1
Снег тихо опускался на прибранные нивы, умолкшие леса, на схваченную тонким ледком речку, пустые огороды, деревенские дворы и улицы.
Мир преображался, делался чистым, ярким и радостным — надоела грязь, надоело громыхать на телеге по выбитым слякотной осенью колдобинам. Не терпелось на санях по деревне промчаться, коней размять. Уже и сани были готовы, стояли во дворах, воинственно задрав оглобли. Кое-кто их даже на улицу вытянул — хотел показать: вот, новые справил, с железным полозом. А на ходу-то легкие какие!
Однако не в санях дело, санями мужик не похвалится, если конь голодный и в ларях пустовато. Год, слава богу, выдался добрый: и тепла в меру — ни хлеба, ни травы не посушило, и на дожди грех обижаться — немного их было, но все ко времени, так что вдосталь хлебушка мужики намолотили, еще и по сегодня цепами стучат, домолачивают по ригам. Это уже вроде баловства и хвастовства: вот сколь снопов пшенички навязал, на дворе октябрь к концу, а я с обмолотом никак не управлюсь. Гордая дума эта радовала не только хозяина, но и всех домочадцев, определяя собой и настроение и тон общений. Никто не жаловался, не кручинился, не скупился ни на какое одолжение: «Когда отдашь, тогда и ладно».
Да и что скупиться, если сыт, если и хлеб уродился и лен удался — будет во что обрядиться (уж бабы-то постараются, ночами будут сидеть, а наткут холстов да одежонок нашьют).
А сейчас главной заботой у всех была капуста. Посматривали в окна, на тихий снег, стучали ножами, наточенными до остроты специально по такому торжественному случаю. Поглядывали в посветлевшие окна, покрикивали на ребятишек: «Снег же вон идет, пошли бы побегать!» А они мешались под руками, томились в ожидании — кто первее ухватит кочерыжку. Мужики тоже частенько наведывались в избу — что детишки малые, поглядывали, как вкусно похрустывают ребята, как весело управляются с делом бабы, и всем загадывали давно разгаданную загадку: «Маленький, горбатенький, всю ниву обрыщет, а домой вернется — целый год пролежит». Бабы и ребятишки прикидывались несмышлеными, высказывали самые разные отгадки, а какой-нибудь малец, которому сами же и шепнули на ухо, выкрикивал торжествующе: «Серп!» Домочадцы ахали без всякого притворства и пускались вспоминать минувшую жатву: уж довелось нынче серпу порыскать по полю, поисточиться. А теперь что ж, пусть и полежит, отдохнет, зимой батя позубрит его — и опять готов будет рыскать.
Все были благодушны, потому что знали: сусеки полны зерном, подпол и погреб доверху засыпаны картошкой, стог сена выше избы красуется за сараем. Так что и себе на стол, и в ясли скоту будет что положить. Будет что и на базар в город свезти. Значит, заведется и кой-какая копейка, чтобы долги соседям отдать, подати уплатить и дырки подлатать, какие понаделала в хозяйстве страшная засуха, та, что четыре года назад пожгла все, погубила. Легче умереть было, чем выжить...
Весть о грозной туче, которая собралась в тот погибельный 1891 год над Шадринским уездом и которая готова была «разразиться голодом повсеместным и почти поголовным», дошла до самого Санкт-Петербурга. Смелый и честный, должно быть, человек написал в газету «Русские ведомости» вот такие строчки, на крик похожие: «Уже и теперь 77000 жителей питаются хлебом из сорных трав с незначительной примесью ржи. Домашний скот, избалованный добрым сеном, отвертывается от этого хлеба, а люди едят и благодарят бога, у кого есть запас сорной травы на завтрашний день. Но и урожай сорных трав не был значительным. Недалеко то время, когда не останется ничего. Даже и теперь обычное явление, что люди по два и три дня остаются без всякой пищи, а что будет дальше — страшно подумать».
В петербургских дворцах этот крик горя и нужды вызвал лишь недовольство: нельзя же, в самом деле, за мужика так глотку драть. Да и не в новинку ему хлеб пополам с лебедой есть. Не сам ли он и пословицу выдумал: «Не то беда, что во ржи лебеда...»
Услышал мужик, что его же утешками его и утешают, досказал пословицу до конца: «Злее нет беды, когда ни ржи, ни лебеды».
Ничего, в ответ ему, уж как-то перебьется, не перемрет. А если какой и помрет, то на его место другие народятся: рождаемость-то, кажется, самая высокая не где-нибудь, а в России-матушке. Во Франции, к примеру, похуже нашего, там, правда, поменьше смертность, однако и рождается куда меньше: у нас 48 человек на тысячу, а там всего-то 22. Так что без работников пашня русская не бывала никогда и даст бог не будет.
Однако не все были так бесчувственны и невнимательны к нуждам народным. Беда, грозной тучей собравшаяся над уездами и губерниями России, болью отозвалась в душе передовых людей русского общества. Репин пишет знаменитую картину «Крестный ход в Курской губернии», обнажая безысходное положение крестьянства, его скудность, обеднение и вопиющую нужду.
Лев Толстой, отложив все дела, все иные заботы, ездит по деревням Тульской, Орловской и Рязанской губерний, организует на частные пожертвования бесплатные столовые для голодающих семей, покупает и распределяет хлеб. Взывая к совести и разуму общества, пишет гневную статью «Почему голодают русские крестьяне», которую царский двор воспринял как «открытую пропаганду к ниспровержению всего существующего во всем мире социального и экономического строя».
Активно участвуют в борьбе с голодом Глеб Успенский, Короленко и Чехов.
Русские ученые, всячески содействуя писателям в их практической деятельности по борьбе с постигшим народ бедствием, мучительно искали ответы на вопрос, не разрешенный агрономической наукой: «Почему иссякают силы земли? Что можно противопоставить засухе?» В этом пытается разобраться один из творцов русской агрономии Климент Аркадьевич Тимирязев, который издает брошюру «Борьба растения с засухой». Другой русский агроном А. А. Измаильский работает над книгой «Как высохла наша степь», в ней он прослеживает историю оскудения наших степей и предупреждает: в недалеком будущем, при таком хозяйствовании, они способны превратиться в бесплодную пустыню.
Сказал свое слово и глава русских почвоведов Василий Васильевич Докучаев, откликнувшийся на «голодный год» книгой «Наши степи прежде и теперь». Сбор от ее продажи поступил в пользу голодающих. Он, почвовед, ясно сознавал, что никакой, «даже геркулесовский организм не в состоянии часто переносить таких бедственных случайностей, какая выпала в настоящее время на долю России» И выдвинул общегосударственный план оздоровления всего нашего «земледельческого организма», состоящий из пяти «надо», которые станут известны всему прогрессивному человечеству и лягут в основу будущих исследований и практических действии.
Царское правительство не откликнулось ни на одно из них. Но и промолчать не могло. Чтобы создать видимость деятельности, оно с большой помпой организует «Особую экспедицию по испытанию и учету различных способов и приемов лесного и водного хозяйства в степях России». Возглавить ее поручается Докучаеву. «Особая экспедиция» отправляется в самый центр многих засух, на водораздел между Волгой и Доном, туда, где простирается Каменная степь. Здесь Докучаев и основал опытную станцию, какой еще не было. На малом пространстве степи он рыл систему прудов, сажал полезащитные лесополосы, покрывал лесом овраги, чтобы окультурить изнывающие от зноя земли. И искал такую систему обработки почвы, чтобы наилучшим образом использовать накопленную в ней влагу и не разрушать почву. Станции этой суждено будет внести огромный вклад в отечественную науку, которую Докучаев назовет «почвоведением».
Да, как ни странно, наука о почве — единственном источнике существования человечества — была создана лишь в конце XIX века. И создала ее русская школа почвоведов. Не без основания Докучаев говорил об этом как об открытии четвертого царства природы, об открытии, поразившем мир.
Еще недавно Чарльз Дарвии писал в одном из своих писем: «Меня поразило, что все наше знание о структуре Земли очень похоже на знание старой курицы о поле в сто акров, на углу которого она копает лапами...»
Так это о структуре Земли! А тут — верхний пахотный слой ее, который человек возделывает по меньшей мере семь тысячелетий! И вот это самостоятельное, по определению Докучаева, природное тело, образующееся на поверхности Земли в результате сложного взаимодействия космических, земных (живых и неживых) факторов, это природное тело, обладающее исключительными, присущими только ему оригинальными свойствами — плодородием и незаменимостью в жизни природы и человеческого общества, этот тончайший слой земной коры, наделенный «рождающей силой», до конца XIX века просвещеннейшие умы считали одной из горных пород, и никто не выделял его из этого ряда. Даже чтимый во всем мире Паллас, естествоиспытатель, географ и путешественник, предпринявший во второй половине XVIII века «Путешествие по разным провинциям Российского государства» (так он назвал потом свой научный труд), собравший и впоследствии обработавший богатый географический, ботанический и зоологический материал, подготовивший труд «Флора России», высказывавший идеи исторического развития органического мира, великий этот естествоиспытатель считал, что чернозем юга России — это ил отступившего древнего моря. Нет, возражали ему, это вовсе не ил, а торф, принесенный ледником из северных болот.
И только в конце XIX века русские почвоведы решительно заявили: не ил это, и не торф, и не горная порода, а накопившиеся остатки отмирающей органической жизни, которым одна минута по часам истории Земли.
Они с гордостью вспомнили гения России Михайлу Ломоносова, который в «Первых основаниях металлургии», написанных еще в 1742—1743 годах, пусть и мимоходом, но четко и ясно высказался и о природе почвы: «Итак, нет сомнения, что чернозем не первообразная и не первосозданиая материя, но произошел от согнития животных и растущих тел со временем...»
Итак, почва — это прах органических тел, это кладовая, в которой веками накапливались запасы пищи для растений. Разгадка эта, доведенная до сведения образованного человечества, потрясла его воображение. И не случайно на публичные лекции Докучаева «О главнейших законах современного почвоведения, обязанных своим открытием почти исключительно трудам русских ученых» ходила почти вся образованная молодежь Петербурга. Неслучайно не что-нибудь, а почвенные коллекции, собранные Докучаевым, побывали даже за океаном на Всемирной Колумбовой выставке в Чикаго, посвященной 400-летию открытия Америки. «Кто бы думал,— выражали свое удивление на страницах американских газет посетители этой выставки,— что в конце девятнадцатого века мог быть открыт новый континент в наших знаниях о природе!» После этой выставки 1893 года с институтских кафедр всего мира зазвучат русские слова «чернозем», «подзол», «солонцы». А новая наука о почве, вопреки традиции, получит не греко-римское имя, а русское — почвоведение, основу которой Докучаев изложил в диссертации «Русский чернозем»: он защитил ее 11 декабря 1883 года в Петербургском университете и получил звание доктора геогнозии.
В эти же годы другой великий россиянин Климент Аркадьевич Тимирязев, которого даже современники называли «величайшим ботаником мира» и «патриархом русской агрономии», открыл тайну зеленого листа. Да, именно тайну. Тысячелетиями человечество смотрело на зеленый мир природы, но никто не знал, почему он зелен. Объяснил это Тимирязев. И тоже поразил мир. Человечество узнало, по каким законам листья используют и перерабатывают энергию солнечных лучей. Пусть это только малая часть жизни растений, но именно она была самой загадочной.
В эти годы русские ученые-естествоиспытатели вторгались в таинственный мир природы с неотступной, как боль, думой: познать этот мир, чтобы помочь российскому крестьянину выпутаться из вечной нужды, которая усугублялась не только засухами, но и невежеством. Они видели и понимали (и во весь голос говорили об этом), что обработка крестьянских полей до того ужасна, что вернее было бы назвать ее «издевательством над землей». Поэтому ратовали за неустанную пропаганду новой техники, идущей на смену сохе и деревянному плугу — сабану. Но не могли они не видеть и того, что даже идеально обработанные нивы в бедственные годы не дают никаких преимуществ перед землями, обработанными «по-крестьянски».
Значит, есть и какие-то другие причины?
Ответ на этот вопрос дал первый русский марксист Плеханов в статье «Всероссийское разорение». Именно в ней он вскрыл социальные причины бедственного положения российского мужика. В ней же приводит и сообщение из Шадринского уезда, опубликованное в «Русских ведомостях». И пошла эта статья по России, пробуждая общественную мысль и сознание. По ней учились политграмоте в нелегальных кружках, в которых пройдут школу подготовки к грядущей революционной борьбе тысячи и тысячи рабочих.
Только сам российский мужик, привыкший выпутываться из любого бедственного положения своим умом и своими силами, был глубоко безразличен к грамоте, газетам и книгам, к тому, что в них рассказывалось. Он, неграмотный, не знавший ни чтения, ни письма, полагался на себя да на милость бога надеялся. А чтобы не гневить его — не роптал, невзгоды сносил молча и терпеливо. Одно знал твердо: беда в одиночку не ходит, если уж случилась одна, то жди и другую.
В тот голодный год никого не обошла нужда-прибируха. Но всякая нужда сначала на двор к Семену Мальцеву заходила. Мор напал на скотину — у Семена лошадь пала. Чем теперь пахать надел, кто сабан таскать будет? У других помощники нарождаются. У Семена тоже родился, да вскоре и умер. Уже третий умер, ни один и до года не дожил. Да и как дожить, когда грудь у матери пуста, когда даже соску накрутить не из чего. Нажует Васса, жена Семена, ржаного хлеба с мякиной да лебедой, положит в тряпицу — вот и вся соска. Что из нее для жизии высосет младенец?..
Как раз в тот год, когда умер Семенов первенец, в «Отечественных записках», которые редактировал Салтыков-Щедрин, появилось письмо из деревни, принадлежавшее талантливому перу ученого-агрохимика Александра Николаевича Энгельгардта, за распространение демократических идей высланного из Петербурга в село Батищево Смоленской губернии, где он и «сел на землю» — стал жить крестьянским хозяйством.
В том письме из деревни Энгельгардт свидетельствовал, что дети русского земледельца «питаются хуже, чем телята у хозяина, имеющего хороший скот. Смертность детей куда больше, чем смертность телят, и если бы у хозяина, имеющего хороший скот, смертность телят была так же высока, как смертность детей у мужика, то хозяйничать было бы невозможно».
У Семена Мальцева ни детей теперь не было, ни лошади — нечем хозяйствовать.
Была изба да пустой двор.
Однако еще не все беды прошли по деревне. В жару такую, какой дышало лето 1891 года, каждой искорки остерегайся, иначе и до беды недолго — пожары в русской деревне чаще недорода случались, в один час выгорал целый порядок деревянных изб и дворов, соломой крытых.
На дальнем лесном покосе были Мальцевы, когда занялась их изба. Занялась и сгорела дотла, ни избу отстоять не удалось, ни из избы ничего не вынесли. Осталось горячее серое пепелище да плетень, поваленный сбежавшимися на пожар.
Все, нечего больше делать беде у Семена. Ничего теперь нет у него, кроме неба над головой, на которое Семен посматривал со страхом: господь каждый его шаг видит, каждую думу слышит и карает. Это он сушь на землю напустил, чтобы всем о себе напомнить, а Семена пометил особо. Неужели самый виноватый? Однако и такой вопрос, шевельнувшись в голове, напугал Семена. Значит, виноватый, иначе не обрушил бы бог на него такую суровую кару.
Покорившись участи своей, Семен пошел в молельный дом, к деду Омельяну. Дед, избранный староверами своим духовным раставником, оставался в миру таким же крестьянином, как и все, кого наставлял он. И чтили его не как пустонабожного человека, стоящего между богом и людьми, а как справедливого, рассудительного и отзывчивого на чужую беду человека: и пожурит, если оплошал в чем, и посоветует, с обществом поговорит, когда в том нужда являлась. Выслушав Семена, он согласился, что на все божья воля, однако, чтобы дело поправить, нужно руки к этому делу приложить, людей на подмогу покликать. Эту заботу наставник взял на себя.
Вскоре Семен Мальцев присмотрел в соседней деревне сруб, на покупку которого общество ссудило ему в долг нужную сумму денег. Помогли и перевезти его на усадьбу. Сруб был старой избой, ставшей прежнему хозяину тесной,— поставил себе новую, а старую уступил по сходной цене погорельцу.
Через несколько дней на пепелище уже стояла изба на пять окон — со всего порядка сошлись люди на помочи. К избе Семен прирубил сени, покрыл соломой и перед морозами кликнул всех на новоселье: хоть и накладно, все в долг, а отблагодарить за подмогу надо. Люди понимали это и поэтому шли не с пустыми руками: кто скамейку принес, кто плошку, а кто серп или вилы — в пустой избе, в разоренном хозяйстве все сгодится.
С тем и зажили, словно заново, без приданого. Не велико оно было и при женитьбе. Семен, рано лишившийся отца, до призыва на военную службу батрачил у дальнего родственника Никифора Мальцева, а батрак никогда богатства не наживал. Не богаче была и Васса. Семен высватал ее в дальней — за сорок верст — деревне Барабе, соседней Белоярской волости. Высватал после восьми лет службы бомбардиром в далеком Туркестанском краю. Там и научился выводить не только свою фамилию, но, бывало, осиливал даже имя и отчество, что и побудило Вассу согласиться на замужество, хоть и был он на десять лет старше ее.
Поставив на пепелище избу с сенцами, Семен словно бы окреп духом: есть кров, а до весны как-нибудь и на пустых щах можно прожить. Летом все будет полегче, летом на каждой лужайке найдется что в рот положить. А там бог даст и хлебушко уродится: крестьянин всегда жил надеждой на хороший год и добрый урожай.
Васса красивая, статная, чернявая, с кроткими васильковыми глазами, поддерживала в нем эту бодрость, не выбирала, какая работа ей по силам,— за любую бралась, любую делала. И по хозяйству своему погорелому делала, и вместе с Семеном нанималась батрачить.
И выжили. А уж когда пережили лихую годину, то дальше сама жизнь заставляла из нужды выбиваться.
Через два года Семен свез урожай в город и вернулся с кобылой-трехлеткой.
— Вот и лошадушка у нас,— сказал он Вассе, кинувшейся гладить Лысуху, душистым сенцом ко двору и к себе ее приваживать. И кобылка, словно здесь и жила всегда, и от рук не отпрянула, ни в конюшню входить не уперлась.
И враз все по-другому стало на подворье. Есть конь, значит, двор теперь крестьянский, а не батрацкий. Вот только в избе не по-семейному, без ребят-то. И хоть Васса не чувствовала в том своей вины — она уже троих рожала,— а все же неловко ей было перед людьми.
Скучно в доме было и Семену. По умершим он не убивался, потому что и привыкнуть ни к одному из них не успел. Да и не водилось такого в крестьянских семьях, чтобы убиваться по усопшим младенцам. Рассуждали коротко: бог дал, бог и взял, урону хозяйству никакого нет. А уж когда недород случался или болезнь накидывалась, то и благодарили втайне: спасибо, бог прибрал.
Вернувшись с погоста, крестьянин скоро забывал усопшего, будто и не было вовсе никакого младенца. Без присмотра зарастал травой-муравой и холмик на погосте, а потом в вовсе исчезал среди крестов и могил.
Рождение ребенка, как и его смерть, тоже не было событием. И то и другое случалось часто и происходило словно бы между делом. Беременная русская крестьянка ни на один день не освобождала себя от хозяйственных хлопот и тяжелых работ. Могла косить, жать, молотить или стоговать до той последней минуты, пока не вскрикнет и не упадет тут же, на ниве, на лугу. Нередко вслед за ее криком раздавался и крик новорожденного.
Однако как ни надрывайся на работе, а сила у отяжелевшей бабы уже не та. Плохая она мужику помощница и после родов: хоть и впрягалась в работу на другой же день, и виду не подавала, что слабость туманом застилает глаза, а все же нет прежней хватки: то покормить надо, то перепеленать младенца. Мужик торопится, мужик надсаживается: вот-вот задождит, скорее сено бы надо сгрести, чтобы не намочило, не погнило, а она к младенцу бежит, пусть и не на каждый его крик, но сколько же слушать эти вопли. Вот в сердцах и подумает: «Да подавился бы ты...»
Счастливой считали ту бабу, которую дитя плачем не донимает: дашь грудь — молчит, и не дашь — молчит. Вспомнит сама баба — кинется к нему: «Жив ли?.. Ничего, дышит, вон как ловко титьку взял».
И сколько их под пустой титькой было удушено-заспано до бесчувствия уставшей женщиной: положит ребенка к груди, а сама тут же и навалится на него, уснет, да так уснет, что мертвее пня сделается. Не было такой деревни, где бы хоть один год минул без подобного засыпа.
Испытав на себе все эти муки, крестьянка делалась расчетливой и подгадывала сначала со всеми полевыми работами управиться, а уж потом и к родам готовиться, чтобы ни себя, ни младенца не мучить. Вся жизнь подчинялась работе: и свадьбы правили по деревням осенью (летом — зазорным считалось), и на свет появлялись осенью, чтобы с весны баба могла впрячься в работу и не ойкнуть, чтобы малец мог обходиться хлебной соской и меньше тянуть мать.
Васса Мальцева тоже подгадала и была этому рада. Радовалась, что выдался такой хлебородный год,— младенец не в тягость семье будет, значит, и заботы ему перепадет больше. Радовалась и похваливала себя, что все у нее ко времени,— ни раньше не надо, ни позже. Вон как в дому весело и дружно: бабы капусту рубят, Семен с кадушкой нянчится — за лето рассохлась.
За окном снежок неторопливо, тихо и мягко падает— покойно, хорошо в природе. И на душе у нее так же покойно и хорошо. Васса думает, что успела бы с капустой и сама управиться, но пришли соседки, заругались на нее, по-доброму заругались и отстранили от стола, на полати подсадили ее, неповоротливую, тяжелую: «Родить тебе пора, а не капусту квасить». Хорошо, когда все ко времени, когда сусеки полны и люди сыты.
Эти же мысли вернулись к ней и после того, как она очнулась, ощупала себя и младенца, который, тихо посапывая, лежал рядом умытый и запеленутый теми пеленками, которые нашила из домотканого беленого холста и еще утром положила на край полатей.
Семен тоже был рад, что выдался такой добрый год: и дожди шли в срок, живительные для всего, что в воле и на огороде росло, и сын родился ко времени, под зиму. Радовался, что сын, а не дочка. За дочку он тоже не укорял бы Вассу, но дочка — это лишний едок в семье, девки землей не наделяются. А сын — это еще несколько десятин запашки, так что при хорошем урожае хватит хлеба и семье и на продажу кое-что останется. Подрастет сын — помощником станет, опорой в старости, будет кому хозяйство передать.
Сына Мальцевы нарекли по святцам — Терентием. Тереша... И говорить хорошо и слушать приятно, будто горошинки в погремушке весело перекатываются. Терентий... Имя славное и уважительное.
Шел к концу октябрь 1895 года. Чисто и бело стало на разъезженных за осень дорогах, на истолоченных скотом прогонах, на осклизшей и наслеженной деревенской улице. Просторнее делалось кругом: поля словно шире стали, березовые колки будто поредели, насквозь просветлев. Отзаботился, отхлопотал крестьянин в поле, хлеб обмолочен, зерно перелопачено, провеяно, на грохоте просеяно, в сусеки засыпано — и словно гора с плеч, теперь можно и перекреститься, главная работа переделана, та долгая и трудная работа, к которой как приступил весной еще, так и не отходил от нее ни на один день до самой поздней осени, до октября.
Он жил, чтобы возделывать поле. Возделывал поле, чтобы жить. Поэтому жизнь и работа не существовали порознь. Эта нерасторжимость рождала глубокое убеждение: он делает то, что ему предназначено, коли на свет явился, и другого дела для себя не мыслил. Не понимал, как можно жить, не добывая хлеб насущный в поте лица своего. Тягость эта, утомляющая человека, укрепляла, веселила, мучила и радовала душу его: он поработал, он славно поработал под небом на земле, и взял с десятины сам-четверт, один сам-семена и три лишку приобрел.
Не эта ли душевная сила держала его и в те тяжкие годы, когда природа обрушивала на поля засухи и суховеи, дожди и град, густые туманы и заморозки и когда он оказывался один на один перед этими стихийными бедами, губившими на глазах весь урожай, ради которого он не разгибался с весны до осени?
Отчаяться бы впору, а он, переголодав зиму, похоронив истощившихся и обессилевших, снова выходил весной в поле, снова копошился на земле, по-прежнему один на один со всеми невзгодами. И ведь понимал, что в одиночку не прожить, поэтому и ставил свое жилье не на особицу, а одно к другому, деревню образуя, в сельскую общину сколачиваясь. Однако каждый хозяйствовал сам по себе, делал хоть и ту же работу, что и все, но не общую. Где и надо бы сообща,— и там каждый в одиночку надсаживался, чтобы потом сказать: «Много ли, мало ли, а все это мое». И гордость в этом слышалась и похвальба.
Так жил, так работал крестьянин веками. Не покидали его заботы ни зимой, ни летом, ни днем,ни ночью. К скотине всегда был милостивее, чем к себе и детям своим, потому что знал: самим можно и кое - как перебиться с кваса на воду, а конь, если не покорми его, в борозде весной ляжет, корова, не дай ей сенца, без молока всю семью оставит и приплода не принесет — значит, и без мяса быть.
Менялись поколения, вымирали, надорвав силы, одни, на их место заступали другие, но по полю брел за сохой все тот же одинокий, придавленный нуждой и неизбывными думами пахарь: ах, забыть бы нужду-кручину, избавить бы детей своих и жену от сумы, если недород грянет!
Этими думами жил и Семен Мальцев. Жилы из себя тянул, чтобы с хозяйством управиться. В любую работу впрягалась и Васса, по-прежиему статная, хлопотливая женушка его. Однако все чаще стала замечать: что-то неладное с ней, глазами бы все переделала, а руки не осиливали, делались будто ватные — ни силы прежней, ни сноровки. А потом и вовсе слегла.
— Что ж ты, жена? — спрашивал ее Семен. Без укора спрашивал.
В ответ она виновато улыбалась, говорила:
— Вот поднялась бы, да ноги будто не мои и в груди что-то тяжко.
Так и не встала. В августе 1898 года, на тридцать втором году, она умерла тихо, словно уснула. Семен в поле был — на жатве в одиночку маялся. Домовничала Семенова мать, Анастасия Федотовна, но она больше по двору мыкалась, в избу заходила редко.
— Убралась я,— рассказывала потом Анастасия Федотовна,— вхожу в избу, и слышится мне, будто тихо стало, будто в дому ни души...
Тереша тоже немного мог бы рассказать. Лишь то, пожалуй, как мать, лежавшая на лавке, позвала его еле слышно:
— Подойди, сынок.
Он подошел, но мать закрыла васильковые свои глаза и ничего больше не сказала. И Тереша отошел, ребячьими делами занялся: бабушка не велела мамке надоедать.
Был, ходил по земле человек, смеялся, в поле работал, и вдруг нет его. И все в деревне воспринимали это как напоминание: ты не вечен. Каждого тянуло взглянуть на усопшую, отошедшую в небытие, за грань жизни, хоть и лежит еще в доме, но уже и в своей домовине.
Однако пора была — август-зарничник. В поле все от темна до темна, поесть, поспать некогда. В такую пору человек будто глохнет, не думает, не чувствует, не слышит. Очнется, когда работу свалит.
Так что в избе Мальцевых негусто народу было. Если и забегал кто, то поздно вечером. Может быть, поэтому не запомнил это трагическое событие и Терентий. Была мать, потом уснула, куда-то исчезла. Смерть от него не скрывали, в деревне не принято хитрить, избавлять детей от потрясений. Просто малец не понял, что ж такое приключилось с матерью,— как-то незаметно и буднично происходило все случившееся. Да и мал еще был: трех лет не исполнилось.
Но пройдет пять месяцев, отец приведет в дом другую хозяйку, двадцатилетнюю, припадавшую на одну ногу. Убивайся не убивайся, рассудил Семен, а не сладить бедняку с хозяйством без помощницы. Надо жить, со всеми работами управиться в срок. Да и Тереше мамка нужна. И грянула в доме свадьба — зима, все свободны, в эту пору и на поминки охотно идут, а уж на веселое дело хоть всю деревню принимай. Шумную, многоголосую свадьбу эту Терентий запомнит на всю жизнь. И женщину, сердцем добрую и ласковую, примет как родную мать. Анна ответит ему тем же — заботой и лаской.
— Я твоя мама, Тереша. А ты мой сыночек,— сказала она без всякого притворства и протянула к нему руки. И он потянулся к ней.
Бездетная молодая женщина — не наживет она детей с Семеном — не притворялась ласковой. Соскучившись по своему дому, хозяйству, по своей семье, она была рада, что обрела все это: есть муж, есть сын, а значит, есть и те тяжкие, но и сладостные заботы, которыми наполнялась жизнь всех деревенских женщин.
Не забывал про сына и отец. Не баловал его, не нежил — не до того в крестьянской семье, но держал в заботе: и одежка на всякое время года была, и всегда накормленный был, пусть и не так, чтобы куску не радоваться, чтобы выбирать повкуснее что. Ел все, что на стол ставилось, что матери коровушка дала и огород уродил, что отец на ниве добыл и что мать могла состряпать сегодня, про завтрашний день помня.
Ну, а Тереша любил отца, мать, коровушку, которая молоко дает, кобылку Лысуху, которая отцу помогает. К отцу, матери ласкался, когда те не в хлопотах были. Коровушку и Лысуху, когда они во двор возвращались, встречал пучком надерганной в огороде травы—припасал заранее. Глядя на мальца, отец улыбался: он напоминал ему покойную Вассу. Весь в нее: брови, волосы такие же черные и глаза васильковые. И потому, когда подрастет маленько Терентий и спросит про мать, какой она была, отец подведет его к зеркалу и скажет:
— Вот посмотри на себя, увидишь мамку свою.
Отец давно уже не остерегался, когда сын вертелся около животины: большой стал, не зашибут. Анна, правда, иногда еще шумела на него, однако Семен успокаивал: мол, какой же он тогда крестьянин, если скотины сторониться будет? Нет, пусть к хозяйству с малолетства душой тянется. Будет ласка к коню, к корове, будет и старание.
Приехав однажды с поля, Семен, как всегда выпряг лошадь, привязал за повод к телеге, пошел убирать под навес сбрую, сыну сказал:
— Ну-ка, Тереша, сенца Лысухе принеси.
Сгреб малец охапку душистого сена — не видно, куда и идти. Лошадь в это время травинки в телеге выбирала и, должно быть, испугалась, когда Терентий в ноги ей с охапкой этой сзади сунулся. Увидел отец:
— Отойди, ударит!
Поздно крикнул. Лошадь лягнула, угодила в грудь копытом. Отлетел Терентий в сторону, упал на спину;
Отец кинулся к нему, схватил на руки, крикнул не своим голосом:
— Тереша!
Сын, показалось Семену, не дышал. На груди сквозь рубашонку проступила кровь. Пятно быстро влажнело и ширилось
Все, что делал Семен дальше, он делал как во сие, не сознавая ничего, повинуясь Анне. Это она велела скорее нести сына в избу и положить на лавку. Быстро подбежала с ковшом колодезной воды и чистой тряпицей сняла сгустки крови, промыла осторожно рану. Семен и прикоснуться боялся. Стоял возле и повторял, все больше отчаиваясь: «Дыха-то нет, дыха...» Но тут шевельнулся Тереша, вздохнул прерывисто, как после долгого плача.
— Продохнул! — сказал отец. И сам вздохнул с облегчением: все обойдется. Теперь и рану на груди рассмотрел: ничего, невелика — затянется.
Ранку рассмотрел, а что грудь в том месте продавлена — не сразу и приметил. Да и Анна тоже. Увидели позже. Ничего, подумали, затягивается же след копыта на земле, затянется и на груди.
Однако пролежал Терентий долго: рана не заживала, мокла, сочилась, потом подсохла, но боль в груди осталась — продавленное место не выправлялось и болело при каждом глубоком вздохе.
А на дворе было лето, на улице друзья-мальчишки бегали. Чтобы не скучно ему было, мать на день стелила во дворе или на огороде какую-нибудь дерюжку, и Терентий перебирался на нее, ложился на спину и смотрел в небо, в голубое бездонное небо, по которому катилось солнце и плыли облака. Откуда они? Куда плывут? И птицы парят, раскинув недвижные крылья. Только видно, как хвост иногда шелохнется или крыло изменит наклон,— и тогда птица по кругу начинает парить, вверх взмывает или ниже и ниже к земле спускается.
Он увидел небо! Просторное, опахнувшее все деревенские дворы, нивки на косогоре за рекой, леса по окоему. Увидел, как тучка застилает солнце и от этого на земле появляется тень — тут тень, а дальше по косогору ярко и солнечно. Увидел, как из тучек, когда их собирается много, дождик льется. Ему казалось, он струйки видит, которые потом на капли рассыпаются. Так молоко в подойник струится, когда мать садится доить коровушку. Увидел нивки — наделы и межи за рекой, за лугом, до самого леса.
Должно быть, он воспринимал окружающий мир совсем не так, как здоровые дети. Он был внимательнее к нему, мир этот рождал в нем не только удивление, но и то сильное чувство, которое взрослый назвал бы жаждой жизни.
Терентий уже знал — отец рассказывал,— что деревню когда-то давным-давно, лет двести назад, а то и того больше, основали беглые крестьяне. Сказывали деды, до тех пор края эти были безлюдными и глухими. Кругом лес шумел, а за лесами начиналось неспокойное «дикое поле», которое татары конями топтали, добычу искали. Ни деревень, ни городов на этой земле не стояло. И Шадринска не было. Как и деревня Мальцево, он с заимки заселяться начал, которую в то же самое время основал крестьянин Шадрин. Не было и города Кургана — крестьянин Тимофей Невежин с сыном заложили его.
Слушал эти рассказы Терентий и гордился тем, что это его предок по фамилии Мальцев перешел Урал-батюшку, пробрался вот сюда, в пустынь, за леса уральские, и здесь основал заимку: срубил избу, расчистил от леса клочок земли да и стал жить. Следом за ним пришли на Мальцево поселение и другие. Стала заимка деревней. И зажили здесь крестьянской общиной.
2
В доме Семена Мальцева не только книг не водилось, но никогда не было ни газеты, ни клочка бумаги — он не курил, на закрутку не надо, а раз на закрутку не надо, то и нужды в ней нет, на кой она, бумага. Не было никогда и карандаша: ни к чему он крестьянину. И без того несладко живется, и без того хлопот хоть отбавляй, чтобы еще утруждать себя чтением или письмом. Да и куда, кому писать — вся родня рядом, если не пешком, то конем можно доехать.
Не хотел крестьянин и детям голову морочить. Это нежелание его вполне согласовывалось с обиходом и крестьянской общины, да и всей России, которая в начале XX века расходовала на образование всего по 44 копейки на одного своего верноподданного. Тогда как Германия уже тратила по 3 рубля 50 копеек, а Америка больше семи рублен на каждого жителя. Из каждых четырех российских ребят в возрасте 8—14 лет учился один, а в Сибири — один из шести.
Не была исключением и деревня Мальцево. Церковноприходская трехлетняя школа, обыкновенная изба в четыре окна, появилась в деревне недавно, да и то против воли общины. И потому поставили ее не в центре, а на отшибе. Что ж, решили, пусть стоит, а детей своих никто туда не пустит.
Деревня жила прежней жизнью. В школу бегали только дети богатеев, которых в деревне было немного. Да и из этих дворов если и ходил кто в школу, то зиму одну, а уж на две-три пустить — так это вовсе баловство. Да и куда такая пропасть грамоты?
Но однажды Тереха тоже запросился в школу. Отец, осерчав не на шутку, хотел тут же и выпороть его, чтобы дурь эту из башки выбросил. Однако одумался: что без дела пороть, и без того забудет, мало ли что еще взбредет ему.
Спросил строго:
— Кто тебя на грех такой надоумил?..
Убедившись, что никто сына на эти мысли не подбивал, он решил, что всполошился, пожалуй, зря, что мимолетное хотение скоро забудется — надо к делу Терешу приноравливать. Но все же на всякий случай предостерег:
— Познаешь грамоту — грех на себя примешь, на дом, на двор наш беду накличешь.
Терентий боялся отцовского гнева, а пуще того — божьего. Он уверовал, что все, происходящее на небе и на земле, делается по чьей-то воле: и солнце поднимается и уходит, и тучи собираются, и дождик из туч тех проливается, а после дождика радуга через все небо, над всей землей загорается.
Однако чудо сложения слов до того будоражило Тереху, до того увлекало, что даже в забавных играх не забывалось. И льнул к другу Петьке, в школу бегавшему. Петька хоть и не силен был в сложении слов, однако буквы все же знал и, когда не было другого занятия, чертил их палочкой на песке. Потом, выхваляясь перед другом, брался за озорство: с оглядкой малевал углем на заборах, на березовых поленницах, сложенных у дворов. За озорство это его и за уши драли иногда и крапивой перепадало пониже спины. Так что вскоре ни ударился в другие шалости, убегал с ребятами на речку. И Терентий все чаще оставался в одиночестве: уходил за сарайчик или в огород, куда отец редко захаживал, и складывал на мокрой земле все новые и новые слова. Складывал из тех букв, которые узнавал в игре с мальчишками. Запоминал ни их без видимого труда, как говорить человек учится. Поэтому ему будет всю жизнь казаться, что читать и писать он умел чуть не отроду.
Узнай отец про это пристрастие в другое какое время, несдобровать бы Терентию — отходил бы хворостиной крепко: не стремись к чему не надо. Однако именно в то время в далекой Маньчжурии, незнамо где она и есть, разгорелась война — Россия столкнулась с Японией. Всполошились солдатки, чьи мужья на действительной служили. Враз всем понадобился грамотей, который читать, писать умеет: надо же узнать, не угодил ли кормилец на ту войну окаянную. Кинулись бабы к одному шалуну, что по заборам малевал, к другому — нет, ни одного слова осилить не могут. Тогда на Тереху Мальцева указали. Вот и прибежали солдатки к Мальцевым — кто бумагу прочитать, кто ответ отписать.
— Да вы что, ополоумели? — вскинулся Семен Мальцев, сочтя такую просьбу несуразной и неисполнимой.
— А кликни своего Терентия,— попросили бабы. — Сказывают, он может.
Позвал отец сына. Позвал сердито, недоумевая: мол, что еще бабы придумали? Но Тереха, хоть и оробел, однако не отказался, взял в руки письмо. Все затаили дыхание...
Мать переживала и за сына и за себя. Это она однажды шепнула Терентию: «Вот, подарок тебе, грамотей. В заулке нашла». И подала ему... карандаш! Сокровище, владеть которым никогда еще не приходилось. В ответ на его горячую благодарность мать скоро раздобыла где-то и клочок бумаги, чем вовсе покорила сына. И вот теперь она чувствовала себя виноватой перед ним и с опаской посматривала на Семена.
Отец выжидал и не сомневался, что из этого ничего, конечно же, не получится, не может получиться.
Заждавшиеся солдатки думали: нет, не осилит и этот, мал еще, всего-то восемь годков, да и как ему понять, сердечному, если школяры не прочитали, а этот и в школу-то ни разу не ходил.
Однако Тереха, отдышавшись и осмелев — ну не шельмец ли! — начал слово к слову прибавлять. Не то чтобы бойко, но прибавлял! Бабы окружили его плотно и слушали так внимательно, что отец не решился не только выхватить сына из бабьего кружка, но и зашуметь на него. Он тоже слушал, рот раскрывши.
Странно было Семену, что малый сын его пересказывает слова знакомого мужика, посланные на бумаге из неведомого Порт-Артура, что взялся ответ сочинять. Отец, с трудом выводивший лишь свою фамилию, словно оробел перед сыном, который одолел грамоту сам по себе, без учения. Перед сыном-грамотеем, оказавшимся вдруг таким же нужным в деревне человеком, как и всякий другой работник. Что ж, пусть делает людям доброе дело, за которое гостинцами его одаривают. Гостинцами и уважением. И ему, отцу, за это почет от людей и похвала. Подобрев и расчувствовавшись. Семей погладил ласковой рукой по голове сына и даже пообещал взять его с собой на базар в Шадринск.
Для крестьянина поездка в город на базар была событием, о котором думалось загодя, к которому долго готовились все домочадцы, прикидывая, что продать, что купить, да и по какой цене можно продать, по какой купить.
И вот день этот настал. Вернее, сам день был впереди, а настал ранний сумеречный рассвет. В доме все задвигались, засуетились.
На сани положили несколько мешков пшенички — на продажу. Охапку сена, чтобы ехать мягче и теплее, чтобы было чем Лысуху на базаре покормить. Вынесли тулупы, гревшиеся у печи,— не шибко морозно на улице, однако в дороге на санях зябко станет. Все, кажись...
— Н-но-о, Лысуха!.. Поехали!..
Бежит ходко Лысуха, поскрипывают полозья по застывшей дороге, рябой от конского помета. Бежит через заснеженные поля,— привычна ей эта дорога, сколько уж раз за жизнь свою она тащила по ней и сани и телегу. Ни на приречные кусты не косится, ни в лесу, когда лес пошел, не сторожит уши. Привычна дорога и отцу, он, опершись на локоть, подремывает, посапывает в бороду, побеленную от дыхания инеем. Посматривает по сторонам Тереха, на поворотах норовит углядеть, что впереди, не покажется ли город вон за тем лесом. Нет, за березовой светлой рощей, которую в ясную погоду он много раз видел из деревни, опять пошли поля на много верст, а потом снова лес — высокие сосны вершинами к небу.
И вдруг открылся город. Сначала такие же избы, как и деревенские, только друг к дружке потеснее стоят, потом пошли каменные, многооконные, глазастые.
Базар сначала оглушил Тереху. Такого множества подвод, такой людской толчеи он еще никогда не видел. Не слышал и гомона такого, в котором нельзя разобрать ни одного слова.
Отец приторочил Лысуху к коновязи, положил ей сена, велел сыну от саней не отлучаться, топтаться рядом и смотреть за мешками, а сам пошел в эту толчею и надолго исчез в ней: поразузнать надо было, почем пшеничка продается. Вернулся не очень весел.
— Много нынче таких-то, как мы с тобой,— сказал он сыну. — Так что топчись, чтобы не озябнуть.
Однако покупатель нашелся быстро. Перегрузив мешки и пересчитав деньги, отец, помедлив чуть, протянул монету Терехе.
— Сбегай-ка, пряников себе купи. Я тоже пройдусь.
Тереха, пока топтался у саней, успел осмотреться, привыкнуть к месту, где они остановились, приметить его. И все же, отправляясь к указанным отцом рядам, он несколько раз оглянулся — не потеряться бы...
Подошел к ларьку и увидел книжки! Забыв обо всем на свете, Тереха стоял и читал, что написано на них. Продавцу видна была лишь его головенка, торчавшая над прилавком. Однако не на рост он обратил внимание, а на глаза: в них — немой восторг. Поэтому, должно быть, и спросил:
— Умеешь читать?
— Умею,— выдохнул Тереха. И приоткрыл ладонь, к которой прилип пятак. — Папка дал пряников купить.
— А тебе книжку хочется?
— Книжку...
В эту минуту он стал бы самым несчастным человеком, если бы продавец посмеялся и сказал, что ни одной книги купить на эту медную денежку нельзя. Но продавец не засмеялся, перебрал несколько книжек и одну, всю в картинках (то был календарь), протянул Терехе... Книжку протянул и несколько пряников.
Вернись отец сразу, он увидел бы сына, увлеченно рассматривавшего покупку. Но отец задержался где-то, и Тереха в ожидании остыл маленько, а остыв, испугался, что отец браниться станет за такую трату. Сказал же он ему однажды: «Ладно, письма читай, пиши, а увижу за книжкой — выпорю». И Тереха запрятал календарь под рубаху. Решил не сказывать про покупку. А пряники — три их было — положил в карман, чтобы при отце съесть.
Вернувшись с разными покупками, отец не забыл и сына спросить: сладки ли пряники. Тереха вытащил из кармана два пряника: один отцу, другой себе.
— Наелся ли? — поинтересовался отец.
Тереха кивнул.
Всю обратную дорогу, хоть и налегке теперь ехали. но ехали долго, Тереха не забывал про книжку. Она холодила тело под рубахой. Радость перемешивалась со страхом.
3
После этой поездки, заметила мать, Тереха что-то присмирел. На улицу шел неохотно, а если и выходил, гулял недолго, возвращался и сразу — на полати.
— Что-то зябнуть Терентий стал, не приболел ли? — говорила она отцу.
«Пусть думают, будто приболел»,— рассуждал Терентий, он боялся, что обнаружится тайна, и тогда несдобровать ему. Понимал, что тайна эта пострашнее той, которую он скрыл от отца на базаре. Ту книгу он прочитал за несколько дней и спрятал потом на чердаке за стропилами. Спрятал и будто избавился от грешной той тайны. Однако обрел другую.
Как-то субботним вечером Терентий в который раз рассказывал мальчишкам о виденном на базаре обилии книг. Им надоели эти рассказы, а чтобы не гордился шибко, похвастались: не видел он еще много книг, в школе-то не был, там их полный шкаф, и учитель по субботам выдает какую захочешь. Как раз сегодня суббота.
— Айда, сбегаем? — решили тут же.
Хоть и помнил Терентий отцов запрет близко не подходить к школе, однако устоять перед таким соблазном не мог. Утайкой, будто в прятки играя, оказался у школы. Затаившись у изгородки, оглядел всю деревенскую улицу: не смотрит ли кто в его сторону. Будто бы никого. И Тереха юркнул вслед за ребятами в дверь школы.
На всю жизнь запомнит он тот день и час. Учитель оказался вовсе не строгим человеком, не выгнал его за порог, чего побаивался Тереха, а усадил рядом с собой, раскрыл перед ним книгу и велел прочитать несколько слов.
Ксенофонт Степанович — так звался учитель — слушал и улыбался. Он уже знал от ребят про Тереху Мальцева, однако рассказам этим верил мало: не приходилось ему видеть деревенского мальчонку, так хорошо одолевшего грамоту самоуком, получше тех, кто в школу ходит.
Терентий выскользнул из школы так же, как и вошел в нее,— утайкой. Вышел с книгой, которую дал ему почитать Ксенофонт Степанович. И разрешил приходить каждую субботу!
Теперь Терентий и вовсе позабыл про улицу. Выбегал, когда отец сидел дома. А как только он отлучался со двора, Терентий опрометью летел в избу, забирался на полати, извлекал из-под одежек завернутую в тряпицу книгу — и не было теперь на свете ничего более интересного.
Это и было той тайной, которая страшила его: как бы кто не дознался.
Каждую субботу он пробирался в школу, чтобы обменять книгу,— таких читателей у Ксенофонта Степановича еще не бывало. Поначалу советовал то, что и всем. Потом заметил: не сказки Терентия привлекают, не приключения, а рассказы о природе. Возможно, этот интерес к окружающему миру зародился у него еще в те дни, когда он лежал на дерюжке во дворе и смотрел в небо. А может быть, любопытство разбудили горькие отцовские сетования на недороды, засуху первого лета двадцатого века (этой засухой и запомнится ему начало нового столетия: Терентию шел тогда шестой год, и ее тяжесть он мог не только почувствовать, но и охватить сознанием). Побывала в его руках и книга по географии: читая письма с войны, он встречал в них названия незнакомых мест, вот и захотел узнать, где они.
Как велика, оказывается, земля! Попытался Терентий отыскать на карте свою деревню — нет, не значилась она на ней. Но сколько стран, сколько городов всяких! Он знал теперь и мог любому рассказать, как далеко отсюда та Маньчжурия, по которой с 1-м Сибирским корпусом генерала Штакельберга идут на выручку Порт-Артура и деревенские мужики, которым он, Терентий, пишет письма.
Однако слушателей у Терентия немного находилось. Сибирский мужик, привыкший к неторопливому, без внешних потрясений ходу жизни, к прочному и незыблемому укладу, который вырабатывался многими поколениями, был уверен, что уклад этот, как и ход жизни, подчиненный лишь временам года, изменить или хотя бы поколебать невозможно, как невозможно изменить и поколебать смену времен года. Так было вчера, так будет завтра, и, проснувшись, он будет делать и даже думать то же самое, что делали и думали в такой же день и отец его и дед, а вырастет сын — и сын будет думать н делать то же. Никакие внешние события не достигали этого ограниченного мирка. Из-за дальности расстояний и медлительности гужевого транспорта вести проникали сюда так редко и скупо, что многим, за свой век ни разу не перешагнувшим пределы этого мирка, казалось, будто вся жизнь лишь тут, и они дивились, слушая рассказы офеней, изредка забредавших в деревню, что за окоемом тоже живут люди.
Конечно, и здешний мужик знал, что где-то за лесами, за долами, у далекого моря-окияна громыхает война, знал, что на войну эту — шут ее ведает, зачем она и затеяна,— и из деревни кой-кого забрили, однако местная жизнь от этого не могла ни возмутиться, ни из колен выбиться. Плохо, конечно, что крестьян от дела, от семьи оторвали, но такова мужицкая доля — надо и царю, отечеству служить. Отслужат и, бог даст, вернутся, если на чужбине головы свои не сложат.
Некоторые уже возвращались. По пути домой они навидались всякого и теперь судачили, что в городах уральских и сибирских губерний неспокойно, что рабочий люд бунтует против царя. От этих разговоров делалось страшно. Что творится на свете? Что же будет?
Однако очевидцы и сами толком ничего не знали. Сибирский крестьянин никак не мог понять, о какой это ликвидации помещичьего землевладения говорят революционеры,— не было его сроду в здешних краях.
Еще от прадедов, бежавших за Урал, повелось так, земля не изба, не хозяину она навечно принадлежит, а общине. Община и делит ее на полоски по числу душ мужеского роду. Так что, рассуждал сибиряк, переделить надо землю — лет пятнадцать, однако, минуло после последнего передела,— и снова покой и лад наступят.
Жизнь сложна и трудна. Одни семьи на убыль идут — кого болезни уносят, кого несчастный случай, а кого и война в сыру землю захоронила, и все из мужской половины смерть повыхватывала, повыхватывала наделенных землей. Кое в каких домах и половины надельщиков не насчитать, а земля-то все за семьей остается — вот и владеет каждый двумя, тремя, а то и пятью наделами, богатеет. Таким хоть бы и вовсе не было передела.
Другие хозяйства из года в год многолюднее становились. В таких, случалось, даже взрослые мужики не имели своего надела, что и было причиной бедности, всяких разладов. В этих домах надеялись дождаться передела, вырваться из тисков малоземелья, в которых и в добрый-то год тяжко, а уж когда недород случится, то и вовсе беда, хоть ложись да помирай.
Мал еще был Терентий на сходки бегать — не хозяин, однако, когда в ноябре 1906 года на сход домохозяев кликнули, за отцом увязался. Теперь и на него, Тереху, нарежут надел!
Но чтобы наделить его землей, как и многих других безземелыщиков, надо было отрезать у тех, у кого скопилось ее много, а надельщиков мало осталось. А чтобы отрезать, согласие их на это нужно. Одни сразу уступили: как повелось, так пусть и будет — забирайте лишние десятины. Другие мялись: надельщиков-то и правда мало, да куча баб в доме, а их тоже надо кормить, одевать. Что ж, надо, конечно. Но бабы, каждый знает, землей не наделяются, так что и толковать тут нечего. Пуще всех ярились и баламутили те, кто из общины с наделом своим хотел выйти, а община не соглашалась: и без того земли мало. Эти на недавний царский указ ссылались, который дозволяет такой выход на свои наделы, на отруба.
Так никакого согласия и не получилось. С того раза чуть не каждую неделю созывали сход, но с каждым разом все яростнее ругались, друг дружке грозили, а иногда и до кулаков доходило. Все меньше оставалось надежды на общее согласие.
Старики вспоминали прошлые переделы, говорили: и раньше, бывало, ругались, кому ж землю хочется отдавать, да все же дело решалось по совести. И приходили к выводу: осатанели люди, ни общество, ни бог им нипочем.
А сходы продолжались и в декабре и в январе, поэтому мужики, если не на сход шли, то гуртовались по дворам, по избам, продолжая распалять друг друга.
В ту зиму, благо отец часто отлучался из дому, Терентий вовсе к книгам прирос. Забравшись на полати, он краем уха слышал, как в печной трубе то стонала и плакала, то сердито и жалобно выла вьюга. Она была совсем рядом, но добраться до него не могла. От этой надежной защищенности делалось ему хорошо: там, на улице, сейчас люто и вьюжно, а тут, в избе, у печного бока, тепло, уютно. И мысли его то бегут вслед за бессильной вьюгой за дали дальние, в те края, о которых рассказывает ему книга, то зарождают тревогу, схожую с жалостью: за путников в лесу, за птиц и зверушек — холодно им сейчас и страшно без теплой защиты.
Терентии давно уже не таился от матери. Правда, однажды она пригрозила отцу рассказать о его страсти. Но не рассказала. Лишь иногда, если набедокурит, повторяла свою угрозу:
— Вот скажу отцу, что книжки почитываешь...
Тут уж сын и послушным и тихим делался, а мать продолжала терпеливо хранить тайну, хотя и побаивалась греха, что брала на себя. Побаивалась и мужа, Однако гордилась, когда сын читал ей что-нибудь вслух. Мало что понимала из услышанного, но ей нравилось слушать, нравилось, что сын, такой малой, постиг непостижимое. В душе она согласилась любую кару принять и от бога и от мужа, только чтобы сыну на счастье это пошло.
Но однажды отец вернулся сердитый и такой озябший, что аж сморщился. Сняв верхнюю одежу, шумнул на сына:
— А ну, слезай с полатей. Что, как кот, лежишь целыми днями, никак не належишься?
И полез сам. А когда лег, то почувствовал: что-то твердое мешает ему. Хотел уж было на другое место передвинуться, да нащупал рукой то, что мешало. Книга...
«Вот отчего неладное делается в обществе»,— подумал он. Эта мысль, что беда в собственной избе кроется, испугала его.
Семен молча слез с полатей. Молча бросил на лавку книгу. Не знал он, что и говорить, как поступить ему надо, потому и молчал.
— Что не лежится? — спросила Анна, заподозрив недоброе.
— Это видела? — указал он на книгу, которая лежала на скамье.
Анна побледнела. Со страхом смотрела то на книгу, то на мужа.
— А ну, кликни поганца. Где он?
Ни на дворе, ни за калиткой сына не было. В душе Анна была рада, что не нашла его, и медлила возвращаться в избу: так-то лучше, меньше шуму будет. Но тут Терентий объявился, с сеновала спрыгнул.
— Отец кличет. Книгу на полатях нашел,— сказала она, не зная, как и быть теперь, оборонить как. Потом, решив что-то, посоветовала: — Ты уж за мной иди. Может, двоих-то не тронет.
Трудно им было переступить порог, а надо. Переступили и остановились.
— Зачем книга тут лежала? — сурово спросил отец, однако с места не тронулся.
— Читал... — почти шепотом признался Терентий.
— Твоя?
— Нет, чужая, дали мне...
Отец достал рукой сына, взял за грудки и швырнул на полати.
— Сиди там и никуда не выходи, покуда не вернусь.
Он решил к дедушке Омельяну сходить. Что-то скажет наставник общины?
Дедушка Омельяи полистал книгу, зачем-то похлопал ее ладонью,— Семену показалось, будто побил ее. Значит, греховная.
— Скажи, дедушка Омельян, что с сыном делать? Не уберег я, грамоту он познал.
И сказал белобородый старец:
— Не гневайся на сына, Семен Абрамович. Что сын грамоту познал — не грех. Главное — к чему он ее приложит: к добру или злу. Так что лучше не мешай ему. А чтобы к добру была грамота, надо к делу Тереху приноравливать.
Упал камень с души у Семена.
— И за книгу не брани,— продолжал старец. А раз уж он читать так любит, ты псалтырь ему купи.
— А эту куда ж девать? — спросил Семей, указав на книгу.
— Куда же ее девать — домой снеси. Если не его она, то отдаст, у кого взял. Не годится чужим добром распоряжаться.
Семен, глубоко верующий человек, относился к наставнику, как послушное малое дитя: что сказано, то и делать будет. Хоть и не хотел отдавать сыну книгу— изорвать бы ее в клочья,— однако отдал и велел тут же унести ее из дому, вернуть тому, у кого взял. Хотел пригрозить, чтобы никаких книг в дом больше не носил, но промолчал: хуже будет, если не послушает сын его наказа. А что тот ослушается, в этом он уже и не сомневался. Понял, что не отвадить ему теперь сына от чтения, по глазенкам Терехи догадался — уловил в них не только страх, но и отчаянную жалость, с какой тот смотрел на книгу, оказавшуюся в руках отца.
Приноравливать к крестьянскому делу — значило впрягать в работу. То, что Терентий делал до этих пор, было пусть и не баловством, однако и не обязанностью: при случае коню корм задать или корову на поскотину отогнать, воды из колодца принести или тяпкой на огороде бурьян выполоть. Да и не главная эта работа. Главная — в поле. Бывало, что Терентий охотно и там отцу помогал, однако одно дело помогать, другое — самому с утра до вечера боронить или пахать.
Семена радовало, что и к этому главному делу не надо было ни понуждать сына, ни неволить. Он шел к нему с малых лет. Когда-то для забавы отец смастерил ему плужок — лемех не больше детской ладошки,— которым и забавлялся Тереша с ребятишками: где-нибудь на припеке, куда не залетал ветер, грядки перепахивали. Кто постарше, тот плугом землю ворошил — был пахарем, другой засевал из лукошка, мать старое решето давала, третий тут же боронил такой же крохотной боронкой, а то и пальцами, будто грабельками.
Не попадали тогда в деревню лишь забавные игрушки, не покупал такие мужик на базаре, не ценились они и детворой — пустое. Норовили иметь такие, чтобы «работать» можно, делать отцовское дело.
Игры такие рождали у ребят страстное желание повзрослеть скорее, чтобы можно было запрячь настоящую лошадку и выехать с отцом в поле на пахоту, бороньбу или жатву. Выехать не для того, чтобы за конем в часы отдыха присмотреть или за водой на ключ сбегать, когда отец от жажды изомлеет,— для такой подмоги отец брал сына и раньше. Выехать, чтобы самому боронить, пахать или косить — вот о чем страстно мечтал каждый паренек.
А желание, чтобы оно счастьем стало, должно вовремя сбыться. Ни раньше, ни позже. Раньше сбудется — человек утомиться может, не справится с делом, тяжесть испугает и погасит неокрепшее желание его. Допусти до дела позже срока, когда желанием перетомится, когда лень примется нежить душу и тело, то и не жди тогда старания: человек будет через пень-колоду все делать, лишь бы день до вечера, неведома ему будет радость труда.
Придерживал отец и Терентия. Придерживал, однако учил между делом. А учил так: «Подмогни-ка мне, сынок... Хорошо, молодец». В другой раз скажет: «Поделай-ка, пока отдохну я». Видит, есть и сноровка, и старание, можно и к самостоятельному делу приставлять: «Садись-ка на лошадь, боронить будешь, а я жнивье под овес пахать поеду». И добавил, чтобы сыну ясно было, что не на час остается, а до окончания дела: «Борони, пока семена не заделаешь. Может, шестнадцать, а может, и двадцать следов надо будет сделать».
Вот зачем отец обе лошади запряг (вторая лошадь— от Лысухи приплод). Вот зачем на одну телегу борону положил и мешок пшенички, а на другую сабан. Вот почему одну лошадь выпряг, а другую выпрягать не велел, когда насыпал в лукошко зерна, приладил его на грудь и бережной рукой, по горстке, пошел засевать нивку. Шагнет левой ногой, опишет правой рукой полукруг, и таким же полукругом летит из горстки зерно, по земле рассыпаясь, в трещинки западая.
Нивка невелика, засеял быстро, сказал сыну: «Бо-рони...»—посмотрел, как тот правит лошадью, и, убедившись, что дело это он и без него сделает, поехал на другое поле.
Физических усилий на бороньбе от человека не требуется: сиди верхом на коне да смотри, чтобы вся земля была бороной потревожена. Но старания надо много. И терпения: не один, а шестнадцать заходов по одному месту надо сделать, чтобы все зерна прикрыть земелькою. А борона — рама из деревянных брусьев с железными зубьями — прыгает, не хочет царапать сухую землю, надо приноровиться, к полю присмотреться, выбрать такой ход, чтобы борона меньше прыгала, чтобы всеми двадцатью зубьями рыхлила потрескавшуюся твердую корку.
Так уж в здешних местах повелось издавна — выходили сеять, когда корка на почве подсохнет и растрескается: чем больше трещин, тем лучше, тогда семена западут в них, лягут на ту глубину, где влага есть, где их бороной можно заделать. Однако, чтобы взрыхлить эту корку, требовалось много раз бороной проходить но одному следу.
И все же не эта работа утомляла человека и коня — надсаживались на пахоте. Много сил и сноровки требуется вставшему к сабану — громоздкому неустойчивому, тяжелому деревянному сооружению, поставленному на два деревянных колеса, снятых с тележного передка. Смотри да смотри, держи в руках крепче, чтобы лемех в сторону от борозды не уходил и в борозду не соскальзывал, чтобы лишку не заглубился и наружу не выскочил.
Мучились, уставали на пахоте мужики. Надрывались и тощали кони — к концу пахоты ни в какую упряжь, ни в какую работу уже не годились. Отдых нужен был и хороший фураж. Мужики тоже несколько недель ни за что не брались — все силы на пахоте и севе оставлены. Однако впереди опять была пахота — на паровом поле. И успеть надо до сенокоса — тоже работа не легче.
Вот в этот круг извечных, будничных и трудных крестьянских дел и вступал Терентий. Вступал охотно, со сладостным нетерпением. Радостью полнилось его сердчишко, когда старался взять прокос пошире и когда старание это увенчивалось успехом: «Как у отца!» И чем лучше получалось, тем больше гордился: «И здесь за большого управляюсь!»
Босыми ногами ступал он по земле, а она, теплая и ласковая, ровным пластом отваливалась и отваливалась в сторону, оборачивалась влажной чернотой, от которой исходило над полем и колебалось марево. Земля дышала, и дыхание это кружило ему голову и волновало.
И не было ему сейчас дела до того, что на полях далекой заокеанской Америки, как о том рассказывал «Всеобщий русский календарь», уже внедрялся электрический многолемешный плуг. Что ж, может быть, и правильно пишут, что настанет время, когда и наши поля начнут бороздить такие плуги, а кормилица-соха станет в музее рядом с суковатой палкой, которой ковыряли землю пещерные люди. Однако Терентию и без этих новшеств было хорошо.
Он принимал эстафету от дедов и прадедов своих.
И деды и прадеды его ворошили землю такой же деревянной бороной и таким же сабаном и шли так же — ступая босыми ногами во влажную прохладу борозды, так же понукали, погоняли худую лошаденку. Начало той борозды, сохой проложенной, не рассмотреть уже за далью времени. В безвестье канули первые оратаи, начинавшие бесконечную, как жизнь, борозду. И те, кто продолжил ее, кто повел ее в степи половецкие, за Оку и Волгу, а потом и за Урал. Их место другие заступали — и опять ложились чьи-то руки на деревянный рогаль. И опять, хотя уже шло второе десятилетие двадцатого столетия, бородатый мужик в холщовой рубахе до колен все так же согбенно плелся за сохой. Таким его и запечатлел художник на обложке сельского календаря. Запечатлел в тот момент, когда босой крестьянин остановился, чтобы самому передохнуть и усталой лошаденке сил набраться, чтобы жеребенок-сосунок мог покормиться — он рядом, ходит неотступно за матерью, в соху впряженной.
По краям обложки художник разместил все орудия крестьянского труда: коса тут и серп, лопата и цеп, деревянные грабли и вилы да деревянная борона. Кажется, сам мужик, задавленный нуждой, приготовил весь свой наличный инвентарь, надеясь одолеть им стихийные силы природы.
Нравились такие картинки Терентию. Нравились красочностью и похожестью своей: он видел вокруг себя такие же перелески, и нивки, и лошадь с жеребенком,— вокруг Лысухи тоже крутился жеребенок.
Поскрипывал сабан, шел, налегая на рогаль и держа вожжи, молодой Терентий — еще мальчишка, пятнадцать исполнилось, на стригунка-жеребчика похож, однако и на мужика, который на картинке нарисован: в таких же холщовых портах и рубахе, крашенных луковой шелухой. Шел, покоряясь сладостному зову земли, сливаясь с живым миром природы. И на душе у него делалось сладостно и томительно то ли от усталости, то ли от любопытства к тому, что он делает,— земельку для семян готовит, чтобы семенам в этой мягкой постельке хорошо было. Пройдет неделя всего, и из земли проклюнутся нежные шильца, зазеленеет поле всходами, потом колос пшеничка выбросит, зацветет, зерно зародится н начнет наливаться. Все эти таинства будут свершаться уже без его, Терентия, усилий, но это он возделал ниву и высеял в пашню зерно. Высеял и спросил отца:
— А почему земля хлеб родит?
— Так ей богом велено,— ответил отец, никогда не задумывавшийся над этим вопросом.
— А почему не всякий год хорошо родит?
— Как бог захочет, так и будет.
С тревожной надеждой встречал крестьянин каждую весну. Тревожился и тот, кто только-только входил в круг забот и кто уже потерял счет веснам. Тревожило и заботило не только то, как он нынче управится с делами, но и благосклонна ли к нему будет матушка-природа: прольется ли тучка дождичком на его ниву или мимо пройдет, подразнив, солнышком в меру обогреет или засушит посевы жарой, а не жарой, так холодами и затяжными дождями погубит, погубит весь тяжкий и долгий труд его, обречет на голод.
Чаще мучила, разоряла засуха. С горечью вспоминали мальцевские мужики давние-предавние времена, когда с десятины, как о том деды рассказывали, и по сто пятьдесят пудов намолачивали. Да и на их памяти было, что по сто пудов десятина родила. А теперь благодари бога, если шестьдесят намолотишь.
Одни на гнев божий ссылались, другие объясняли тем, что, когда прадеды сюда пришли, земля была новая, сильная, потому и давала за сто пудов. Теперь же износилась, устала, выпахалась, вот и родит все хуже и хуже.
Терентий не вступал в эти разговоры — не полагалось безусому парнишке встревать в мужицкие дела,— слушал и думал:
«Вот когда настанет конец свету... перестанет родить земля — и изведутся, перемрут люди...»
Высказал эту жуткую мысль свою отцу:
— Что же дальше-то будет? Значит, придет время, когда земля совсем перестанет родить? Как тогда люди будут жить?
— Не знаю, сынок,— с тяжким вздохом выговорил отец. — Одним утешаюсь: даст бог, не доживу я до этого страшного времени.
Скоро он вспомнит этот разговор и скажет Терентию:
— Вот и дожил...
Страшная беда надвигалась пыльной мглой. От жары поблекли, пожелтели, съежились хлеба, только что заколосившиеся, усыхали травы на лугах — аж шелестели под ногами. С надеждой смотрели на небо мужики — дождика, дождика бы. Не ожить уже хлебам, но хоть животина мучиться не будет, хоть какая травка отрастет. А пыльная мгла только сгущалась, ни в июне дождя не было, ни в июле — земля глубокими трещинами пошла, нога проваливалась в эти страшные щели.
Все, нечем будет ни самим кормиться, ни животину кормить.
И потянулись в город на базар — у кого лошаденка за подводой шла понуро, у кого коровенка — одни мослы, кожей обтянутые, торчали. Однако много ли выручишь за такую худобу да в такой год, когда скот продавать все кинулись? За полцены бы сбыть, и то считай, что повезло. Но такая продажа не спасала, все же надо было отправляться в поисках работы, а может быть, и в поисках куска хлеба. Тысячи неимущих крестьян покидали родные места, растекались по России.
Свел на базар лошадь и Семен Мальцев — только-только начал обзаводиться, крепнуть... Да еще надо думать, как оставшуюся продержать, чтобы весной в упряжи не шаталась. Как самим продержаться?.. Ни картошки не хватит, ни хлеба. Высеяли по двадцать пудов на десятину, а намолотили с трех десятин по сорок, да и те пока еще не веяли, с половой.
— Все от бога, сынок, и за то надо благодарить его, что не совсем без хлебушка оставил, крепился отец.
Благодари не благодари, а сто двадцать пудов всего. Половину, как ни хитри, ну, чуть меньше, на семена надо отсыпать, если жить еще собираешься. И, чтобы до весны дотянуть, на еду надо бы иметь сто пудиков. А где их взять? Как ни прижимай хлебушко, хоть впроголодь живи, все равно не дотянуть до весны, до травы-лебеды.
Пошел Семен по дворам, по хозяевам, у кого больше запашной земли (так они и не согласились на передел). Пошел узнать: не продадут ли хлебушка. Вернулся мрачный. Остановился в дверях — дубленая шубенка на нем вся в заплатах, живого места на ней не осталось.
— Дороговато просят, вдвое дороже прошлогоднего.
Тут и спросил сын отца:
— А они какой веры?
Догадался отец, к чему клонит Терентий, ответил:
— И за то спасибо, что продать согласны. Иначе по весне под окнами ходить с сумой будем. Просить «Христа ради». — Его больше цены страшило разорение, уже коснувшееся многих маломощных хозяев. Да и знал-понимал, как в пословице говорится, что наг поле перейдет, а вот голоден — ни с места.
Все, к кому ходил Семен, были людьми набожными, примером служили. Однако, выходит, только в молитвах они праведные, а живут-то вон как — лишние наделы держат, другим не отдают. Не грех ли это, не против совести ли это? Теперь цену вон какую заломили. Хорошо ли на беде наживаться? Однако наживаются — и ничего им не делается.
Не первый раз размышлял так Терентий. И с каждым разом ему все меньше и меньше хотелось читать на клиросе. Он читает, а они молятся усердно. Лгут, казалось ему теперь, а не молятся. А сам он разве с прежней верой псалмы читает? Да и что они ему теперь, когда отец перестал за книги браниться, и он теперь и в школе берет, и в городе покупает, и газету «Сельский вестник» отец разрешил выписать, чем оба они сильно удивили односельчан, не знавших подобной нужды. Да и во всей волости, почтарь сказывал, не было еще такого, чтобы мужик газету выписывал.
Его манил реальный мир, мир знаний, а не веры. И на этот мир он смотрел во все глаза. Смотрел с любопытством, восхищением и тревогой: «Неужели и правда, когда нибудь земля вовсе перестанет родить?..» Эта тревога будет жить в нем отныне всегда, пока сам же не ответит на вопрос, мучивший не одно поколение землепашцев и ученых.
Шел голодный 1911 год, опять унесший в деревнях многих детишек, подобрал стариков, подточил силы молодых. В семье Мальцевых никого не тронул, однако отец заметно осунулся за зиму, ссутулился и телом опал. Поугловатей сделался и Терентий.
Все чаше он читал грустные, как горе, четверостишия Ивана Никитина:
Не дозрела моя колосистая рожь, Крупным градом до корня побитая! Уж когда же ты, радость, на двор мой взойдешь? Ох, беда ты моя непокрытая!В тот год вся прогрессивная Россия отмечала пятидесятилетие со дня смерти народного поэта, и «Всеобщий русский календарь», который читал и перечитывал Терентий, посвятил Ивану Никитину, певцу обездоленной судьбы простого человека, несколько страниц. Здесь же была и другая статья, посвященная памяти литературного критика Н. А. Добролюбова, тоже умершего пять десятилетий назад. Терентий прочитал ее, но понял лишь одно — жил на свете хороший, честный и умный человек, который хотел, чтобы людям жилось лучше. Однако и это понять в раннем детстве тоже немало. Добро, посеянное в детской душе, не дает прорасти злу.
Терентий уже знал и таил это в себе как грешное открытие: хлеб растет вовсе не от бога, а от воздуха, от света, от теплоты и влаги. И тем лучше растет, чем догадливее пахарь на время посева. А это уже дело ума человеческого: у ленивого и глупого хуже, у трудолюбивого и смышленого чудеса творятся.
Эти мысли он вычитал в книге, которая называлась «Куль хлеба и его похождения»[1].
Глава вторая
1
Кончалась относительно спокойная полоса российской истории. Уже начали погромыхивать первые раскаты грома, которые, нарастая, потрясут человечество. Начинался новый революционный подъем.
Он зрел по всей России, в крупных ее промышленных центрах, в губернских и уездных городах.
В октябре голодного одиннадцатого года заволновались рабочие Шадринска. Забастовка охватила более двух тысяч человек, участвовавших в прокладке железной дороги Шадринск — Синарская. Именно сюда, на дорогу, выгнал голод многих неимущих и разорившихся мужиков со всех деревень Зауралья. Сюда, на дорогу, которая прокладывалась хоть и в стороне от деревни Мальцево, но и не в дальних далях, а верстах в двенадцати, ездили и те, кто не решился оставить свое хозяйство надолго, однако не мог отказать себе подработать хоть какую деньгу. Возвращались они домой, навидавшись всего и всякого наслушавшись.
Исподволь рушилась ограниченность того мира, пределы которого еще недавно редко кто перешагивал за всю свою жизнь и который представлялся вечным и незыблемым.
Искры классовой борьбы разгорались и в других странах Европы: в Германии, во Франции, в Великобритании. Все громче гремел над миром призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Разъединить их, задержать революционный протест и сбить накал классовой борьбы, а заодно и мир переделить империалисты намеревались в пожаре мировой войны. К ней уже готовились, она зрела с каждым новым политическим противоречием, конфликтом, соглашением, союзом. Уже думали, искали повод к первому выстрелу.
Далекие от столиц, правительств и политики люди даже в самых глухих деревнях чувствовали ее приближение, как чувствуют приближение грозы, которая, судя по надвигающимся тучам, не пройдет стороной.
И роковой выстрел грянул. В июне 1914 года газеты всего мира сообщили об убийстве в Сараеве наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда.
Никогда еше убийство одного человека, даже сиятельной особы, не приковывало к себе всеобщего внимания. Казалось бы, ну что за дело мужикам далекой зауральской деревни до наследника иноземного престола. Однако, выходит, было дело, если зачастили в дом Семена Мальцева — поспрошать Терентия, где тот город, название которого каждый излагал по-своему, и далеко ли от России та Австра, потерявшая наследника престола, велика ли она. Узнав, что велика, качали головами:
— Не потерпит, значит, обиды.
Через месяц Австро-Венгрия объявила Сербии войну. А через день во всех уголках России уже говорили о всеобщей мобилизации. Еще через день узнали: 19 июля 1914 года Германия, союзница Австро-Венгрии, объявила войну России.
Весть эта пришла в Мальцево в разгар сенокоса — встали утром, а по деревне уже весть недобрая: война...
Начиналась первая мировая война, в которую втянутся 38 государств, на которую призовут 70 миллионов человек. Около 16 миллионов работников мобилизует Россия.
Горестно заголосили, запричитали по избам бабы, провожая на войну своих кормильцев. По всему видно, тяжкая будет война, если всех молодых мужиков кличут и коней у хозяев берут.
Анна Мальцева тоже сокрушалась и горевала на людях, сочувствуя солдаткам. Понимала: когда слезы вокруг, когда беда у всех и горе, то даже малая своя радость грешна. Однако какой же в том грех, что на войну она никого из своих не провожает, что муж уже вышел из призывного возраста, а Терентий еще не дорос, осенью девятнадцать ему будет, значит, год еще у него в запасе, а за год, может, и война-то кончится.
Так бы и жила она с радостью в душе, если бы не сказал ей Семен однажды:
— За год-то, по всему видать, не загаснет такой пожар, так что готовься, мать, будем и мы скоро снаряжать сына в дорогу.
Сказал, а сам подумал: «А может, оженить его? Оженится, дите народится, а от жены с малым дитем могут и не призвать...»
Знал отец, что на гуляньях Терентий вокруг Татьяны вьется. Она тоже вроде бы поглядывает на него. Что ж, пригожая девка, и семья хорошая, работящая, да и сама она без дела не сидит — старательная будет помощница и хозяйка добрая.
Переговорил с ней Терентий. «Согласна. Сватов присылай»,— ответила Татьяна. Пришли в избу сваты— отец, мать тоже согласны. Но слез с печи старший Татьянин братушка: «За кого? А поголее не нашли в деревне женишка?» — и выпроводил сватов. И в ту же неделю выдали Татьяну за другого, побогаче был.
Обида взяла Терентия: вся деревня знала, что забраковали его, парня небогатого, теперь зубоскалить будут, куда ни пойди. Просидел сиднем несколько вечеров. Потом про тетку Лукерью вспомнил — она гостила недавно у них и говорила: «Соберешься жениться, ко мне в Потанино приезжай — за такого чубатого да синеглазого самую распрекрасную девку высватаю». А парень и вправду видный был: отец пышным чубом его наделил — цвета воронова крыла, от покойницы матушки глаза унаследовал, что синь-небо в погожий день.
Вспомнил теткины слова Терентий, запряг в сани кобылу — и в деревню Потанино, что в десяти верстах. Заявился к тетке Лукерье: вот, мол, я приехал на девку посмотреть. Тетка Лукерья не забыла свои слова, но как увидела его в дверях, так и всплеснула руками:
— Да что ж ты так припозднился, всех наших невест уже посватали.
И рассказывать принялась ему: дюже хороша Парасковьюшка Оболдина, что на примете у нее была.
Совсем молода, не ждал никто, что замуж ее выдавать матушка с батюшкой надумают. А вчера сваты на двор — и сговорили девку, так что обзадачена она теперь. Как раз сегодня жених катать невесту приедет на тройке.
— Однако, что я сижу?—вдруг спохватилась она. — Обзадачена, да не выдана и не катана еще. Пошли-ка со мной...
Покорился ей Терентий, хоть и неловко было счастье пытать там, где все уже обговорено другим. Двора два миновали (если бы дальше шли, одумался бы Терентий, заупрямился и поворотил бы обратно, а тут вовсе рядом, не успел и сообразить), вот и дом ее. Тетка Лукерья в избу, а ему велела в сенцах притаиться, будто и нет его.
— Я пока с отцом, матерью говорить буду, Парасковьюшку на улицу выпровожу, так что ты уж не робей, обмолвись с ней...
Казалось потом Терентию, что он вовсе не оробел, когда в полутемные сенцы вышла и глянула на него девица. Глянула и тихо засмеялась: будто давно его ждала, а вот теперь рада ему. Терентий тоже будто не первый раз увидал ее, а знаком уже давно и давно люба она ему, сказал такие слова, на какие и откликнулась Парасковьюшка. Потом, припоминая, перепутал и высказанные и невысказанные слова. Что думал, а что говорил — все в одну радость смешалось: Парасковьюшка — а хороша-то она! — согласилась замуж за него идти!
Тут и в избу их зазвали. В избе, обговорив все бились над вопросом: как с прежним женихом быть — с минуты на минуту катать невесту ведь прискачет. А Парасковьюшка-то:
— Ну и пусть скачет! Я больной прикинусь и из дому не выйду.
Молода, семнадцать годков всего, а смекалиста...
Покатил Терентии домой, а когда Потанино позади осталось, тройку повстречал — за Парасковьюшкой ехали. Приехали, вошел жених в избу, а невеста на полатях лежит, постанывает. Вот беда-то какая, в одночасье слегла девка.
На другой день она озорно и весело каталась с Терентием. Сначала Потанино несколько раз объехали, потом в Мальцево примчались.
То был обычай, вносивший в тихую деревенскую жизнь веселое разнообразие,— на катанье невесты выходили не только парни и девки, но и молодожены, еще не уставшие от обременительных забот семейной жизни. Тут же вертелись мальчишки и девчонки, уже начинавшие присматриваться друг к дружке и искавшие повод встретиться. Вся эта гурьба гонялась за санями, наскакивала на них из заулков, норовя в сани на полном ходу вскочить или снегом в молодых сыпануть. Однако достижению видимой этой цели, объединявшей всех, всякий раз что-то да мешало, гурьба то и дело распадалась — девки в снегу оказывались, а мальчишки, парни, молодые мужики норовили, будто невзначай, в снег их втиснуть. Визг, хохот, кутерьма. Хорошо, весело! Ни заботами, ни думами никто не отягчен. Все в предчувствии скорого счастья, которое начнется вот так же, с катанья по деревне, и которое будет длиться бесконечно долго.
Схожее чувство испытывал и Терентий, рядом с ним в санях хохочущая невеста, которая то и дело приникала к нему, старательно прячась от снежков.
Через несколько дней, на той же неделе, Мальцевы справили и свадьбу: что ж откладывать, если решено все.
Начинал отсчитывать первые дни новый, 1915 год. Газеты, журналы, календари пестрели фотографиями бивуачной жизни храбрых русских солдат, рукопашных схваток с германцами и австрийцами. Художники изображали подвиг донского казака Крючкова, стихотворцы посвящали ему свои вирши.
Все это — и стихи и фотографии, как и тон сообщений и рассказов — читалось, смотрелось и воспринималось как продолжение еще незабытых недавних торжеств, когда Россия праздновала столетие победы над французами в Отечественной войне 1812 года.
Официальная печать торжествовала: враги бегут! Сияли улыбками лица царской семьи. Юный наследник престола, цесаревич Алексей, позирует перед фотокамерой. Он ребенок еще, но уже при полной военной амуниции с винтовкой и скаткой.
В сведениях о воинской повинности говорилось, что поступление на службу по призывам решается жребием, который вынимается единожды на всю жизнь. Уездные воинские присутствия еще продолжали вызывать новобранцев «для вынимания жребия и освидетельствования». Однако всеобщая воинская повинность отменила «вынимание жребия», сохранив лишь некоторые льготы.
Терентия Мальцева касалась лишь одна: «для единственного сына в семье». В документах воинского присутствия он уже значился «ратником второго разряда», что давало ему отсрочку от призыва на год. Однако уже через три месяца вызвали его на освидетельствование: все, истекла отсрочка.
Терентий показал ушибленную грудь. Его повертели, посмотрели и отпустили. Но отпустили с сомнением: мол, передадим документы в комиссию. Он поинтересовался, когда можно будет узнать решение.
— Иди,— ответили ему — Найдем, когда понадобишься.
Терентий вернулся домой, но радости не испытывал— томило ожидание: призовут —не призовут... Да и перед людьми неловко: вернулся-то без документов, словно сбежал. Другой бы и не подумал об этом, а он извел себя, будто и вправду от повинности прячется. Поэтому, когда в Шадринск попал по каким-то хозяйственным делам, зашел в уездное воинское присутствие — узнать решение комиссии.
— Унеси тебя леший, иди и не суй сюда носа! — сердито выгнал его чиновник, уразумев, о чем беспокоится этот молодой мужик, не понимающий, должно быть, что ему выпало счастье. Мало ли где документы могли запропаститься, ну и сиди себе с бабой на печи, зачем же искать понуждаешь, зачем сам объявляешься?
Не добившись ничего в уезде, Терентий стал досаждать волостному старшине, который жил через несколько дворов от них: мол, узнать бы надо. Старшина то ли забывал его просьбу, то ли утруждать себя не хотел, то ли не решался беспокоить людей, которые приставлены к воинскому делу и сами знают, когда и кого призывать. Однако однажды сказал сердито и решительно: «Ладно завтра в уезде буду, узнаю». И решительное это слово сдержал, привез ему бумагу, которой предписывалось ратнику второго разряда Терентию Мальцеву марта 20 дня 1916 года явиться для несения воинской повинности. Он призывался на действительную, что означало — на войну. На первую мировую войну.
Парасковья развязала платочек, спустила его на лнцо и, уронив голову на колени, запричитала навзрыд:
— Ой, тошнешенько, провожаю я милу ладу, ой тош-не-шень-ко, на германско полюшко...
Свекор заругался на одуревшую молодуху: так не провожают, а по убиенному причитают. Однако от слов его сделалось в избе и вовсе сумрачно и тяжко.
Простился Терентий с отчим домом, поклонившись на все четыре угла, с отцом, с матерью, с женой и с недавно народившейся дочкой, каждой животине во дворе поклонился и под горестные причитания деревенских баб надолго покинул родимые, милые сердцу края. Сколько раз будут сниться ему родные лица, деревня, поля и леса по окоему. Сколько раз подумает: нет, никогда больше не увидит их.
Сколько раз мысленно попрощается с ними, а заодно и с жизнью. Впереди его ожидали до того бесконечно долгие годы, каждый из которых что жизнь целая, горькая, подневольная, безнадежная жизнь на чужбине.
3
В теплушках было холодно — ни угля не дали, ни дров. Пробовали ратники на остановках топлива раздобыть, но ничего горючего не находилось и на остановках— давно все было прибрано другими. Приходилось утешаться тем, что ехать им предстоит не так далеко, до Екатеринбурга, а это по новой, недавно построенной дороге верст двести всего.
В большом этом уральском городе Терентий Мальцев не бывал, но знал о нем по рассказам деревенских мужиков, с обозом ездивших сюда.
Екатеринбург представлялся ему богатым каменным городом, но, выгрузившись из теплушек, увидел улочки ветхих деревянных строений — теплушки с новобранцами затолкали в далекий от станции тупик, где и выгрузились. Отсюда нестройными шеренгами повели их по глухим окраинам в казармы, где сформируют из них маршевые роты и три месяца от темна до темна будут учить приемам штыкового боя, строевому хождению и изредка — стрельбе из винтовки.
На исходе этих трех месяцев, перед отправкой, на фронт, Терентий писал домой, чтобы приехал кто-нибудь: очень уж хотелось повидаться с родными, пока близко. Отец, конечно, не поедет, не бросит хозяйство, так что если кто и сможет вырваться, то только жена. Ее и ждал, вот-вот заявиться должна. И надеялся — уж на один день-то отпустят его, хотя бы день один отдохнет он от муштры этой окаянной, изнуряющей тело и душу.
Однако когда Парасковья приехала и Мальцев доложил об этом отделенному, тот взводному, а взводный ротному, то разрешили ему всего две коротких отлучки: на час в обеденный отдых, да еще на час, когда из «штыкового боя» вышли и дана была передышка.
Не очень радостной была встреча — Парасковья с горем приехала:
— Доченька-то наша померла ...
Утешал ее Терентий, а самому плакать хотелось: от горя этого, которое неизмеримо увеличивалось тоской по дому...
Через несколько дней объявили отправку на фронт — маршевая рота направлялась в русский экспедиционный корпус во Францию.
Мальцева вызвал ротный и сказал:
— Если хочешь, можешь еще на три месяца здесь остаться.
Его, как человека грамотного, оставляли отделенным при формировании новой маршевой роты.
— Не знаю,— сказал Мальцев. Свыкся, сдружился он со многими за эти месяцы, не хотелось отставать от них. Однако и в такую даль, за пределы России не хотелось отправляться, да и муштра надоела. Поэтому и вправду не знал, как лучше: то ли сейчас ехать, то ли еще три месяца потопать, но побыть в стороне от войны. Пусть будет так, как начальники решат.
Его оставили. И он считал, что ему, как ни говори, крепко повезло. Второй срок пребывания в учебной роте полегче показался, хоть и делал все то же самое — отделенным он станет только на время следования к фронту.
Их погрузили в вагоны 9 ноября 1916 года. Почти месяц шел эшелон через всю Россию, к западной границе ее, в Галицию. Пожалуй, ни один человек, ни солдат, ни командир, не испытывал нетерпения, не торопил мысленно поезд, а еще и притормаживал. Каждый думал: успеем хватить лиха. Давно и бесследно минуло то время первых героических порывов, когда каждый мнил себя смелым казаком Крючковым — не впервой бить нам германца! Но оказалось, что бить-то и нечем, что на «ура» против пуль, против пулеметов и пушек не попрешь. И Россия действительно все больше трезвела, все больше уставала и все отчетливее осознавала никчемность всех трат, которые понесла она и еще понесет на полях битвы.
В конце шестнадцатого года и начале семнадцатого на фронтах Галиции было полное затишье. Выдохлась и та и другая сторона. Русские много сил потратили, потеснив германцев и австрийцев на этом участке войны в ходе летней кампании. Германцы и австрийцы. оправляясь от поражений, недавно понесенных ими, готовились к боям, которым не предвиделось ни конца ни края. На той и другой сторонах солдаты рыли окопы поглубже, строили землянки, в которых перезимовать собирались, нары в них мастерили.
Рыл окопы, строил землянки и 51-й сибирский стрелковый полк, на левом фланге которого, у пологого оврага, находилась 15-я рота. В ее составе и был Терентий Мальцев, долговязый, исхудавший солдат царской армии.
Как и все новички, Мальцев смотрел на ту сторону оврага. Там, за голым мелколесьем, в таких же мерзлых окопах, находился противник, к которому было у него больше любопытства, чем воинственной ярости. Да и что яриться, если тишина кругом, ни оттуда не стреляют, ни отсюда, будто собрались они, здоровые молодые мужики, не для войны вовсе, а чтобы обжить вот эту холмистую, в перелесках, местность. Не вызывало особого воинственного пыла и вооружение: Мальцеву дали трофейную винтовку, в которой все было на месте, в исправности, кроме затвора,— он не действовал. Поэтому и патронов к винтовке не дали. Не лучше было оружие и у других солдат: если и годилось для боя, то разве что штыкового.
Когда Мальцев смотрел за овраг, то видел за германскими окопами деревню Свистельники. В тыл оглядывался — там тоже деревня, Шумляны[2]. По дорогам за окопами ездили мужики на санях. Некоторые хозяева, будто и войны для них нет никакой, навоз на поля начали вывозить. «И куда торопятся,— думал Мальцев,— очищают хлева так рано, не дожидаясь марта?» Он завидовал этим мужикам, тому, что они делают то, от чего оторвали его, и теперь вместо важного крестьянского дела он или в окопе торчит, или в землянке мается да иногда в караул ходит. Как новичок, не нюхавший пороха, к тому же наделенный нестреляющей винтовкой, ходит в караул не часовым, а подчаском. Словно в деревне: пастух ходит за стадом с кнутом, а подпасок с хворостиной бегает.
Чтобы не маяться напрасно, занять себя каким-то делом и получше обосноваться, солдаты сколачивались в небольшие группы, строили новые землянки, просторные и основательные: может, всю зиму здесь стоять, и нет нужды тесниться, мерзнуть в устроенных на скорую руку, доставшихся им от тех, кто вел здесь летние бои. Поставили новый «двор» и земляки Мальцева из соседних деревень. Они позвали к себе Терентия, однако он отказался: когда строили, Мальцев был в карауле, как же он пойдет на готовое — неловко.
В ночь на 19 января 1917 года всех предупредили, что через расположение 15-й роты, окопы которой выходили к овражку, пройдет группа разведчиков в белых маскировочных халатах. Предупредили, чтобы часовой или кто если по нужде из землянки выйдет, не перепугался, не зашумел, не переполошил противника.
И точно: среди ночи часовые углядели, что по овражку крадутся едва различимые в снежной вьюге фигуры. Приглядевшись, опознали людей в белых халатах. Правда, двигались они с той стороны. Возвращались, должно быть. Не доходя до окопов, затаились: то ли отставших поджидали, то ли заблудились маленько и теперь высматривают.
— Сюда, братцы! — тихим голосом кликнул их часовой.
Помедлив чуть-чуть, он и рукой им стал подавать сигналы: быстрее, мол, что в чистом поле-то зря мерзнуть! Белые халаты двинулись по траншее... Догадался часовой, что это германцы, а не свои, когда кляп ему в рот сунули и повязали по рукам. Часового повязали и подчаска. Потом по землянкам пошли, спавших солдат поднимать.
«Что там такое, откуда речь чужая?»— с этой мыслью просыпались и поднимались с нар солдатики. А винтовки-то где? Нет их. Оделись, вышли. И из других землянок всех повывели.
Остаток ночи они перекоротали в каком-то амбаре на окраине Свистельников — этот амбар Мальцев видел из окопов. То, что отсюда так близко до своих, вселяло надежду. Однако утром их погнали дальше от фронта. На каком-то полустанке затолкнули всех в вагон и повезли. Через несколько дней они оказались в Дрогобыче, где перед ними раскрылись тяжелые ворота тюрьмы. Увидел их Терентий Мальцев — и так стало ему жутко, как никогда еще не было: вот перешагнет он сейчас черту — и кончилась жизнь.
Однако в дрогобычской тюрьме их продержали недолго — сформировали в рабочие команды, снабдили лопатами и ломами, направили на строительство дорог и мостов.
Где только не довелось Мальцеву копать, долбить мерзлую землю Галиции: и под городом Стрый ковырял, и под Станиславом, и у самой линии фронта, почти в тех же местах, где и в плен был взят. А на линии фронта было все так же тихо.
4
Миновал октябрь 1917 года. Октябрь, который открыл новую эру в истории человечества. Однако весть эта, потрясшая мир, долго обтекала лагерь военнопленных стороной.
«Про Октябрьские события в России,— вспоминал Мальцев,— мы долго ничего не знали, долго не слышали и имя Ленина. Только в январе 1918 года от охранявших нас немецких солдат услышали, что в Брест-Литовске шли переговоры о мире и что переговоры эти были прекращены. Часто между собой они говорили: «Ленин — фриден, Троцкий — криг; Ленин — гут, Троцкий — нихт гут» [3].
Негодование немцев на Троцкого передалось и нам, военнопленным. Так впервые услышал я имя Ленина от солдат враждебной нам армии. Имя, облеченное идеей мира, которого мы ждали вот уже год и который решит тяжкую нашу судьбу».
В феврале австро-германские войска, воспользовавшись разрывом переговоров в Брест-Литовске, начали наступление по всей линии Восточного фронта — от Балтики до Черного моря: оккупировали Украину, Белоруссию, взяли Псков, Минск, Могилев. Фронт отодвинулся от Галиции далеко на восток, и надобность в строительстве дорог и мостов здесь отпала. Русских военнопленных начали перебрасывать в Курляндию, откуда германское командование замышляло наступление на Петроград.
Эшелон, в котором находился Терентий Мальцев, прнбыл в Митаву. Здесь в бывших кавалерийских казармах, километрах в пяти от города, и заключили военнопленных.
Была весна, таяли снега, по проталинам расхаживали грачи, пели жаворонки и скворцы. Но торжество пробуждающейся природы не радость вызывало, а тоску. И в глухой этой тоске вспомнилось Мальцеву то, что он никогда раньше вроде бы и не вспоминал. На лугу, где покос был,— увидел, как наяву, и этот луг и лес, обступивший широкую луговину,— поймал он однажды дикую утку. Неизвестно, что с ней сталось в ту минуту: то ли от сокола под ноги человеку пала, то ли от другой какой беды. Ухватил он ее руками, прижал, чтобы крылами не билась, отцу шумнул: мол, добыча есть. Увидел отец, поспешно за топором в телегу полез, крикнув: «Держи ее крепче!»— «Не вырвется»... А утица будто поняла эту перекличку, выгнула голову, в глаза спасителю своему глянула. Вернее, он сам увидел ее глаза, в которых страх таился и боль живого существа. И Терентий разжал руки... «Эх, дурень ты, дурень»,— заругались на него набежавшие с соседних наделов. Они почему-то догадались, что утка не вырвалась, что отпустил ее он сам. А ему и неловко перед ними («жалостливый уж очень»), и вину испытывал,— плохо ли на покосе супом с утятиной всей семьей попотчеваться! — однако и легко на душе стало, когда она, на воле оказавшись, с кряканьем понеслась над лугом. И кряканье это было еще всполошным, но уже и радостным.
Видно, не случайно вспомнилось все это. Пройдет несколько дней — и лагерь облетит радостное, пьянящее слово «мир». Советская Россия и Германия заключили договор о мире!
Кто принес эту долгожданную весть? Казалось, услышали ее сразу все: улыбались конвойные, ликовали пленные. И те и другие жили одной думой: «Скорее домой!»
Уже формировались партии для поочередной отправки на родину. Уже ушли первые эшелоны с пленными, получившими свободу. Уехали те, кого ждут дома дети. Терентий Мальцев, человек женатый, но не имеющий детей,— дочь померла еще в шестнадцатом,— оказался в списке одной из последних партий, которой предстояло отправляться в июле.
И вот день этот и час настал! Постирали, помылись, собрали все свои вещички — много ли их у пленного? — и на станцию, по вагонам, домой!
Однако эшелон с пленными все стоял и стоял в тупике. К вечеру — что такое? — выставили часовых, с ожесточением и угрозами закрыли двери вагонов. Что-то опять переменилось в мире.
Утром их вывели из вагонов. Построили в колонну и повели той же дорогой, по которой и сюда шли. В лагерь?
Не знали горемыки, что накануне, когда они стирали, мылись и собирались домой, левые эсерки провоцируя войну, убили в Москве германского посла Мирбаха.
И снова те же окрики конвойных: «Работай, рус, работай...» Сколько окопов на полях Курляндии было уже зарыто, сколько дорог выправлено, мостов отремонтировано! Сколько раз проклиналась судьба, обрекшая на каторжные мучения, переносить которые уже не было никаких сил. А им конца и края не видно.
В одну из таких горьких минут отчаявшийся Терентий Мальцев оказался на мосту в Митаве — их конвоировали с работы. Остановился у перил, глянул вниз, ка текучую воду реки. Уже склонился, чтобы опрокинуться, утонуть — избавиться от муки и окаянной жизни. И опрокинулся бы, да увидел камни сквозь прозрачную текучую воду: страшно стало от мысли, что вот упадет он сейчас и разобьется об эти камни. Отшатнулся от перил, вернулся в колонку, все еще шагавшую по мосту.
Через шестьдесят лет он приедет в Елгаву, город, который когда-то давным-давно, многие местные жители уже и не помнят, когда это было, именовался Митавой. Побывает в тех казармах, в которых был лагерь военнопленных. Постоит на том самом мосту через Лиелупе — когда-то ее называли Аа Западная — и вспомнит время, когда и жить-то было невмоготу и с жизнью расставаться страшно...
В сентябре их снова погрузили в эшелон и повезли. На восток? Нет, на запад, все дальше и дальше от родины, от России. Германия, продолжавшая войну на западном фронте, нуждалась в рабочей силе. На ее заводах и фабриках уже работало около двух миллионов русских военнопленных. Мальцев оказался в одном из лагерей под Кведлинбургом.
В дощатых бараках, сколоченных на скорую руку и огороженных колючей проволокой, было собрано двадцать тысяч узников. Отсюда их наряжали на работу по всей округе. За колючей проволокой, оградившей серые зловонные бараки, стиснувшиеся на небольшом поле, видны были лесистые склоны Гарца, красоту которых воспели многие поэты. Но красота радует глаз и душу свободного человека, а загнанного в неволю только печалит: он еще сильнее тоскует о свободе, еще невыносимее делается жизнь его.
Державы Антанты, нанесшие Германии поражение в первой мировой войне и принявшие ее капитуляцию, потребовали от германского правительства дальнейшей задержки русских военнопленных. В России разгоралась гражданская война, ширилась военная интервенция Антанты, пытавшейся задушить молодую Советскую республику. Задерживая в Германии около двух миллионов пленных, интервенты тем самым изолировали их от борьбы с контрреволюцией в России. Они понимали: отпусти военнопленных на родину — Красная Армия получит значительное пополнение. Но можно влить это пополнение и в белую армию Тогда надо отправлять военнопленных не через красный Петроград, а в занятые интервентами и белогвардейцами районы Украины и юга России.
Советское правительство предвидело это и вовремя предприняло меры. В конце января 1919 года в лагерь Кведлинбурга прибыли представители Коминтерна, два русских коммуниста — Озолинь и Александровский. Они-то и рассказали о замыслах Антанты.
— Родина просит вас не поддаваться ни на какие уловки,— говорили коминтерновцы иа заседании лагерного комитета. — Требуйте отправки домой только через Петроград, и вы увидите, они на это не согласятся.
От имени двадцати тысяч военнопленных комитет заверил: какие бы тяготы ни выпали на их долю, они не вступят в ряды контрреволюции, не поднимут оружие против народа, не согласятся на возвращение через занятые интервентами и белогвардейцами районы.
Заседание комитета проходило в лагерном клубе, устроенном пленными в одном из бараков. Над сценой — срисованный с открытки портрет Ленина. Такую карточку хранили многие узники лагеря. Была она и у Мальцева. Он пронесет ее через все преграды. сбережет на всю жизнь.
Предупреждение оказалось своевременным. Через несколько дней в лагерь зачастили благотворительные миссии Красного Креста: американцы — с подарками, священнослужители — с сочувствием и наставлениями, белогвардейские офицеры — с уговорами и призывами. К одному клонили — путь на родину лежит только через «освобожденные» от большевизма районы.
— Отправляйте в Петроград — стояли непоколебимо военнопленные.
Американцы поторопились покинуть лагерь — подарки летели им вслед. Белогвардейцы бежали под свист и улюлюканье многотысячной толпы. Священника, исподволь сколотившего вокруг себя согласных ехать в «самостийную» Украину, ночью раскачали и перебросили через забор.
В лагере издавалась нелегальная газета «Лагерная правда», рассказывавшая отторгнутым от родины рабочим и крестьянам о молодой Республике Советов, о контрреволюции и ее вдохновителях, о солидарности пролетариев всех стран, громко заявивших: «Руки прочь от Советской России!»
Печаталась «Лагерная правда» на шапирографе, приборе, предназначенном для размножения рукописных оттисков. Готовил газету к печати Терентий Мальцев. Просиживая ночи напролет, он при свете «летучей мыши» специальными чернилами выписывал букву за буквой весь номер будущей газеты.
1 февраля 1920 года Мальцев одним из первых вступает в Русскую секцию при Коммунистической партии Германии и получает от партийного комитета лагеря удостоверение под номером восемь. Он сразу же становится активным членом партии; продолжает писать газету, участвует в организации рабочих команд, поддерживает связь с комитетами других лагерей, нелегально, пользуясь «аусвайсами» — увольнительными и командировочными удостоверениями,— ездит по помещичьим усадьбам и заводам, где работали русские военнопленные, встречается с председателем коммунистической организации Кведлинбурга Станиславом Мюллером и секретарем этой организации Карлом Шуманом, развозит газеты и другую революционную литературу, организует коммунистические ячейки в рабочих командах.
Сам Мальцев то на фабрике в Кохштадте работал, то дворником в курортном местечке Алексисбад. А его тянуло в поле, землю пахать, хлеб сеять, растить и убирать. Он просился на сельскохозяйственные работы,— сам такие команды комплектовал! — но партийная ячейка посылала его туда, где он, активист, был нужнее.
Мальцев жадно присматривался ко всему, что делалось на полях Германии. В такие минуты он забывал, что находился в неволе, забывал про тоску свою и страдания — любовался культурой земледелия и высокими урожаями.
Да, прав был художник (Мальцев вспомнил рисунок из довоенного календаря), нарисовавший немца с большим снопом пшеницы под мышкой, а русского мужика — с несколькими колосками, которые он, отощавший от голода и тяжкой работы, прижал к груди. Картинка эта делала наглядными цифры, приведенные в календаре: в среднем за десятилетие Россия перед войной намолачивала с десятины по 42 пуда, а Германия—по 121 пуду.
Еще тогда, дома, Терентия Мальцева поразила эта трехкратная разница. Поразившись, он начал допытываться у отца, сколько же раньше мужики намолачивали.
В среднем намолачивали, как и подтверждала официальная статистика, по 42 пуда. В три раза меньше, чем в Германии.
— Так там, сказывают, земля куда жирнее нашей,— отвечал отец на бесконечные вопросы сына. Вопросы эти вызывали в нем досаду: что родится, то и наше, вот и весь разговор.
Теперь Терентий своими глазами видел: нет, здешняя земля нисколько не жирнее отчего надела. Правда, климат помягче да сельскохозяйственные орудия получше: рассказы про соху и сабан крестьяне местные слушали с недоверчивой улыбкой. Улыбались, покачивали головами: мол, таким примитивным инвентарем много не наработаешь, хорошо землю не подготовишь.
«Неправда,— думал он гордо, будто вызов бросал здешнему механизированному землепашцу,— и я добьюсь таких же высоких урожаев. Вот только бы вырваться отсюда. Сколько же маяться на чужбине?»
5
Молодая Советская Россия все увереннее заявляла о себе миру, добиваясь новых и новых побед на дипломатическом фронте. В кругу забот ее правительства были и военнопленные, насильственно отторгнутые от Родины.
Буржуазная Германия, потрясенная революционным подъемом рабочего класса, не могла больше игнорировать настойчивые требования Советского правительства и с мая 1920 года начала отправку русских военнопленных.
Мальцев покинул лагерь с одной из последних партий 19 января 1921 года.
Их привезли в портовый город Штеттин на Одере. Погрузили на транспортное судно «Цойта», принявшее на борт около тысячи человек, истосковавшихся по свободе, по Родине, по семье.
Дул холодный, обжигающий ветер, но никто не уходил с палубы: пели, плясали, смеялись, обнимались— судно шло к родным берегам. Не знали люди, что еще не все беды испытали. Судно то в бездну проваливалось, то вверх вздымалось. Страшная качка уложила всех, ввергла в мучительную, обессиливающую болезнь, которая растоптала, измяла не только тело, но и душу: «Да уж лучше бы разверзлась эта бездна и поглотила навечно!»
На пятые сутки судно, чуть не угодившее на мель у каких-то островов, с трудом вошло в Финский залив н пришвартовалось к причалу Балтийского Порта [4]. Буржуазная Эстония встретила их без улыбок, однако и препятствий не чинила — в тупике уже стоял поезд, который доставит русских до Нарвы, до границы с Советской Россией.
И вот—Нарва. Здравствуй, Родина, Россия! Россия новая, советская! Но сколько же мук ты приняла, как истерзали тебя война и интервенция...
В Нарве пересели на поезд, составленный из старых, поломанных, осколками и пулями пробитых вагонов. Они скрипели, скрежетали, будто жаловались. На станциях бродили, как тени, изможденные, оборванные люди. Но улыбались, улыбались и выкрикивали радостные слова.
В Ямбурге[5] поезд уже ждали. На вокзальной площади было полно народу. Тут же состоялся митинг — Советская Россия приветствовала освобожденных из неволи рабочих и крестьян, которых ждут заброшенные поля, разрушенные заводы н фабрнкн.
— Товарищи! — гремело над площадью слово, объединившее всех. Они, узники империализма, становились гражданами первой в мире Страны Советов.
А впереди был Петроград. Как хотелось Мальцеву остаться, походить по городу, где еще недавно вершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Но уехал, не в силах был даже на день отсрочить встречу с отчим домом, не мог одолеть тягу к родимому краю.
Выправив в Екатеринбурге необходимые документы, Мальцев и здесь не задержался, поторопился на вокзал: позади тысячи километров пути, впереди — всего две сотни. Завтра, если поезд пойдет без задержек, он после пяти лет отлучки — год службы, да четыре года неволи, да двадцать пять дней в дороге — будет дома.
Ему повезло, в Шадринск отходил небольшой состав — всего несколько теплушек, битком набитых мужиками и бабами с узлами. Не поймешь, то ли голод и нужда их с места стронули, то ли выгода и нажива. Видно, были тут и те и другие. Те и другие берегли свои узлы и ни в какие перебранки не вступали: если потесниться кто требовал, неохотно, но молча теснились, не дожидаясь повторного окрика. Некоторые явно побаивались красноармейцев, пусть демобилизованных и безоружных. Они были в остроконечных краснозвездных шлемах, будто древние русские воины, и грозные уже тем, что побили и белочехов, и белополяков, всех белых генералов. Ехали в теплушках и те, которые не прочь были пошарить в узлах да изношенной одежкой своей поменяться. И пошарили бы, поменялись бы, да не решались — красноармейцы зыркали на них сердито: не шалить тут, нечего людей забижать, не буржуи они.
12 февраля 1921 года теплушки дотащились до небольшого полустанка Лещево-Замараево. Отсюда и до Шадринска уже недалеко и до деревни Мальцево рукой подать: верст десять — двенадцать всего, если напрямик. От Шадринска будет подальше. И Мальцев, распрощавшись с попутчиками, выпрыгнул из теплушки, решил: «Пока поезд до Шадринска докатится, я уже дома буду».
Полустанок — одинокий вокзал у дороги да несколько изб в стороне от него, на отшибе, в голом поле. И ни души вокруг: ни на вокзале, ни у изб, ни в поле, на котором едва виднелась санная дорога, уходящая на взгорок, в родимую сторонку.
Постояв — что ему теперь делать, куда податься? — Мальцев решил было, хоть и крепок мороз, дойти пешком — десять-то верст не даль. Однако появившийся дежурный остерег его:
— Не торопись, человек, без вести сгинуть в такую пору. Обожди часок, может, кто с конем появится, подвезет.
И точно: мимо изб к вокзалу трусцой бежала мохнатая киргизская лошаденка, вся в инее. Присмотревшись — кто там в розвальнях правит? — дежурный сказал тоном человека, все здесь знающего:
— Вот и оказия. Если что посулишь,— подвезет...
Лошаденка была низкорослая, неказистая, но работящая: бежала и бежала трусцой, будто домой торопилась. Возница, выехавший на заработок («Детишки от голода пухнут»), что-то рассказывал, о чем-то спрашивал. Мальцев слушал, отвечал, но в смысл слов не вникал. Перед ним был родимый край: чистые белые поля, отороченные заиндевелыми лесочками, осиновые и березовые колки, все более знакомые и чем-то да памятные. Ждал, вот-вот появится тот колок, в который еще в детстве бегал по грибы да по ягоды. Сколько раз колок этот, весь в березовом свете, виделся ему там, на чужбине, сколько раз он, в бреду ли, во сне ли, возвращался домой именно по этой дороге. И каждый раз, когда вот-вот должна уже мелькнуть за деревьями деревня, бред или сон прерывались, и он снова — в разлуке с родимым домом.
Стой!.. То ли голос Терентий подал, то ли только подумал и за вожжи потянул, а может быть, возница почувствовал, как нужна, как важна сейчас остановка этому долговязому человеку в ненашей одежде.
За лесом, на пологом снежном косогоре, завиднелась деревня — серые низкие избы по белому сверкающему полю. Среди них нашел и свою, под соломенной крышей. Из трубы дым столбом...
Через годы, вспоминая свое возвращение в отчий край, Мальцев напишет: «Приехал я к родимой земле-матушке, и с тех пор не расставались мы».
Они въехали на мост через речку, на тот самый мост, с которого, бывало, «солдатиком» прыгал он вместе с мальчишками.
— Стой! Кто такие? — раздался в тишине повелительный окрик. Из-под моста вышли люди в рваных полушубках и направили на них винтовки. — Кто такие? — повторили они свой вопрос еще требовательнее, обращаясь главным образом не к вознице, а к странному путнику — на Мальцеве был мундир французского солдата, которым наделили его в лагере.
Вот и сбывалось то, что видел во сне или в бреду: уже рядом дом, да, видно, не бывать ему там.
Однако по голосу, по поведению догадался, что это не бандиты, а какая-то охрана, да и люди, когда присмотрелся, показались будто бы знакомыми. И правда, не успел он себя назвать, как услышал:
— Терентий?! Мальцев!
То был один из караулов, выставленных у деревни,— в округе кулаки и эсеры подняли мятеж (в который раз, какой по счету?). Одна из банд, сколотившись в Ялуторовске, двигалась по деревням Шадринского уезда, убивая, разрушая, грабя и надеясь на пополнение. Кто знает, куда, в какую сторону кинется она,— вот и выставила деревня караулы на дорогах с приказом задерживать всех подозрительных, а при необходимости — стрелять.
Переговорив коротко: «Откуда? Знают ли дома?»— часовые снова скрылись — нельзя долго на виду стоять.
Главе третья
1
Как дома встретили сына и мужа, которого война пять лет по чужбине гоняла, нет нужды рассказывать. И для домочадцев не было радостнее события и для деревни весть значительная — вернулся односельчанин. С раннего утра до поздней ночи не пустовала изба: выспрашивали, сами рассказывали. Сначала про тех, кто помер, погиб, кто от шомполов колчаковских еще не оправился. Потом о выживших в этой кутерьме.
Да, помяла, покатала его жизнь. Но и тут не слаще было, и тут все переменилось, будто не пять лет прошло над этим миром, а миновала эпоха с двумя революциями, гражданской войной, интервенцией, мятежами, надоевшими всем до чертиков, с продразверсткой, утомившей крестьянина, у которого отбирались все излишки хлеба без всякого вознаграждения за него.
Многим тогда думалось, что политика «военного коммунизма» — единственно правильная не только во время войны, но и в условиях мирного хозяйственного строительства. Сторонники этого взгляда смотрели на крестьянство не как на союзника рабочего класса, а как на кулацкую массу, имеющую хлеб и скот и не желающую делиться с пролетариатом. Сказывалась та ненависть, не всегда осознанная, которая все еще жила к тем, кто сам себя кормит. Движимые этим чувством, они за высшую справедливость считали изъятие излишков хлеба без всякого вознаграждения. И все же победили не они.
Слушая ходоков-крестьян, Ленин записал себе: «Заинтересовать надо крестьянина. Иначе не выйдет... Сельское хозяйство из-под палки вести нельзя».
И по предложению Ленина X съезд РКП (б), состоявшийся в марте 1921 года, принял решение о замене продразверстки натуральным продовольственным налогом, позволявшим крестьянину иметь излишки и свободно ими распоряжаться. Создавался материальный стимул для подъема крестьянского единоличного хозяйства. Стимул, который сразу же подействовал на общий ход посевной кампании.
То было время великих раздумий, долгих и обстоятельных разговоров, высказанных и невысказанных надежд, сбывшихся и несбывшихся желаний.
Непременные участники этих раздумий и разговоров — агитаторы. Всякие среди них были. Но один мальцевским мужикам приглянулся особо. Он был уездным агрономом и, приезжая потолковать с крестьянами о новой экономической политике, не торопился после сходки поскорее уехать из деревни,— ходил и по дворам. Зашел однажды и к Мальцевым — подсказал кто-то, что мужики у них на разговор собрались.
В избе яростно спорили. Агроном присел на скамью послушать. Мужики и так и эдак прикидывали, примеривали, а все же поверить, что германец по 120 пудов с десятины берет, не могли.
— Бывало, и побивали его и в плен брали — не богатырь будто.
— У него земля, должно быть, побогаче нашей.
Это последнее предположение, самое безобидное для собственного достоинства, готовы были принять за непреложный довод.
— Нет, мужики, не хуже, не беднее у нас земля. И горбимся на ниве не меньше, а, пожалуй, и побольше,— горячился Терентий Мальцев. И выложил на широкий дощатый стол старый календарь, который все эти годы лежал там, в сухом углу за полатями, куда и положил его когда-то вместе с другими печатными бумагами, уходя на империалистическую. А вернулся, извлек его оттуда и принялся перечитывать все подряд, словно заново пережить хотелось, подумать над тем, что ушло в прошлое и чему нет ни возврата, ни повторения.
— Выходит, молитвы наши не доходят до бога,— проговорил примиряюще хозяин избы Семен Мальцев.
Не решился Терентий отцу возразить. Да и сам он толком не знал, почему урожаи в родимом краю значительно ниже виденных, лишь мучился вопросом: «Почему?» Ни радость встречи, ни навалившиеся крестьянские заботы, ни те бурные события, какими было наполнено предвесенье 1921 года, не загасили в нем этих раздумий.
Агроном не был старожилом, но и не новичок в здешних краях, знал, что занимать чужого ума здешний крестьянин не очень склонен, больше полагается на свой опыт и тот устав, который выработали предки, нарушить который считалось преступным. И что ты ему ни говори, он будет жить в строгом, раз навсегда установленном порядке. К тому же, если ты пришел в чужую избу,— уважай хозяев. И агроном, не выставляя себя, включился в беседу исподволь и так ловко, что никто и не помыслил: вот, мол, чужак явился, в красный угол сразу норовит. Вспоминая потом, мужики даже думали, что он и не говорил ничего такого особенного. Достал из кармана горсть зерна и долго рассматривал его, пересыпая с ладони на ладонь.
— Худосочное, мелкое,— сказал агроном, ни к кому не обращаясь. — От таких семян не уродится, а выродится пшеничка.
Посмотрели мужики на то зерно, что гость в ладонях держал: мелкое, конечно, однако этот человек из города не знает, должно быть, что ни один хозяин не отберет для посева крупное зерно, что мелким сеять куда выгоднее, так как на пуд его приходится больше
— А пшеничка-то у вас не только худосочная, но и без всякого роду племени,— продолжал агроном, будто только сейчас обнаружил это.
— Какую бог дал, та и наша,— отвечали с достоинством обиженные этим замечанием мужики.
— Выходит, и хорошего урожая ждать от нее нечего. Сколько бы ни горбились на инее, не вырастите хорошего племени из худого семени. К тому же на ниве вашей овсюга-полетая больше, чем пшеницы, потому что не бороните перед севом. А раз не бороните, не разрушаете корку ранней весной, то и влаги в земле меньше остается.
Услышали это мужики — и по домам вдруг засобирались. Что пустое-то слушать? В другом месте пусть дурее себя ищет — корку, видишь ли, до сева разрушать! Им казалось — они были убеждены в этом,— корка, что крышка на чугунке, удерживает влагу в земле, поэтому никогда и не боронили поля свои до посева.
Может быть, ни одному совету не поверил бы и Терентий, если бы не сослался агроном-агитатор на книжку, в которой и про семена говорится и про весеннюю бороньбу. Печатному слову Терентий верил безоговорочно и поэтому на другой же день засобирался в город: «Надо прикупить кое-чего».
Он ехал за книгой, которую перечитает потом много раз. Несколько дней просидел он в амбаре, поштучно выбирая самые крупные зерна пшеницы. Выбирал и присматривался — автор книги советовал присмотреться. Все правильно, в пшенице, в которой преобладала «красноколоска», действительно много разной примеси. Вот почему не все колосья на ниве вызревают в одно время: у разных сортов разный период вегетации. А это как раз и снижает урожайность: несозревшие колосья полного зерна не дают.
— Что ты там копошишься, будто воробей, по зернышку клюешь? — посмеивался отец. Он был рад, что солдатчина и плен не отучили сына от крестьянского хозяйства. А что Терентий в амбаре сидит, то, думал, от тоски нашел он себе такое кропотливое занятие: недавно разлад у него с Парасковьей вышел. Собрала она пожитки свои, снес их Терентий на саночки и сам же свез к тетке. На том и разошлись их пути. Навсегда разошлись.
А вскоре узнал: вернулась в родительский дом Татьяна,— не сложилась, не заладилась жизнь с мужем. И оказалось, первая любовь не забыта. Оказалось, зря они пытались устроить жизнь свою друг без друга — только молодость потратили. А может, счастья не бывает без мук, потерь, поисков? Встретились снова, да и, не дожидаясь осенней свадебной поры, поженились той же весной 1921 года.
2
В первой своей статье, которую опубликует журнал «Колхозник» в январе 1934 года, Мальцев напишет:
«В 1921 году мною был заложен первый опытный участочек на своем огороде. С той поры я стал опытником. Местный сорт пшеницы начал улучшать отбором на семена самого крупного и тяжеловесного зерна. Результаты сказались быстро».
С огородного этого участка Мальцев нашелушил в ладонях около пуда крупной пшеницы, которую снова перебрал зимой по зернышку и ссыпал в мешок на семена — весной в поле посеет.
И пока перебирал, решился: а почему бы и второй совет агронома не испытать? Почему бы не пробороновать поле до сева? Однако чем боронить? Деревянной одноконной бороной? Но ею не разрыхлить почву так, как ученые люди советуют.
Перерисовал Терентий чертеж из книжки, пошел к кузнецу.
— Можешь ты мне, Евтифий, борону с лапами выковать?
Посмотрел на чертеж кузнец, поспрошал, что к чему тут и куда лапы должны быть загнуты, подумал и согласился:
— Не доводилось такую чертовину делать, однако сработать попробую...
Весна 1922 года выдалась ранняя и погожая, будто торопилась природа сгладить свою вину за все невзгоды минувшего засушливого лета. Уже перед пасхой можно было выезжать в поле. Однако один сеять не ехал, сидел дома и другой. Рассуждали так: поспеть-то земелька поспела, да на пасху и деды наши никогда не выезжали. Вот отгуляем восемь престольных дней, тогда и сеять зачнем.
Видели, душа от этого ныла, как земля пересыхает. Знали и много раз повторяли, что весенний день год кормит. Но традиции были сильнее этих знаний. Ни богатей, ни середняк, ни бедняк не смели своевольничать, каждый знал,— всему свое время.
А Терентий решился...
Он надеялся выехать со двора, не сказавшись, поэтому делал все тихо: осторожно положил на телегу борону, вывел из денника лошадь в хомуте и седелке, без окриков и понуканий завел ее в оглобли.
— Ну, балуй мне! — острожил он кобылу, когда она фыркнула громко и скрипнула упряжью. Вывел, пристегнул и молодую лошадь (в девятнадцатом колчаковцы забрали у Мальцевых обеих лошадей, за мерина вручили Семену справку, а за кобылу оставили раненную в храп кобылицу с жеребенком, которых ему удалось выходить). Подготовив все, Терентий растворил ворота, будто рассматривая их, где и какой починки требуют...
Вышел из избы отец: что это сын двор распахнул? Увидел у сарая запряженных лошадей, борону на телеге. Догадался,— разговор об этом заходил и раньше, но он не шибко вникал: мол, придет весна, тогда и посмотрим. Весна пришла, да смотреть нечего — впереди пасха, отменяющая любое дело. Поэтому зашумел на сына:
— Куда это ты надумал?
— Боронить.
— Не смей землю сушить — тревожить! Еще ни один дурак не выезжал на бороньбу до пасхи.
— Я попробую только.
— Не смей, говорю! Постыдись добрых людей...
Терентий объяснял отцу, что раннее боронование задолго по посева, как утверждают знающие люди в книжках, не сушит землю, а влагу сохраняет в почве, что на урожае сказывается.
— Слышь, Терентий! — рассердился отец. Сын взял уже лошадей под уздцы и повел со двора. — Без хлеба семью хочешь оставить?
— Не оставлю,— буркнул Терентий. Главное, решил он, не останавливаться, пусть ругается. Принял молча и укор в том, что это они, черти, нехристи, немоляхи, накликали голод. Терентий удалялся от двора, и ему становилось все легче, веселее — скоро он будет на поле!
Приехал, огляделся — ни души вокруг.
И от одиночества этого — никто, ни один человек не решился оспорить обычай — сделалось ему жутко. А вдруг и правда без хлеба семью оставит? Да еще после засухи прошлогодней, все запасы подобравшей. Что он тогда отцу, матери скажет?
То был великий риск крестьянина-единоличника, которого кормила вот эта полоска, на которой он сейчас задумал делать то, что никто никогда в многочисленных поколениях мальцевских землепашцев не делал.
Ох, как трудно было решиться на этот шаг, потому что нет ничего труднее, как ломать привычные устои,— это значит против общества пойти, против того общества, в котором живешь и у которого каждый твой шаг на виду, и горе тому, кто обособится, не посчитается с заведенным предками уставом.
На поле он будет один и все восемь пасхальных дней. Нет, он пошел не только против предками заведенного устава, он великий грех на себя принял и грехом этим может беду на всю деревню накликать...
Восемь дней по голубому небу катилось над полем жаркое солнце. Восемь дней веяли сухие ветры, уносившие из земли влагу. Однако в поле все еще никто не выезжал. А когда выехали, то остолбенели: на заборонованных Терентнем полосках густо зеленели сорняки, среди которых главенствовал злейший враг хлебов овсюг-полетай, всегда причинявший большой урон урожаям. Как управиться с ним, мужики не знали. Книга советовала: надо закрыть влагу боронованием и дождаться его прорастания, и тогда перед посевом можно уничтожить сорняк той же лапчатой бороной. Может, и так, да смотреть на поле страшно. Увидел отец — ноги подкосились, сел на межу.
— Что ж ты наделал, сын? Сеять-то как теперь?
— Ничего, отец, посеем,— только и ответил Терентий. Он и сам уже не был так уверен в успехе своего предприятия — очень уж густо вылезли из земли сорняки
— Тебе-то ничего, а каково мне, старику, смотреть людям в глаза?..
Да и лошадей жалко было: вон какой работы коням добавилось. Крестьянин всегда коня берег пуще себя, порой сам впрягался в тяжелый воз, застрявший в болотине или колдобине.
Добрые хозяева уже вовсю сеяли, а Терентий опять взялся боронить, чтобы сорняки уничтожить. Мужики смотрели с осуждением, но и с жалостью. Вон что наделал: и землю высушил и сор весь в рост пустил, когда же сеять он теперь будет, что осенью соберет?
Посеял Терентий позже всех. Ой, как тревожно было у него на душе! Однако беспокоился только до первых всходов.
В воскресные летние дни по давней привычке крестьяне, управившись по двору, прогуляться шли в поле — полюбоваться своими хлебами, урожай прикинуть в уме, посмотреть, что растет у соседей, собой погордиться, а при случае и позлословить над недотепами. Не шел, а на крыльях летел в поле Терентий. Он уже знал, видел, как на соседних полосах вместе со всходами пшеницы густо поднимались и сорняки, а на его участке — на зависть всем! — пошла пшеничка сильная, кустистая, почти без сору. Особенно выделялся участок, на котором он высеял отборные зерна. Урожай у Терентия оказался почти в два раза выше, чем у соседей!
«Это была моя первая победа. На следующий год отец уже не возражал ни против боронования, ни против сортировки семян»,— напишет он позже.
Так исподволь рушились приемы патриархального земледелия, освященные традицией и религией, обусловленные возможностями крестьянина-единоличника, работавшего сабаном да деревянной бороной, отягченного грузом накопленного веками невежества.
Правда, по обычаю Терентий все еще спрашивал у отца совета:
— Что делать-то в поле будем?.
Семен отвечал ему, но видел: на согласен с ним сын,— и махнул рукой:
— Советуйся уж со своими книжками.
В книгах, которые читал Терентий, говорилось, что судьба урожая зачастую решается посевом: рано посеешь— до жары, пока еще есть влага в почве, появятся и всходы, начнется рост и развитие растений
Это же очевидно! Доказано! На практике проверено! И проверено не где-нибудь в одном месте, а в разных районах страны.
Однако почему же тогда рано засеянные участки пшеницы выгорают?
Мальцев часто вспоминал засуху 1921 года, последствия которой все еще сказывались. Правда, мальцевские мужики и в тот тяжкий год что-то да намолотили. А вот крестьянам соседних сел Сухрино и Замараево вовсе нечего было убирать. Почему так случилось? Поля рядом, одинаково прикрыты от суховеев лесами и колками. Способы обработки земли одинаковы. Правда, поля у соседей на южных склонах раньше освобождаются от снега, раньше подсыхают, а потому и отсеиваются здесь почти на неделю раньше мальцевских крестьян. Поначалу-то, рассказывали мужики, у замараевцев чудо какие хорошие хлеба взошли в тот сухой год, а дождей все нет и нет, и пшеничка поникла, в желтизну ударилась, листья отсыхать начали.
«А ведь так и на нашенских полях было,— припомнит теперь Мальцев. — Где посеяли раньше, там сильнее погорело, где под самую сушь сеяли — там лучше выжила пшеничка и урожай дала»...
В двадцать втором году он, рисковая головушка, и вовсе позже всех сеял: пока боронил, пока сорняки бороной вычесывал, мужики не только отсеялись, но и всходами уже ходили любоваться-радоваться. Посеял позже, а намолотил больше. Не было в деревне мужика, который не заглянул бы на его надел: кто будто мимоходом, кто за делом каким, а кто и из нескрываемого интереса. Сильно удивил он тогда односельчан.
Да и сам, признаться, не мог в толк взять, почему поздний посев лучший умолот дал.
Не мог объяснить этого и уездный агроном, к которому поехал Мальцев за советом. Но и лукавить не стал, признался:
— Наука утверждает, что хлеб раннего посева лучше родит. И правильно: при раннем посеве зерно попадает в сырую землю и потому дольше пользуется влагой, весенним да летним теплом. Куда как хуже поздним всходам — какой уж им рост в июньскую жару. Однако в наших местах другое: кто с севом запоздает, у того урожай не хуже, а лучше. Почему, не знаю, но это так.
Что и хотел услышать Мальцев от грамотного человека. Значит, нет тут никакой случайности.
Теперь Мальцев не пожимал плечами, не отделывался шутками, когда приходили мужики полюбопытствовать: что он там на своем наделе делает? Теперь советовал им:
— Пробуйте, хуже не будет. Если, конечно, раньше проборонуете. — И тем самым как бы брал на себя ответственность: зачинщик, если что-то не заладится у кого-нибудь, всегда виноватее других.
Не словом заметен в деревне человек — делом.
Как и всякий крестьянин, как отцы и деды, Терентий поднимался на заре. Весной и летом — чтобы день удлинить и как можно больше успеть. И чем больше успевал, тем радостнее ему было, тем больше уверенности: будет урожай.
Зимой, когда круг забот сужался и ограничивался пределами двора, вставал пораньше, чтобы до завтрака почистить, покормить, напоить скот,— крестьянин никогда не садился за стол, не подумав прежде о скотине. Поднявшись из-за стола, весь день дотемна возился со всевозможными починками: износившиеся за лето орудия труда ладил, сбрую чинил, серпы зубрил, а вечерами еще садился валенки дратвой подшивать мурлыча что-нибудь под нос.
Однако не этими повседневными делами выделялся Терентий Мальцев в деревенском работящем обществе. Он отличался тем, что в исполнение извечных крестьянских обязанностей вносил творческое начало, с которым и тяжкое дело творилось легко и весело. Хлеб он растил лучше других, что не оставалось незамеченным в тесном деревенском мирке, хоть и не склонен крестьянин признавать за кем-то первенство в главном своем деле. А уж отдавать это первенство молодому хозяину, только-только на ноги встающему, и вовсе не хотелось. Но что поделаешь, если урожаи у него из года в год выше? И на какие причины ни ссылайся, каких оправданий для себя ни выискивай, с хлебом-то и нынче не ты, а он, Терентий, так что не грех и поучиться у него.
Однажды зимним вечером Мальцева зазвал в избу свою Егор Коротовских, недавно избранный председателем комитета крестьянской взаимопомощи. В избе сидели Яков Ерушин и Венедикт Мальцев. На столе пофыркивал самовар. Егор подкрутил фитиль пяти линейной лампы, чтобы свету прибавить:
— Теперь можно палить, керосин в продаже появился.
Поток такой разговор повел:
— Вот ты, леший тебя побери, лучше нас умеешь хлеб выращивать. Правда, некоторые все еще посмеиваются над тобой, однако и такие есть, кто хочет в обучение к тебе пойти, уму-разуму набраться: что и как надо делать на земле, чтобы с хлебушком быть.
— Чтo ж, секретов я не таю,— ответил Терентий.
На следующий же вечер в просторной избе Егора Коротовских сошлось семеро мужиков. Так было положено начало первому в Шадринском округе сельскохозяйственному кружку, которому суждено было сыграть немаловажную роль не только в жизни села, но и в судьбе Мальцева.
Молодые любознательные мужики собирались послушать, для чего семена надо сортировать (новость и дерзость великая по тем временам), зачем раннее предпосевное боронование нужно (прием, разрушающий дедовский обычай). В кружке учились хозяйствовать с умом, читали, слушали, спорили. И занимались опытничеством, каждый на своем наделе: проверяли разные сроки сева, испытывали новые сорта, а испытанные размножали. Сообща, в складчину, приобретали лучшие семена, покупали сельскохозяйственные машины, каких еще не имели даже кулацкие хозяйства, изготовили первое в деревне приспособление для протравливания семян.
Кружковцы стали постоянными участниками осенних сельскохозяйственных выставок, которые устраивались в Шадринске. Накануне жатвы агроном земельного управления объезжал деревни и села, на поля и огороды единоличников заглядывал — искал, кто чем может похвалиться, кто что лучше других делает. И на выставку ехали, как на праздник: кто сноп пшеницы вез напоказ или кочаны капусты, кто породистого коня вел или удойную корову, а кто и инвентарь новой конструкции грузил на телегу.
Со всей округи ехали на выставку крестьяне: посмотреть, поделиться не только опытом, но и семенами, спросить совета у агрономов я ветеринаров.
Отсюда, с выставки, начиналось распространение новых сортов зерновых и овощных культур. Здесь прославлялись на весь округ деревенские опытники, сумевшие в своих единоличных хозяйствах совершить «революцию», как писала «Крестьянская газета».
Замелькало на ее страницах и имя молодого крестьянина Терентия Мальцева, за применение новых агротехнических приемов и за работу по сортоиспытанию награжденного Похвальным отзывом и премированного сепаратором. Появилась и первая его фотография в газете: размашисто шагает по пшеничному полю молодой крестьянин. В рубахе-косоворотке, перехваченной пояском. Волосы перепутаны ветром. Навстречу ему плывут по низкому небу облака, из которых вот-вот прольется дождь. Лицо молодого крестьянина светло и весело. Так и кажется: сейчас он заулыбается от нахлынувшего счастья и крикнет что-то озорное, радостное.
3
2 нюня 1927 года почтальон принес Терентию Мальцеву пухлый пакет. Из Ленинграда. От кого бы это? Ни родственников там у него, ни знакомых. Однако адресовано именно ему — и деревня указана и имя с фамилией. Раскрыл осторожно.
В пакете была пригоршня блестящего темно-бурого зерна какой-то невиданной раньше пшеницы. И короткое письмо: «Институт прикладной ботаники... высылает вам 200 г пшеницы сорта «Цезиум-Ш»... Просим посеять, о полученных результатах сообщить в институт...»
Высыпав семена на стол, Терентий долго любовался бурым холмиком. Даже в горле у него запершило. Горстка, всего несколько зерен перед ним, а ему размножить их надо, чтобы не горстка, а мешки, пуды семян стало!
Ах, как жалко, что пакет, судя по почтовому штемпелю, шел так долго, аж две недели! Задержался где-то. Поздновато высевать зерно в июне, рискованно, потерять можно. Однако не высеять — значит год потерять.
И Терентий поделил холмик на две части: половину высеял в тот же день на огороде за двором (не первый раз он сеет там), а вторую спрятал. «Это будет наш страховой фонд, на тот случай, если посев не вызреет»,— объяснил он кружковцам, собравшимся посмотреть на незнакомку и пакет в руках повертеть.
Однако незнакомка вызрела. Это как раз и был тот сорт, с коротким периодом вегетации, о котором мечтал Терентий. Сорт, пригодный для поздних посевов. И, кажется, урожайнее других — колосья налились веские, полные. Правда, пшеница оказалась странная, с длинными усами-остями, о которых долго будут толковать мужики. Не бывало еще такой в здешних краях.
Собрал Мальцев колосья, вышелушил зерна, блестящие, темно-бурые, крупные. Сложил их в мешочек, на безмене взвесил. Ого, около двух килограммов отборного зерна! А посеял-то всего сто граммов. Умолотная будет пшеничка.
— Когда будет-то?— спросила жена Татьяна, наблюдавшая за ним. Наблюдала и посмеивалась: ну чисто малый ребенок, насобирал зернышек и рад, в мешочек попрятал, потом несколько раз на безмен цеплял. Чтобы десятину одну засеять, и то пудов двадцать надо. — Когда ж ты намножишь-то столько?
Каждому человеку свойственно желать скорого осуществления цели, быстрого завершения затеянного дела. И редко кому хватает терпения затеять то, что нескоро результат выкажет.
— А если делать я этого не буду, то что — месяцы и годы нашей жизни не пролетят? — спросил Терентий Татьяну. — Пролетят все равно, хоть делай что, хоть на печи лежи. Только в деле-то и заботах жить все же веселее. А что нескоро пшеничку эту намножу, так хлеб и тогда нужен будет, и чем больше его, тем лучше.
— А пользы-то от того, что больше?
С таким же упреком, имевшим свой житейский резон и отец к нему, бывало, обращался. Семена Абрамовича сокрушало, что сын не думает о выгоде, живет без хитрости — всю душу людям отдает, а надо бы и для семьи приберечь, о хозяйстве своем позаботиться.
Нет, не было у Терентия перед отцом никакой вины: ни грубого слова не сказал ему ни разу, ни поведением своим не опозорил его. И, когда ранней весной 1926 года отца не стало — умер от сердечного приступа,— на душу легла щемящая боль, будто оборвалось что-то: теперь он в роду самый старший, а значит, и немолодой уже, теперь его черед свершить все дела земные.
4
На пасху, когда вся деревня гуляла восемь хороших теплых дней, он опять ехал с бороной в поле — влагу в почве надо задержать, поторопить сорняки, чтобы проросли быстрее и чтобы до сева уничтожить их.
— Может, греха в том, что ты делаешь, а нет,— рассуждали теперь мужики,— однако когда и погулять, если не в престольный праздник?
И гуляли. В Иванов день мужики три дня из гостей в гости ходили, подвыпившими и развеселыми блуждали по деревне: отсеялись — можно и отдохнуть. А Терентий и эти три дня в поле работал — пахал пары.
— Зря ты, Терентий,— приставали к нему вечером пьяные мужики,— нет у тебя в жизни никаких радостей.
— Что это за радости, от которых голова болит? — отвечал Мальцев. — Я,больше радуюсь, когда пашу,— у меня пары будут хорошие...
Вспомнит Мальцев эти упреки через многие и многие годы. Вспомнит и скажет:
— Вся моя радость и печаль — в поле. Хлеб хорошо растет — я радуюсь, нет — печалюсь. Вот и стараюсь, чтобы печалей было меньше, а радостей — больше.
Каждый год надел его пополнялся все новыми сортами пшеницы. В 1929 году их уже было шесть. Совершенствовалась и агротехника. Все многолюднее становился кружок — сначала семь мужиков приходили к нему по вечерам, а теперь и по сорок пять набивалось в избу. Сорок пять хозяев работали на полосках своих так, как Терентий советовал.
Однако вышли они как-то воскресным летним днем в поле погулять, хлебами полюбоваться — хорошая эта привычка была прочной и будет забыта нескоро. Вышли и заспорили: мол, а много ли проку, что полоски наши засеяны отборными сортовыми семенами, если каждую со всех сторон теснят несортовые посевы других единоличников: вон сколько безродных колосков среди сортовой пшенички — с соседних полос залетели зерна. Ходят кружковцы, колоски эти выдергивают. Но все ли увидишь-распознаешь, все ли выдернешь? А не выдернешь — значит, сорт будет испорчен... Да и сорняки как ни вычесывай, а вон их сколько в пшенице, и опять потому, что полоски стиснуты такими же полосками других единоличников и сору на некоторых бывает больше, чем пшеницы,— долго ли семенам с этих полосок на соседние перекинуться? На какую тут удачу в землепашестве можно рассчитывать?
И исподволь зрела у Терентия Мальцева мысль: «Ни книги, ни журналы, ни советы агронома не могут изменить главного: полоски остаются полосками. А на полосках какое же семеноводство? Какая на них культура земледелия?»
В деревне все чаще заговаривали про артельное хозяйство. То тут, то там в округе создавались первые колхозы. Кружковцы по одному уже побывали в тех деревнях — посмотреть, поспрошать, что и как. И все чаще видели себя в такой артели, будто она уже создана: примеривались, приноравливались.
И сами свыкались с этой мыслью и других мужиков к ней подталкивали
Исподволь на деревне завязывались споры, кто с чем в колхоз войдет, если ои будет создан, как вместе хозяйствовать, коли одни хозяева с работниками, а другие с полным двором едоков.
Не думал Терентий об этом, а когда услышал, то забеспокоился: у него-то и есть такой двор, работник он один, а едоков порядочно: трое ребятишек — два сына и дочь — за подол Татьянин цепляются, да скоро четвертый родится. Правда, старшему Костьке уже восемь годков, еще малость подрастет — и тоже работник. А там и последыши к какому-нибудь делу начнут приноравлизаться, нечего им бегать зря по улице. Однако правы люди, и Костька и Савва с Анной когда еще ношу на себя взвалят (Aнна еще под столом елозит — два лета всего ей да Савве четыре). Вот и получается, что работник ни один, а хлеба из общего-то умолота на всех дай. Несправедливо получается
Это обстоятельство долго мучило его, мешало доводы свои высказывать в пользу коллективизации. Скажет да и спохватится: а не подумал ли кто, что к общему амбару с едоками своими он прилаживается? Ждал, смущаясь в душе, того дня, когда на сход всех кликнут. А что вот-вот кликнут, уверен был. И знал, что на сходе этом обязательно заговорят о колхозе.
5
Великий переломный день этот настал неожиданно, хоть и ждали его давно. Сошлись на доклад — исполнилась шестая годовщина со дня смерти вождя мирового пролетариата товарища Ленина. И вот, когда докладчик заговорил о заветах Ильича, о его кооперативном плане, то тут и спросили из зала:
— У нас-то когда колхоз будет?
А докладчик:
— Об этом вы сами должны подумать. Я одно скажу: Ленин учил, если мы будем сидеть по старому в мелких хозяйствах, хотя и вольными гражданами на вольной земле, нам все равно не избавиться от кулацкой кабалы, нищеты и невежества. Только коллективный труд на коллективной земле выведет трудовое крестьянство к зажиточной и культурной жизни, в которой достаток появится и досуг.
— Вот и кружковцы наши такие же мысли имеют,— подал голос Егор Коротовских. И словно сигнал подал.
Один за другим, другого поторапливая, высказывали крестьяне свои думы...
Трудно, ох как трудно было решиться выйти на новую дорогу, решиться на перемену, которая и подманивала и страшила! Сообща-то, ясное дело, идти легче и веселее, а ослабнешь или какая беда случится, есть на кого опереться. Однако будет ли весело, если ни коня на дворе не останется, ни земли своей? Не обольется ли сердце тоской по коню, по земле, на которой ты сам себе и агроном, и работник, и хозяин, и никому подчиняться не надо, потому что один-единственный над тобой начальник, пусть и суровый,— матушка-природа?
Трудно, тяжко было лишаться того, что годами, жизнью всей наживалось. Сколько сил и души на ту же лошаденку было потрачено, чтобы выходить ее, сколько пота было пролито, чтобы полоску свою удобрить, возделать. И вот теперь надо отказаться от всего этого и начать жить, работать как-то иначе, со всеми вместе: и с работником, и с лодырем, и с выпивохой.
За всю историю землепашества не было, пожалуй, такого мучительного для крестьянина вопроса: не во двор привести животину, а со двора увести, не прибавить к наделу лишнюю десятину, а весь надел отдать под общую запашку.
И все же кружковцы, самые авторитетные в деревне землепашцы, были убеждены: так будет лучше. И все сорок пять человек, все, как один, в тот же торжественный час 24 января 1930 года записались в колхоз «для совместного труда на общей нашей земле». И здесь же решили в память о вожде трудового народа назвать артель «Заветы Ленина».
На первом же учредительном собрании колхозников, чтобы ясность внести, Терентий Мальцев сказал:
— Не пеняйте мне, товарищи, что едоков в моем дворе много. Это так. По у меня две лошади, я их в колхоз отдаю. И отдаю все шестнадцать пудов пшенички нового сорта, которую, сами знаете, я размножать начал с нескольких колосков и берег каждое зернышко. А еще обещаю, что дети мои, когда подрастут, долг семьи отработают сполна...
— Не о том ты сейчас говоришь, беспокоишься,— прервал его Егор Коротовских. — Нам нужнее будут не руки твои, а голова, и хотим, чтобы ты стал хозяином всей земли колхозной, полеводом.
— Я согласен, если народ доверяет.
— Доверяем. И вручаем тебе наше самое ценное богатство — землю. Содержи ее в чистоте и почете, заставляй из года в год родить все больше хлеба, очищай ее от сорняков и не давай им угнетать наши колхозные посевы...
Наказ этот, высказанный Егором Коротовских от имени односельчан, запомнит Мальцев на всю жизнь. И всю жизнь будет свято исполнять его.
На плечи ложилась большая и тяжелая забота — нести ответственность за урожай на широком колхозном поле. Еще вчера за свои ошибки он расплачивался только сам. Теперь любая его оплошность скажется ка всех односельчанах. Значит, надо учиться хозяйствовать наверняка.
Должность эта станет для него университетом, в котором самый старший экзаменатор — матушка-природа, то добрая и щедрая, то безжалостно скупая, мучащая земледельца невзгодами — дождями, когда они не нужны, или сушью, когда нужны дожди.
6
Весна 1930 года выдалась на редкость ранняя, словно истомилась ожиданием, словно и природе не терпелось испытать, что же будут делать эти люди, еще прошлым летом работавшие каждый сам по себе. А сегодня они свели из двухсот дворов в общую конюшню 260 лошадей с жеребятами, свезли на общий двор весь инвентарь, который в складчину и на кредиты был куплен в двадцатых годах,—13 конных сеялок, 15 жаток, 9 молотилок, четыре веялки, десятка четыре самодельных лапчатых борон, выкованных сельским кузнецом Евтифием Иониным по образцу, изготовленному для Терентия Мальцева еще к весне двадцать второго года.
Люди эти уже перемерили всю землю — насчитали 2318 гектаров пашни да 400 гектаров луга. Терентий Мальцев составил план сева со всеми агротехническими мероприятиями. План этот колхозники так строго обсуждали, что полеводу еще до наступления тепла жарко стало. Сначала на заседании правления, потом на общем собрании. Согласились: с севом не торопиться, но перед тем надо пробороновать все поля, чтобы овсюг пошел в рост скорее, уничтожить его, а уж после и зерно в землю бросать.
Рушились, перепахивались межи, те нерушимые грани, которые веками отделяли мое от твоего. И было поначалу чуть-чуть жутковато трогать их плугом — будто что-то недозволенное совершаешь. Жутко и озорно: ни моего, ни твоего нет, есть широкое поле от леса до леса.
Навсегда запомнит Терентий Мальцев эту весну.
— С каким усердием и наслаждением наши колхозники принялись обрабатывать свою землю, очищать ее от сорняков! Работали так, будто соскучились по артельной дружной работе,— расскажет он через годы своим молодым слушателям, внукам тех, кто был с ним на том весеннем поле в 1930 году.— Крепко поддержали они меня, когда недальновидные представители района пытались заставить нас сеять пшеницу, пока не был еще проращен и уничтожен овсюг...
Вести из села Мальцево не на шутку встревожили и переполошили в районе многих: ну как же, все колхозы уже отсеялись, а в «Заветах», оказывается, даже не начинали! В переполохе родилась догадка: это враждебная выходка кулацких элементов, заручившихся круговой порукой. Разобраться, выявить, пресечь, мобилизовать сознательную часть колхозников на ударный сев — с таким поручением срочно снарядили в Мальцево наряд милиции из пяти человек.
Ехали они туда и представляли: все мужички сидят сейчас по избам или на своих огородах копаются. Кулаки заступили им дорогу в поле, с ума-разума сбивают. И уже рисовали в воображении, как будут докапываться до зачинщиков саботажа, как поднимут мужиков на ударный сев — день и ночь будут они у них сеять.
Однако в деревне никого не обнаружили, кроме малых ребятишек да стариков,— ни в избах, ни на огородах. «В поле»,— сказывали все. Сговорились, что ли? Зашли в сельсовет — никого. В правлении колхоза — ни души. Ладно, в поле поехали, в ту сторону, куда ребятишки указали: им больше веры, чем старикам.
— Ага, вон они, что-то и правда в поле делают. Может, сеют все же? — Присмотрелись: нет, не сеют, боронят.
Колхозники тоже завидели их. Завидели и встревожились: не приключилось ли чего?
Вышел к дороге гостей встретить Иван Никоновнч Коротовских, избранный колхозниками председателем. Он, недавно вернувшись с военной службы, и сегодня еще ходил в красноармейской гимнастерке, а если бы не теплынь, если бы чуть прохладой дохнуло, то и шинель непременно была бы на нем, а на голове буденовка со звездой — и то и другое лежало где-то под кустом. Всем своим видом, лихим и бравым, он как бы говорил: «Мы начали важное дело, нам и увенчать его победой». Победа виделась близко, ожидалась с первой же жатвой.
Но разговор председателя с милиционерами что-то явно затягивался и становился все громче: спорили о чем-то. Потом увидели колхозники, как Ивана словно бы в сторонку отставили, а на разговор позвали тех, кто ближе к ним работал. Если уж так, то всем пора пошабашить, все равно обед скоро.
Сошлись к котлу, у которого бабы кашеварили. Тут телеги стояли, сбруя лежала — так что есть, где присесть.
Однако супится, молчит председатель, будто слова его лишили, а лишить его слова, мужики хорошо это знали, еще никому не удавалось. Худо, значит, дело.
Тут и милиционеры к табору подошли и давай строжиться: почему да отчего? В других деревнях, в таких-то и таких, уже успешно отсеялись, а вы что ж удумали? На саботаж шагнули в связи с сопротивлением классового врага?
Говорят, а сами на Терентия Мальцева исподлобья поглядывают, будто дюже интересно им знать, что он там в телеге ищет, зачем в сумку полез.
Зашумели, засмеялись колхозники:
— Мы-то думали, случилось что. А раз не случилось, то и беспокоиться нечего, товарищи милиционеры, поезжайте делать свое дело, а мы свое знаем, отсеемся к сроку.
— Какой же срок, если другие отсеялись? — не отступали приезжие.
— А у нас свой срок, в этом деле нам другие не указ.
Тут все были хозяева, знавшие, что и как надо делать, чтобы с урожаем осенью быть. Не смутить их, не сбить с толку. И полевод Мальцев, достававший из сумки план агротехнических работ, был благодарен им за это упорство, за то, что не отступились. Не он оправдывался, а они объясняли уполномоченным, почему это делается так, а не эдак. И про влагу объяснили, и про сорняки, и что поздние посевы лучше переносят сухое лето. Он был благодарен им за крепкую эту поддержку и за понимание. Нет, не зря отдавал столько времени занятиям в кружке.
Милиционеры, выслушав лекцию по агротехнике, в план заглянули, по полю походили, земельку в охотку поборонили, а когда поборонили, то поняли, согласились, что резон тут есть, что урожай при такой подготовке будет, пожалуй, получше. Уехали.
Босиком, с сумкой через плечо, в которой рядом с планом посевных площадей лежала книга по агрономии и тут же — в тряпицу завернутая горбушка хлеба да бутылка молока, бегал по полям Терентий Мальцев, поспевая всюду: где пашут, где боронят, а где уже и сеют — везде надо поспеть. Председатель велел лошадь ему оседлать, но он отказался:
— Что я буду, как барин...
Чаще всего — по нескольку раз на дню — он наведывался на опытное поле, под которое общим решением отвели его бывший собственный надел: там земля получше ухожена и от сорняков очищена.
— А нужно ли? — усомнились было члены правления, когда Терентий сказал, что в плане посевных площадей надо выделить участок для опытов.
— Да как же не нужно? — удивился такому вопросу Мальцев. В таком большом хозяйстве не иметь опытного поля, если даже на единоличном наделе он выкраивал место для опытов!
— На нем мы будем проверять и размножать новые сорта, испытывать разные приемы агротехники, проверять опыт, который почерпнем у других. А если будем ждать, когда другие все сделают и нас научат, то нескоро мы дойдем до зажиточной жизни...
И убедил. Здесь, на опытном поле, он и высеял все шестнадцать пудов сортовой пшенички, которую размножил в единоличном своем хозяйстве. И вот теперь она уже заняла полтора гектара.
Здесь он будет ставить опыты с разными сроками сева и искать объяснения полученным результатам.
Правда, на собраниях снова и снова заговаривали о том, что полевод своими затеями только загружает колхоз добавочной работой, зря расходует трудодни. Мальцев хоть и кипятился, но понимал: он делом должен доказать, что траты эти не напрасны убедить колхозников урожаем. А колхозники в ту пору еще не научились перекладывать всю заботу о хозяйстве на председателя и на правление, не только не молчали, но и шумели, когда видели: в общем хозяйстве что-то делается не так, что-то можно сделать иначе, с большей пользой.
Мальцев ждал жатвы: только она подтвердит или опровергнет все его действия. И первая же жатва выдвинула колхоз «Заветы Ленина» в одно из лучших хозяйств округа. Собрали стопудовый урожай пшеницы с гектара! В два раза больше, чем другие колхозы. Никогда еще не бывали и мальцевские крестьяне с таким хлебом. Даже старики не припоминали такого умолота. Бывало, конечно, что на отдельных полосках намолачивали и поболее, но чтобы на круг столько, чтобы все полоски так уродили,— нет, не было такого.
Колхозники получили на трудодни столько зерна, что многим хватит его не на один год. По пятьсот — шестьсот пудов получали.
На районной выставке «Заветам Ленина» присудили первую премию, подарили племенного быка и породистого жеребца.
Терентия Мальцева отличили особо — вручили путевку на Омскую опытную сельскохозяйственную станцию: поезжай, посмотри, поучись, может, что еще позаимствуешь.
Он, конечно, поедет, но сейчас надо поразузнать, почему колхозники соседних сел в два раза меньше намолотили. Неужели потому, что рано посеяли?
— Сеяли-то мы рано,— признался ему один собеседник,— а вышло, что поздно.
— Как так?
— А так. Пересевали многие поля — окаянный овсюг все ранние посевы задушил.
Жена, поругивавшая когда-то Терентия за невнимание к собственной выгоде, в чем и сам он признавался («Никто в деревне Мальцево не растил хлеб лучше меня, и никто не выручал за него меньше меня...»), теперь вспоминала о той поре не без сожаления. Пусть не было никакого дохода от его стараний, но дома чаще видела мужа. А теперь и возвращался затемно и уходил чуть свет, так что и дом, и дети, и подворье с коровой и птицей, и огород — все было на ней и детях. А на нем — колхозное поле и все заботы об урожае.
Лелеял он тайную мечту — самому научиться сорта новые выводить! Запала она ему, когда в каком-то журнале прочитал статью о научной и практической работе двух самородков — исследователей природы: американца Лютера Бербанка и соотечественника Ивана Владимировича Мичурина. О Мичурине он слышал и раньше, но слух этот не тревожил его воображение. А тут, прочитав, размечтался: вот бы с кем встретиться, поговорить! Нет, даже не поговорить,— станет ли знаменитый на всю страну человек беседовать с ним, полеводом колхозным,— только повстречаться, повидать.
Высказал он однажды это желание председателю: мол, вот управимся с весенне-полевыми работами, буду просить колхозников, чтобы разрешили к Мичурину съездить, очень уж дело он интересное затеял.
— А что ж, отсеемся — и поезжай,— ответил председатель. Как показалось Мальцеву, ответил шутки ради. Ну, в самом деле, что он поедет к человеку, который не хлеб растит, а сады? Не пустят колхозники и будут нравы, нечего зря деньги тратить, от работы отрываться. Так что желание это казалось ему из тех мечтаний, которые живут в душе вовсе не для того, чтобы когда-нибудь сбыться. Просто греют они человека, на мысли настраивают, на дело побуждают.
Однако председатель слова свои помнил и, как только отсеялись, на первом же собрании предложит командировать полевода Терентия Семеновича Мальцева в город Козлов к знаменитому ученому Мичурину «за познаниями в деле преобразования природы и выведения новых сортов, которые будут служить прокормлению трудового народа».
Отсеялись в ту весну тридцать первого года хорошо и вспахали ко времени, и пробороновали, и семена заделали в чистую почву и к сроку, поэтому колхозники были настроены благодушно и щедро — пусть едет.
Насушив котомку сухарей, Мальцев во второй половине июня собрался в дорогу. Сел в поезд — и заволновался так, хоть возвращайся. Смотрел в окно на поля и леса, на деревни по зеленым косогорам, а думал о встрече: что он скажет знаменитому ученому, о чем заговорит с ним? И чем больше об этом думал, тем больше волновался.
В Козлов поезд пришел под вечер. Переночевав в шумной и людной заезжей, Мальцев чуть свет отправился посмотреть хотя бы издали на дом и сад, где живет и работает человек, которого знала вся страна.
Вышел Терентий рано, городок еще спал, редко у какого двора встречался человек с метлой, который и указывал путь Мальцеву. Он уже знал, что это не дворники, а хозяева заботятся, чтобы у дворов было чисто и прибрано, когда люди на улицу выйдут. «Хороший, значит, народ тут»,— отметил Терентий про себя и все больше проникался уважением к жителям городка и за это старание и за то, что рядом с ними живет такой человек. Останавливался, разговаривал, дальше шел и уже знал, что к Ивану Владимировичу каждый день едут, что и сегодня пришли несколько человек с московского поезда и что они или паромчика у реки дожидаются, или в саду перед домом сидят, стерегут, когда Мичурин выйдет на прогулку.
«Ну и хорошо, что не одни»,— подумал Мальцев, еще издали завидев группу людей на берегу реки — человек двенадцать. Все из Москвы приехали, уверенные и шумливые,— покрикивали ка мальчишку, сонно и неторопливо подводившего к берегу дощатый паромчик.
Переправились. Вошли в сад, где перед домом была беседка. Тут и сели.
Мальцев чувствовал себя неловко: так-то вот располагаться в чужом саду, кому такое понравится? И вовсе уж нехорошо было, что некоторые порывались громко о себе заявить.
«Не отойти ли от них?» Только подумал так Мальцев, как на садовой тропе увидел седобородого старца в широкополой соломенной шляпе, в белом кителе и таких же брюках. Перед ним бежала белая собачка. Старец шел за ней опираясь на тросточку. Именно таким и знали Мичурина по фотографиям в газетах и журналах.
Все встали. Но Иван Владимирович прошел мимо, ни на кого не глянув, не остановившись.
Мальцев так будет вспоминать эту встречу:
«Кто-то окликнул его:
— Иван Владимирович!
Мичурин остановился.
— Что надо?
— Мы к вам, Иван Владимирович.
— К нам? А что вам от нас нужно?
— Ваши труды приехали посмотреть...
— Посмотреть? — переспросил он ворчливо. — А чего вы не видели? — Потом: — Откуда вы?
— Мы из Москвы...
— Бездельники, сами не работаете и нам мешаете. — И пошел дальше. Потом остановился и спросил:— А колхозники среди вас есть?
Я вышел и говорю:
— Вот я колхозник.
— Колхозник?
Вернулся, подходит к нам.
— Какой области будете?
Я сказал. В то время мы входили в Уральскую область, объединившую Екатеринбургскую, Пермскую, Челябинскую и Тюменскую губернии.
— Вот колхозник посмотрит наши работы, вернувшись домой, что-нибудь у себя сделает. А вы что можете у себя в Москве сделать? Разгуливаете только да нас от дела отрываете.
И Мичурин взял меня с собой, а остальных водил один из сотрудников».
Долго они ходили по берегу речки Лесной Воронеж, по саду, на селекционно-генетической станции побывали. Иван Владимирович расспрашивал, рассказывал, показывал. А когда расставались, сказал:
— Вы приходите и завтра. Только не стойте вместе с этими праздношатающимися. Они на всякую знаменитость смотрят, как на диковинку, а то и на вещь. Вещь приобрести стараются, а знаменитость — увидеть, чтобы выхваляться потом...
Восемь дней пробыл Мальцев в гостях у Мичурина. Не все понимал, да и робел, однако напутствие запомнил крепко.— Умный земледелец, если он успеха хочет добиться обязательно должен наблюдать живую природу, чтобы понять ее закономерности и потом разумно, в согласии с ними, хозяйствовать на земле-матушке,— сказал ему Иван Владимирович и посоветовал: — Присмотритесь, если поздние посевы у вас действительно лучше удаются, то это не случайно. Ответ ищите в условиях климата. Найдете ответ — большую пользу людям принесете...
7
А дома его ждала беда. Едва поезд перевалил за Урал, как дохнуло такой душной жарой, от которой даже непоседы воробьи норовили в тень поскорее укрыться,— в кусты прятались, под вагоны на станциях, тяжело дыша раскрытыми клювами.
И всюду один и тот же разговор — о засухе. Кто постарше, вспоминал 1891 год, кто помоложе — 1901-й. А уж 1911 и 1921 годы никто еще забыть не успел. Толкнулась мимолетная мысль: «А получается-то, что каждое новое десятилетие с засухи начинается?»
За окном мучались, страдали выгоревшие нивы — никакой дождь их уже не спасет. А до чего зелеными были они всего полмесяца назад! Какой хороший урожай сулили! Как же все переменчиво и непредсказуемо в природе...
Сойдя с поезда, Терентий не стал искать, дожидаться попутной подводы, а, разувшись и перекинув ботинки через плечо, зашагал скорее в село. Шел и казнил себя, что уехал, когда тут такая беда.
Пришел, отдал жене котомку с гостинцами: «Сами разберетесь, кому что». Поменял штаны да рубаху — подался в поле.
Через несколько часов, когда его встретит председатель, он уже будет знать, где какие хлеба. И с облегчением скажет:
— Даже самые плохие все же лучше тех, что по пути домой видеть довелось.
Особую радость доставили ему поля, засеянные размноженной пшеницей «цезиум». Давно ли держал он в руке всего горстку семян этого неведомого сорта, и вот уже на восемнадцати гектарах колосится, наливается крупным зерном. Будет, будет что молотить!
То была радость человека, вернувшегося издалека, успевшего истосковаться по родимому полю, иа котором наперекор зною наливаются хлеба.
Он еще не раз обежит свои владения, постоит на меже, отделяющей поля соседнего колхоза, и задумается: почему же поздние посевы лучше переносят эту страшную беду — засуху? Что это так, Мальцев больше не сомневался.
Земледелец не знает, какими будут весна и лето, да и будет ли когда-нибудь знать — неизвестно. Один у него выход — не возлагать надежд на благодатное лето. Поэтому и ученые советовали ему быть проворнее весной. Мол, если всю весеннюю влагу использовать с толком — хороший урожай наверняка получишь.
Однако практика зауральского земледелия опровергала эту логику.
И Мальцев задумался. Чем засуха губит хлеба? Нехваткой влаги в почве и избытком тепла в воздухе — это ясно каждому. Значит, чем раньше посеешь, тем раньше начинают расти и развиваться хлеба, тем раньше они израсходуют почвенную влагу и тем дольше потом будут жить в нужде, притом в самый ответственный для них период роста и развития.
Истощают их и сорняки, которые при раннем севе нельзя уничтожить никакой предпосевной обработкой,— они не успевают прорасти. Вот в таких трудных условиях растения спешат завершить свой цикл жизни и скорее выколоситься. Они «выхолащиваются». И никакие дожди, которые прольются в конце июня или начале июля, уже не смогут поправить их. В результате плохой урожай. А причиной тому — ранний посев.
Но можно ли использовать июньскую жару себе на пользу? Да, можно. Тепло само по себе не враг — друг растениям, но лишь при наличии влаги в почве. Где ее взять? Задержать и надежно сохранить ранней обработкой весеннего поля. Задержать и сохранить для более позднего сева, чтобы обеспечить посев влагой на весь период засухи.
Так пришел Терентий Семенович Мальцев к убеждению и доказательству, что многие приемы земледелия, за которые и наука заступалась, противоречат «нраву местности». В Зауралье, где жарко в июне, нельзя сеять ни в конце апреля, ни даже в начале мая, какая бы ранняя весна ни выдалась. Сеялки надо выводить в поле только в середине мая. В этом случае накопленной в почве влаги, если в мае она не расходовалась и напрасно не терялась, если сорняки перед севом были вовремя уничтожены, хватает всходам на весь жаркий июнь. Влага в почве есть, и ею будут пользоваться теперь лишь культурные растения, тепла в воздухе достаточно, что и надо всходам для хорошего роста. А в июле пойдут живительные дожди, и именно в эту благодатную пору молодые хлеба начнут колоситься. Теперь уже ничто не помешает им завязать крупный и полный колос.
Правда, случается, что июль не приносит дождей, как было в 1931 году. Но все же и при такой длительной засухе колхоз намолотил по сорок пудов с гектара. Никто в округе не собрал столько. Это подтверждало, что и при засушливом июле поздние посевы выигрывают, так как сорняков на полях нет: их до сева успели уничтожить, чего при ранней посевной не сделаешь.
Так доказал Мальцев — и подтвердил доказательства свои урожаями, — что засуха губительно действует на урожай только тогда, когда с ней не считаются.
Теперь он, овладев причиной, имел право сказать гордо: действовать на земле можно наверняка! Но лишь тогда ты станешь хозяином положения, когда научишься понимать действия естественных сил на урожай.
...По вечерам, когда деревня отходила ко сну и погружалась в темноту ночи, огонек светился лишь в одном оконце. В избе, осевшей чуть набок, человек, овладевший грамотой «самоуком», постигал труды корифеев отечественной науки. Перед ним лежали сочинения Тимирязева, Менделеева, Мичурина, Костычева.
Каждый месяц в эту избу почтальон приносил множество агрономических журналов, и вряд ли кто из подписчиков прочитывал их внимательнее этого человека. Он искал в них знания и пути для новых поисков. Попадались в журналах и статьи знаменитого в те годы Вильямса, однако взгляды этого ученого вызывали в нем несогласие, и он надолго отложит труды его, о чем сильно пожалеет позже.
8
Егор Коротовских, один из первых кружковцев, в поисках Терентия Семеновича объездив чуть не все поля, а встретил его лишь в сумерки, когда тот домой шагал.
— Беда, Терентий Семенович, забрали у нас нашу пшеничку. Приехал уполномоченный из района, увидал ее в амбаре и велел на подводы сгрузить — в счет хлебопоставок.
Мальцев не поверил, к амбару побежал. Пустой...
В нем хранили ту самую пшеницу, которую из Ленинграда прислали. Она уже около ста гектаров занимала. Ее и молотили и веяли отдельно, а потом и засыпали в отдельный амбар — на семена, на дальнейшее размножение.
— Давно увезли? — едва вымолвил Мальцев.
— Да часа четыре, как подводы ушли, так что уже к Шадринску подъезжают, должно быть.
До Шадринска неблизко, больше двадцати километров...
Там, на подводах, та пшеничка, которую он лелеял столько лет, размножая из считанных зернышек. Семена нового сорта, надежда его и гордость; вот пройдет еще два года — и колхоз не только свои поля засеет, но и другим хозяйствам продавать будет! Это значит, страна станет получать дополнительно не одну тысячу пудов хлеба!
Когда он добежал до Шадринска (больше двадцати километров!) и проник на территорию приемного пункта — вход в него охранялся, — колхозники уже разгружали последние подводы. Куда? Нет, не в общую кучу, а в свободный сусек. Вздохнул с облегчением Мальцев: не перемешана его пшеничка с другим зерном, чего он больше всего боялся. И от одного этого испытал такую радость, такое облегчение, что сел и тихо заплакал. Сейчас он был самым счастливым человеком на земле.
Тут лежало около четырех тысяч пудов пшеницы, на размножение которой этот заплакавший от счастья человек, имевший поначалу всего пригоршню зерна, потратил шесть лет жизни. Этой пшеничке суждено будет занять в Зауралье тысячи гектаров зернового клина и кормить народ в самую тяжкую годину, когда грянет война.
Однако радость опять сменилась беспокойством: надо что-то делать, чтобы выручить пшеничку, чтобы не перемешали ее, не отправили на мельницу.
Оставил он на охрану своих колхозников, а сам в райком побежал.
Была уже глубокая ночь, в такую пору никого, конечно, на работе не бывает, но Мальцев осознал это лишь когда райкомовский сторож, потревоженный стуком в дверь, обругал его, «глупого мужика». Вот беда! И до утра ждать никак нельзя, могут выдворить колхозников со склада, а уж тогда-то, без присмотра, случится непоправимое. Выложил Мальцев тревогу свою сторожу: две головы получше одной. Тот подумал, покряхтел да и указал домашний адрес секретаря райкома: мол, беги к нему — заругается не заругается, а все лучше, чем сидеть тут.
В полночь отыскал Мальцев квартиру секретаря райкома. Неловко, да что поделаешь — начал тихо постукивать в дверь, громко не решался. Постукивал и прислушивался, не идет ли кто открывать. Кажись, идет кто-то...
Выслушал его секретарь — спасибо ему, доброму и заботному человеку,— оделся тут же, и они двинулись по спящему городу на элеватор.
— Пожалуй, без документов не вернуть нам зерно,— объяснял ситуацию секретарь. — Что на элеваторе, то уже государственное. Так что надо сначала позаботиться, чтобы сохранили его, никуда не отправили и ни с каким зерном не перемешали, а уж потом и думать будем, как колхозу вернуть.
— Ладно, пусть так. А как быть дальше — утром покумекаем...
Всю ночь пересыпали колхозники свою пшеничку в отдельный угол, надежно отгородили ее щитами и только тогда поехали домой. На дворе уже занималось утро.
А Мальцев опять в райком побежал. Однако сколько там ни думали, кому только ни звонили и какие ни приходили на ум хитрости, а всякий раз одно и то же получалось: вернуть колхозу оприходованное зерно элеватор не может, нужно специальное распоряжение области.
— Значит, надо кому-то в Свердловск ехать,— посоветовал секретарь, перебрав все возможные пути решения проблемы.
Вот ведь как бывает. Заварил кашу рядовой уполномоченный, а чтобы расхлебать ее теперь, надо в областные организации за помощью обращаться.
В тот же день Мальцев с письмом отправился в Свердловск, в Уральский облисполком. Он не мог доверить заботу о семенах никому другому. Да, признаться, никто другой и не пытался взять на себя эти канительные хлопоты, никто не чувствовал такого беспокойства и такой неотступной готовности достичь цели. Так что если бы кто и поехал, то наверняка вернулся бы ни с чем. Ну кто бы стал, получив отказ в одном кабинете, стучаться в другой, и в третий, и в четвертый?
Из какого по счету вышел Мальцев, он и сам уже не знал, да и не думал об этом. Вышел с распоряжением вернуть колхозу всю семенную пшеницу до зернышка...
Весной она заняла четыреста гектаров. А еще через год колхоз «Заветы Ленина», став одним из первых в стране семеноводческих хозяйств, поставлял государству первоклассные семена пшеницы, сорт которой на многие годы станет самым урожайным в Зауралье.
И когда из редакции только что созданного журнала «Колхозник» пришло Мальцеву письмо с просьбой написать статью про опытничество, а он, никогда до этого не писавший ни в газеты, ни в журналы, от предложения такого захочет отказаться, то председатель даст ему дельный совет:
— А ты не придумывай ничего, расскажи, как опыты начинал, как бегал пшеничку выручать. Пусть все знают, что ничего не дается без борьбы.
Мальцев так и поступил. Не собой хвалился, а делился опытом, звал к поиску других.
В Москве рукопись его прочитал Максим Горький, принимавший активное участие в создании журнала «Колхозник». Он же и выправил ее и приписал в конце статьи: «Вот как растут у нас люди, полезные Родине!»
При перепечатке правленого текста машинистка решила, что словами этими должна заканчиваться статья, и напечатала их.
Так и вышел первый номер журнала со статьей зауральского колхозника Терентия Мальцева, завершавшейся неловкой для него фразой, будто взял да и похвалил сам себя. Она долго будет смущать его, до тех пор, пока не узнает историю ее появления. А узнав, будет тихо гордиться этой горьковской строкой в первой своей статье.
Глава четвертая
1
Тридцатые годы... Они войдут в историю уверенной поступью первых пятилеток, пробудивших страстную жажду преобразований. Это было время, когда граждане России проникались дерзновенным духом познания и постижения тайн природы, еще недавно почитавшихся божьим промыслом.
«Человек! Это — великолепно! Это звучит... гордо!»— сказал любимый своим народом пролетарский писатель Максим Горький. Слова эти возвышали строителей нового мира, они выражали нравственный облик всей нации, гордо заявившей устами другого своего великого соотечественника Ивана Владимировича Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача».
«Возьмем!»—заявляли решительно уверенные сограждане. И в делах своих были порой нетерпеливы и торопливы. Но уже знали и вслед за великим сыном русского народа Михаилом Ломоносовым повторяли: «Испытание натуры трудно... однако приятно, полезно, свято. Чем больше таинства ее разум постигает... Чем далее рачение наше в оной простирается, тем обильнее собирает плоды для потребностей житейских».
Но ближе всего им были слова вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, именем которого называли первые стройки, первые колхозы и совхозы социалистической державы:
«Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая тем свою власть над ней...»
Слова эти как завет любимого Ильича выписывали на плакатах, которыми украшали стены хат-лабораторий, создававшихся опытниками во многих и многих деревнях обширной страны. Пусть и малы были эти лаборатории, однако именно они становились для колхозного крестьянства практической и теоретической школой по овладению агрономическими знаниями. Именно они послужили толчком к массовому развитию опытничества, которое принесло богатые плоды «для потребностей житейских». Эти опытники на своих делянках проверяли и размножали новые сорта культур, дающие наиболее высокие урожая при местных условиях. Это они на практике проверяли рекомендации ученых и вносили творческое начало в нелегкий труд земледельца. И их по праву величали «разведчиками» высоких урожаев.
Первым среди них уже в те годы называли Терентия Мальцева, имя которого все чаще мелькало в газетных н журнальных статьях. Его приглашали на научные совещания в Омск, Ленинград и Москву. О результатах своей опытной работы он рассказывал на научном совете всемирно известного ВИРа — Всесоюзного института растениеводства. Того самого института, который в 1927 году (тогда он назывался Институтом прикладной ботаники) прислал ему, зауральскому опытнику-единоличнику, 200 граммов семян нового сорта пшеницы.
А поделиться Мальцеву было чем. В 1934 году на его опытных делянках испытывалось больше двух десятков сортов пшеницы, полученных из разных районов страны. На делянках сеял он сою и сорго, чечевицу и фасоль, бобы и кукурузу — культуры в здешних краях новые, ранее не возделывавшиеся Многие из них вскоре распространятся на полях Зауралья, а бобы и фасоль прочно приживутся на огородах, будут крепко поддерживать в суровую годину войны.
Здесь, на коллекционном участке, Мальцев заложил первые свои опыты по искусственному скрещиванию растений. «Учился держать в огрубевших руках своих пинцет»,— скажет Мальцев позже. Сам учился и добровольных помощников учил: девчонки из деревенской школы овладели пинцетом и быстрее и лучше наставника. Вместе с ними он «оперировал» цветущие колоски, пеленал их марлей, чтобы не опылялись сами.
«Оперировал» и не верил, что из этого выйдет толк. Не верил до тех пор, пока не увидел на стеблях пшеницы колосья новой формы. И они одарили его несколькими десятками зерен первых гибридов.
Над ним подшучивали: ну подумаешь, горсть зерен вырастил. Насмешки эти задевали и обижали. Поэтому, выступая на районном совещании опытников в том же 1934 году, он сказал, заступившись за всех испытателей природы:
— Над нами часто посмеиваются. Мол, что это за занятие для взрослого человека — возиться с горсткой семян, с крохотными деляночками и узенькими полосками. Близорукие люди! Они не понимают, что в этих горстках, в этих пакетиках — будущее наше благополучие...
И мог бы добавить: это на узеньких полосках начинал создаваться нынешний урожай колхоза «Заветы Ленина», который в тот год почти вдвое перевыполнил задание по продаже зерна государству — свез на элеватор более семи тысяч центнеров пшеницы, а на полученную прибыль купил две полуторки. Не остались в накладе и колхозники: каждый из них получил по семь килограммов зерна на трудодень! Нигде в округе труд земледельца еще не вознаграждался так весомо.
В этом была и его немалая заслуга. Отчитываясь о проделанной работе, он имел право сказать колхозникам: «Наказ, который вы мне дали при избрании полеводом, я исполняю свято». И когда речь зашла о выборе делегатов на Второй всесоюзный съезд колхозников-ударников, который соберется под сводами Кремлевского дворца в феврале 1935 года, земляки назвали в одни голос Терентия Семеновича Мальцева.
В Челябинске сели в поезд...
— Дали нам хороший плацкартный вагон,— рассказывал потом Мальцев. — А чтобы не скучали в дороге, приставили для проведения культурно-массовых мероприятий паренька, заведующего клубом Челябинского тракторного завода. Невзрачный на вид и одет не шикарно, но что же он с нами сделал в эту поездку! После десяти часов вечера нам разрешали занимать вагон-ресторан. Убирали столы — и ресторан делался клубом, в котором и работал с нами этот паренек. Он мог и слово найти, задушевное, веселое и политическое, и на гармошке сыграть, и сплясать. Как пойдет с молодыми, так и пожилые не выдерживают, сидят, а плечи у них так и ходят. А когда со съезда возвращались, то жалко было расставаться с нашим клубачом, и все благодаря ему чувствовали себя родными...
Мальцев долго будет вспоминать эту поездку и клубача с ЧТЗ. Пройдет почти четыре десятилетия, и он, разговаривая с молодежью конца шестидесятых годов, расскажет об этом пареньке.
— Таких людей надо бы сейчас намного больше, чем их есть. Таких людей, по моему мнению, обязаны мы разыскать, где бы они ни были: в поле или на заводе, в учебном заведении или в учреждении, разыскать, создать им хорошие условия и направить для непосредственной работы с молодежью. Не пожалеть на это дело государственных средств и государственной заботы.
И задумчиво добавит:
— Раньше нам думалось: темнота, люди малограмотные, и потому трудно их воспитывать. А теперь видим, что и темных нет, и не просто грамотных, но и образованных очень много, а воспитывать их еще труднее и еще нужнее. И надо больше говорить с народом о воспитании внутреннего человека, о приучении смотреть в себя, быть непринужденно откровенным в большом и малом...
На съезд колхозников-ударников собрались лучшие представители крестьянства и агрономической науки. Многих из них уже знала вся страна. Себя Мальцев к ним не причислял и поэтому очень удивился и оробел, когда при обсуждении проекта Примерного Устава сельскохозяйственной артели именно ему предложили выступить и поделиться мыслями своими о колхозном опытничестве. И он, волнуясь, поднялся на трибуну.
Конечно, опытник нужен в каждом колхозе. Именно он, опытник, должен заниматься изучением местного климата, всех тех условий, которые прямо или косвенно влияют в данном хозяйстве на урожай. Именно опытник должен составить «историческую справку»: в какое время года чаще всего бывали засухи, когда выпадало больше всего дождей, когда случались весенние и осенние заморозки. Такая справка очень нужна. Зная прошлое, земледельцу легче ориентироваться и в настоящем Ему легче будет выработать систему земледелия, наиболее эффективную для данного района и хозяйства, подобрать наиболее пригодные сорта тех или иных культур. Нужно только найти такого человека, который бы понимал важность этого дела и твердо стоял на страже правильного ведения земледелия. И чтобы человек этот увлекал за собой других, пробуждал жажду творчества на земле.
2
Возвращался Мальцев домой с увесистой пачкой книг.
— Если вы всерьез хотите заняться наукой,— услышал он на съезде,— то начните с самого трудного, с изучения основ диалектического материализма. Только не отчаивайтесь и не отступайте, если не поймете. Читайте снова, перечитывайте помногу раз, пока не докопаетесь до смысла. А поймете, научитесь отличать истинные пути в науке от ложных...
Упаковывая книги, продавец изредка посматривал на покупателя, который, переминаясь с ноги на ногу, то прятал, то снова доставал бумажку со списком. Улыбнувшись, он сказал ему.
— Вот и еще одна чужая забота с ваших плеч долой. Все купили, что поручено.
Продавец не сомневался, что приезжий человек в поношенном долгополом пальто и в валенках — по всем признакам из деревни — берет их не для себя.
Как бы поразился продавец, за многие годы научившийся безошибочно определять любого покупателя по одному лишь его взгляду на книги, если бы увидел этого крестьянина читающим труды классиков марксизма? А может быть, усмехнулся бы: «Ну зачем ему эти сокровища философской мысли?» Нет. пожалуй, он не поверил бы самому себе, когда бы увидел, как тот, собираясь поутру в поле, укладывал в сумку краюху хлеба, ставил бутылку молока и рядом всовывал... книгу! Он увидел бы его шагающим по полю: босиком, с засученными до колен штанинами — и с книгой в руках, в которую заглядывал поминутно, будто задался целью заучить наизусть, а текст никак не запоминался.
Нет, Мальцев ничего не заучивал, он суть понять пытался, а суть все не давалась, ускользала от него, вот н заглядывал он снова и снова в книгу, пытаясь осмыслить прочитанное.
Правда, кое-что все же усвоил и даже подчеркнул некоторые места. И с полным правом мог бы сказать: «Я нашел то, что искал, о чем постоянно думал, но словами выразить мысль свою не мог». Мальцев прочитал у Ленина и подчеркнул:
«Мы не знаем необходимости природы в явлениях погоды и постольку мы неизбежно — рабы погоды. Но, не зная этой необходимости, мы знаем, что она существует».
И еще: «... пока мы не знаем закона природы, он, существуя и действуя помимо, вне нашего познания, делает нас рабами «слепой необходимости». Раз мы узнали этот закон, действующий (как тысячи раз повторял Маркс) независимо от нашей воли и от нашего сознания,— мы господа природы. Господство над природой, проявляющее себя в практике человечества, есть результат объективно-верного отражения в голове человека явлений и процессов природы, есть доказательство того, что это отражение (в пределах того, что показывает нам практика) есть объективная, абсолютная, вечная истина».
Как все верно! Да, мы не знаем необходимости природы в июньской засухе, но знаем, что она повторяется в Зауралье чуть не каждый год, губит урожай. Но зная это и поступая с учетом этих знаний, мы можем засуху — губительницу урожая — превратить в его созидательницу. Хороший урожай при позднем севе как раз и есть «результат объективно-верного отражения в голове человека явлений и процессов природы».
Приехав в Москву, Мальцев пошел в Институт философии: поговорить с кем-нибудь, посоветоваться. Вернее, хотелось встретиться с автором «Очерка диалектического материализма». Книга эта многое растолковала ему.
В институте Мальцеву указали на старичка и сказали, что это и есть Познер, автор «Очерка».
— Вы где-нибудь учитесь или только собираетесь? — спросил старичок, усаживаясь на стул рядом с Мальцевым в какой-то большой и пустой комнате, окна которой выходили на набережную Москвы-реки.
— Нет, я хлебопашеством занимаюсь.
— Для какой же тогда цели философией себя утруждаете?
— Хочу понять, как влияют силы природы на наши нивы.
— Вот как?! — поразился Познер. За всю свою жизнь ему не доводилось еще встречать человека, озабоченного соединением философских знаний с агрономической практикой. Признаться, он и сам не знал, как можно это сделать, но в своем предмете разбирался хорошо.
Они пробудут вместе больше двух часов — философ и крестьянин. Крестьянин спрашивал, философ отвечал, объяснял, приводил примеры. А на прощание посоветовал:
— Однако сначала почитайте-ка вы «Диалектику природы» и «Анти-Дюринг» Энгельса — эти книги вам будут понятнее. Найдите обязательно и философские труды Герцена, есть у него «Письма об изучении природы», очень толковые. Сочинениями Писарева, Белинского, Чернышевского займитесь, вам они помогут и в приобщении к философской культуре и в познании законов природы...
И опять возвращался Мальцев домой не с городскими гостинцами, которых, конечно же, ждали и ребята и жена, а нагрузившись тяжелыми связками книг.
Вспоминая эти годы, Мальцев и сам будет поражаться: откуда у него бралось столько смелости, энергии и терпения, чтобы не отступить, а продолжать карабкаться все выше и выше по той круче, которая временами казалась неодолимой? Но любопытство не позволяло остановиться. Любопытство и жажда знаний, которая делалась все сильнее. Конечно, эта сторона его жизни, эта напряженная работа не была тайной для окружающих, для всех тех, кто встречался с ним, кто рассказывал о нем и писал. Однако так случилось, что в общественном сознании складывался образ малограмотного крестьянина-самородка, от природы наделенного интуицией, которая в сочетании с великим трудолюбием и позволяет ему не только быть всегда с урожаем, но и оспаривать мнение авторитетов в науке, оказываться в этих спорах правым.
Случилось это потому, должно быть, что именно такой образ человека, набравшегося ума без всяких «университетов» (Левша, не знавший «мелкоскопа»), всегда был любим народом. Кто поверил бы, что колхозный полевод всерьез увлечен философией? Зачем она ему? И как доказать: для того она и нужна земледельцу, чтобы не действовать по интуиции, на ощупь, на авось?
И все же виноват в этом, если это можно назвать виной, сам Мальцев. Выступая перед слушателями, он частенько просил не взыскивать строго, если что не так в доводах его, если мысль выразил не совсем понятно. Говорил, что ему ведь и в начальную-то школу ходить не довелось. И никогда не намекал даже, что перечитал такое количество книг, каким мог бы похвалиться не всякий его слушатель, даже получивший высшее образование и ученую степень.
Мальцев сам давал себе воспитание. Образовывая сам себя, он не готовился ни к экзаменам, после которых можно и забыть то, что читал, ни тем более к защите диссертации. Ему очень хотелось узнавать свойства природы и действительную физиономию вещей, чтобы воспользоваться этими свойствами по своему благоусмотрению.
В нем неотступно жила зародившаяся еще в детстве тревога, что износилась, устала, выпахалась земелька. Он представлял, как будут мучиться люди, если земля вовсе устанет и выпашется. А что пашня от долгого ее использования истощается — в этом наглядно убеждал его и собственный опыт и опыт предков. Знал он уже и теорию «убывающего плодородия», возведенную некоторыми учеными в закон природы.
Значит, выхода нет? И земля-кормилица, постепенно старея, обесплодится?
Не хотелось ему мириться с этим. Да и основоположники диалектического материализма на иные выводы наталкивали. Почва не минерал, она продукт живой природы, вечно творящей. А все, что основано самой природой, растет и умножается. Почва — живая кожа земли —тоже растет и умножается быстрее там, где благоприятнее условия, где богаче растительный мир. Выходит, растения не истощают почву, а обогащают, повышают ее плодородие? В таком случае законом природы является не убывание, а возрастание плодородия почвы?
Но тогда почему стареют и истощаются освоенные человеком целинные и залежные земли? Так было исстари, что и вынуждало крестьянина забрасывать старопахотные поля, искать и поднимать новые. Правда, забрасывал не навсегда. Лет через пятнадцать — двадцать он снова распахивал залежи. И земля, отдохнув, опять давала высокие урожаи.
Однако от чего же она отдохнула? Не от растений же? Залежь вовсе не пустовала, ее густо покрывали дикие травы. И все же, выходит, снопа обогатилась органическими веществами. Крестьяне, объясняя это явление, говорили: земля «выпахалась», требует отдыха.
3
В 1939 году в Москве открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. События этого колхозное крестьянство ожидало с нетерпением и готовилось к нему. По всей стране развернулось соревнование за право участия в первом всесоюзном смотре достижений коллективного сельскохозяйственного производства. Соревновались передовики, соревновались колхозы, совхозы, машинно-тракторные станции и научные учреждения
Колхоз «Заветы Ленина» в этом соревновании оказался в числе первых — его уже знали по ту и другую сторону Урала. И славился он не только стопудовыми урожаями, но и опытной работой на колхозном поле. Вот почему сразу четыре павильона главной выставки страны не поскупились на место для красочных стендов, рассказывающих о зауральском колхозе и его полеводе — новаторе Т.С. Мальцеве.
Павильон «Сибирь» встретил посетителей гордыми словами Максима Горького: «Была раньше Сибирь каторжная, необъятный край необъятного горя, край кандалов и смертей. Сейчас есть обновленная, колхозная земля — Сибирь Советская, край социалистического созидания». На столике под снопами колосистой пшеницы лежала книга-рапорт колхоза «Заветы Ленина», рассказывающая о новой агротехнике и высоких урожаях.
В зале «Наука» павильона «Зерно» красовались портреты лучших опытников страны, ведущих ученых. Среди них «талантливый самоучка, достигший высот науки». Это о нем, о колхозном полеводе Мальцеве.
Сам он, оробев от взглядов посетителей, узнававших его, поторопился к соседним стендам: неловко стоять возле своего портрета, выставленного в соседстве с портретом академика Василия Робертовича Вильямса, законодателя в науке и агрономической практике.
— Признаться, до поездки на выставку я не очень чтил Вильямса и, к большому сожалению, почти не читал его,—признается Мальцев спустя годы. — Не чтил и не читал потому, что он долгое время выступал против паров, чем и вызывал во мне недоверчивое к нему отношение: как может ученый человек выступать против паров?
И вспомнит о встрече с Вильямсом в Тимирязевской академии. Было это в 1935 году, вскоре после Всесоюзного съезда колхозников-ударников. Группу опытников, приехавших в Москву из Челябинской области, ученый принял в своем кабинете. Конечно, каждому хотелось расспросить его, посоветоваться — для того и ехали в Москву. Однако разговора не получилось. Когда один из колхозников стал рассказывать о своих поисках, Вильямс спросил, какие травы у них высеваются. Выслушав ответ, он усмехнулся и сказал: «Дрянь это, а не трава». Опытник начал говорить, что у них она дает хорошие укосы и лучше других переносит засуху. Вильямс отмахнулся, повторил сердито: «Дрянь»... Эта оценка, как и тон разговора, не понравились Мальцеву, и он просидел всю встречу молча.
Однако тут, на выставке, отношение это круто изменилось. На стенде Мальцев прочитал выдвинутую Вильямсом задачу прогрессивного увеличения почвенного плодородия. Да это же та самая задача, которая вот уже много лет не давала покоя и ему, Мальцеву! И он торопливо, словно строчки в книге могли вот-вот исчезнуть, начал листать страницу за страницей. Ага, вот!..
«...Ясным становится грозная правда формулы Либиха — «Нет более прямого пути к абсолютному обнищанию народа, как беспрерывная культура однолетних растений».
И вот:
«Давно и совершенно твердо установлено, что культура однолетних сельскохозяйственных растений не в состоянии накопить органического вещества. Накопить его можно только посредством культуры многолетних трав. Следовательно, у сельского хозяйства выбора нет. Имеется только один способ решения задачи — культуру однолетних растений время от времени нужно прерывать культурой многолетних травянистых растений».
Ясно! Это хлеб отбирает у земли ее силу и ухудшает почвенное плодородие — таково свойство злаков. Надо периодически занимать пашню многолетними травами, которые в отличие от однолетних благотворно влияют на почвенное плодородие.
«...Нам известна научно во всех деталях разработанная травопольная система земледелия, способная на третий год ее применения утроить урожай».
Итак, травопольные севообороты и пары. Да, и пары. «Пар безусловно необходим, пока мы не очистим наших полей» от сорняков, признал Вильямс!
Вернулся Мальцев домой, рассказал колхозникам, чтобы их согласием заручиться и чтобы уже с весны 1940 года начать хозяйствовать на земле по-новому. Согласились, севооборот перестроили. Пары оставили в тех же размерах. Но и многолетние травы ввели, как Вильямс рекомендовал.
— Хоть и знал, что рост плодородия обнаружится не сразу,— говорил через годы Мальцев,— а по завершении полного цикла десятипольного севооборота, это значит — через десять лет, однако торопил время, чтобы убедиться: все, задача решена. А уверенность в успехе была у меня большая, я полностью полагался на непреложность выводов Вильямса.
4
Над миром сгущались черные тучи. Такие тучи вряд ли мимо пройдут. Значит, быть беде.
В такое тревожное время, когда вот-вот может оборваться мирная жизнь, человек невольно осматривает свое хозяйство: все ли сделано и что еще надо сделать, чтобы беда врасплох не застала. Движимый этой заботой, Мальцев часто выступает на совещаниях, пишет статьи — предостерегает от благодушия и беспечности.
«Если вследствие особо благоприятных климатических условий нам удается год-два получать приличный урожай, то вслед за этим наступает успокоение, как будто в дальнейшем урожай будет приходить сам собой,— пишет он в марте 1940 года в областной газете.— Эта беспечность зачастую приводит к тому, что действительную борьбу за урожай мы подменяем болтовней, агротехническими заклинаниями».
Мальцев думает о сложившейся закономерности: засушливых лет бывало много, но самой страшной засухой обычно отмечался первый год каждого нового десятилетия. А каким будет 1941 год? Этого он не знал, как не знала и наука.
Но каким бы ни выдался год, настаивает Мальцев, нужно практиковать в каждом хозяйстве обязательный посев двух сортов пшеницы: скороспелый и позднеспелый. Такая комбинация лучше гарантирует урожай, какие бы ни сложились погодные условия: один сорт лучше уродится в засушливый год, другой — в дождливый. И убирать легче, так как созревают они в разное время.
Он тревожится о том, что районные организации зачастую вынуждают вести несвоевременную обработку почвы, что сказывается на урожае.
И приводит пример. Соседние колхозы, поля которых находятся на большом южном склоне, всегда имеют возможность начинать весенние полевые работы много раньше Но раз они начали сеять, следовательно, по мнению иных руководителей, и все должны сеять. В результате несколько хозяйств сеют в почву созревшую, а все другие — в грязь, деформируют почву: в засуху она превращается в сплошной цементированный камень.
Волновало, беспокоило Мальцева и то, что на опытную работу в колхозах стали обращать все меньше внимания, а то и подавлять администрированием. Все это лишает людей инициативы и цели.
И все же итоги Мальцев подвел не в этих статьях, а на заседании коллегии Наркомзема СССР, где он выступил в январе 1941 года с отчетом о работе колхозной хаты-лаборатории. Это был итог десятилетней работы — все эти годы колхоз неизменно получал высокие урожаи.
Доложил и о том, что в результате скрещивания пшениц он уже имеет семь тысяч гибридных форм, которые минувшим летом высевались на селекционном участке. Есть уверенность, что со временем из них будут получены новые сорта с высокими хозяйственными качествами.
Рассказал, что урожайными сортами различных зерновых культур, размноженными из нескольких фунтов, из сотни граммов, из сотни зерен, в районах Зауралья засеваются ныне десятки тысяч гектаров.
— Мое искреннее желание,— проговорил Мальцев, как клятву,— показать подлинную силу советской передовой науки, чтобы ее достижениями можно было любоваться и на необозримых полях наших колхозов.
Глава пятая
1
Война... Ураганом ворвалась она в каждый дом. И перевернула, оборвала не только замыслы, но и, казалось, жизнь. Разом, в одну минуту отошло в прошлое все, что волновало вчера, что думалось и намечалось. С той роковой минуты, с этого тихого, ясного и солнечного дня 22 июня 1941 года началась какая-то совсем иная жизнь, с иными заботами, с иными тяготами, несоразмерными со вчерашними. Да, еще вчера никто не замечал, какое это счастье ходить по земле, делать какое-то дело, видеть рядом с собой детей своих, всех, с кем кров делишь, с кем работаешь.
Мальцев вдруг обнаружил, что до этого рокового дня он почти не замечал старшего сына Костю, которому исполнилось девятнадцать. Сын окончил школу, собирался поступать в техникум — хотел агрономом стать. Прочитал почти все книги, какие есть в доме, на деревенской улице зовут его «философом». Отец радовался, что сын пристрастился к чтению. Видел, что парень и в поле с охотой работает и на селекционный участок частенько заглядывает. Но передал ли он ему ту любовь к земле, то любопытство к ней, все те чувства, какие сам испытывал?
Еще на первом колхозном собрании он дал слово, что вот подрастут дети, отработают и они свое. Люди давно позабыли то обещание, а Мальцев помнил и, когда Косте исполнилось десять лет, велел ему не бегать в пору летних каникул по деревне, а пособить колхозу. И направил его к бригадиру: самому с ним возиться некогда, весь день в бегах по полям. Также распорядился и с другим сыном Саввой. Но Савве сейчас четырнадцать всего, и о нем пока не было думы.
Тяжко было провожать сына. Не на учебу провожал — на войну.
Опустела деревня. Из каждого двора хоть один да ушел на фронт, а это больше двухсот человек, самых молодых и сильных хлебопашцев. Однако по всему видно, будут уходить и те, кто подрастает. И не только на войну: многих колхозников на лесозаготовки призывали, на заводы Челябинска, Магнитогорска, Свердловска, Нижнего Тагила. Вслед за людьми отправили автомашины, приобретенные колхозом перед войной, повозки, лошадей. Кому же убирать созревающие хлеба н нескошенные травы?
Всю нелегкую работу, которую еще недавно выполняли мужчины — а в крестьянском деле ее не счесть,— принимали на свои плечи женщины да ребятишки. Женщины со слезами: они хорошо знали, что и сивку укатывают крутые горки, а ребятишки поначалу даже с охотой: им доверяли то, к чему еще вчера не подпускали и близко. Они садились за рычаги трактора, за штурвал комбайна, распоряжались у движков, которые глохли и не хотели вращать молотилки и веялки. Женщины ничем помочь своим детям не могли, лишь плакали: «Уж приноровись, сынок, хлеб же лежит».
Осенью получил повестку и Терентий Семенович Мальцев — его призывали в трудармию. Простился он с домочадцами, с колхозом, с родными полями, приехал на призывной пункт в Шадринск...
Но спохватился кто-то: такой хлебороб не на лесозаготовках, не на заводе нужнее, а здесь, на колхозном поле, на хлебном фронте. И дали ему броню, чем приравняли к особо нужным в тылу людям. Пожалуй, он был единственным в стране хлеборобом, которому воюющая Отчизна, находясь в смертельной опасности, выдала броню на все годы войны. Выдала и сказала: твои фронт здесь, и хлеб твой — тоже оружие. Больше, чем оружие,— жизнь.
Пройдут десятилетия, отойдет в далекое прошлое война, а люди будут вспоминать эти тяжкие годы, как подбирали в полях колоски, как в тыловых городах и поселках, чтобы отоварить хлебную карточку, собирались у ларька с вечера,
Многие мальчишки и девчонки ушли в те годы из школы в поле: недоучившись, не набегав отмеренные на ребячий век километры по лесам, оврагам, улицам. На смену отцам и братьям пошли растить хлеб. Из мальчишек и девчонок формировались комсомольско-молодежные тракторные бригады, которые тут же включались в соревнование за право называться фронтовыми. Тысячи таких бригад жили одним желанием: высоким урожаем ускорить разгром врага. Было тем мальчишкам и девчонкам по 11—15 лет. И никто из них не покидал поле, не выполнив две дневных нормы. Две взрослых нормы! А после рабочего дня не могли разогнуть спину — издали они казались в эти минуты старичками. Не без слез и обид вынесли они на своих слабых еще плечах тяжелейшую, временами непосильную ношу, взваленную на них войной. Одних эта ноша закалит, и они навсегда свяжут свою жизнь с полем, с фермой. Но иных и утомит: крестьянская работа покажется им до того постылой, что возненавидят ее и будут стремиться, только бы случай подвернулся, бросить все и уехать куда глаза глядят.
Так что война еще скажется на деревне, и не только тем, что похоронит многих, не вернет домой. Она породит тот уход из сел, который потом назовут миграцией.
2
И все же как ни тяжко дался первый год войны, однако это была еще не тяжесть: отсеялись-то в мирное время, когда все работники были дома, когда работали с песнями, в охотку. Только урожай убирать пришлось без мужиков.
С уборкой и обмолотом управились, а на другие работы сил уже не хватило. И главное — зяби подняли мало, чего никогда не случалось. Как будет потом отмечено в отчетах районных и областных организаций Зауралья, «в связи с большим объемом весновспашки и вследствие июньской засухи» 1942 года многие колхозы и совхозы получили низкий урожай, план хлебозаготовок и засыпки семян не выполнили. Трудное положение сложилось и на фермах — в кормушках была лишь солома, да и той не досыта.
Стихийное бедствие — так назовут июньскую засуху 1942 года. И «пощадила» она, пожалуй, лишь хлебную ниву колхоза «Заветы Ленина».
Шел декабрь 1942 года. С одиннадцатого этажа гостиницы «Москва», где на несколько дней поселился Мальцев,—его пригласили на сессию Академии сельскохозяйственных наук,— видна была немноголюдная Красная площадь столицы, еще не снявшей затемнения.
Он стоял у окна, смотрел на затемненный город. Ему предложили выступить по радио, рассказать своему сыну-фронтовику о доме. О доме... Нет, он расскажет о том, что делается в родных краях, потому что дом для фронтовика — по себе знал — это весь родимый край. И разве не хочется бойцам узнать про урожай,— что может быть для них дороже хлебной нивы! Про то, что колхоз «Заветы Ленина», в котором остались ребятишки да бабы, сдает зерна государству даже больше, чем в 1941 году,— 6425 центнеров. И посевные площади не сократили, а даже увеличили — освоили те солонцы, которые раньше не пахались. Сверхплановые эти посевы назвали «гектарами обороны», урожай с которых внесли в фонд обороны Родины.
Успехи на мирном хлебном поле были приравнены к ратному подвигу: в трудные для Родины дни 1942 года страна отличила его, колхозного полевода, высокой правительственной наградой — орденом Ленина.
И еще надо сказать, что все гибридные семена, которые вырастил за шесть предвоенных лет, он передал на опытную станцию в Челябинск. Заниматься с ними теперь некогда, а на опытной станции не пропадут, кто-нибудь доведет их до дела, до сорта, еще послужат людям.
Домой Мальцев вернулся радостным: к сыну по радио обратился! И озабоченным.
На научную сессию Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук его приглашали как человека, способного ответить на практические вопросы, порожденные тяжким военным временем.
Как обрабатывать поля, не вспаханные с осени? Понимали все, таких полей будет еще больше, люди не в силах и урожай убрать, обмолотить и зябь вспахать.
Как в этих условиях уложиться с севом в лучшие сроки? К весне накапливалось столько разной работы, что сев затягивался на сорок дней и больше.
Как при затяжных весенних работах сохранить в почве влагу и получить менее засоренные посевы? (О весенней провокации овсюга в тяжкую эту годину не было и речи — не до этого.)
Мальцев понимал: от ответов на эти вопросы во многом зависит завтрашний урожай. Опыт, накопленный в мирные годы, никак не использовать в тяжкое это время. Уж он ли не старался, чтобы земля в уходе была, однако и у него в хозяйстве появилось немало сильно засоренных полей. Были и такие, где семена овсюга лежали на почве сплошным слоем.
Как же засоряется земля, когда Народ в беде... Зарастает бурьянами, дичает. Сколько же пахотных земель, лугов и сенокосов позарастет кустарником, заболотится, кочками возьмется — и там, где война нивы поранила, и вдали от нее. Сколько сору на ниве поразведется, поразмножится. На иных полях уже и сейчас не поймешь, что люди косят: сорняк ли на сено или хлеб,— очень уж неприметны и тощи злаки в этом буйстве овсюга. А все потому, что хлебопашцев война от поля отлучила, остались на нем матери, жены да малолетние домочадцы. А с такой слабосильной дружиной где же выполнить все то, что требует культура земледелия? Вспахать бы да семена в землю бросить—и то ладно, и тому все рады: что-то да уродится.
И все же нельзя так беспорядочно растрачивать силы. Если хлебопашец, бросая зерна в землю, не уверен, что вырастет что-нибудь, то нечего ждать от него ни хорошей работы, ни любви к земле.
Мальцев отмерил саженем на окрайке самого засоренного поля гектар. Разделил его на девять делянок. Все делал сам, чтобы никого от дела не отрывать. Одну делянку вспахал глубоко, другую—мелко, третью не стал пахать, и только продисковал и заборонил, четвертую вспашет и заборонит только в конце мая — запоздает будто бы. На одной делянке, еще раз пробороновав, посеет пшеницу второго мая. На этой делянке он все сделал так, как советовали ученые, выступавшие на сессии и настаивавшие на раннем севе во всех случаях: мол, всходы в этом случае опередят овсюг и затем подавят его. Мальцев не согласился с этим мнением, оспорил его, однако опыт поставил.
На всех других участках дождался, когда сорняк пророс сплошным ковром. Уничтожив его,— одни делянки конной дисковой бороной обработал, другие перепахал плугом и забороновал,— засеял в тот срок, который считал лучшим,— в конце мая.
Лето в Зауралье выдалось обычное: в июне солнце палило нещадно, в июле и августе перепадали теплые дожди. Все шло строго по порядку, которым и характеризуется местный климат, не отклоняясь от этого порядка и ничем не нарушая его.
3
«Мои бойцы знают, кто мой отец и что он делает»,— писал домой с фронта младший лейтенант Константин Мальцев.
Но эти строчки не так ратовали отца, как то место в письме, где сын раскрывал ему душу и думы свои: он будет агрономом, в зимних боях за Воронеж видел из окопов корпуса сельскохозяйственного института, в который мечтает когда-нибудь поступить. Он продолжит то, что отец начал.
Признанием этим жил Мальцев все летние дни. До следующего письма, которое он получил в августе. Получил в конторе — забежал по какому-то делу. Заспорил с председателем. В разгар спора кто-то вошел и тихо сказал: «Фронтовое письмо вам. Терентий Семенович...»
И Мальцев вдруг запнулся, вмиг забыл все, что так волновало его сейчас и казалось самым важным. Его сдавила неизвестно откуда взявшаяся боль, сдавила так, что крикнуть хотелось. Он еще не видел ни почерка на конверте, ни сам конверт не брал в руки, но уже знал беду.
«Ваш сын,— читал Мальцев,— геройски погиб... в бою против немецко-фашистских оккупантов... при взятии города Тростянец...»
Нет сына, надежды его нет.. И Савву скоро снаряжать на проклятую эту войну...
А поле не ведало человеческого горя, звало к продолжению подоспевших дел: коси, убирай, запасай все, что земля народила. Запасай для тех, кто жив, кому жить. И думай, как лучше управиться, чтобы не оскудела без ухода земля, не поросла дикими бурьянами.
Зажав боль свою, Мальцев анализирует результаты опыта. И со слезами в душе сухо пишет:
«Не имею здесь возможности подробно разбирать ход развития пшеницы на каждой делянке. Можно только сказать, что опыт получился очень наглядный: с первых дней до самой уборки разница между делянками была исключительно четкая и ясно отвечала на вопрос о том, как можно получить богатый урожай пшеницы на сильно заовсюженной стерне, не вспаханной с осени, и как можно в данном случае лишиться урожая».
Для тех, кто знал обстановку, сложившуюся на полях Зауралья, слова эти звучали сурово. В них был ответ на вопрос, как «лишились урожая» многие и многие хозяйства области, которые в 1943 году засыпали в закрома так мало зерна, что оказались не в состоянии прокормить себя. Из государственных ресурсов, и без того истощенных войной, им было отпущено 32 тысячи тонн семенного зерна и выделена значительная продовольственная ссуда.
Какие же стихийные бедствия, кроме тех огромных бедствий, которые принесла война, обрушились на поля Зауралья?
Никакие, отвечал Мальцев. Лето выдалось самое обычное.
Как область лишилась урожая, показывала та делянка, которую Мальцев засеял до появления всходов овсюга. Сорняк здесь начал всходить почти одновременно с пшеницей и очень скоро подавил ее, иссушил почву. С этой делянки Мальцев собрал в пересчете на гектар всего три центнера щуплого зерна. А ведь так многие хозяйства и сеяли. Вот и остались без хлеба.
И Мальцев делает вывод: опыты «многократно и в разных вариантах подтверждают, что в наших условиях первоочередной задачей при выезде в поле весной является закрытие влаги на полях. Это мероприятие не только обеспечивает сохранение влаги, но и создает условия, способствующие прорастанию овсюга и других семенных сорняков, уничтожаемых предпосевной обработкой. Там, где эта работа была своевременно и заботливо проведена и выдержана до конца, результаты получились поразительные».
Поразительными они были не только на опытных делянках, но и на сотнях гектаров колхозного поля, где удалось применить ту же технологию и где сеяли не в начале, а в последних числах мая.
Это был самый тяжкий год в пору лихолетья. Война подобрала почти всех мужчин. Деревня жила на пределе усталости. Но и в этом тяжелейшем 1943 году колхоз «Заветы Ленина» значительно перевыполнил план хлебосдачи и вывез на элеватор 7845 центнеров зерна, на 1420 центнеров больше, чем в предыдущем, более благоприятном году. Рассчитавшись сполна с государством, засыпал семена, в срок расплатился за выполненную работу с МТС и выдал своим колхозникам на трудодни.
Это приносило уставшим людям облегчение: хороший урожай убирать радостнее, а поэтому и легче, чем плохой. Не напрасно, значит, делали по две нормы. И у людей словно бы появлялось второе дыхание: результативный труд добавляет человеку сил, тогда как напрасно растраченный опустошает даже сильного.
Мальцев радовался успеху и огорчался: он думал о причинах недорода, постигшего не район даже, а целую область, и не только Курганскую. Как же накладно это для страны, для ее экономики! Как скажется это на народе, который и без того недоедает...
Он вновь и вновь возвращался к результатам опыта. Ему не давала покоя делянка под номером восемь — ее он не пахал ни осенью, ни весной, а только продисковал. И получил самый неожиданный результат: пшеница хорошо перенесла засуху и уродила даже лучше, чем по свежей вспашке.
«Должно быть, потому,— размышлял Мальцев,— что на этой делянке семена пшеницы попали на влажную, уплотненную подошву и сверху были прикрыты хорошо разрыхленным слоем земли, предохраняющим почву от иссушения».
4
Через всю страну шли и шли в сорок пятом эшелоны с демобилизованными воинами. Возвращались домой отцы, мужья, сыновья, братья. От железнодорожных станций и полустанков разъезжались они по проселкам на подводах и попутных машинах, шли пешком — только бы своих скорее увидеть.
Как же истосковались люди за четыре тяжких года по счастливым улыбкам. И как же велика была горечь утраты: в каждом доме, встречая одного, оплакивали другого, а то и двоих-троих.
Мальцевы никого не встречали: Константин лежит в земле где-то среди России, Савва, заступивший место брата в том же сорок третьем, в госпитале мучится с тяжелыми ранами.
Да только ли Мальцевы никого не встречали?
И все же не горем жили люди, а радостью: на земле наступил мир, которого так долго ждали. Жили новыми событиями. Праздником шагала по городам и селам первая послевоенная кампания по выборам в Верховный Совет страны. Именно этому Совету, о чем уже знали все, предстояло рассмотреть и принять пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства, подорванного войной. Колхозники и рабочие Зауралья своим кандидатом в депутаты Верховного Совета страны выдвинули Терентия Семеновича Мальцева
Все эти тяжкие годы, говорили на встречах избиратели, у Мальцева не было важнее заботы, как вырастить урожай на колхозном поле. То был его долг — полевода, человека, коммуниста. Долг свой он выполнил с честью.
На этих встречах Мальцев отчитывался перед народом, и в первую очередь перед фронтовиками.
— Я часто вспоминаю первое колхозное собрание в январе 1930 года,— говорил он с трибуны. — На нем мы назвали наш колхоз именем Ленина. На нем же избрали меня колхозники полеводом. Избрали и сказали: «Терентий Семенович, вверяем тебе основное нише богатство — эемлю. Ухаживай за ней, выращивай больше хлеба, чтобы было его в достатке». Сегодня, отчитываясь перед вами, я могу сказать: чиста моя совесть перед людьми, и в добрые и в худые годы колхоз выполнял свой долг перед Родиной, а колхозники не бывали без хлеба даже в самую тяжелую годину.
Народ знал: то не похвальба. Колхоз «Заветы Ленина» ни разу не был должником перед государством. За 1941—1945 годы он сдал стране на две тысячи центнеров зерна больше, чем за предвоенное пятилетие. Больше! За эти заслуги перед Родиной и «за коренные усовершенствования методов производственной работы» колхозному полеводу Терентию Семеновичу Мальцеву в 1946 году была присуждена Государственная премия.
Говорили избиратели и о том, что Мальцев, один из немногих агрономов, сумел сохранить полевые севообороты, внедренные перед войной, тогда как во многих других хозяйствах о них забыли. Как и до войны, все эти годы поля колхоза засевались только сортовыми семенами, чем не могло похвалиться ни одно другое хозяйство: больше половины полей области занимали несортовые посевы.
В ответ на народное это признание Мальцев написал «Слово к избирателям», в котором дал клятву отдать все свои силы на пользу людям, на подъем колхозного производства.
Глава шестая
1
Перед самой войной, по настойчивым рекомендациям ученых, было решено расширить посевы озимой ржи в восточных районах страны.
Как же вовремя это было сделано! И пусть рожь не очень хорошо родила, но все же выручала в войну крепко. Уже тем выручала, что можно было сеять в два приема: рожь — осенью, пшеницу — весной. И в два приема не сладко было, но полегче. Даже представить трудно, как бы управлялись, если бы пришлось все поля весной засевать яровыми. Нет, не по силам было такое. Посевные площади сократились бы еще больше.
Однако кончилась проклятая война, вон уже и промышленность перестраивается на выпуск новой продукции, пора пересмотреть и структуру посевных площадей, сложившуюся в тяжкую годину. И в первую очередь, считал Мальцев, надо бы посевы озимой ржи сократить: в Зауралье и в Западной Сибири она редко бывает урожайной, а значит, и пользы от нее мало, только землю занимает.
Решил посоветоваться с учеными. Те выслушали его, но возразили: мол, если озимая рожь хорошо удается в европейской части страны, то почему бы ей за Уралом не родиться?
— А потому, что Урал — не только граница Европы и Азии, он и граница между огромными сельскохозяйственными зонами с разными климатическими условиями. И не считаться с этим нельзя.
Сослался на опыт прошлого: к западу от Урала крестьяне издавна предпочитали сеять озимые, а не яровые хлеба, тогда как к востоку от него, наоборот, ярь считали выгоднее озими.
Ему в ответ:
— Терентий Семенович, да ведь старики и пшеничку в ваших краях сеяли не в те сроки, которые вы рекомендуете, а значительно раньше. И предпосевную обработку не делали. Так что на стариков равняться — без хлеба останешься.
Мальцев думал иначе: без хлеба будем, если не потесним озимую рожь с полей Зауралья. Она страдает и при малоснежной зиме — убивается морозами, и когда много снега, то тоже не лучше — вымокает и выпревает весной. А если и не случится ничего зимой, то в майско-июньскую засуху озимь «подгорает», теряет свою густоту. Боковые стебли в кустиках отмирают и засыхают, остается один главный стебелек, да и тот дает тощий колос. К тому же в момент перехода от молочной спелости в восковую зерно редкий год не «захватывает» туман, оно становится щуплым, неполноценным.
Однако и эти беды — еще не все беды. Если раньше паровой клин засевался яровой пшеницей — самой надежной в здешних краях культурой, то теперь, когда хозяйства вынуждены занимать озимью большие площади, рожь почти полностью вытеснила пшеницу с ее места. Значит, занимая пар менее надежной культурой, хозяйство не получит высокого урожая даже на тех полях, которые надежнее всего могли бы обеспечить хлебом.
Сильно бьет по хозяйству и то, что время уборки озимой ржи совпадает с другими важнейшими работами. Уборку и обмолот ее колхозы начинают в разгар сенокоса, в разгар обработки паров, посева той же ржи. Ну, а поскольку уборку зерновых не отложишь, то на эту работу переключаются все силы: люди, тягло, транспорт. Сенокос прекращается. Хозяйства недобирают огромное количество кормов, пар как следует не готовят, и он становится рассадником сорняков. Следом подоспевают яровые, надо убирать, молотить их. Рожь пора сеять. Но на сев остается мало времени и сил, поэтому сеют кое-как. наспех, лишь бы семена бросить в землю, а точнее — в сорняковые заросли, подготовить землю под озимь сил не хватает...
Что ошибку надо исправлять, Мальцев не сомневался. Он уже готов был сказать об этом во весь голос, но не знал еще, где и как, чтобы услышали его и поняли.
Решил: поеду в Москву, там и посоветуюсь. Собрал материалы, положил в сумку наброски статьи, которую задумал давно, но тогда перестройка была не ко времени. Сейчас она назрела, иначе за ошибки придется горько расплачиваться.
Он ехал на сессию Верховного Совета СССР первого послевоенного созыва, где в первый же день встретился с маршалом Жуковым. В зале они оказались почти рядом — рядовой хлебороб и знаменитый полководец.
Незадолго до перерыва Мальцеву подали записку — депутаты-челябинцы просили передать ее Жукову с просьбой в перерыве сфотографироваться с ними. Жуков прочитал и кивнул Мальцеву: «Ладно». И вернул ему записку, на обороте которой написал: «Соберитесь в зале, где фотографы».
Однако в перерыве Мальцев не нашел челябинцев — затерялись в толпе — и от этого чувствовал себя неловко: Жуков стоял и ждал их. К нему, конечно, народ подходил все время, но Мальцеву казалось, что стоит он тут только потому, что его попросили. Кинулся извиняться:
— Не могу найти, Георгий Константинович...
Жуков взял его под руку и повел на свободное место, где суетились фотографы.
— Ничего, товарищ Мальцев, не ищите. Мы вдвоем с вами снимемся...
И они снялись: хлебопашец восторженными глазами смотрел на великого полководца, тот улыбался ему, и в улыбке этой были и уважение и высокая оценка труда хлебопашца.
С этой встречи у них установилось прочное и долгое знакомство, переросшее в дружбу...
В тот же день Мальцев побывал в ЦК партии и вышел оттуда окрыленным. Ах, как хорошо! Не было бы столько народу, вытворил бы что-нибудь, как мальчишка, переполненный радостью. Зашагал от Старой площади к Кремлю, напевая что-то веселое, рожденное собственным его настроением, как и слова, которые были не чем иным, как обрывками только что состоявшегося разговора.
Да, добрый выдался денек!
Вернувшись в гостиницу «Москва» (здесь он останавливался в годы войны, здесь он будет останавливаться всякий раз, приезжая в столицу), Мальцев разложил на столе наброски, что привез с собой,— даже сам себя похвалил за такую предусмотрительность,— достал чистую бумагу, сел писать:
«Наша сельскохозяйственная наука довольно много поработала и продолжает работать над вопросами подъема урожайности в районах Центрального Зауралья и Западной Сибири; многое она успела разрешить и выяснить, но основная цель еще не достигнута: урожаи на полях колхозов в этих районах продолжают оставаться невысокими. Следовательно, в науке есть пробелы...»
В чем он хочет упрекнуть науку? В первую очередь в том, что она не имеет достаточно ясного представления о прошлом зауральского земледелия, что не желает считаться с этим прошлым.
Он приводит в статье замечательные слова А. И. Герцена, что «...последовательно оглядываясь, мы смотрим на прошедшее всякий раз иначе; всякий раз разглядываем в нем новую сторону, всякий раз прибавляем в уразумение его весь опыт вновь пройденного пути...».
К утру — всю ночь просидел за столом — статья была готова. Великовата, правда,— двенадцать страниц,— но сказать короче о всех насущных вопросах земледелия никак нельзя. Да, так, пожалуй, и назвать ее можно—«Насущные вопросы земледелия в лесостепном Зауралье».
Написал, отвез, как и посоветовали ему, в газету «Социалистическое земледелие». Статья эта, опубликованная 27 апреля 1946 года, наделала много шума. Читая ее, люди забывали, что- речь идет о лесостепном Зауралье,— нет, насущные эти вопросы (дело-то не только в озимой ржи) характерны для всех зон страны. Ну разве не прав Мальцев, когда пишет: «Следует сначала хлеб убрать, а потом его молотить. Тогда молотьба пойдет успешнее. И хлеб будет убран вовремя, и обмолочен лучше, и качество зерна повысится».
Если бы он написал только эти строки, и то все земледельцы страны поклонились бы ему низко. Он говорил о пагубной практике, возведенной в хозяйственную политику: жатки в поле — зерно в закрома государства. Хоть и торжественно шли первые обозы на элеватор, встречали их музыкой, речами и транспарантами, однако все знали — повременить бы с обозами. Спешка такая наносила немалый материальный и моральный урон: основные силы тут же переключались на обмолот, уборка замедлялась, а в итоге затягивалась и сдача зерна государству, нива перестаивала, хлеб осыпался на корню, а то и под снег уходил. Надо все убрать сначала, а уж потом молотить и сдавать государству...
2
Не ладились дела на полях Зауралья. Культура земледелия если и повышалась, то слабо и на росте урожая не сказывалась. Много, ой как много трудностей нагромоздила война, и одолевать их придется долго.
Осень снова не порадовала курганцев. План хлебозаготовок не выполнили, мало осталось хлеба на внутриколхозные нужды и на трудодни. Лишь несколько хозяйств могли похвалиться хорошим урожаем. Но это не радовало, а иногда и огорчения приносили эти хозяйства: они кололи глаза, мешали ссылаться на погоду и другие объективные причины. Правда, иногда и выручали: было кого в пример поставить, чем похвалиться. К ним же обращались, и когда надо было с новым почином выступить.
Ну, на самом деле, кто откликнется на обращение: «Даешь стопудовый урожай!»? Лучше, если это сделает колхоз «Заветы Ленина»,— такие урожаи для него не мечта, по сто пудов он получал и в прежние годы и сейчас способен получить.
Пригласили на разговор председателя колхоза и парторга. Полевода не позвали. Он приехал без приглашения.
Мальцев уже знал, зачем зовут их в Курган. Знал, что колхоз должен будет не только подхватить инициативу, но и, по замыслу областных руководителей, призвать всех к раннему севу, а значит, и сам посеять рано. Вот в чем беда.
— Может ли колхоз поддержать инициативу относительно ста пудов?
Этот вопрос относился к Мальцеву.
— Да, мы умеем выращивать и по сто пудов, но при одном условии: если нам будет позволено сеять, когда считаем нужным,— ответил он.
— Нет,— резко оборвал его областной руководитель. — Вы будете сеять в те сроки, которые мы установим для всех.
— Тогда мы отличимся на севе, но, боюсь, от такого усердия вовсе без урожая осенью останемся...
— А что председатель колхоза скажет? — прервали Мальцева.
Председателем был Иван Никонович Коротовских. Тот самый Иван Коротовских, который председательствовал в тридцатом году. Правда, председательствовал всего несколько месяцев. После того был парторгом в соседнем колхозе, служил в милиции, войну прошел, вернулся израненным. Мальцевские колхозники снова избрали его председателем.
Пройдут годы, Терентий Семенович, вспоминая, скажет:
— Много в нашем колхозе перебывало разных председателей, а добрую память по себе оставили лишь двое — Иван Никонович Коротовских да Иван Гаврилович Авдюшев. Умные были головы, не брали «под козырек», когда против совести поступать понуждали.
Не взял председатель «под козырек» и на этот раз. Ответил:
— Обращение мы поддержим, а вот за ранний сев не нам выступать — не поверит никто, знают все, что мы с первой колхозной весны сеем поздно.
«Спасибо тебе. Иван Никонович, что не испугался, не уступил»,— думал Мальцев, готовый обнять его за смелые эти слова.
А люди действительно знали, что колхоз «Заветы Ленина» никогда не сеет рано. И многие уже прилаживались к «мальцевским» срокам. Правда, в некоторых хозяйствах поздно сеяли только потому, что не успевали отсеяться рано, а значит, и землю не готовили заранее: ни сорняки как следует не уничтожали, ни влагу в почве не задерживали — бросали зерна в высохшую пашню, обрекая посевы на погибель. И после этого на Мальцева кивали: мол, сеяли, как он советует.
Были и добросовестные последователи. Эти приезжали в Мальцеве, ходили по полям, приставали с вопросами. Чаще других стал появляться в селе недавно демобилизованный фронтовик Григорий Михайлович Ефремов, назначенный директором Понькинской МТС. Пройдут годы, и человек этот станет известным на всю страну руководителем крупнейшего в Зауралье совхоза «Красная звезда». За выдающиеся успехи ему будет присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда. А когда уйдет из жизни — сердце не выдержит нагрузки и забот,— его именем жители Шадринска назовут одну из улиц, по которой ведет дорога в «Красную звезду».
А тогда Григорий Михайлович был молод, только что снял офицерские погоны. МТС, которую он принял, ничем от других не отличалась. Да и колхозы, которые она обслуживала, тоже не выделялись урожаями: все вместе сдавали зерна меньше, чем «Заветы Ленина».
И уже тогда, еще не став друзьями, они стали единомышленниками. Движимые высоким чувством долга, они были одинаково озабочены не благополучными отчетами, а результатом деятельности и жизни своей на земле.
— Что делать, Терентий Семенович? — был первый его вопрос при встрече.
— А работать, что ж еще.
— Так впустую же мы работаем! Горючее палим, технику изнашиваем, людей занимаем, денежки тратим, а урожая-то нет?
— Чтобы урожай был, надо не только силу затратить, но и ума приложить немало.
На дворе была весна, и Мальцев повел его в поле. Ходил с ним, показывал, убеждал:
— Ранней весной не сеялки в поле выводи, а бороны, чтобы влагу задержать и надежно закрыть ее. Каждое поле, сколько оно потребует, столько раз и проборони, в один, в два, в три, а если нужно, то и в четыре следа. Тебя подгонять будут, а ты наберись терпения, выжди. Дождись прорастания сорняков, уничтожь их предпосевной обработкой, еще раз заборони, а уж потом и сей, вот тогда и будут колхозы с хлебом.
— Но боронить-то на тракторах нам запрещается? В министерстве, когда меня на должность утверждали и напутствовали, посоветовали в музей древностей бороны сдать, как отслужившие свой век.
— А своя голова на что?
Мальцев хорошо знал, почему в министерстве дают такие советы. Это Вильямс несправедливо обругал борону зубастым орудием, которое, мол, только разрушает структуру почвы. Это он, «главный агроном страны», как называли Вильямса, вынес бороне неумолимый приговор: вредное орудие, в музей его. А в результате и борона и боронование всюду оказались под запретом. Под запретом то, без чего Мальцев не мыслил борьбы с сорняками, без чего не сохранить влагу в почве, не вырастить хорошего урожая.
И Ефремов стал бороновать поля вопреки всем запретам. От Мальцева он не только опыт перенимал, но и обретал силу духа.
Ефремов знал, что он не одинок, что наставник в случае чего не оставит его в беде и любой удар примет на себя.
Колхоз «Заветы Ленина» взялся вырастить стопудовый урожай. И призвал земледельцев Зауралья отсеяться в лучшие агротехнические сроки. Но имел в виду свои сроки. Однако на всех совещаниях и в местной печати разговор теперь шел только о раннем севе.
Весна наступила ранняя и теплая. Каждый день в газете и по радио с восторгом рассказывалось о ходе сева, начатого намного раньше прежних лет. Похвальбу эту Мальцев выслушивал как насмешку над здравым смыслом. Публиковались сводки, в которых колхоз «Заветы Ленина» занимал последнее место,— в графе был жирный прочерк: не посеяно ни одного гектара. То же и в первые дни мая. А погода установилась ясная, солнечная.
— Чего вы ждете? — с недоумением спросили Мальцева приехавшие из Кургана уполномоченные,
Один — из управления сельского хозяйства, второй — из областной газеты.
— Мы не ждем,— возразил Мальцев. — Мы землю готовим к севу.
И правда, на полях вовсю шла работа. Ну, точь-в-точь как в тридцатом: и погода такая же и разговоры те же.
— Но вы только бороните, а всюду давно уже сеют.
— И мы начнем скоро. Вот только дождемся, когда сорняки взойдут, а до тех пор бросать зерно в землю нет смысла.
— Да они взойдут дней через десять!
— Верно. Не раньше.
— И вы до середины мая не будете сеять?
— А что же тут страшного? Это и есть лучшее в наших климатических условиях время сева.
Уполномоченные позлословили, покрутились в селе и уехали, ничего не добившись. Однако через несколько дней стало ясно, зачем они приезжали.
В областной газете 11 мая появилась гневная статья. И какая! «Не в ладах с агротехникой».
«Артель «Заветы Ленина»,— говорилось в ней,— обладает мощной посевной техникой: четыре гусеничных трактора, сто голов рабочего тягла и около четырехсот трудоспособных колхозников. С такой силой можно было бы уже засеять большие площади. Однако ни хорошая, солнечная погода, установившаяся с 1 мая, ни пересыхание широких массивов почвы не заставили правление и его председателя покончить с вредной раскачкой».
Завершало статью такое требование:
«Пора районным организациям покончить с невмешательством в дела колхоза и навести в нем порядок. То же самое требуется сделать и в Шадринской МТС. Затягивая сев, правление ставит выполнение своих обязательств (получить стопудовый урожай) под серьезный удар. Долг колхозников, хозяев артели, поправить его грубые ошибки в севе»...
В тот же день из района поступил категорический приказ: сеять!
Мальцев ходил сам не свой, словно отстраненный от дела, от поля, будто сняли с него все заботы и ответственность за урожай. От этого чувства на душе было пусто и тоскливо.
Покачивались, легонько пылили по полям сеялки. В сводке уже значилось четыреста засеянных гектаров. Посеяно все зяблевое поле. Скоро переедут на паровой клин. Подумал Мальцев об этом и словно бы очнулся.
Потом он так будет вспоминать этот трагический моменте
— Когда стали присматриваться к парам, чтобы и их засеять, я объявил, что не дам, лягу под трактор.
Знали в районе, что он и правда ляжет. А это скандал на всю страну. И отступились от него. Не от полевода отступились, от депутата Верховного Совета. Ладно, делай как знаешь... Посевная в области успешно завершалась, и понуждать его уже не было надобности.
Отступиться-то отступились, но четыреста гектаров засеяно раньше времени... Обошел он их, посмотрел— сорняками зарастают. Нет, не будет здесь урожая. Не то что ста пудов не будет, но и пятидесяти ждать нечего. Но как докажешь осенью, что «не в ладах с агротехникой» не он, а тот, кто понуждал сеять рано? Сравнением с теми полями, которые засеяны в срок? Но таким сравненнем упрямым людям ничего не докажешь: хоть и рядом, да все же разные.
И Мальцев...
— Запряг я три лошади и 25 мая собственноручно в шести местах передисковал посевы. И всходы пшеницы уничтожил и овсюг. А на другой день, 26 мая, перепряг лошадей в конную сеялку и заново засеял тем же сортом, каким и раньше сеяли.
Прискакал на поле председатель — а оно у самой дороги, на виду. Слез с коня — и остолбенел. По хлебному полю, уже зазеленевшему, пролегли черные полосы, только что взрыхленные. Не пашня взрыхлена, а хлебная нива...
— Что ты делаешь?
— Не шуми, Иван Никонович, мне и самому страшно. И уезжай, будто не видел в ничего не знаешь.
— Ох, и наживешь же беды, упрямый ты человек!
— Урожай нас рассудит...
Через несколько дней зазеленели и полосы, которые Мальцев будет называть делянками. На них поднималась чистая и кустистая пшеница. Полосы чистой пшеницы по густо заросшему сорняками полю.
Быстро земля слухом полнится! Вроде бы и знать никто не знал, а вдоль полос, заметных издали, все четче обозначались тропинки: прослышали все же, ходят, смотрят...
Сначала торили тропинки председатели да агрономы соседних хозяйств, потом потянулись специалисты да руководители из района.
Пошли разговоры: мол, этими делянками Мальцев подрывает авторитет всего руководства...
Мальцев не хитрил, не подыскивал удобных оправданий и отговорок, а отвечал прямо и жестко:
— Я это сделал для наглядности, чтобы убедить тех, кто стесняет местную инициативу. Вот это их заслуги,— он указывал на заросшее сорняками поле,— а это мои.
А пшеничка на делянках и вправду удалась на славу. Почти 120 пудов зерна с гектара дали они. А с основного массива и по 30 пудов не наскребли. Вот какова плата за несвоевременный сев .. Не поэтому ли область снова не выполнила план хлебозаготовок, опять мало осталось хлеба на внутриколхозные нужды и на трудодни?
Однако разговоры о «выходке» Мальцева не только не умолкали, а становились все более сердитыми.
Ой, как плохо, когда на тебя косятся, когда к тебе и друзья-то подходят с опаской: как бы и на себя не навлечь немилость. Что делать? Сидеть и ждать следующей весны, повторения той же гонки? Нет, молчанием, пусть и упорным, зло не пересилишь.
И Мальцев пишет письмо в ЦК партии: прошу прислать комиссию, потому что непонятно, как хозяйствовать дальше, во имя урожая ли работать или ради благополучной сводки. И обстоятельно все рассказал, ничего ни прибавляя, ни убавляя...
Недели через две — еще молотить не закончили — в Мальцеве появились нездешние люди. Появились как-то тихо и незаметно. Никого не требовали, не вызывали на разговор — сами искали тех, кто им нужен был. Однако деревня уже знала, что это комиссия из Москвы. Поговорили, конечно, и с Мальцевым. По полям с ним походили, в доме посидели: чайку попили и поехали по другим хозяйствам, по другим районам.
Месяц пробыли они в области. А в конце декабря, под Новый год, вызвали в Москву руководителей из обкома и района, пригласили и Мальцева...
3
В те самые дни, когда Терентий Семенович спорил, доказывал, выслушивал суровые укоры, его одолевали и совсем иные думы
Подходил к концу десятилетний цикл травопольного севооборота, который не нарушался даже в годы войны. За это время все колхозные поля побывали под многолетними травами.
Все эти годы Мальцев жил верой в правоту теории Вильямса, верой в то, что именно таким путем можно сделать пашню плодороднее. Одиако вера эта начинала исподволь меркнуть: положительное действие многолетних трав на урожай последующих за ними зерновых и других культур замечалось лишь один, самое большее — два года. Так что прогрессивного, тем более устойчивого увеличения плодородия что-то не наблюдалось.
В том, что задача, выдвинутая Вильямсом, правильная, что человек, возделывающий землю, способен не истощать, а повышать плодородие, в этом Мальцев не сомневался. А вот пути решения этой задачи... ошибочны.
Нет, Мальцев не торжествопал. Ведь он и сам, уверовав в идею Вильямса как единственно верную, отдал ее воплощению десять лет жизни. И сколько трудов стоило удержать в эти годы травы на поле, именно там, где они должны быть. А оказалось, все напрасно, не возрастает плодородие.
Говорят, для науки отрицательный результат — тоже на пользу эксперименту. Мальцева это не могло успокоить. Он, поверив науке, получил отрицательный результат не в эксперименте, а в практике земледелия, в хозяйственной деятельности. Десятилетие колхоз засевал многолетними травами до тысячи гектаров. Засевал по его настоянию. И едва накашивали с этих гектаров по десять— двенадцать центнеров сена: не удавались многолетние травы в здешних краях. А с пшеничной нивы в эти же годы брали до двадцати центнеров зерна... Уже одного этого сравнения хватило Мальцеву, чтобы испытывать чувство огромной вины перед колхозниками. И поэтому, когда увидел ошибочность пути, предложенного Вильямсом, он упрекал в этом не только Вильямса, но еще больше себя. За то, что поверил слепо.
Движимый этим чувством, Мальцев обратился за советом к мыслителям прошлого.
Еще раз прочитал у Герцена: «Что основано в самой природе, то растет и умножается». И совет услышал: «...смотрите на ее биографию, на историю ее развития — только тогда раскроется она в связи».
Перечитал работы Ленина... Владимир Ильич много раз повторял, что необходимо смотреть на каждый вопрос с точки зрения того, как данное явление в истории возникло, какие главные этапы в своем развитии проходило, и с точки зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь.
Итак, для начала ряд логических построений.
Как доказал основоположник почвоведения Докучаев, почва образовалась на поверхности Земли в результате сложного взаимодействия ряда факторов: тут и органическая жизнь, и климат, и рельеф. Значит, до появления жизни на Земле, и главным образом до появления растительности, почвы как таковой не было. Процесс образования и постепенного накопления перегноя мог начаться лишь с появлением растительности и низших организмов. При этом накопление гумуса, а это не. что иное, как постоянное пополнение кладовой, в которой веками накапливались запасы пищи для растении, возможно лишь в том случае, когда растения после себя оставляют органического материала больше, чем они успевают взять его за свою жизнь из почвы.
Так ли это? Прямого ответа на этот вопрос в трудах русских агрономов Мальцев не нашел, но он логически вытекал из основных положений науки о почве. Это так, потому что растение на девяносто процентов соткано из солнечных лучей, а в качестве основного строительного материала используется углерод— взятый из атмосферы углекислый газ.
Еще и еще раз перечитал те строчки, где В. И. Ленин писал, что земля — это главное, весьма оригинальное средство производства. Его нельзя ни заменить никаким другим, ни произвести вновь, как машину. Но если с ним правильно обращаться, то это важное средство производства не только не снашивается, а и улучшается.
Записал Мальцев себе: если правильно обращаться, то земля не только не снашивается, но еще и улучшается. Вывод этот вытекал из учения К. Маркса, который утверждал, что производительная сила, находящаяся в распоряжении человечества, беспредельна. Урожайность земли может быть бесконечно повышена приложением капитала, труда и науки.
Уяснив эти основополагающие взгляды классиков материалистического учения, Мальцев неминуемо должен был задать себе вопрос: чем же в таком случае мы мешаем природе, занимаясь хлебопашеством? Где, в чем мы поступаем неправильно? Почему это важное средство производства, находясь в нашем распоряжении, все же снашивается?
А не потому ли земля беднеет, что мы нарушаем условия, при которых природа творит почву? Да, многолетние травы улучшают ее плодородие — это факт. Но, высевая их, мы на два-три года исключаем обработку почвы плугом. Как писал и сам Вильямс, травопольная система «взята из природы — она представляет подражание тем процессам, которые совершаются в перелогах, залежах и целинных землях, в которых многолетние злаки разбивают своими корнями почву на комочки и пропитывают каждый комочек свежим перегноем».
А что происходит там, где возделываются однолетние? Тут мы не только не подражаем тем процессам, которые совершаются в природе, а нарушаем их — пашем ежегодно, а то и несколько раз за сезон, и пашем с оборотом пласта, при этом постоянно перемещаем почву: верхний плодородный слой вниз, нижний — вверх. Не действуем ли мы этим себе во вред?
К тому же в рыхлой почве при большом притоке воздуха, как это подчеркивал и Вильямс, разложение корневых остатков происходит значительно быстрее, вплоть до их минерализации, что ухудшает структуру почвы, обедняет запас органических веществ, а значит, и снижает плодородие почвы.
Но разве в этом повинны злаки, а не агротехника их возделывания?
Придя к этой догадке, Мальцев вспомнил про опыт, который он поставил в 1943 году на засоренном овсюгом поле, про восьмую делянку. Ее он не стал пахать плугом, чтобы не прятать сорняки на глубину, обработал лишь конной дисковой бороной: сначала спровоцировал рост сорняков, а потом уничтожил их бороной.
Посеял пшеницу на этом поле поздно, 26 мая. Без пахоты посеял, в хорошо продискованную и проборонованную почву. И вот вопреки всем ожиданиям получил неожиданный результат: именно на этой делянке уродилась самая чистая н добрая пшеничка.
В то время Мальцев не придал этому факту никакого иного значения, не сделал никакого другого вывода, кроме одного: с сорняками лучше бороться дисковкой, а не пахотой.
— Тогда я не обратил внимания на то, что хлеб может хорошо расти и на непаханой, уплотненной почве,— признается он не без сожаления.
Да, бывает с человеком и такое: сеял по непаханой почве и не обратил никакого внимания на то, что не пахал, а хлеб уродился даже лучше, чем на вспаханных делянках.
И вот, вспомнив это, Мальцев задумался: а может быть, крестьяне были ближе к истине, объясняя истощение плодородия тем, что земля «выпахалась» и требует отдыха? От чего? От пахоты, от постоянного оборота пласта, а вовсе не от однолетних культур? Ну конечно же, обрабатывая почву, мы вмешиваемся в природу, нарушаем ее законы. Но можем ли мы так возделывать землю, чтобы не только не нарушать законы природы, а обращать их себе на пользу? Чтобы злаки не разрушали (если они разрушают?), а создавали еще большее плодородие почвы?
Снова засел за книги...
С карандашом в руках перечитывал труды Вильямса.
«Полевое однолетнее растение не может накопить в почве органического вещества, органических остатков. Наоборот, оно требует непрерывного разрушения запаса органического вещества, имеющегося в почве. Это существенное, ясно выраженное свойство полевых растений»,— утверждал без всяких оговорок академик. И тут же: «Уже почти сто лет назад оно было совершенно точно формулировано положением о том, что нет более прямого пути к абсолютному ограблению, обеднению почвы, как беспрерывная культура однолетних растений. Это положение до сих пор не опровергнуто никем».
Вильямс имел в виду положение, сформулированное еще в первой половине XIX века основателем немецкой агрохимической школы Юстусом Либихом. Это он, Либих, как считают в ученом мире и утверждают все энциклопедии, высказал теорию минерального питания растений, положившую начало широкому внедрению минеральных удобрений в земледелии — восстановлению плодородия почвы за счет возврата ей взятых растениями веществ.
Как же забывчивы люди! Сделал это на семьдесят лет раньше Андрей Тимофеевич Болотов, первый русский ученый агроном. Тот самый Болотов, который первым произнес хорошо знакомое нам слово «картошка»,— так он назвал заморские «земляные яблоки», которые, вопреки приказу Петра I, высаживались лишь на цветочных клумбах как экзотические растения. Первым в России приступил к выращиванию их на огороде. Не для украшения, а в пищу, тем самым положив начало массовому распространению на Руси «второго хлеба», без которого наш стол сегодня немыслим. Тот Болотов, который рискнул сорвать с клумбы и съесть «любовное яблочко», считавшееся не только в России, но во всем мире смертельно ядовитым. То был... обыкновенный помидор, который благодаря Болотову, опровергнувшему напрасные страхи человеческие, стал желанным продуктом питания.
Именно Болотов, по праву считающийся одним из основателей русской агротехнической науки, еще в 1770 году опубликовал свой трактат «Об удобрении земель», в котором и изложил теорию минерального питания растений, не признанную соотечественниками при жизни ее автора и после его смерти отданную иностранцу. До него и долго после него ученые всего мира полагали, что растение берет все необходимое для своего роста из воды, и только из воды. Болотов первым сказал и доказал: нет, растение питают минеральные вещества, содержащиеся в почве. И первым в мире применил минеральную подкормку растений на полях Тульской губернии. Применил и сказал: «Нет плохой земли, а есть плохие хозяева». Фраза эта стала крылатой, сделалась поговоркой.
Это уже после Болотова, через 70 лет после него, в 1840 году, немецкий ученый Либих пришел к тому же открытию теории минерального питания растений. И он оказался счастливее своего русского предшественника: теорию не только признали, но и отдали ему честь первооткрывателя, положившего начало широкому внедрению минеральных удобрений в земледелии, чем человечество и не преминуло воспользоваться
Не менее известной стала и его фраза, которая долго будет пугать человечество своей непреложностью. А звучала она так: «Нет более прямого пути к абсолютному обнищанию народа, как беспрерывная культура однолетних растений».
Именно эту фразу Вильямс и назвал «грозной правдой формулы Либиха». И когда утверждал, что положение это до сих пор не опровергнуто никем, то нисколько не искажал истину: уже почти сто лет ученые агрономы всего мира четко делили растения на истощающие и улучшающие почву. К улучшающим отнесли только многолетние травы, и поэтому именно их рекомендовали периодически высевать на пашне — для восстановления плодородия.
И все же ни у кого травосеяние не вырастало в ту целостную систему, которую создал Вильямс и которая, по его глубокому убеждению, способна уже «на третий год ее применения утроить урожай». Утроить везде и всюду: на подзолах центральной полосы России, на черноземах Украины, Кубани и Зауралья, на суглинках Средней Азин. Ни минуты не колеблясь, Вильямс провозглашал: «Мы еще раз подчеркиваем необходимость повсеместного посева травосмеси, если хотим по-настоящему, без оговорок, решать вопросы урожайности на всей сельскохозяйственной территории СССР».
И снова Юстус Либих Он считал, что отдых в перелоге (в залежи) зависит от физико-химического процесса — от выветривания, переводящего минеральную массу почвы в состояние, пригодное для питания растений. Чтобы ускорить это выветривание, он и его последователи советовали при пахоте ставить пласт стоймя: он будет со всех сторон овеваться ветерком.
Ну. а что показала практика?.. Урожаи на такой пашне падали еще скорее.
Самый ощутимый удар либиховскому взгляду на почву и на процессы, в ней происходящие, нанесли русские агрономы, та славная когорта, которая в конце XIX века и положила начало новой науке о почве. Один из них — Павел Андреевич Костычев, соратник Докучаева и автор первого в России учебника «Почвоведения».
Он взял почву, только что вышедшую из-под залежи, а для сравнения — выпаханную, которую пора было забрасывать в залежь. И что же обнаружил?.. В выпаханной почве даже больше питательных веществ в той форме, в какой усваивают их растения, чем в залежной. Ученый сам не поверил этому, брал новые и новые пробы, прибегал к самым разным химическим анализам, но все давали тот же результат.
Тогда в чем же различие между родящей и бесплодной почвой?.. Оно в физическом строении. Родящая —«она зернистая», определил Костычев. А бесплодная — это обращенная в пыль, разрушенная земля. В залежи, в перелоге почва снова «отстраивается», делается зернистой. В том и заключается суть ее отдыха...
А от чего все же ей нужен отдых? Что разрушает ее?..
Перечитал Мальцев и Докучаева. Осноположник почвоведения, рассматривая процесс образования и развития почв, соединил воедино климат, ландшафт, жизнь и землю. Но эти процессы ученый рассматривал в естественных условиях. Тут не было человека, обрабатывающего ее.
Человек появился лишь в трудах Вильямса. Да, говорит он, разрушена структура — и земля живая стала мертвой. Она может иметь полный достаток минерального питания для растений, но хорошего урожая все равно не даст. Бесструктурная земли — как фитиль: когда набухнет — перестает впитывать влагу, а в сушь тянет из глубины.
Конечно, соглашается Вильямс с классиками, восстановить структуру можно естественным путем — в перелоге. Но это долгий процесс. Человек способен ускорить восстановление плодородия почвы. Так появляется недостающее звено: «земля и человек». А человек имеет дело с «культурной почвой»— его термин, которого раньше не было. Для создания культурной почвы нужна и «культурная вспашка»—тоже его термин. А таковой, считал он, может быть только вспашка плугом с предплужником, который необходим для опрокидывания разрушенного верхнего слоя на дно борозды, где и будет восстановлена его структура. Поэтому вспашку мельче двадцати сантиметров называл варварской, недопустимой, а борону объявил «вредным орудием», нарушающим комковатость почвы.
Выходит, разрушается структура орудиями? Отчасти, отвечал Вильямс. Главными же разрушителями структуры культурной почвы являются возделываемые человеком однолетние растения. И они разрушают не только структуру, но и приводят к разрушению запаса органического вещества, имеющегося в почве. Таково «существенное, ясно выраженное свойство полевых растений...».
Объемистый седьмой том собрания сочинений Вильямса был испещрен, изрисован пометками на полях, а то и прямо по тексту. Иногда, в минуты глубоких раздумий, он закрывал книгу и на задней стороне обложки бегущим почерком торопился записать мысли, приближавшие его к разгадке:
«В чем же заключается так называемая выпаханность почвы?»
«Беспрерывно разрушаемое должно беспрерывно пополняться, накапливаться».
«Почему растения растут плохо, когда к их корням не притекает воздух?»
И тут же записи иных размышлений, в них отражение той борьбы, которую он вел за сроки сева,— ведь все это совершалось одновременно: «Система стеснений часто приводит к плачевным последствиям».
«Не пригодно связывать руки и мешать человеку служить Обществу».
Проштудировал Мальцев и многие другие книги.
И нашел! Нашел подтверждение своим мыслям, опору своим выводам. Подчеркнул и выписал на отдельную бумажку, чтобы с собой иметь на случай спора с несогласными, которых, не сомневался, будет достаточно.
Плиний: «При возделывании злаков та же самая земля, как это понятно, окажется плодороднее всякий раз, когда ей дать отдых от обработки».
От обработки! Не от злаков!
Д. И. Менделеев: «Что касается до числа паханий, то очень многие впадают в ошибку, полагая, что, чем больше раз вспахать, тем лучше».
П. А. Костычев: «Вполне разумно поступают степные хозяева, производя посев во второй год по непаханой земле и заделывая семена только бороною».
Это мнение великого русского ученого относительно хозяйствования на целинных землях Мальцев вспомнит еще. не раз. Эту мысль он выскажет в открытом письме, с которым в феврале 1955 года обратится к ученым страны и всему обществу:
«Если мы целинные земли будем разрабатывать плугами с отвалами, а потом каждый год их снова будем пахать с оборотом пласта, то, по правде говоря, скоро мы эти новые земли превратим в старые, и скорее там, где сравнительно небольшой гумусовый слой; от такой работы и структура почвы скоро разрушится, скоро разрушатся и органические вещества».
Целине нужна иная агротехника, без пахоты!
Но вот еще одна выписка.
А. А. Измаильский: опыты «показали, что пылеобразная почва под влиянием развития корневой системы пшеницы вновь получает зернистость!».
— Под влиянием пшеницы! — воскликнул Мальцев. А ведь именно ее, пшеницу, вот уже сто лет ученые всего мира обвиняют в разрушении структуры, в ограблении и обеднении почвы...
4
Агрономическая наука была до того убеждена в непреложностн теории Вильямса, что и мысли не допускалось о ревизии его учения. На кафедрах защищались диссертации, в которых злаки обвинялись в истощении и разрушении почвы. Влиянию однолетних растений на почву — главнейшему вопросу в агрономической науке и основному вопросу в земледелии — посвящались многочасовые лекции в университетских аудиториях. В тиши кабинетов писались учебники, по которым еще предстоит учиться не одному поколению студентов. И всюду рефреном звучало утверждение — культурные однолетние растения ни при каких условиях не могут накопить в почве органическое вещество.
— Могут! — сказал Мальцев, собираясь в Москву, куда пригласили его, чтобы разобраться в той ситуации, которая сложилась в сельском хозяйстве области.
Мальцев был уверен: разговор предстоит трудный. Но у него есть неопровержимые доказательства, да и члены комиссии на его стороне. Сложнее будет говорить с учеными.
Он хорошо знал, что ученые продолжали исповедовать теорию Вильямса и клялись каждым его словом как единственно верным. Мысль, объявленная идеальной и окончательной, сделалась догмой. Все, что противоречило ей, яростно обругивали и прогоняли прочь.
У Мальцева был сильный побуждающий к действиям стимул: в октябре 1948 года был принят и обнародован Государственный план комплексного преобразования природы. Он представлял собой обширную программу улучшения природных условий на огромных территориях страны, программу повышения плодородия наших земель. Пройдут годы, и план этот, не воплотившись, будет незаслуженно забыт, но поначалу программа, в нем содержавшаяся, нашла горячий отклик в сердцах миллионов, она звала на созидательный труд всех, кто беззаветно любил Родину и хотел сделать ее краше. Снова, как и в тридцатые годы, энтузиасты, не дожидаясь милостей от природы, жили мичуринской мечтой: создать сады там, где их не знали, посадить зеленые аллеи вдоль дорог, у воды, среди степей. Во всех городах и селах красовались плакаты с гордыми словами Мичурина: «Наша страна и внешне должка быть самой красивой страной в мире».
Мог ли Мальцев, слышавший эти слова от самого Мичурина, не откликнуться на них? Мог ли он, приехав в Москву, не высказать свои думы в штабе отрасли?
И Мальцев, приехав в декабре в Москву, решительно постучал в кабинет министра сельского хозяйства СССР Ивана Александровича Бенедиктова.
Решил: если уж начинать, то начинать надо с самого верха, не ждать, когда сюда через множество инстанций дойдут его мысли, изрядно искаженные, многократно оспоренные и опровергнутые.
Министр пригласил московских ученых: пусть, мол, послушают дерзкого колхозного полевода. Пришло человек двадцать пять.
— Рассказал я. Одни, как говорится, в бороды посмеялись, другие не очень-то и вслушивались, однако некоторые вроде бы задумались...
Он рассказал, а ученые не посчитали нужным вступать в спор с рядовым колхозным полеводом.
Так и не услышал Мальцев от них ни одного слова, будто и не было только что такого серьезного разговора по главнейшему в агрономической науке вопросу, будто он не опровергал ту формулу, на которой покоилось все современное учение (на ней же основывалась и программа повышения плодородия земли). Но Мальцев был уже рад тому, что высказался. В приподнятом настроении он отправился в гостиницу. Ему предстоял еще один разговор, и надо было к нему подготовиться.
5
В Центральном Комитете партии Мальцева слушали без усмешек. Здесь хотели разобраться, почему Курганская область, где плодородные черноземы, ежегодно не выполняет хлебопоставки, отчего постоянно просит семенные ссуды?
Областное руководство ссылалось на затруднения с тягловой силой, на нехватку почвообрабатывающих орудий.
А что скажет Мальцев? В тех же самых условиях его колхоз еще ни разу не задолжал государству, ни разу не оказывался без семян.
— К сожалению, урожай часто приходится завоевывать не только у природы. Немало усилий тратится и на борьбу с шаблонным подходом к агротехнике со стороны местных органов,— ответил Мальцев и умолк.
— Мы вас слушаем...
— Есть, конечно, и затруднения с тягловой силой, сказывается и нехватка почвообрабатывающих орудий. Но все это усугубляется нежеланием областных органов считаться с особенностями местного климата, с природными условиями весны и лета,— продолжал полевод. Нет, он не будет отмалчиваться, не будет щадить присутствующих здесь земляков, не для того писал письмо. Он выскажет все, что думает.
— Выходит, в ваших областных органах забывают, где они живут и работают, то ли в Зауралье, то ли на Кубани?
— Где живут, они знают. Но вот с климатом считаться не хотят, не хотят считаться, что урожай хоть и на земле растет, но зависит и от неба. Поэтому и нужно учитывать как почвенные, так и климатические условия. Нельзя действовать так, будто земледелие от этих условий не зависит. Стремясь раньше отсеяться, мы не ведем борьбы с сорняками, а их у нас так много, что никакое удобрение не может дать ожидаемой пользы, так как и влагой и удобрениями в первую очередь пользуются сорняки. При существующем у нас порядке судьба урожая на милости случая. Авось что-нибудь да вырастет... К тому же некоторые уже и привыкли так работать — и ответственности за плохие результаты никакой, и проще, заботы меньше. После такого сева и во время уборки потребуется меньше забот, но зато и хлеба будет меньше...
Но такой «порядок», считал Мальцев, не допускает творческой инициативы специалистов, и что еще хуже — полностью подрывает заинтересованность и активность колхозников, их заботливое отношение к своему коллективному хозяйству. А это очень вредно и опасно, потому что человек, с которого снята ответственность за судьбу урожая, теряет всякий интерес к своему делу, перестает чувствовать себя хозяином. И не дай нам бог, если окончательно нарушится та неразрывная связь с землей, которая веками крепила душу человека. Ну, а что касается искусства получать высокие урожаи, то оно тоже заключается не в бездумном исполнении шаблонных предписаний, а в умении применяться к конкретно складывающимся обстоятельствам, несмотря на всю сложность этой задачи.
— А напишите-ка, Терентий Семенович, статью о всех этих непорядках. В назидание тем, кто забывает, в какой они хозяйствуют зоне, а такие есть не только у вас, в Курганской области...
Он охотно напишет такую статью—«Против шаблона в агротехнике». Напишет тут же, в гостинице «Москва», и отнесет в газету «Социалистическое земледелие». Статья вышла 7 января 1949 года.
А 10 января Центральный Комитет партии принял постановление «О руководстве Шадринского райкома ВКП(б) Курганской области сельским хозяйством района», в котором одобрил агротехнические приемы, предложенные полеводом-опытником.
— Крепко тогда поддержали меня в Центральном Комитете,— вспоминал часто Мальцев.
Последователям Мальцева стало легче. Прокладывая дорогу другим, всю тяжесть борьбы он принял на себя. Минут годы, Мальцев оглянется на пройденный путь и скажет:
— Каждую весну, двадцать лет кряду, позорили меня за поздний сев. И каждую осень, тоже все двадцать лет подряд, хвалили за хороший урожай.
Скажет, как и подобает мастеру, без обиды на хулу, но с горечью за то, что все эти двадцать лет хозяйства обширной зоны Зауралья, Западной Сибири и Северного Казахстана, мучимые той же июньской засухой, продолжали недобирать значительную часть урожая, тысячи и тысячи тонн зерна, только потому, что продолжали сеять рано, не в лучшие для этой зоны сроки, а в худшие.
Однако еще выступят против мальцевских сроков сева ученые. Но выступят с явным запозданием: хозяйственники уже проверили эти сроки и приняли их. Применив наконец агротехнические приемы, разработанные «у себя дома», колхозы Шадринского района в 1950 году впервые соберут на круг более ста пудов зерна с гектара — добьются того, к чему безуспешно стремились два года назад.
Не отстанет и область: соберет и продаст зерна государству больше, чем в предвоенном 1940 году, хотя посевных площадей пока еще было меньше: много оставалось запущенных, заброшенных земель.
И все же ученые стояли на своем: чем раньше посеешь, тем раньше и уберешь, быстрее хлеб в закрома вывезешь.
Похоже, спор грозил стать бесконечным. И тогда Мальцев предложил:
— Что ж, вы убеждены в этом, мы — в другом. Но так как наши взгляды оказались противоположными, то ясно, кто-то из нас ошибается. А любая ошибка в науке, как вы хорошо знаете, приносит немалый вред. Да и ложное объяснение не побуждает, а притупляет мысль. Однако кто же нас рассудит? А давайте посоревнуемся с вами... Приезжайте в какое-нибудь хозяйство и внедряйте там такие приемы земледелия, в пользе которых вы душевно убеждены. Мы же будем работать по-своему, как считаем лучше. Если у вас урожай будет выше нашего, мы признаем себя неправыми и начнем внедрять ваши приемы.
Ученые не откликнулись на это предложение. И совещание, на котором шел этот спор, одобрило и рекомендовало к внедрению в хозяйствах Зауралья, Западной Сибири и Северного Казахстана, везде, где весна быстро переходит в жаркое, сухое лето, мальцевскне агротехнические приемы и его сроки сева.
Мальцев оказывал все большее влияние на повышение культуры земледелия, на все сельскохозяйственное производство. И не только в Зауралье. Разработанными им агротехническими приемами как самыми ценными рекомендациями воспользуются при освоении целинных просторов Казахстана и тем самым спасут первые же посевы от выгорания, а себя от горького разочарования. От того разочарования, которое постигало первых переселенцев из европейской части страны, пытавшихся обосноваться здесь еще в конце XIX и начале XX века. Они принялись сеять здесь так же, как сеяли дома, но посевы не удавались. Отчаявшись и прокляв эту степь с хорошим черноземом, но где все выгорает от жары, переселенцы возвращались в Россию.
Целинники пятидесятых годов нынешнего века пришли сюда уже с проверенными агротехническими приемами, к тому времени окончательно признанными.
Никто не считал, хотя и подсчитать нетрудно, эффективность этих агроприемов, сколько зерна получила страна дополнительно. Одно известно, и это подтвердится многолетними исследованиями, что наивысшие урожаи яровой пшеницы при других равных условиях приносят хозяйствам Зауралья, Северного Казахстана и Западной Сибири именно поздние посевы. Мальцев хорошо знал это, однако и он никогда не считал прибавку. Да и вообще полагал так:
— Это не прибавка, когда поступаем так, как и следует поступать. Поняли, и хорошо. Хуже, если бы продолжали упорствовать, продолжали соревноваться, кто кого на севе опередит, кто пораньше отсеется. Вот тогда бы мы недобирали сотни и сотни тысяч тонн пшенички...
Нет, прибавка, не соглашались с ним! На сотни и сотни тысяч тонн зерна больше получает человек ежегодно именно оттого, что вовремя сеет. Сеет теперь и не знает, не догадывается, не задумывается, сколько душевных и физических сил отдал Терентий Семенович Мальцев, чтобы испытать, внедрить, отстоять эти сроки, за которые еще отец ругал его и которые теперь становились предметом изучения — и все дальше отдалялись от своего творца. Но он не печалился, он уже жил другими заботами.
6
9 марта 1949 года областная газета «Красный Курган» опубликовала статью Терентия Мальцева «Предположения относительно возможности ускорения и упрочения восстановления структуры почвы и ее плодородия» с маленькой оговоркой — «В порядке постановки вопроса».
Через годы некоторые биографы, вспоминая эту статью, положившую начало теоретическому обоснованию новой системы земледелия, будут утверждать, что она увидела свет после долгих мытарств, что сначала побывала в столичных журналах, где ее отвергли.
— Нет, не посылал я ее в столичные журналы,— опровергал эти утверждения Терентий Семенович. — Чтобы проверить свои предположения в поле, чтобы не тайком работать, мне как раз и нужно было сначала в местной газете выступить, предупредить районных и областных руководителей, что пахать не буду. К тому же это пока еще были только предположения.
Да, он так и писал, ничего не утверждая:
«Мне кажется, что наша сельскохозяйственная наука еще недостаточно глубоко и всесторонне изучила вопрос о биологических требованиях полевых культур, особенно зерновых злаков и бобовых, к плотности почв, на которых они произрастают. Неизвестно: нужна для них почва рыхлая или плотная? Если лучше плотная почва, то в какой мере? В практике нередко приходилось быть свидетелем совершенно необычного явления. Семена пшеницы или бобовых, случайно упавшие вблизи дороги на совершенно нетронутую плотную почву и хорошо прикрытые рыхлым слоем земли, давали чудесные растения».
Действительно, кто не видел на обочинах у дорог, на окрайках поля, не захваченных плугом, колосистые стебли пшеницы и ржи! Даже по железнодорожным кюветам, между шпалами на тупиковых линиях, где стояли вагоны с зерном. Видели, конечно, и поражались: надо же, на поле посохли, зачахли хлеба, а здесь ни жара им нипочем, ни каменистый твердый грунт! Удивлялись такой живучести, но дальше мысль не шла.
Сославшись на эти наблюдения. Мальцев делает вывод, что «необходимо, по-моему, дольше держать поля непахаными, но в культурном состоянии».
А чтобы держать непаханое поле в культурном состоянии, нужно как следует продисковать его с осени, ранней весной задержать в нем влагу, уничтожить все сорняки, хорошо заборонить и только после этого сеять.
«В этом случае,— размышлял он дальше,— семена пшеницы попадут на плотную влажную «постельку» и будут сверху хорошо покрыты «одеялом» из рыхлой сухой земли».
Что это, всего лишь новый агротехнический прием? Нет, вопрос о посеве без пахоты Мальцев ставит шире:
«Мне кажется, что удачное разрешение этого вопроса внесет дополнение к учению В. Р. Вильямса, ускорит восстановление структуры почвы и ее плодородия, откроет перспективу непрерывного обогащения как в смысле структуры, так и накопления в ней питательных веществ».
Да, пока что это были лишь предположения. Мальцев впервые выдвигал идею без широкой ее проверки в поле.
Конечно, он мог бы сослаться на опыт, поставленный в 1943 году, ведь восьмая делянка как раз и была засеяна без пахоты. Но не сослался, потому что тогда он не обратил на это никакого внимания, не задумался и теперь ругал себя за это. Нужно, не откладывая, заняться проверкой идеи уже в нынешнем году.
«Я считаю стоящим делом закладку таких опытов как на опытных полях и сортоучастках, так и в колхозах области, хотя бы в небольших размерах».
Однако начать испытания весной ему не удалось: все поля, как нарочно, были вспаханы еще с осени. Воплощение замысла пришлось отложить.
Но уже осенью, когда была убрана пшеница, он не дал перепахивать жнивье, а велел лишь взлущить стерню дисковыми лущильниками. Весной повторили эту операцию, а потом, когда уничтожили сорняки и пробороновали, посеяли пшеницу. По непаханому!
И сразу четыреста гектаров. Еще сто гектаров заняли горохом, викой и горчицей. Так что всего —пятьсот!
— Май в тот год выдался на редкость сырым,— будет вспоминать он и через двадцать и через тридцать лет. — По пахоте ни один трактор с сеялкой пройти не мог — тонул, а по непаханому, где только продисковали, там хоть бы что, как по асфальту бежали. То же самое и на жатве повторилось. На одном поле без помех шли комбайны, а на другом, через дорогу,— пережидать пришлось, когда распогодится и земля подсохнет. В то лето выпало небывалое количество осадков — больше годовой нормы...
Жатву вспоминал Мальцев так подробно, будто вчера это было:
— Как раз в эту пору заехали к нам писатели Валентин Овечкин и Геннадий Фиш, видели, как шла уборка и на том поле и на этом. На соседних полях пшеница, посеянная по пахоте, полегла еще в ранней стадии развития. Здесь же, на непаханой ниве, она оказалась устойчивой, неполегшей, с хорошо развитым колосом, высокоурожайной и созрела раньше.
Валентин Овечкин и Геннадий Фиш с восторгом расскажут об этой жатве в очерке «Человек создает землю», который опубликует «Литературная газета» в августе пятьдесят первого года.
«Справа от дороги,— писали они,— стоит спелая, чистая, выше груди пшеница. Слева—тоже хорошая, но хуже.
— Вот здесь,— показывает Мальцев направо,— сеяли мы пшеничку по непаханому, а там, слева,— по паханому, по зяби. Разница даже на глаз видна...
По ниве спокойно, медленно плыл корабль полей — комбайн. На ходу к нему подъезжали запряженные парой лошадей телеги и отваливали, нагруженные мешками тяжеловесного зерна. И такими радостными были в свете осеннего солнца и эти нивы, и свежее жнивье, и комбайн, и эта плотной стеной стоявшая у дороги пшеница, и сам Терентий Семенович, с улыбкой оглядывавший поле боя — поле своей победы...
— Как ни трудно иногда бывает, а за такие вот минуты, когда видишь — не подвела тебя земля родная и ты людей не подвел, за такую радость все отдашь! — говорит Терентий Семенович»,
7
В эти радостные дни Мальцев был уже в новой должности: совершенно неожиданно он стал директором Шадринской опытной станции. Весть эту принес ему правительственный пакет.
Все было неожиданным: о станции ни Мальцев не вел никаких разговоров, ни с ним никто не говорил о ней. Но то, что она будет, что уже в нынешнем году для нее построят помещение, что в штате ее будет три специалиста, несказанно обрадовало Мальцева. Правда, его смущала новая должность. Хотел отказаться, поехал в район, в область, однако там только руками разводили: мол, не мы назначали, не с нами и говорить об этом.
Так Мальцев стал директором опытной станции при колхозе — единственного в своем роде научно-исследовательского учреждения. Единственного, потому что объект деятельности станции — вся колхозная земля. Направление и характер опытных работ определяются потребностями артельного хозяйства. Главный показатель деятельности — урожай хлебов. И урожай не на опытных делянках, а на всей колхозной земле. Исполнители опытных работ — все колхозники, прямо заинтересованные в хорошей постановке этих работ, так как оплата их трудодня целиком зависит от урожая. Выходит, заинтересованность тут обоюдная.
Приняв новую должность, он постарался максимально «упростить» ее: ни кабинетом не обзавелся на станции, которая была построена в том же году на том самом месте, где когда-то стояла церковно-приходская школа, ни привычкой к разного рода заседаниям с их долгой и утомительной говорильней. А посоветоваться, поспорить можно и в поле, даже в поле лучше — не отвлечешься от практических забот.
Утверждая тематический план, Мальцев поставил перед станцией, перед тремя ее сотрудниками, а значит, и перед самим собой, одну-единственную задачу, но такую, над разрешением которой впору бы работать крупному институту, — разработать систему земледелия, обеспечивающую прогрессивное нарастание почвенного плодородия.
Но для этого сначала надо было ответить на те вопросы, на которые не давала ответа современная наука: как будут влиять на почву однолетние полевые растения, если им, как и многолетним травам, предоставить такую же возможность жить и развиваться без ежегодной пахоты?
То, что первый посев без пахоты дал хороший урожай, еще ничего не доказывало. К тому же лето выдалось дождливое, и хорошие хлеба уродились даже на плохо подготовленных землях. Надо посмотреть, что будет в засуху.
И она не заставила долго ждать. 1951 год — ни одного дождя за весь май и июнь, только 13 июля собрались тучи и на высохшую землю пролилась скупая влага. Следующее лето — еще суше. Однако и в этих условиях урожай по мелко обработанной стерне был не меньше, а больше, чем по вспашке.
Итак, на непаханой земле даже без внесения удобрений хлеб растет лучше и в засуху. Значит, и в сильную засуху влаги в почве было достаточно для создания хорошего урожая. А традиционная вспашка «просушивает» землю на большую глубину...
И потянулся в зауральское село Мальцево поток экскурсантов: ехали агрономы и руководители хозяйств, партийные и хозяйственные работники, ехали из ближних и дальних областей. Одни, правда, неизвестно зачем и приезжали: потоптавшись и побурчав о чем-то, в тот же день и уезжали. Другие просились остаться на два или три дня, но жили по неделе: ходили по полям, дотошно допытывались, присматривались, потом спрашивали:
— Но когда-нибудь вы все же будете пахать с отвалом?
— Поживем — увидим,— отвечал Мальцев. — Может, никогда не будем.
— Вы упростили систему обработки почвы до примитивности.
— Наоборот, это самая сложная система, хотя и кажется на первый взгляд упрощенной. Она требует не только тщательнейшего выполнения каждого вида работ, но и правильного выбора времени их выполнения. В ней все лучшее из достижений науки, и все это лучшее мы сконцентрировали и применили на практике.
— Вы не боитесь рекомендовать такую систему земледелия в производство?
— Признаться, побаиваюсь. Не за систему побаиваюсь, а за ее выполнение. Если умело все делать, то будет хороший урожай, а если так сделать, лишь бы черед отбыть, то можно и совсем ничего не получить. Поэтому мой совет: нашу систему обработки почвы применяйте осторожно и пока в небольших размерах. Надо, чтобы люди поучились сначала.
Мальцев побаивался, особенно после того, как беду своими глазами увидел.
Летом 1950 года в колхоз «Заветы Ленина» влилась маломощная артель соседней деревни Дрянново. В августе, как и полагалось, пошли комиссии определять урожайность по всем полям: и по своим и по соседним. Увидели мужики влившейся артели посев по непаханой стерне и удивились: «Хороший у вас хлеб. А у нас, где без пахоты посеяли, один овсюг уродился».
Пошел Мальцев посмотреть, а там на самом деле пшеницы не видно — едва ли по четыре центнера намолотят.
«Как же вы сеяли?»—спросил он хозяев. «А так же, как и вы. Продисковали весной, заборонили и сразу посеяли». «Да ведь мы все это делали не одновременно с севом, мы сначала влагу в почве надежно закрыли, спровоцировали и уничтожили сорняки, а уж потом и сеяли»...
А земля была хорошая, могла бы уродить и центнеров по тридцать, если бы все правильно сделали. Ладно, что засеяли так только одно небольшое поле.
Этот факт насторожил Мальцева. Выходит, лодыри-то обрадовались, что пахать не надо. Им и невдомек, что посев по непаханой стерне можно проводить только на хорошо обработанных и очищенных от сорняков землях. Так и идею опорочат и вред принесут немалый. Поэтому и советовал всем, кто приезжал к нему на опыты посмотреть, беспахотную обработку почвы применять осторожно:
— Ставьте больше опытов, но площадями не увлекайтесь.
Глава седьмая
1
Мальцеву советовали: надо закрепить за собой авторство новой системы земледелия и написать диссертацию. Он отшучивался:
— Иван Владимирович Мичурин не имел ученых званий, а сделал в науке побольше многих.
И чуть виновато улыбался: мол, извините, но не могу воспользоваться советом, на дело времени не хватает. Его никогда не заботила собственная выгода. Меньше всего он думал о ней.
На широких степных просторах страны начиналась невиданная по масштабам эпопея подъема целинных и залежных земель. История еще не знала такой распашки в такой короткий срок, но уже знала, как быстро терялось плодородие поднятой целины. Так что нужно думать не только о распашке миллионов гектаров в намеченный срок, нужно уже сегодня начинать хозяйствовать на них так, чтобы не только сохранить, но и приумножить рождающую силу этих земель. Нужно отрешиться от вековой традиции, которая мешает осознать (и мешает не только рядовому пахарю, агроному, но и ученому), что истощение плодородия вовсе не неизбежная плата за наше прокормление, это плата за наше незнание, граничащее с невежеством первобытного земледельца.
С этими мыслями Мальцев в первую очередь обращался к ученым. «Если наши предки допускали ошибку, обработкой расточая плодородие целинных земель, то мы не должны повторять их ошибки».
Мальцев обретал все большую популярность. Люди начали сознавать, что где-то совсем рядом живет мудрый земледелец, озабоченный теми же проблемами, которыми живет страна. И озабочен не одним сегодняшним днем, но и в завтрашний день побуждает смотреть.
К нему потянулись за советом, за опытом. На опытной станции подсчитают: за последние два с половиной года в Мальцеве побывало более трех с половиной тысяч человек из разных уголков Советского Союза.
В июле 1954 года «Правда» писала:
«Какой бы поезд ни проходил через Шадринск ― московский ли, барнаульский, свердловский,— всякий раз на станции высаживаются все новые и новые пассажиры.
— Как проехать к Терентию Мальцеву?
И едут, едут люди за опытом к новатору земледелия...
Не видно среди экскурсантов только работников Министерства сельского хозяйства да научных сотрудников Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук. А не мешало бы и им побывать у Мальцева. Ведь опыт его перешел уже на десятки тысяч гектаров Зауралья!
Может быть, они имеют свою точку зрения на сей счет? Ни министерство, ни академия пока что не сказали своего веского слова по поводу опытов колхозного ученого».
Да, работники министерства и ученые академии все еще отмалчивались, не замечая того, что делал Мальцев, хотя предложенная им система земледелия уже перешагнула границы колхоза, района и области, успешно применялась по всему Зауралью, обретая все больше и больше сторонников, называвших систему «мальцевской».
И тогда Центральный Комитет партии, откликнувшись на многочисленные просьбы, принял решение разобраться в существе этого дела — созвать Всесоюзное совещание.
...В августовские дни 1954 года село Мальцево походило на большой табор: шумный, многоголосый и многоязычный. Улицы были запружены легковыми машинами, автобусами и грузовиками. На пустыре у школы раскинулся дощатый и брезентовый городок. Дымили, не переставая, походные кухни. Здесь, в палатках, жили гости — их было значительно больше, чем жители в селе (на совещание пригласили триста человек, а приехало более тысячи!). Отсюда группами выезжали в поле, где Мальцев не разлучался с мегафоном: хоть и поделили всех участников совещания па группы, однако и в группах было до сотни человек, и каждому хотелось не только увидеть, но и спросить, услышать.
Самыми желанными на этом совещании гостями были для Мальцева казахстанские целинники. Именно к ним обращаясь, он по-отечески советовал:
— Вы приступили к освоению целины, этого народного богатства, серьезно подумайте и поработайте, чтобы не повторять неосознанных ошибок наших предков, которые, распахивая целину, очень быстро разрушали ее плодородие.
И предупреждал:
— Если будете применять безотвальную обработку почвы, то не копируйте нашу технологию, шаблон в этом деле не только вреден, но и недопустим. Подумайте, поработайте и над тем, как лучше сохранить стерню — в ваших условиях она будет и снег задерживать и защищать почву от выдувания. А что касается орудий для безотвальной обработки почвы, то они могут быть и не такие, как у нас. Мы применяем те, какие есть под руками.
Показал им и участок, на котором он ведет свои наблюдения,— залежное поле, которое, когда заговорили об освоении целинных земель, отыскал в соседнем конезаводе и которое, к великой радости Мальцева, двадцать лет не знало никакой обработки, лишь кони паслись на нем.
Вот она, та лаборатория, в которой творит свою нескончаемую работу сама природа: созидает — разрушая, разрушает — созидая. Какой из этих процессов преобладает? — вопрос, не дававший покоя пытливому исследователю.
Да, самое сильное разрушение происходит именно здесь, в дернине. Отсюда же растения больше всего берут для себя пищи. Казалось бы, именно верхний слой и должен скорее истощаться. Но он нарастает. Нарастает и потенциальное плодородие. Значит, где больше разрушается, там еще больше создается? Выходит, растения отдают в почву больше, чем они берут из нее? Да, и отдают не только то, что взяли из нее, но и то, что взяли из воздуха, а из воздуха они берут больше, чем из почвы. Такова диалектика природы. Ведь она придерживается принципа «есть пирог так, чтобы он оставался целым».
На этой способности растений отдавать в почву больше, чем они берут из нее, и основывает Мальцев свои агрономические приемы.
Часть залежного поля Мальцев распахал привычным всем плугом и будем пахать из года в год — здесь традиционное земледелие. Рядом — участок, который он, как и целинникам советовал, обработал только дисковыми лущильниками и так будет его обрабатывать и впредь.
— Вот, смотрите,— показывал Мальцев гостям. — И простым глазом видно, что на непаханой пшеница лучше. На почву обратите внимание, на вспаханной у нее иссиня-черный оттенок, на непаханой — коричневатый, это органические вещества дают ей такую окраску. На вспаханной идет процесс разрушения и органики и структуры. И начался этот разрушительный процесс сразу же, как только вспахали здесь. На непаханой этого разрушения нет.
А чтобы убедить в этом своих слушателей, спрашивал:
— Где скорее всего подгнивает деревянный кол или столб? У поверхности почвы, потому что тут больше тепла и воздуха, что создает хорошие условия для жизнедеятельности микроорганизмов, очень полезной для земледельца деятельности. В глубине гниение совсем иное, там другие условия и другие микроорганизмы.
— Да, это так,— соглашались с ним,— деревянный кол действительно скорее подгнивает у поверхности. Но не будете же вы возражать, что культура земледелия начала повышаться именно с тех пор, как люди стали пользоваться отвальными плугами?
Помолчав, Мальцев спросил:
— А давайте подумаем вместе, не с тех ли пор, как начала повышаться культура земледелия, в нынешнем ее понимании, стало понижаться плодородие почвы? Не был ли этот процесс противодействием законам природы? Думается, теперь у нас есть все основания полагать, что так оно и было на самом деле.
Тем временем в «зале заседания», сколоченном из щитов и украшенном лозунгами, не затихали энергичные разговоры и споры, вызванные полуторачасовым докладом Мальцева. Докладом, в котором теория и практика, слово и мысль были так хорошо согласованы, так ярко и образно выражены, что зал то разражался аплодисментами, то слушал, затаив, дыхание. Не случайно уже на другой день, 8 августа, многие газеты — «Правда», «Сельское хозяйство», «Красный Курган» — опубликуют его почти полностью. Прокомментируют и иностранные газеты. А на следующий год доклад издадут отдельной брошюрой во многих странах мира, на немецком, английском, польском, чешском, румынском, корейском, китайском в других языках.
В предисловиях к этим изданиям говорилось о том, что среди новаторов советского сельского хозяйства Мальцев занимает особое место. Занявшись усовершенствованием небольшой узкой области земледелия, он выступил как инициатор нового метода обработки почвы, который может стать основой современного земледелия.
Так же высоко оценили его работу и участники совещания. Они говорили, что открытие это войдет замечательными страницами в историю сельскохозяйственной науки.
Такая единодушная оценка сначала обрадовала Мальцева, но потом насторожила: почему не прозвучало ни одного несогласного голоса? Неужели все, кто еще вчера говорил и писал о разрушительных свойствах однолетних растений, сегодня убедились в ошибочности своих взглядов? И это побудило его спросить:
— Скажите мне, люди науки, определенно: повышают однолетние растения плодородие почвы или снижают его?
Он как истинный экспериментатор все еще сомневался: а вдруг найдутся факты, которые поколеблют его убеждение? Ну, а если не найдутся, то пусть ученые берут и развивают найденное — тут есть над чем поработать.
И люди науки сказали:
— На этот труднейший для науки вопрос уже ответил, и не только теоретически, но и практически, сам Мальцев.
Зря вы так, хотел сказать Мальцев, направление только еще прокладывается, и впереди очень много работы. Вопрос о способности однолетних растений повышать плодородие почвы — это главнейший вопрос в агрономической науке. Если мы признаем, если будем признавать, что однолетние растения могут повышать плодородие почвы, то тогда мы сможем со всей настойчивостью направлять наше внимание на то, чтобы эту возможность превращать в действительность...
Мальцев, конечно же, очень хотел, чтобы заботой этой прониклись все ученые.
Однако пройдет всего несколько месяцев, и станет ясно, что, приняв безотвальную обработку почвы как агротехнический прием, ученые обходили молчанием главное — замалчивали, не обращали внимания на те законы природы, которые и легли в основу теории возрастающего плодородия почвы, в теорию улучшения структуры почвы путем правильного возделывания однолетних культур. Не обратили внимания на суть открытых явлений. А может быть, не поняли. Оказывается, и простые истины бывают очень трудны для понимания.
2
Сколько же переговорено, передумано, увидено было в ту осень 1954 года! Сколько чувств всяких испытано. Казалось Мальцеву — целая жизнь прожита, со всеми ее радостями, надеждами и огорчениями.
После совещания, отнявшего немало сил, он успел побывать на Украине, куда пригласили его на республиканское совещание и где он тоже был докладчиком.
Конечно, от поездки в Киев мог и отказаться, был и предлог — в сентябре уборка в разгаре, а на первое октября намечено провести в Шадринске еще одно совещание по изучению новых методов обработки почвы. Однако ему хотелось побывать, давно он думал об этом, в Сумской области, заехать в город Тростянец, где погиб и похоронен сын Костя. Может, будет кто на совещании из тех мест, подскажет, как добраться до деревни Люджа.
Встретили его на Украине гостеприимно: не надо было ни беспокоиться, ни расспрашивать кого-то. Дали ему машину и сопровождающего выделили, который и довез его до деревни Люджи.
Здесь, на кладбище, он нашел могилу с деревянной пирамидкой «Мальцев К. Т.».
Обнажив голову, отец долго стоял у могилы. Он плакал так, будто вот только сейчас похоронил сына, надежду свою похоронил. И нет у него теперь помощника, некому продолжить дело. Савву война крепко покалечила, Василий, самый младший, ослушался отца и своевольно поступил в политехнический институт, вовсе отшатнулся от поля, от деревни. Как могло такое случиться, Терентий Семенович и сам не мог понять и теперь часто казнил себя этими думами. Есть у него еще три дочери, однако как девчатам такое дело передать?..
Вернулся домой, выступил с докладом на втором Всесоюзном совещании, а после него в Москву засобирался, на встречу с научными сотрудниками Института философии. Надо бы и философов привлечь к разработке теоретических вопросов агрономической науки.
После этой встречи Мальцев собрался уже возвращаться домой, и так загостился в Москве, да дернула его нелегкая — проговорился, что плоховато чувствует себя: изжога страшно мучит, и никакого аппетита.
— Меня и сгребли доктора,— вспоминал он потом,— уложили в больницу
Лег в больницу — ноябрь был, а уже и февраль на дворе, однако ему нисколько не лучше. А на 21 февраля 1955 года в Академии наук СССР намечено крупное совещание по вопросам освоения целинных земель.
Стал Мальцев проситься отпустить его, ну хоть на денек, на совещание. На повестку поставлен важнейший вопрос, а он тут бока пролеживает...
В эти самые дни ученые вели яростный спор, как лучше распахивать целинные и залежные земли, глубоко или мелко, куда, в какой слой захоронить дернину. Целину уже распахивали — и глубоко, и мелко, по-всякому. Об одном разговора не было: можно ли, получив в первые годы высокий урожай; сохранить плодородие на длительное время или даже увеличивать его?
Вот какой вопрос надо поставить на совещании. Но как ни просился, его не отпустили ни на день, ни на час.
И тогда Мальцев пишет участникам совещания обстоятельное письмо.
Обращаясь к ним, он предупреждает:
«Если мы целинные земли будем разрабатывать плугами с отвалами, а потом каждый год их снова будем пахать с оборотом пласта, то, по правде говоря, скоро мы эти новые земли превратим в старые, и скорее там, где сравнительно небольшой гумусовый слой; от такой работы и структура почвы скоро разрушится, скоро разрушатся и органические вещества. Надо обязательно найти такие методы обработки, которые оберегали бы эти ценности, рационально их расходовали и еще больше бы их создавали, чтобы обработка почвы не мешала, а содействовала однолетним растениям создавать условия почвенного плодородия».
Сказав о недопустимости вспашки с оборотом пласта, Мальцев дает подробный совет, как и что нужно делать, чтобы худа не случилось. Советует как заботливый хозяин-земледелец, которого болезнь отлучила от поля, но он знает — целинники ведут работы не совсем так, как нужно. Советует, как сохранить и умножить плодородие осваиваемых земель, на сколько сантиметров нужно фрезеровать, а потом дисковать дернину «хорошо отточенными дисками» (а если фрезы в хозяйстве не окажется, то сразу начать с дискования). «Дернину не нужно всю прорезывать, если она имеет порядочную толщину... Пусть люди подумают, как это лучше сделать, и не обязательно, как мы делали, а может, найдутся лучшие методы».
Да, способы обработки, как и техника, могут и должны быть разными, применительно к конкретным условиям, но идея общая — сохранять верхний слой почвы там, где ему и назначено быть природой.
Смелое это было письмо, и еще смелее мысли в нем, проникнутые высокой ответственностью перед обществом и страной.
Целинники услышали Мальцева, но уразумели тревогу его не все и не сразу. Первыми осознали те, кто побывал в гостях у него. Одним из них был Александр Иванович Бараев. Он приезжал в Мальцево и до совещаний, был и на совещаниях. Слушал убедительные доводы человека, к которому проникся уважением за ту смелость, с какой Мальцев прокладывал дорогу другим, в том числе и ему. тогда еще кандидату сельскохозяйственных наук, увлекшемуся идеей безотвальной системы земледелия. Именно он настойчиво призывал смелее внедрять систему Т. С. Мальцева на полях Казахстана. И рассказывал, как это сделать применительно к местным условиям.
Однако трудно, ох как трудно было отказаться от классического земледелия. Веками человек стремился так вспахать поле свое, чтобы ни соринки на нем, ни соломинки, чтобы все было запахано и прибрано. Для этого и совершенствовал орудия труда своего.
Тысячу лет назад он, ковыряя землю примитивной заостренной палкой или корягой, найденной в лесных дебрях, изобрел соху — черкушу. Смастерив ее, землепашец был, конечно же, горд. Однако, проверяя свою работу, он частенько говорил с горечью: «О, грех!» — как ни старался «при борозженьи пашни», а не обошлось без пропусков—«огрехов».
Но проходили столетия, а ничего лучше сохи придумать не мог. И только через тысячу лет после ее появления, лишь в конце девятнадцатого века, воцарился в земледелии современный отвальный плуг.
Землепашец принял его как дар божий: с таким орудием не страшно идти и в дикие степи — плугом можно быстро разделаться и с густым разнотравьем и с дерниной, можно изрезать и запахать эту «шубу» на глубину, чтобы не мешала севу.
Однако лишь плуг с предплужником, который появится уже в двадцатом веке, довел технику оборота пласта до совершенства: верхний слой — вниз, нижний— вверх. Теперь каждому было видно, что поработал пахарь на славу, в пух взбив землю.
И вдруг ему говорят: а ведь ты не дело делаешь, ты творишь безумие, поэтому сними с плуга отвалки, сними предплужник, сделай из плуга что-то вроде допотопной сохи и паши, не оборачивая пласт.
Посмотрел пахарь на свою работу — и стало ему муторно: что пахал, что не пахал, стерня всюду торчит. Да что же это за работа, что это за культура земледелия? И снова прикрепил к плугу отвалки, привинтил предплужник. И был бы уверен, что сделал правильно, если бы не грянула беда: по распаханной широкой степи загуляли пыльные бури, снявшие, где можно было снять, рыхлый пахотный слой — самый плодоносный.
3
— Да отпустите вы меня отсюда,— взмолился Мальцев.
Была весна 1955 года. Осенью ему исполнится шестьдесят лет. «Если дотяну до осени»,— думал он с щемящей грустью: обидно уходить из жизни, так мало успев в ней сделать.
— Отпустите. Я похожу по полям, жаворонков послушаю, подышу земным вешним воздухом — и выздоровлю, может..
Он все больше надеялся на это, уверовал в исцеление на родимой земле.
Выпросился у врачей — и на поезд.
— И правда, пошел да пошел я по полям и чувствую — поправляюсь! — рассказывал Мальцев.
А точнее сказать, дома он забыл о себе, о своих болях. Он вернулся на хлебное поле, которое ждало своего заботливого хозяина, пролежавшего в больнице почти пять долгих месяцев. Вернулся весной, в апреле. А осенью и думать забыл о болезни.
Осенью если и посещали его грустные мысли, то они вовсе не болезнью вызывались, а тем, что 10 ноября 1955 года исполнится ему шестьдесят лет. Вот и прожита жизнь... Странно, в детстве каждый день как год, а уж год — жизнь целая, что же теперь годы, как дни, пролетают?.. Как же хотелось ему, чтобы люди забыли об этом вовсе не радостном юбилее, чтобы не было ни чествований, ни речей,— велика ли заслуга человека, дожившего до старости?..
Однако люди были другого мнения: заслуга не в годах, а в том, как они прожиты. 9 ноября 1955 года радио передало Указ Президиума Верховного Совета СССР: в связи с шестидесятилетием со дня рождения и за выдающиеся достижения в разработке новых приемов обработки почвы и посева, обеспечивших высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур, полеводу колхоза «Заветы Ленина» Терентию Семеновичу Мальцеву присвоить звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
Еще никогда не приходило в Мальцево такое количество телеграмм, открыток, писем — из сел и городов, близких и далеких, от колхозников и рабочих, от студентов и воинов, от школьников и ученых, от партийных и государственных деятелей, от знакомых и незнакомых ему людей: просто от Гали и Шуры, Любы и Тимура, Денисова и Ухина, с которыми он никогда, кажется, не встречался. Его поздравляли, ему посылали низкие поклоны и выражали чувства любви и благодарности.
На конвертах вместо адреса часто значилось! «Депутату, Герою, агроному Мальцеву Терентию Семеновичу».
Была среди этих телеграмм одна из самых желанных:
«Дорогой Терентий Семенович. От всего сердца поздравляю тебя с заслуженной высокой наградой — присвоением звания Героя Социалистического Труда.
Желаю еще больших успехов в достижении результатов твоего упорного труда на благо нашего великого народа, нашей могучей Родины. — Маршал Советского Союза Г. Жуков. 10 ноября 1955 года».
Великий полководец, недавно ставший министром обороны СССР, не забыл хлебопашца. После той сессии Верховного Совета послевоенного созыва они встречались часто и, бывало, просиживали за разговором не один час. А года три-четыре назад, когда маршал Жуков был командующим войсками Уральского военного округа, выдалась и вовсе редкостная встреча.
...Мальцев поехал в Свердловск по одному единственному делу: спросить у Жукова, не найдется ли в войсковых запасах трофейной дизельной электростанции? В колхозе был движок-самоделка, еще в начале тридцатых годов собрал и запустил его местный умелец Михаил Маркович Мальцев, и все эти годы, лет двадцать, он тарахтел по вечерам, посылая свет в избы. Когда тарахтел бойко, то и лампочки светились бодро, ярко, без всякой натуги. Но иногда начинал словно бы задыхаться, будто непосильной делалась ему работа, и все чаще замолкал вовсе.
«Видно, отработал ваш конь свое»,— думали колхозники о движке, как о живом существе, которое утомилось, износилось в постоянной работе, и теперь, как ни понуждай его, дела не будет, замена нужна. Вот и подговорили Терентия Семеновича к маршалу Жукову съездить, про трофей спросить.
Поехал, позвонил из проходной.
— А-а, Мальцев! Подождите минутку, сейчас проведут вас.
Они сидели в просторном кабинете, в котором не было ничего лишнего ни на столе, ни на стенах. Жуков тут же передал кому-то просьбу Мальцева, сказав:
— Если найдется, то поможем.
Однако выяснилось, что ничего подходящего не нашли.
Расставаясь, маршал спросил:
— Каким поездом домой возвращаетесь?
— Не знаю еще, на какой билет возьму.
— Ну, тогда со мной поедете. Мне как раз в ваших краях нужно побывать. Так что если у нас в городе еще какие дела, то побегайте, а вечером приходите к вагону...
К назначенному часу Мальцев приехал на вокзал, нашел путь, на котором уже стоял вагон под присмотром милиции. Направился было к нему, но его тут же окрикнули, и он отошел на порядочное расстояние. Ну как теперь быть? И тут увидел Жукова, который вышел на перрон как раз напротив вагона. Маршал был в окружении офицеров, говорил с ними и по сторонам не смотрел. Шумнуть Мальцев не решился. Однако Жуков сам заметил его, окликнул:
— Мальцев!..
В дороге человек всегда делается разговорчивее, по делу ли он отправляется или в гости, на отдых. Маршал начал вспоминать-рассказывать...
Через несколько лет Жуков подарит Мальцеву свою книгу «Воспоминания и размышления!», посвященную советскому солдату, отстоявшему Родину. Многое в этой книге Терентию Семеновичу было знакомо: хоть и не такая уж дальняя дорога от Свердловска до Шадринска, однако Жуков успел рассказать чуть не всю свою жизнь.
— И то, что вошло в книгу, и чего нет в ней,— вспоминал потом Мальцев.
Здесь, в вагоне, и перешли они на «ты». Разные по характеру, далекие по профессии — одни защищал страну, другой кормил ее. И если бы сложить судьбы только двух этих сынов Отчизны, двух погодков (Жуков был на год моложе), то оказались бы соединенными все события бурного двадцатого века.
Все чаще, отдавая должное новой теории и практике земледелия, безотвальную обработку почвы именовали «мальцевской». А он повторял упрямо:
— Надо вам сказать, что я этому не особенно радуюсь, так как иногда ученые с меньшей охотой работают над чужим методом, чем над своим. Поэтому пусть каждый разрабатывает свой метод. Давайте каждый по-своему искать — один так, другой иначе. У нас такой путь, но разве он единственный и наиболее правильный?..
Мальцев предостерегал от копирования и призывал проявлять больше собственной инициативы, иначе неминуем вредный шаблон.
— Одно мы считаем делом общим для всех районов — это стремление заставить однолетние растения систематически улучшать условия почвенного плодородия.
Щедрость эта, с какой Мальцев отказывался от авторства во имя общей пользы, встревожила общественное мнение. Люди все чаще выражали недоумение: почему Мальцев, внесший такой вклад в агрономическую науку, не имеет ученой степени? И были в обиде и за него и на него, поэтому советовали ему в письмах, подсказывали, настаивали: у вас много хороших статей, так почему бы не написать и диссертацию! У вас она уже есть, утверждали другие и указывали на его доклад о методах обработки почвы и посева, с которым выступал он на всесоюзных совещаниях в августе и октябре 1954 года. Он отмахивался от этих советов и отвечал с досадой:
— Не для диссертации я работаю...
Его всегда раздражали такие советы, в которых он усматривал не интерес к делу, а упрек, касающийся его личной жизни, упрек в том, что он не умеет жить, не пользуется благами жизни. Не понимают того, что нет для него выше радости, как радость достигнутого успеха.
И тогда Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина на общем собрании избирает Мальцева Терентия Семеновича почетным академиком. Избирает по совокупности научных работ, выполненных на практике и опубликованных в печати.
Весть эту в селах и городах страны встретили с одобрением. Для всякого, кто не безразличен к тому, что делалось за пределами круга личных интересов, Мальцев был близок думами и заботами своими. Он, мудрый пожилой человек, олицетворял собой лучшие черты русского народа. Он думал и чувствовал, как думал и чувствовал народ, и никогда ни в чем с ним не расходился. Поэтому и избрание его почетным академиком стало торжеством справедливости и для тех, кто хорошо знал, что дал Мальцев науке и практике, и для тех, кто лишь «сердцем слышал, как прав Мальцев»,— так выразился в письме один из поздравивших его.
Проблемы, которыми жил Мальцев, волновали не только специалистов, но и далеких от хлебного поля людей. Он заботился «о сохранении всей возделываемой площади земли в состоянии постоянной пригодности для будущих возрастающих потребностей». Выше этой заботы нет на земле ни одного дела.
Однако от специалистов сельского хозяйства все чаще приходили Мальцеву и такие письма:
«Вами разработана цельная и стройная система ведения земледелия, пригодная не только для Зауралья... Вы утверждаете, что растения сами в состоянии из года в год повышать плодородие почвы, что практически и доказано вами... ЦК КПСС в 1954 году оказал вам большую поддержку, проведя совещание в вашем колхозе. После совещания почти все колхозы обрабатывали небольшие участки так, как вы, и получили неплохие результаты, потом все это стихло. Прошла кампания лишь потому, что вы не установили прочной связи с продолжателями вашего дела. Министерство не обеспечило орудиями вашей конструкции, а люди науки затормозили ее дальнейшее распространение. Пропагандистом и организатором своей системы должны быть вы... Пишите больше статей... Вас поддержат сотни практиков, испытавших вашу систему».
Отвечая рязанскому агроному, написавшему это письмо, Мальцев скажет с горечью:
— Трудно перечислить, где и сколько раз я выступал, трудно подсчитать, как много специалистов и хозяйственных руководителей выслушало мои советы...
Он и сам знал, что ученые, признав на словах его правоту, не торопились подтверждать эту правоту на деле. Правда, некоторые с какой-то яростной злобой ополчились на травопольную систему земледелия — и начали перепахивать, теснить клевера и люцерну. Перепахивали не только там, где действительно не было смысла возделывать многолетние травы, потому что росли плохо, перепахивали и там, где они давали высокие урожаи. И ссылались при этом на Мальцева.
Вот ведь как обернулось. Да, он опроверг травопольную систему земледелия. Но, опровергая, Мальцев никогда и ни в чем не винил травы, не призывал к их огульному вытеснению из полевых севооборотов. Он доказал: наряду с многолетними травами надо заставить и однолетние растения накапливать элементы плодородия почвы.
Мальцев не сомневался: и многолетние травы необходимы в полевых севооборотах, особенно там, «где они хорошо растут, где для них благоприятны климатические и вообще природные условия, где они дают высокие урожаи сена, а иссушающее их влияние на почву не влечет за собой снижения урожаев высеваемых после них культур»,— писал он.
Как видим, выступая против системы земледелия, в которой роль улучшателей почвенного плодородия отдавалась только многолетним травам, Мальцев никогда не выступал против травосеяния, но боролся с шаблонами в земледелии: «Я не являюсь поклонником травопольной системы земледелия. Однако же сразу оговорюсь: в искоренении травопольной системы был допущен другой, такой же вредный шаблон, каким была и травопольная система. Дошло до того, что стали охаивать всякое травосеяние. А теперь районы, где большую выгоду могли бы дать, например, клевер или люцерна, даже ее имеют семян этих трав».
В том, что травяное поле начало катастрофически сокращаться, вины его не было. Нашлись ученые, которые ополчились на это поле — не только на многолетние, но и на однолетние травы: мол, распахав его, можно тем самым резко расширить зерновой клин. Рекомендации эти, правда, не без административного нажима, подхватили некоторые хозяйственники. Земледелие исподволь теряло всякую систему.
Любое действие человека, правильное оно или нет, обязательно скажется на практике. Действие, которое распространялось на районы и области, быстро привело к нехватке кормов на фермах, что отразилось на продуктивности скота: надои и привесы начали катастрофически снижаться, все чаще произносили слово «падеж».
Практика настойчиво требовала решения возникшей проблемы. Как быть? Сократить посевы зерновых культур? Но и хлеба нет лишнего... И тогда начали поглядывать на паровое поле: ведь под ним «прогуливает» до двадцати процентов пахотной земли...
Глава восьмая
1
Трудным выдалось лето 1958 года. За весь вегетационный период выпало всего девять миллиметров осадков — как в пустыне. Температура на поверхности почвы в июне достигала 63 градусов. Дожди пошли лишь во время уборки хлебов.
Для сравнения: в самом страшном по засухе 1911 году выпало 52 миллиметра осадков, в нынешнем — девять, то есть почти в шесть раз меньше. Тогда посевы погибли почти полностью и разразился голод, сейчас колхоз намолотил около 60 пудов с гектара — такой намолот прежде считался добрым даже в хорошие годы. Около 60 пудов — это на круг, а по паровому клину урожай переваливал и за сто пудов.
Сравнивая, Мальцев гордился: за все время своего существования колхоз «Заветы Ленина» никогда не бывал без хлеба, ни в сухие годы,— из последних десяти лет восемь были сильно засушливыми,— ни в холодные и дождливые, которые случались реже. А были всегда с хлебом потому, что полевое хозяйство в колхозе ведется с учетом существующих природных условий, а не наперекор им, не на авось. С годами менялась агротехника, как и в целом система земледелия, но пар оставался основой, фундаментом любого севооборота, потому что без него повышать культуру земледелия, утверждал Мальцев, так же немыслимо, как без школ и библиотек — культуру народа...
Сам стоял на этом и других предупреждал:
— Без пара, и пара хорошего, Сибирь может покрыться сорняками, наносящими огромный вред урожаям, и посевы в большей мере могут подпадать под вредное действие часто повторяющихся губительных засух...
Он хорошо знал, что сорняки, расплодившиеся в годы войны, все еще отнимали добрую половину сибирского урожая, а если ликвидировать пар как ремонтное поле, то они и вовсе задавят посевы. Так уже и было во многих хозяйствах.
Однако страстные предупреждения его явно не соответствовали общему настроению: все уже знали что-то такое, чего не знал он, Мальцев. Ему доказывали, что пар вполне можно занять кукурузой, которая даст нам нужное количество зеленой массы. К тому же, если за ней хорошо ухаживать, и с сорняками можно разделаться еще лучше, чем на паровом поле.
Мальцев оказался в странном одиночестве: все, кто еще вчера соглашался с ним, кто активно поддерживал его, сегодня так же активно спорили с ним, выставляя массу доводов в защиту новой идеи.
Может быть, он чего-то не понял? Может быть, и правда, занятый кукурузой пар будет не хуже чистого? Утверждают-то так вполне ответственные люди, и ученые их поддерживают — значит, проверили, поэтому и уверены в успехе.
Правда, занимать чистый пар пытались и раньше — и зерновыми на зеленый корм и травами,— однако паром такое поле не называлось, а называлось тем, чем и было оно занято: гороховищем, виковищем или картофелищем. Но пар, занятый кукурузой?..
Что ж, надо попробовать.
И Мальцев припоминает, прикидывает, думает: если пары, как предлагается, занять квадратно-гнездовыми посевами кукурузы с узкими междурядьями, то механизированная обработка возможна лишь до определенного периода роста. После этого трактором уже не въедешь и земля сильно зарастет сорняками. Выход тут один — оставлять широкие междурядья, располагать рядки не через 70, а через 210 сантиметров. Широкие междурядья позволят обрабатывать посевы все лето в разных направлениях. При таком редком посеве можно будет и с сорняками бороться и влагу в почве накопить и сохранить. Пусть и не так хорошо, как в чистом пару, но все же лучше, чем при густом севе.
А сам продолжал биться не за использование, а за сохранение паров: отводить пятую часть земли под чистый пар в наших условиях мы вынуждены, иначе поля могут превратиться в заросли сорняков, а посевы в случае засухи не дадут урожая. Будет возражать: термин «занятый пар» — это самообман, придуман для самооправдания, чтобы не быть без пара. Любое занятие пара ведет к снижению будущих урожаев, к снижению культуры земледелия — мы сами к себе лезем в карман.
Однако ни доказать, ни отстоять свою точку зрения ему не удавалось. Не приняли и его рекомендации по широкорядному севу. В руководстве сельским хозяйством все заметнее проявлялось своеволие, которое впоследствии назовут волюнтаризмом.
Мальцев открыто противился этому своеволию. Встревоженный положением дел, он поднимется на трибуну очередного Пленума ЦК КПСС, созванного в январе 1961 года, и скажет резко: хватит уступать, уступки ведут к беде.
— Мне кажется, стоило бы серьезно подумать о том, чтобы земля у нас находилась в крепких и заботливых руках. Земля просит хозяина не на день и не на два, а на многие годы. Неужели у нас среди агрономов не найдутся такие люди, которым можно было бы доверить заботу о земле, чтобы они держали ее в своих крепких руках и поднимали плодородие, следили за чистотой полей?! Ведение полевого хозяйства нельзя обезличивать, и не надо позволять кому попало вмешиваться куда не следует... Мы согласны в наших условиях соревноваться с любым ученым за лучший урожай. Это соревнование надо обязательно организовать...
Надеялся, что такая решительность заставит хотя бы задуматься и усомниться в том, что рекомендовалось все настойчивее. Верил, что поймут: проверка идей должна состояться до того, как они начнут широко внедряться в производство. Сам же продолжал размышлять: может, пар действительно не нужен? Задавшись этим вопросом, он ответил на него однозначно.
— Продумывая все обстоятельства и реальное состояние наших полей, невольно приходишь к выводу, что в нашем хозяйстве при засушливом климате еще не созрели условия для полной ликвидации пара, а потому решать этот вопрос опрометчиво, без учета конкретных особенностей весьма и весьма рискованно.
Да, взвесив все, Мальцев остался на своем, будут пары, будет и хлеб в любой год. Без них не добиться устойчивости в зерновом хозяйстве.
Но его уже не слышали. Начиналось повсеместное внедрение пропашной системы земледелия, вытеснявшей травы и пары. Заговорили о смелом северном походе кукурузы до Прибалтики, Урала и Сибири. Лишь немногие хозяйственники решались сеять травы, занимая ими дальние поля за болотинами и лесами, куда не было дороги. И никому из посторонних не показывали. Но при дороге и они сеяли кукурузу, вкладывая в нее все силы и удобрения, только-только начавшие поступать в хозяйства.
Честный человек, глядя на эти с тщательностью ухоженные, но ничего не обещавшие плантации желтеющих худосочных ростков, спрашивал председателя: а не лучше ли прекратить всякий уход, ведь все равно убирать здесь нечего будет? Посмотрит в глаза собеседнику председатель и, если поверит ему, признается: и сами бы не тратились, да ведь тогда-то и скажут, что без ухода оставили кукурузу, вот поэтому и не удалась она. А если не поверит, то ответит вроде бы даже бодро: ничего, корм будет. Отвечая так, он имел в виду те поля за болотинами и лесами, где тайно, как незаконнорожденный, рос, набирал массу густой клевер, который и покроет нужды.
У такого председателя хоть и скребли на душе кошки, но он знал, что кое-что все же сделал по-своему. Хуже чувствовал себя тот, кто за пустыми плантациями все лето ухаживал, а значит, впустую работал. Нет страшнее наказания для человека, как обречь его на бесполезный труд: камень ли в гору вкатывать, который тут же будет сброшен обратно, или возделывать на северном поле южную культуру.
Все заметнее, все ощутимее сказывались нравственные и экономические потери. Земледелец видел, что усердие, расходящееся с разумом, не только не приносит пользы, но губит и разлагает все вокруг. Видел, как потянулись из деревни люди, как густо на полях пошли сорняки, заглушая посевы и снижая урожаи.
Совестно, стыдно было земледельцу в глаза людям смотреть. Еще более стыдно известным в народе, кого знали в лицо, кого чтил народ. Вот и казалось Мальцеву, что каждый, увидев его, спросить порывается: «Что же это вы, Терентий Семенович?» А что он мог ответить на это?
Труды Мальцева, еще недавно привлекавшие внимание всего общества и получившие отклик во всем мире, исподволь забывались. А если и упоминали о них, то лишь от случая к случаю. Производственные опыты начали сокращаться, а в большинстве районов страны и вовсе прекратились. Наступил глухой период забвения и дела и имени его.
Но самым страшным для него было то, что уходили годы, которые он растрачивал не на дальнейшую разработку теории и практики безотвальной системы земледелия, а на борьбу с приемами, которые усиленно насаждались и которые вносили в полеводство анархию, на то, чтобы земля не засорилась снова,
2
В эти годы, которые Мальцев назовет потерянными, верным его идеям оставался, пожалуй, лишь один ученый — Александр Иванович Бараев, ставший директором Всесоюзного НИИ зернового хозяйства под Целиноградом.
Правда, и между ними вышла небольшая размолвка. Случилось это еще летом 1958 года. Встретились они как друзья-единомышленники на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, где проходила сессия ВАСХНИЛ.
— А ведь вы оказались совершенно правы, предлагая безотвальную обработку почвы,— сказал тогда Бараев.
— Еще раз спасибо за признание,— с улыбкой ответил Мальцев. — Но об этом, помнится мне, вы уже говорили четыре года тому назад на совещании в Мальцеве.
— В прошлом году мы были в Канаде, там пашут так же, как и вы,— поспешил пояснить не совсем удачный свой заход Бараев.
— А если бы канадцы так не пахали, то, выходит, нам и нечем было бы доказать свою правоту? — спросил Мальцев насмешливо. Он никогда никого не обласкивал, даже своих сторонников и единомышленников. Не то чтобы суров с ними был, но не делался ни мягче, ни щедрее на похвалу.
Бараев смутился: он хотел лишь сказать, что увиденное в Канаде подтверждает...
— Вы увидели там орудия для безотвальной обработки и сева по стерне, каких у нас нет, и, слышал, купили некоторые,— вот это хорошо сделали...
На этом они и расстатись. И с той поры не встречались долго, хотя и бывали на одних и тех же совещаниях, а если и встречались, то лишь здоровались и почти не разговаривали — спешили по своим делам.
И вдруг Мальцев получил из Целинограда телеграмму: Бараев просил его срочно приехать. Мальцев уже знал, что там случилось, и не мог не откликнуться на зов. Оставил все свои дела, поехал в Целиноград.
А случилось вот что. В августе 1964 года на опытные поля института заехало высокое руководство, увидело... пары. Пары на землях института?! Да это же преступление! Бараева отстранили от должности.
Невеселой была встреча. Беда снова сблизила их. Одного она постигла давно уже, и он не то чтобы свыкся с ней за эти годы, но старался всякими правдами и неправдами делать по-своему, как считал нужным, утаивая, умалчивая об этом. Другого та же самая беда коснулась только что, и ему, еще вчера уверенному в себе и в деле, казалось, что все кончено, рухнуло все, и он понял, как самоуверен был, считая себя удачливее.
Поездили, походили по полям. Вот так бы заодно и работать им, куда больше было бы пользы,
— Очень хорошо вы ведете полеводство,— похвалил Мальцев.
— Но мне-то что делать теперь?—спросил Бараев.
В поле стояли два человека, наделенные высоким чувством личной причастности ко всему и ответственности за все, что делалось на широкой ниве страны. Именно это чувство и повелевало ими, определяло их действия и поступки. Именно поэтому одни сказал другому:
— Уверен, пройдет какое-то время, и вас снова позовут. К тому же не от науки, не от поля вас отстранили, а только от должности...
Как же прав оказался Мальцев! Пройдет три месяца, и в октябре того же года Бараев снова войдет в свой кабинет, войдет известным человеком. Выпавшее испытание, которое он выдержал с честью, ни от чего не отрекшись, сделает его имя популярным: современники хорошо знали, как много облеченных авторитетом людей не выдержали подобных испытаний, и поэтому ценили тех, кто выстоял, не поступившись своими убеждениями.
Мальцева к их числу молва не причисляла: ведь его не отстраняли от должности, а то, что он был отстранен от активной общественной жизни, так это за давностью лет успело забыться.
Забывалось и то, что он сделал для агрономической науки,— память человеческая недолговечна. «В настоящее время,— не без удовлетворения писал А. И. Степанов в брошюре, выпущенной обществом «Знание» в 1966 году,— о рекомендациях Т. С. Мальцева вспоминают от случая к случаю». Причина забвения? Степанов объяснил ее тем, что «Мальцев не имеет специального образования» и, «естественно, он не мог дать своим рекомендациям и предложениям научно обоснованных теоретических обоснований».
Автор брошюры высказал то, что думали многие его коллеги. Высказал — и самому себе показался талантливее, да и расплатился с «самоучкой» за непрошеное вмешательство в науку, за все причиненные тревоги и беспокойства. Он и мысли не допускал, что «самоучка» этот — один из самых образованных агрономов и по уровню мышления превзошел многих дипломированных ученых.
Ложное это объяснение Степанова никем не было опровергнуто. Видим, все были согласны с ним — и те, кто рецензировал эту брошюру и кто читал ее.
Ну, а что же Мальцев?.. Он, умевший бороться за общее дело, совсем не умел отстаивать личные интересы. Неловко ему о себе напоминать. Да и ни к чему — надо делом заниматься.
Глава девятая
1
В январе 1965 года Мальцев получил телеграмму от Михаила Шолохова: великий советский писатель приглашал его в гости.
— Звал он меня давно,— рассказывал потом Мальцев,— однако собраться и поехать все не решался: как я к такому человеку заявлюсь?! А тут получаю от Михаила Александровича телеграмму. Как раз накануне его шестидесятилетия. Неловко, думаю, не откликнуться. Ну и решился, поехал. У Михаила Александровича день рождения 24 мая, а у нас в это время сев в разгаре, поэтому я поехал в апреле, чтобы вернуться к началу сева. Три дня гостил у него. Посидели, поговорили, по полям с ним поездили. Не на машине ездили, а на лошадке, запряженной в ходок...
Вечером зашел к Шолохову первый секретарь райкома партии. Познакомив их, писатель сказал:
— Используй случай, агрономов собери, пусть послушают знатного нашего российского земледельца.
На другой день Мальцева пригласили в Дом культуры.
— Нет уж, одного не отпущу, вместе пойдем,— сказал Шолохов.
По дороге спор у него с секретарем вышел, кому открывать эту встречу с агрономами.
— Мой гость, мне и открывать,— настоял на своем Михаил Александрович.
Разговор на этом совещании Мальцев вел о роли агронома, которому мало знать свою землю, но надо хорошо знать и местный климат, учитывать возможные отклонения от средних его характеристик, учитывать то, что может повредить урожаю. И к засухе надо быть готовым и к дождям, к тому, что на посевах могут появиться грибковые заболевания и вредители, нашествие которых также связано с погодными условиями,— они могут благоприятствовать или не благоприятствовать их развитию. Не от того бывают урожайные и неурожайные годы, что в одни год удобрений вносится больше, в другой — меньше, а от погодных условий.
Говорил о том, что агроном должен постоянно мучиться и задавать себе вечный вопрос: «Почему?» Умение задумываться принесло людям немало добра, привело к открытиям. Но леность ума понуждает человека действовать вопреки законам природы, чем он наносит лишь ущерб и вред, а добытая крупица пользы не окупает ни потраченных усилий, ни тех разрушений, которые он совершает при добывании. Так что нужно очень много знать об окружающем нас мире, а уж потом принимать решения. Нужно это и агроному — такая у него высокая и ответственная должность на земле. И если будет он многое знать и многое учитывать в своих действиях, то тогда и получит максимально возможный урожай при любых погодных условиях,..
Здесь я, как автор, повествуя о жизни Терентия Семеновича Мальцева, позволю и себе вступить в разговор с ним. Встретился я с Терентием Семеновичем до обидного поздно — тоже долго не решался заявиться к такому человеку. Но первая же встреча установила добрые и прочные между нами отношения, породившие и оживленную переписку (которая началась с приглашения еще раз приехать к нему. «Есть нужда побеседовать»,— написал он и частые встречи то на родной его земле, то в Москве, и долгие беседы, которые то в прошлое возвращали, то сегодняшних проблем касались, то уносили в будущее.
В одну из таких бесед и рассказал мне Мальцев о поездке к Шолохову...
— А в последний день, когда уезжать уже собрался, Мария Петровна, супруга его, мне и говорит шепотком: «Вот, Терентий Семенович, радость-то у нас какая в доме сегодня. Коровушка наша отелилась!» Мне тоже хорошо сделалось от этой тихой радости — и правда, радость-то какая хорошая, крестьянская! От такой вот радости, кто ее испытает, и не уедешь из деревни...
Помолчал, вспоминая ту встречу, потом вдруг спросил меня:
— А помнишь, что ответил Григорий Мелехов Аксинье, когда та позвала его из хутора в город уехать?
Я сказал, что помню: куда же от земли, от двора своего ехать?..
— Лучше давай-ка прочитаем,— ответил Терентий Семенович, согласившись, что Григорий примерно так и сказал, но с иным чувством, поэтому-то и хочется ему прочитать эту сцену вслух. Извлек том «Тихого Дона», начал читать. Читал так, словно это его, Терентия Мальцева, звали из деревни, а он никак не мог покинуть ее, потому что тут вся его жизнь, все его радости и горести, тут корень, без которого он и дня прожить не может.
Том был с автографом: «Дорогому Т. С. Мальцеву с глубоким уважением. М. Шолохов».
— Вас тоже манили куда-нибудь? — спросил я.
— Как же, заманивали,— откликнулся Мальцев. — И в институт и в министерство приглашали. Нет, говорю, не место мне там, потеряюсь. Я в деревне-то своей и то вот только на этом краю могу жить... — И рассказал о том, как в тридцатые годы дали ему хорошую избу в другом краю деревни — старая давно ремонта требовала, да и тесновата стала для семьи — пятеро детей уже росло.
— Согласился я, переехали. Хорошо, просторно. Но вот беда — будто не в своей я деревне, а где-то далеко от нее, в чужой, незнакомой мне стороне. Не выдержал такой жизни, пошел к председателю: так и так, рассказал. А в те годы колхоз домов не строил, однако выпал случай обменяться. Ну, я и обменялся. Правда, изба поменьше той, зато на своей стороне...
А когда Терентий Семенович отлучился куда-то из комнаты, дочь его Анна, усмехнувшись грустно, сказала:
— Не поменьше, а намного меньше и похуже, постарее. Поэтому и мать наша и мы, дети, были очень даже несогласны с ним и по доброй воле ни за что бы не переехали. — И, вздохнув, добавила: — Такой он у нас всю жизнь чудак.
И ясно стало — близким с чудаком подобным нелегко живется. Родные за многое в обиде на него. Ну, например, вспоминали, что еще перед войной на какой-то выставке премировали отца сепаратором. Привез его, порадовал домочадцев — в те годы о сепараторе мечтали в каждом крестьянском доме. Жена тут же хотела и опробовать, услышать радующее душу тихое гудение аппарата, однако Терентий Семенович не разрешил — в колхоз его снес. «Хоть и мне дали премию, но заслуги-то общие»,— сказал он.
Не забыл и Савва, как отец не пустил его на учебу в техникум. «В колхозе и без того работников мало»,— сказал он сыну, которому так хотелось учиться. И каких только доводов не выставлял Савва, ответ был один: «Не время, война».
В послевоенные годы, когда Мальцевы, как и все другие колхозники, мало что получали на трудодень, когда кормилась семья с огорода, который был на жене и на детях, — пятеро их было вместе с Саввой, вернувшимся с войны инвалидом, — в эти трудные годы Терентия Семеновича как депутата Верховного Совета страны освобождали от некоторых налоговых обложений, в том числе и от обязательных поставок яиц, молока, мяса и шерсти. Однако он сказал жене сурово: «Как носила, так и носи». И она, подоив корову, несла молоко не к столу, у которого терлась малая ребятня, не евшая досыта, а на приемный пункт, потому что хозяин сказал: «Как все, так и мы». А причиталось с каждого двора немало: 386 литров молока и 561 яйцо.
Люди чтили его уже за одно это. В семье за это же обижались: ради чего же отдает всего себя делу, если не пользуется даже тем, чем положено пользоваться?.. Обижались и не понимали его.
Терентия Семеновича ранило это непонимание. Не для личной выгоды он работает. Да и что за радость от наживы и обогащения — материальных благ ему всегда нужно было меньше всех.
— Вся моя радость и печаль — в поле. Хлеб хорошо растет — я радуюсь, нет — печалюсь,— признавался он иногда с гордостью, а иногда и виновато.
Эти радости и печали с годами не тускнели.
И другое его признание:
— Когда я был крестьянином-единоличником, считал так: «Моя земля, мой хлеб». Когда же создали колхоз, вся общественная земля стала моей. Хлеб растет — это мой хлеб. Соберут его с полей, увезут — это уже не мой хлеб. А пашня снова моей остается, и надо снова выращивать колос.
И страстно хотел, чтобы колос родился крупным и полнозернистым.
3
Часто по весне спрашивают Мальцева: каким нынче год будет?
— А не знаю я, каким он будет,— отвечает Мальцев, вызывая у собеседника недоумение,
— Но у вас же есть приметы?
— Нет у меня никаких примет.
— А как же вы всегда с хорошим урожаем бываете?
— И вы будете с урожаем, если, надеясь на лучшее, подготовитесь к худшему.
— Если бы знать, к чему готовиться...
— А для этого надо знать климат своей местности, к нему и приноравливаться.
— Но условия-то каждый год складываются по-разному!
— Конечно, от ошибок земледелец не застрахован. Но если он в своих действиях ориентируется на те условии, какие бывают чаше, то и неблагоприятных для нас лет будет поменьше.
Неблагоприятные годы... Мальцев давно убедился: такими они бывают часто вовсе не из-за плохой погоды, а потому, что в своих действиях мы не учитываем местных природных условий. Это все равно, что делать какое-нибудь дело вслепую, или, как любит говорить Мальцев, заученно передвигать фигуры на шахматной доске, не обращая внимания на игру своего партнера. Такая партия только случайно может оказаться выигранной. К тому же партнер у земледельца очень серьезный — Природа. Ее не понудишь действовать по-твоему, к тебе подлаживаясь. Если в выигрыше хочешь быть, то подлаживайся к ней...
Засушливые годы еще и сейчас считаются бедственными. А на мальцевских полях засухи давно уже не причиняли особого урона. Как ни странно, его больше беспокоила и тревожила благоприятная погода, когда и тепла в меру и дожди перепадают в нужное время. В такое доброе лето самые лучшие посевы — по паровавшей земле — давали вовсе не лучший сбор. А казалось, урожай будет рекордным — колосистая выдалась пшеничка. Но подул ветер, какой бывает перед дождем, погнал хлеба волнами, закачал из стороны в сторону и перепутал, истолок так, будто кони в хлебах повалялись. И, как всегда, в самых лучших хлебах, высеянных на ухоженных паровавших землях.
Горько смотреть на этот разбой, совершаемый среди бела дня. Горько человеку сознавать свое бессилие — он мог лишь погрозить кулаком ветру.
«Как же это так? — думал в такие страшные для земледельца минуты Мальцев. — Где уродился, где был самый лучший хлеб, тут-то и нет его»...
Был, да полег. От ветра и от собственной тяжести. От перерода. Ни количества не получишь теперь, ни качества, так как и зреть полегший хлеб будет долго, до осенней непогоды, и разными грибковыми заболеваниями будет поражен. И Мальцев признавался:
— Как ни досадно, а в годы с обилием осадков мы получаем менее полноценные урожаи, чем в годы сухие.
Полноценность — это соответствие намолота возможностям года. Правда, показателем этим в практике земледелия никто никогда не пользовался, но Мальцев вспоминал его часто: он позволял ему лучше оценить труд свой. По оценке этой выходило, что в благоприятные годы земледелец недобирает порядочное количество хлеба. Виной тому — перерод, который и оборачивается потерей урожая.
Виноват перерод?.. Да как можно жаловаться на то, что уродились тучные хлеба?
И однажды Мальцев поведал свою мечту сыну Савве:
— Мне страшно хочется, чтобы урожаи в хорошие годы достигали центнеров сорока, а то и побольше. И это возможно, если не будет полегания.
Для осуществления этой мечты нужна была пшеница с крепкой соломиной, которая несла бы тяжесть колоса, не полегала под этой тяжелой ношей. Будь такой сорт яровой пшеницы — и тогда Сибирь и Северный Казахстан в благоприятные годы сравняются по урожаям с Кубанью и Украиной.
Во многих институтах страны побывал Мальцев, на многих селекционных станциях, но безрезультатно — не вывели такого сорта селекционеры. И, судя по разговорам, не ставили перед собой этой цели. Что ж, ждать нечего, надо браться за дело самому.
Дерзким было это решение. Новый сорт вырастить, да еще со многими заданными качествами — годы нужны. Даже в крупных селекционных институтах, в лабораториях которых никогда не бывает зимы. Годы труда, удач и поражений. Какую же нужно иметь неиссякаемую надежду на успех (а может быть, ответственность перед людьми?), чтобы приступить к делу, завершится которое лет через десять. Да и завершится, каждый селекционер на себе испытал эту суровую истину, не обязательно успешно. Значит, все сначала нужно начинать, а это еще годы и годы надежды и кропотливой работы, которую не поторопишь, как не поторопишь матушку-природу. Жаль, что общество не выработало никаких традиций — чествовать селекционера, добившегося победы. Он сорт новый вывел! А хороший сорт — куда дороже самого крупного золотого самородка.
С подвигом можно сравнить ту работу, которую взялись проделать Мальцевы на опытной станции, единственной в стране опытной станции при колхозе. Ни искусственного солнца здесь, ни просторной, с новейшей аппаратурой лаборатории, ни именитых селекционеров в ее штате. Были обычные для деревни строения, которые любой приезжающий принимал за жилые дома, поэтому спрашивал не без смущения: а где же тут селекционная станции? Показывали: вон, домик о двух комнатах. В одной селекционер стол занимает, никаким оборудованием не заставленный, — работает он преимущественно не здесь, а на опытном участке пропадает; в другой две лаборантки счет ведут выращенному селекционером урожаю: колоски шелушат и зерна взвешивают, отбирают растения с лучшей соломиной и весомым колосом на ней.
Селекционер — сын Мальцева, Савва Терентьевич. Несколько лет назад он заочно окончил сельскохозяйственный техникум, поступал в заочный институт, но раны (война окаянная!) помешали завершить его. Работал в колхозе агрономом, однако с отцом в поле не поладил. Отец требовал, чтобы агроном целыми днями в поле пропадал — нечего за столом в конторе отсиживаться. А ему, инвалиду войны, здоровье не позволяло успевать везде. Из-за этого они частенько вздорили, мирились и снова вздорили. Отец понимал, что сыну нелегко везде поспевать, однако, обнаружив в поле упущение, обрушивал гнев свой на агронома; поле требует постоянного внимания. А однажды посоветовал Савве оставить непосильную должность агронома и заняться селекцией.
— Никуда я отсюда не поеду — возразил сын.
— А никуда и не нужно ехать. На опытной станции будешь работать.
— Да ты что, отец, в кустарных условиях думаешь новые сорта вывести? — искренне поразился Савва.
— Была бы охота,— ответил отец. — И сроки весеннего сева и безотвальная система земледелия тоже не в институте разработаны, а на колхозном нашем поле.
И убедил. Поехали они вместе в Краснодар к академику Павлу Пантелеймоновичу Лукьяненко — посмотреть, поучиться. Мальцев преклонялся перед этим человеком уже за то, что он создал всемирно известный сорт озимой пшеницы Безостая-1. Он автор и соавтор многих других пшениц, устойчивых к полеганию. До их появления на полях Кубани урожаи собирали в два раза ниже.
— Думаю,— говорил Мальцев сыну,— что и у нас можно удвоить урожаи, если будет такая же устойчивая к полеганию пшеничка.
— Но у них озимые сорта? — все еще не соглашался с ним сын.
— У них озимые, а мы выведем яровые. И чтобы они не только не полегали в дожди, но н засуху хорошо переносили.
Спорил сын с отцом потому, что знал: не скрещивают яровую пшеницу с озимой. А отец надумал спарить именно местную яровую с озимой Безостой- 1. Он надеялся получить совершенно новый сорт, в котором сочетались бы полезные признаки той и другой пшениц. Ему говорили: из этого ничего толкового не получится. Да и как их скрещивать, если колосятся они в разное время?
— А мы,— отвечал Мальцев,— сначала яровизируем озимую, а потом уже будем селекцией заниматься.
Казалось, создать сорт с такими качествами так же немыслимо, как невозможно вывести культуру, которая одновременно была бы н теплолюбивой и морозостойкой.
Многие селекционеры в разных странах мира уже работали над выведеним неполегающих сортов. Программируя их, они видели перед собой короткостебельные пшеницы: только короткий стебель способен выдержать тяжесть колоса. Мальцев ставил совершенно иную цель — создать неполегающий сорт с высоким стеблем, чтобы иметь не только много зерна, но и много соломы, чтобы стерню можно было оставлять высокую. Это позволит оставлять в почве больше пожнивных остатков (он не забывал о неистощительном земледелии), а к тому же при высокой стерне скошенный хлеб будет лучше дозревать и просыхать в валках.
Началась тихая и неприметная работа, о которой обычно никто не пишет. Молчали о ней и Мальцевы. Молчали даже тогда, когда среди великого множества гибридов отчетливо выявились и такие, какие обладали нужными задатками,— не полегали. Но как они будут переносить засуху? Нет, не июньскую, ее они переносили хорошо, а такую засуху, когда не бывает ни дождинки от сева до жатвы. Вот в каких условиях надо еще проверить, чтобы убедиться в их надежности.
Десять лет пройдет в ожидании такого лета. За это время из массы полученных гибридов выделится три новых сорта: один они назовут «Верой» (в честь первой Саввиной дочери, внучки Терентия Семеновича) , другой — «Шадринкой», третий — «Зауральской». Три этих сорта, еще до их окончательного признания государственной комиссией, шагнут с опытных делянок на колхозные поля.
4
Несдобровать тому человеку, который признался бы, что с нетерпением ждал такой страшной засухи, какая свирепствовала летом 1975 года,— от посева до жатвы не выпало ни одной дождинки. А человек такой был. Он не накликал ее и не знал, когда она явится, но знал — явится, и ждал ее. Ждал, как ждет мудрый старец неминуемую беду, не предчувствуемую, а осознаваемую.
Этим человеком был Мальцев. Он знал: такая засуха, чтобы ни дождинки за все лето, бывала не часто, но все же бывала, а значит, и будет, и ему надо увидеть, как перенесут ее новые сорта — они должны пройти и эту «школу трудностей». Не мог же он рекомендовать их, не испытав в самых крайних условиях, в самых неблагоприятных.
И они выдержали этот труднейший экзамен природы. Меньше 30 центнеров зерна с гектара не уродило ни одно поле, засеянное новыми пшеницами.
Агрономы, приезжавшие в Мальцево, держали в руках золотистые соломины с тугими колосьями. Соломины словно литые или кованые. Видели стерню на скошенной ниве — упругая щетина, способная удержать любую тяжесть скошенного валка. А это — еще одно немаловажное преимущество.
Такая упругая стерня, хорошо удерживающая на себе скошенный хлеб,— давняя мечта любого агронома, любого комбайнера. На такой упругой и высокой стерне и валок просыхает быстрее и зерно от дождей почти не портится, даже если они на неделю зарядят, и подбор вести легче.
— Есть в этом и еще одна польза,— рассказывал Мальцев гостям. — Высокая стерня при безотвальной обработке накапливает больше снега, больше будет и талой воды, дает почве больше органических остатков, что способствует добавлению гумуса...
Счастливым назовет Терентий Семенович этот трудный год.
На одной из встреч с молодежью ему передали из зала записку с вопросом: «Что вас больше всего радует как хлебороба, как ученого, как человека?»
Мальцев посмотрел в зал на молодые лица и, подумав, ответил:
— К старости человек устает и, говорят, делается равнодушным. Выходит, я счастливее многих стариков — не могу равнодушно смотреть на волнующееся пшеничное поле. Не могу не радоваться хорошему урожаю. Вдвойне, втройне рад, когда хороший урожай выращен в крайне тяжелых погодных условиях. Особую радость принес мне 1975 год...
В канун Октябрьских праздников, 6 ноября 1975 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги в научно-производственной деятельности Мальцев Терентий Семенович был награжден орденом Ленина и второй Золотой медалью «Серп и Молот». По этому же Указу ему, теперь уже дважды Герою Социалистического Труда, устанавливался на родине, в селе Мальцеве, бронзовый бюст. В селе, где он родился и вырос, где прожил всю свою богатую событиями я заботами жизнь.
Через несколько дней, 10 ноября, ему исполнилось восемьдесят лет. На чествовании юбиляр сидел в новом костюме, отяжелевшем от орденов. Редко появлялся он на людях во всей своей славе. Пожалуй, только по самым торжественным событиям. Ну, а так как это юбилейное собрание он не относил к числу особо важных событий, то порывался пойти в привычной своей рубашке защитного цвета, подпоясавшись ремешком, в рубашке любимого покроя, в какой и привыкли видеть его все: в поле, дома, на фотографиях в на трибунах. Но вовремя вмешались распорядители торжества в настояли: «Быть при полном параде».
«Парад» нисколько не сковал его, потому что он тут же забыл о нем. О чем Мальцев думал в эти минуты, глядя в зал, в котором собралось все село?
— Быстрее бы, думал, это торжество кончилось.
Это его слова, сказанные дома съехавшимся на юбилей многочисленным своим потомкам: два сына, три дочери, семь внуков, пять внучек, две правнучки, один правнук.
Да, ему неловко было так долго засиживаться на сцене и слушать о себе высокие похвальные слова. И все же думал он не об этом.
Пройдет несколько дней, разъедутся гости, и Мальцев, взгрустнув в опустевшем доме — лишь дочь Анна осталась с ним,— признается, что вспоминал прошлое. А вспоминая, видел два далеких друг от друга мира. В том, давно минувшем, ушедшем в историю, в том, в котором прошла его молодость, был надел пахотной земли, деревянный сабан, деревянная борона, лукошко, серп и цеп (цеп у них называли молотилом), лошадь была. В другом, сегодняшнем,— многосильные тракторы, в каждый из которых «впряжено» до полутора сотен лошадей, самоходные комбайны. А давно ли конной жатке радовались и вовсе недавно — прицепному комбайну?
Память воскресила лица и фигуры друзей-землепашцев, которые дни и ночи бились на надельных своих полосках. Бились и травили друг другу душу, приговаривая от дедов идущее присловье: «От земли не будешь богат, а только горбат». Ни одного из них нет уже на свете: кто на войне погиб, кто так помер. Да и сверстников-то осталось немного, трое или четверо. Не больше и первых колхозников. Так что в зале сейчас те, кто на смену пришел, их дети и внуки. У них совсем иная жизнь. Слышать-то они слышали, да не видели, в какой борьбе и ломке зарождалась нынешняя жизнь. В ломке вековечного уклада. Многие из ушедших так и не пожили в мире, в спокойствии, ни разу не поспав вволю, не поев сладко, досыта — за всю-то жизнь свою...
Всего этого лиха и на его долю выпало не меньше, однако юбиляр о себе не думал. Себя он причислял к счастливцам: он видит то, что они не увидели, они ушли и поручили ему передать эстафету жизни новому поколению.
Он вышел на трибуну с ответным своим словом.
— Я низко кланяюсь всем нашим колхозникам, — и Мальцев поклонился дважды в зал, — кланяюсь моим друзьям-хлебопашцам, с кем вместе делили трудности и радости первых успехов. Очень и очень жаль мне, что большинства из них уже нет на белом свете. Молодые не помнят, забыли их. Но давно ли и они были молодыми и вот так же собирались на сходки? А однажды собрались вот здесь рядом, в старой школе, и порешили объединиться в колхоз — было это в январе тридцатого года. И я не могу не помянуть с благодарностью тех первых колхозников, доверивших мне главный источник жизни — землю. Но, доверив ее мне, они и сами крепко заботились о ней. Да и мог ли я без их участия, без их доверия, без их поддержки что-либо сделать? Это они давали мне «добро» на смелые эксперименты, а иногда и на риск шли. Это они одобряли мои действия и обороняли меня от всяких бед. А я всю свою жизнь старался как можно лучше оправдать это доверие — стремился вырастить лишний центнер хлеба на каждом гектаре колхозной нивы...
И напомнил нынешним колхозникам — пусть гордятся:
— Это у нас, на наших полях размножались новые сорта пшениц, которыми в войну засевалась вся зауральская нива, — и с каждого ее гектара страна получала не один лишний центнер хлеба. Это на наших полях разрабатывались те агроприемы и те сроки весеннего сева — и с каким большим трудом приходилось их отстаивать! — которые теперь приняты во всех хозяйствах Западной Сибири и Северного Казахстана. Они тоже принесли стране не один лишний центнер хлеба. Это на полях нашего колхоза, вот уже четверть века не переворачиваемых отвальным плугом, зародилась безотвальная обработка почвы, которая служит благороднейшей цели — повышению плодородия возделываемых человеком земель. Именно безотвальная обработка почвы, применяемая сегодня на двух десятках миллионов гектаров, помогает сдерживать ветровую эрозию в степных районах, улучшает условия для накопления гумуса в почве, обеспечивает прибавку двух-трех центнеров зерна на каждом гектаре. Вот и посчитайте — это несколько дополнительных миллионов тонн хлеба. Есть тут и наш немалый вклад! Сегодня мне вспоминается вся наша жизнь. И счастлив я, что могу сказать: не было в этой жизни ни одного дня, ни одного мгновения, когда бы мы не были верны Родине, нашей русской матери-земле!
У всех, кто его слушал, было одно доброе чувство, от которого как-то иначе билось сердце, и люди были близки к пониманию истинного счастья: не в погоне за личными благами оно, а в чем-то совсем другом,
5
Некоторым казалось, что Терентии Семенович Мальцев, удовлетворившись сделанным, подводил итоги. Мало кто знал, что он, осмысливая сделанное, явно к чему-то готовился.
Перед ним лежал чистый лист бумаги, на котором с левой стороны он написал: «225,5 млн. га» (все пахотное поле страны), а с правой — «20 млн. га» (обрабатываемых без оборота пласта) и тут же «40,6 млн. га» (это терзаемая эрозией пашня).
Итак, за четверть века отвальный плуг вытеснен менее чем с 10 процентов пашни. Не вытеснен даже на тех землях, где он способствует ветру и воде разрушать пашню: выдувать пахотный слой, смывать его в овраги и реки. А смывается немало — 1,5 миллиарда тонн почвы, содержащей 75 миллионов тонн гумуса и свыше 30 миллионов тонн азота, фосфора и калия. Каждый год!
Выходит, зря дымят-коптят, отравляя окружающую среду, многие и многие химические заводы, производящие минеральные удобрения,— работают они на восполнение смываемых веществ.
Но где, на каких заводах восполнить потерю 75 миллионов тонн гумуса? До сих пор при всех чудесах науки и техники никто еще не создал и горсти земли, на которой выращивается хлеб. Поэтому можно сказать: с потерей гумуса исподволь истощается, чахнет сама жизнь. Однако человека, похоже, это не очень тревожит, он будто не знает и не догадывается, что единственным источником его существования на Земле служит именно вот эта тоненькая корочка, именуемая почвой. Редко где толщина ее достигает 50—60 сантиметров, чаще колеблется в пределах 15—20. сантиметров, а местами и того меньше. То, что надо беречь как жизнь свою («как зеницу ока»,— завещал В. И. Ленин), мы, люди, порой растрачиваем по незнанию, легкомыслию, халатности.
Так что не радовали его эти 20 миллионов гектаров, обрабатываемых без оборота пласта. Мало. К тому же почти все они в районах Зауралья и в Северном Казахстане.
Ну, а в других зонах?
В Краснодарском крае, где не так давно, в 1969 году, разыгралась черная буря, донесшая кубанскую землю до Италии, ветер продолжает обкрадывать и терзать больше половины пашни. И беду эту приносит отвальный плуг — на Кубани он все еще остается основным орудием обработки почвы.
Только недавно безотвальная система земледелия начала внедряться на Полтавщине. Ее эффект здесь — плюс три центнера зерна с гектара. А это триста тысяч тонн хлеба в довес к обычному полтавскому караваю.
Однако в Башкирии, где восемьдесят гектаров из каждых ста подвержены водной и ветровой эрозии, где каждый гектар пашни ежегодно теряет около восьми тонн гумуса — этого главного элемента почвенного плодородия,— безотвальная система почти не применяется.
Заметную убыль гумуса в почве ученые наблюдают и в Нечерноземье, где нет ветровой эрозии, но где мал плодородный слой, который разрушается и перемешивается плугами. С его потерей уменьшается в почве содержание многих микроэлементов, обедняются энергетические ресурсы и ослабляются биологические процессы, протекающие в ней, угасает ее «рождающая сила». На такой истощенной земле не может вырасти здоровое растение, так как ему не хватает основных питательных веществ, содержащихся лишь в гумусе.
Гумус... Английский почвовед Уайльд, объясняя тайну плодородия, так охарактеризовал это сложное, это загадочное, это незаменимое в природе вещество, без которого жизнь на земле немыслима:
«Дух почвы. Продукт и источник жизни. Уже не падающие листья, но еще и не соль земли. Река жизни, переносящая энергию из почвы в растения, в животное и обратно в почву. Один из компонентов почвы, который подобно философскому камню и гомункулусу был таинственным вопросом алхимиков и который до сих пор остается им, несмотря на электронные анализы...»
Наука утверждает: чтобы увеличить содержание гумуса в почве всего на один процент, природе надо около ста лет. Анализ почвы на полях, обрабатываемых без оборота пласта, показал: за десятилетие количество деятельного гумуса повышается на три десятых процента Это значит, что накопление силы на такой пашне идет теми же темпами как и в естественных условиях.
Итак, время подтвердило счастливую догадку Мальцева: при безотвальной обработке почвы плодородие не убывает, а возрастает, потому что создаются условия, при которых процесс созидания преобладает над разрушением — включается в работу природная система.
И все же так обрабатывается всего десять процентов пашни. А это значит, что и сегодня качество вспашки оценивается по ее глубине, обороту пласта, степени разрыхления. И сегодня образцом земледельческой культуры считается то поле, которое тщательно и многократно обработано плугом. Мы и сегодня любуемся прибранностью в поле, той прибранностью, которая достигается потрясающим разрушением, — на глубину запахивается не только плодородный слой с пожнивными остатками, запахиваются и те полезные нам бактерии, которые могут жить только на поверхности, где и работают дружно над созданием органики, участвуют в великом круговороте веществ. Любуясь этим разрушением, мы забываем, а порой и не догадываемся, что под нашими ногами вовсе не то, что мы видим, не просто разрыхленная в пух земля, а слой биосферы, в котором обитает большая часть микроорганизмов нашей планеты. И если бы мы были во много крат зорче, то, взяв на ладонь всего один грамм почвы, увидели бы и насчитали в этом комочке около ста миллионов живых, по большей части полезных микроорганизмов.
Но и при таком взгляде обнаружим не все. Нужно посмотреть на Землю как бы с космических орбит, и тогда мы обнаружим, что гумусовая ее оболочка, как утверждает советский ученый В. А. Ковда, «является общепланетарным аккумулятором и распределителем энергии, прошедшей через фотосинтез растений и универсальным экраном, удерживающим в биосфере важнейшие биофильные элементы (азот, фосфор, калий и другие), защищая их этим путем от геохимического стока в Мировой океан».
Вот что нужно человеку увидеть. Увидеть и понять, что с этой тончайшей, такой ранимой оболочкой нельзя поступать, как с песком в детской песочнице, нельзя разрушать этажи жизни.
Вот над чем раздумывал в эти юбилейные дни Терентий Семенович Мальцев. Он никак не мог доискаться, почему выдвинутая им идея оказалась непонятой? Почему идея, опирающаяся на закон прогрессивного увеличения плодородия почвы, до сих пор не принята «на вооружение» агрономической наукой? Не поэтому ли и безотвальная обработка почвы внедряется слабо? Ей сопротивляются, ее компрометируют неумением, непониманием. Непониманием той главной цели, которой и служит безотвальная система земледелия. Одни считают, что она против ветровой эрозии, а от ветра, мол, есть и иная защита — леса, лесные полосы да кулисные посевы. Другие полагают, что стерня сохраняется для снегозадержания, а задержать его можно и другими способами — теми же кулисными посевами и лесополосами. А где и вовсе нет нужды ни в том, ни в другом — в нечерноземных областях, например. Значит, считают, и не нужна она, эта странная и такая непривычная безотвальная система земледелия...
— Нужна,— отвечал Мальцев. — И на земле Нечерноземья. Именно здесь, в Нечерноземье, как и всюду на подзолах, солонцах, суглинках и супесях, где плодородный слой очень мал, с ним нужно обходиться совсем не так, как обходимся сейчас.
Глава десятая
1
Российское Нечерноземье... То тут, то там вывернуты плугом глины или пески, и пашня вся в красных и серых латках. Даже летом, когда зазеленеют, поднимутся хлеба, видны эти латки, как плешины с чахлой и редкой зеленью,—тут нечем поживиться растениям, потому что почва с остатками перегноя на глубину запахана, а наружу вывернут лемехами бесплодный грунт. И так раз за разом, из года в год, сами того не желая, земледельцы перемешивают почву с глиной и песком, словно задались целью растворить ее бесследно, как что-то ненужное, никчемное. И словно не понимают, что этот тонкий слой почвы, на создание которого природе потребовалось от двух до семи тысячелетий, может уничтожить не только сильная буря или мощный ливень, но и отвальный плуг. Осознай это, они давно бы поменяли обрабатывающие орудия.
— Неужели же,— допытывался Мальцев,— в обширном Нечерноземье нет ни одного хозяйства, отказавшегося истощать свои поля отвальным плугом?
Услышал наконец: в Ивановской области будто бы начали применять безотвальную систему земледелия. Потом прочитал в журнале: в подмосковном совхозе «Тучковский» под Рузой пласт перестали оборачивать, а урожаи получают очень даже неплохие.
Прочитал — и посмотреть захотелось. Попросил знакомого журналиста связаться с директором по телефону:
— Я прилечу в Москву пятого июля, это воскресный день, так что по министерствам не побегу. А вот если бы директор совхоза подъехал к гостинице «Москва»...
Виталий Александрович Сургутский и сам искал такой встречи на земле хозяйства, но не очень верил, что она состоится. Когда-то, работая в Сибири, он бывал в гостях у Мальцева. Совсем недавно встречался с ним в Москве, но встреча эта была на людях, и поговорить, посоветоваться не довелось.
В назначенный день утром он уже был в гостинице: лишь бы после дороги Терентий Семенович не отказался ехать за семьдесят километров, да еще по такой жаре, какая выдалась сухим и знойным летом 1981 года.
Но Мальцев, не сказав ни слова, сел в машину. До этого он три с лишним часа добирался на «уазике» от села до Кургана — приехал как раз к отлету, так что ни минуты не пришлось отдохнуть. Правда, не много вздремнул в самолете, но не отдохнул — муторно сделалось при посадке. Потом больше часа добирался из Домодедова до гостиницы. И тут же снова в путь. Вернется он в гостиницу только поздним вечером и, увидев поджидавших его газетчиков, скажет, извиняясь:
— Я же почти сутки в дороге, устал.
Ему шел восемьдесят шестой год...
А в совхозе под Рузой он, забыв про усталость, тормошил агрономов: что да как? Но агрономы норовили спрашивать, а не рассказывать.
— Да я же не работал в вашей зоне, не знаю, как здешнюю земельку обрабатывать, чтобы она не истощалась,—отвечал он, чем поначалу разочаровал многих. — Одно могу посоветовать с уверенностью: не смещайте верхний слой с его места. А над агротехникой вы уж сами думайте, наша вам не подойдет. У нас летом не хватает влаги, а у вас даже излишек ее бывает...
И потек разговор о том, что из-за переувлажнения приходится зачастую пахать и сеять выборочно. Не поля выбирать, а клочки на полях, где повыше и посуше. Случалось, одно поле месяц засевали: то один лоскуток, то другой, на высоком месте уже всходы появились, а в низинке еще буксует трактор с сеялкой. В жатву тоже бывает не легче, если зарядят дожди. Что только не придумывают механизаторы, чтобы комбайны могли пройти по ниве: и дополнительные колеса устанавливают, и давление в шинах меняют, и гусеницы прилаживают. Но порой и эти ухищрения не помогают. Тогда идут на помощь комбайнам гусеничные тракторы. А чтобы и при такой тяге комбайны не увязали, даже специальные лыжи мастерить приходится, на которых и «скользят» комбайны.
— А на клеверищах как? — спросил вдруг Мальцев.
— Ну, на клеверищах даже в обложные дожди не бывает избыточной сырости, разве только в низинках.
— А ведь клевера, как и хлеба, высевали вы на пашне. Разница только в том, что пашня, травами занятая, два-три года не видела плуга, не перемешивалась.
И Мальцев снова вспомнил 1950 год, когда его колхоз впервые посеял по непаханому клину четыреста гектаров пшеницы.
— У нас тоже май в том году выдался на редкость сырым. По пахоте ни один трактор с сеялкой пройти не могли — увязали, а по непаханому, где только продисковали, бежали. То же самое и на жатве повторилось. На одном поле без помех двигались, а на другом, через дорогу, пережидать пришлось, когда распогодится и земля подсохнет...
Как же памятно ему все, что было в тот счастливый для него год. Случались и потом сырые весны, не раз мешали дожди в жатву, но давно уже не пашутся отвальным плугом мальцевские поля, поэтому и примет подобных нет, ни тракторы не вязнут, ни комбайны не буксуют.
Слушали его агрономы и думали: а ведь верно, на пашне вязнут, по непаханой бегут. Это и понятно: на пахоте земля не успевает уплотниться, даже под ногой «расступается». А переувлажнена она потому, что структура ее нарушена, распылена плугом, вот поры ее и заиливаются, будто цементируются,— лишняя влага ни испариться не может, ни на глубину просочиться...
Конечно, они знали и раньше, что избыточное увлажнение, характерное для Нечерноземной зоны, как раз тем и вызывается, что осадков выпадает здесь больше, чем испаряется и уносится с грунтовыми водами, но только сейчас, слушая Мальцева, начали постигать и причину. Так и есть: на поле, где структура почвы не нарушена, не распылена плугом, где она, по выражению Мальцева, «как творог», там лишнюю влагу и вниз отдает и в воздух. К тому же структурная почва всегда плотнее: не увязнешь ни на севе, ни на уборке.
«Вот от какого числа бед избавляет земледельца безотвальная обработка почвы! Вот сколько явных выгод приносит она!»—не без гордости думал директор совхоза Виталий Александрович Сургутский. Это по его инициативе, благодаря его упорству была внедрена безотвальная обработка совхозной земли. Над ним посмеивались в районе, на него косились и сердились. А однажды посоветовали с подвохом: «Так отдай соседям свои плуги, если они не нужны тебе».
«Пусть забирают», — ответил он серьезно. И когда приехали за ними, сказал директору соседнего совхоза: «Бери, выпахивай себя из хозяйства». «В каком смысле?» — не понял тот. «А в самом прямом: урожаев-то не будет, вот тебя и погонят».
Сургутский вспомнил и вот что. Сеять озимые в этой зоне позже 20 августа считается бросовым делом: запоздавшие посевы часто вымерзают. Однако начали сеять по безотвалке — и теперь лучше удаются те озимые, которые сеяли с запозданием дней на десять. Выходит, они вымерзают вовсе не оттого, что холодов не выдерживают. В другом тут причина: влага, накопившаяся с осени в разрыхленной и не успевшей уплотниться почве, превращается в кристаллы льда, которые и разрывают корни — губят посевы. Этого не происходит там, где почва уплотненная, а именно такая она на полях, обработанных без оборота пласта.
— А вот с выводами такими никогда не торопитесь,— предостерег Мальцев. — Вы только начинаете, так что всякое у вас еще будет — и успехи и ошибки.
Услышали тучковцы про ошибки и забеспокоились:
— Не пугайте нас, Терентий Семенович. Случись какая ошибка, нам ведь житья не дадут...
— А поиск не бывает без ошибок, без риска. Агроном всегда должен рисковать, но рисковать продуманно, а поэтому надо заранее предусматривать возможные неудачи и приготовиться что-то противопоставить им.
— Но вы-то, кажется, никогда не ошибались, ни единого раза не сделали неверного шага?
Мальцев усмехнулся:
— Всякое бывало... Главное — уметь правильные выводы сделать из ошибок и не открещиваться от них...
2
Были, и у него были ошибки. Он не скрывал их — причислял к горькому своему опыту.
В 1963 году, когда паров в хозяйствах почти не оставалось и сорняки снова завладели посевами, Мальцев выступил со статьей, в которой были и такие слова: «Если меня спросят, что сегодня для сибирских полей требуется в первую очередь, я, не задумываясь, отвечу: гербициды».
Он принял их как благо: без особых трудов можно быстро расправиться с сорняками. Опрыскал посевы — и осота как не бывало! Правда, после опрыскивания иногда деревья по опушкам усыхали, однако это вызывало лишь небольшую досаду: простая неосторожность.
С годами, когда применение ядохимикатов приняло массовый характер, уже не отдельные березы попадали под ядовитое облако, а целые колки сухо шелестели мертвой листвой. Поедая отравленных насекомых и протравленное зерно, стали погибать птицы, и первыми — верные друзья и всегдашние спутники хлебопашца, такие же неугомонные, как он, грачи, скворцы и жаворонки.
Только ли птицы? Кузнечики тоже не выпархивают из-под ноги, когда по траве летом идешь. И перепелки давно уже повывелись, не перекликаются, «поть-полоть» и «спать-пора» не зовут.
Наверно, и почвенные бактерии несут ощутимый урон, те бактерии, которые и обеспечивают плодородие почвы. Мы их не видим, а раз не видим, то часто и не задумываемся об их роли на нашей планете, мало что знаем о них. Но когда ученые обнаружили, что содержание угарного газа в атмосфере зимой увеличивается, а летом заметно уменьшается, и задумались, как же Земля наша самоочищается, то пришли к выводу, что спасают нас, «поглощая» угарный газ, как раз почвенные бактерии и высшие растения.
Это они, невидимые обитатели, усваивают и связывают атмосферный азот, на всей пахотной площади страны, по расчетам ученых, вносят в почву до шести миллионов тонн «биологического» азота. Почти столько же, сколько вырабатывает азотсодержащих удобрений наша промышленность!
Так что без них, незаметных тружеников, будет крайняя беда, без них естественное плодородие почвы долго поддерживаться не сможет, так как замедлится круговорот веществ в природе. Без них почвообразовательные процессы могут прекратиться вовсе, потому что из экологического цикла выпадут очень важные звенья, которые ни увидеть простым глазом, ни услышать нашим человеческим ухом мы не можем.
Все чаще Мальцева тревожила беспокойная мысль: «Ладно ли мы поступаем? Добро ли делаем?»
И однажды признался:
— Я все чаще прихожу к выводу, что в нашем хлеборобском деле пользы от ядохимикатов меньше, чем вреда. Стараясь изменить в своих интересах природные процессы, мы вступаем в конфликт с силами естественной саморегуляции и нарушаем равновесие в природе. Однако у агрономов теперь только на химию и надежда. Другой возможности справиться с вредной растительностью они и не видят...
— Вы против ядохимикатов? — спросили, недоумевая, ученые.
— Куда ж деваться, если поля запущены? — ответил он. — Однако, думается мне, если правильно вести земледелие, иметь пар и правильную агротехнику, то можно и без отравы обходиться, без вредных для природы ядохимикатов. Нужно обходиться, потому что не всякое зло сразу выказывает себя злом...
И вспомнил 1954 год, когда одни из участников августовского совещания в Мальцеве, походив по полям колхоза, сказал потом с трибуны: «Если бы нам с вами заплатили даже по рублю за каждый сорняк, найденный на полях колхоза, то здесь мы не заработали бы за день и на обед». Посевы пшеницы, в ту пору еще не знавшие никаких гербицидов, действительно были чистые.
— Так что ученым сегодня надо думать не о том, как лучше применять те или иные ядохимикаты, а что и как надо делать, чтобы без них обходиться. А обходиться без них можно,— все настойчивее заявлял Мальцев.
Он хорошо понимал, что делать это надо постепенно, потому что при создавшемся положении разом отказаться от ядохимикатов никак нельзя, тогда наши поля действительно зарастут сорняками и мы вынуждены будем снова применять гербициды. Но в любом случае ученые должны сказать: применение ядохимикатов, тем более в массовом порядке, подрывает производительные силы природы, а поэтому надо избрать иное направление, соответствующее законам природы.
Думается, пора дело поставить так: присвоили хозяйству звание высокой культуры земледелия — значит, на полях ядохимикатов не должно быть.
Неплохо бы и материально стимулировать те хозяйства, которые выращивают продукты без ядохимикатов, — дороже платить за них, как за продукты более высокого качества.
— А то ведь многие агрономы, на ядохимикаты надеясь, вовсе разучились ухаживать за землей. Не дай им химию, и что у них получится? Каждый увидит, какие они нерадивые хозяева, как запустили вверенную им землю. Так что химия помогает спрятаться от общественного осуждения: прошлись по полям препаратами, пожгли сорняки — и вроде бы чистоту навели.
Ученые соглашались, что химическое оружие стреляет не в ту сторону — убивает полезных насекомых и птиц, которые миллионы лет справлялись с ними. И все же, словно сговорившись, утверждали одно: нужны иные препараты, безвредные для животного мира.
— Придумать менее вредные для животного мира препараты, наверное, можно,— откликался Мальцев. — Но они же только понизят нашу бдительность при их применении. А долголетняя агрономическая практика убеждает: нет таких химических средств защиты, которые были бы совершенно безвредными для животного мира и убийственными только для определенного вида вредителей и растений! Если они убивают зримое, то наносят вред и незримому, урон всему живому, низшим и высшим организмам. Мне даже кажется, что от менее вредных ядохимикатов могут быть более серьезные последствия, так как они, накапливаясь, незаметно будут делать свое черное дело. А разве от снарядов и мин замедленного действия меньше вреда, чем от тех, что взрываются сразу?
Соглашались и с этим: да, применяя ядохимикаты, мы загрязняем землю и окружающую среду, и загрязняем сильно. Как утверждают специалисты, только за последнюю четверть века в биосфере появилось четыре миллиона ранее несвойственных ей химических соединений. Среди этих соединений немало таких, с которыми повседневно имеют дело люди и которые способны проникать в зародышевые клетки, где творят свою разрушительную работу.
Однако, соглашаясь, ученые продолжали стоять на том, что нужно создавать менее вредные препараты, что без ядохимикатов невозможно защищать посевы и получать высокие урожаи
— А вы пробовали обходиться без них? — спрашивал Мальцев. — Не пробовали. Правда, и пробовать можно по-разному. Можно так отладить агротехнику, что ни соринки в поле не будет, а можно ничего не сделать, а потом говорить: вон сколько сорняков, пшенички в них не видно.
Ему толковали о том, что химическая прополка — это один из признаков интенсификации производства и что вставать на пути любого прогресса — дело бесполезное: прогресс не остановить.
— И все же,— стоял он на своем,— я надеюсь, что недалеко время, когда люди спохватятся, одумаются и изгонят со своих полей, садов и огородов все ядохимикаты, как изгнали уже самые вредные препараты...
Пожалуй, первыми попробовали обходиться без ядохимикатов земледельцы известного колхоза «Оснежицкий» под Пинском. Они перестали применять их на своих полях с середины семидесятых годов: ни в борьбе с сорняками не пользовались ими, ни против вредителей. И начали получать всем на диво по пятьдесят центнеров зерна с гектара.
— Значит, у них очень высокая культура земледелия,— сказал Мальцев, когда услышал об этом колхозе. Потом, подумав, спросил собеседника: — А вы замечали, на каких растениях начинают жизнь свою вредители? На хилых, высеянных на тощей земле, у которых ни роста, ни силы. Так что сделай землю свою плодородной, ухаживай хорошо за ней — и ты избавишь себя от многих вредителей...
В 1978 году коллектив фирмы «Омский бекон» принял решение: прекратить применение гербицидов на всех площадях семи совхозов, входящих в состав фирмы. Так же поступили во многих других хозяйствах Омской области.
У всякого опыта есть последователи. И чем их будет больше, тем скорее осознает человечество, что вот так и надо хозяйствовать на земле, вот такими чистыми продуктами и надо кормить человека и животных. Пройдет время, и в науке сложится совсем иное направление: не как лучше применять яды, а что и как надо делать, чтобы без них обходиться.
— Пора задуматься об этом всерьез. Пока не поздно,— настаивает Мальцев.
От автора
1
Как всегда в разговоре, с одной темы мы как-то незаметно переключились на другую, вспомнили Мичурина и его знаменитую фразу о том, что не можем ждать милостей от природы. Я сказал, что сегодня многие осмеивают эту мысль, обвиняя Мичурина во всех бедах, причиненных нами природе, в лихом обращении с ней.
— Но Мичурин никогда не звал к лихому обращению с природой. Он призывал к познанию ее законов и разумному их использованию. Так что не он в том виноват, что мы так нехорошо обошлись с природой. И обходились, порой вовсе не считаясь с законами природы. К слову сказать, великий русский публицист и литературный критик Писарев тоже много раз говорил о господстве человека над природой... Сейчас найду. — Мальцев взял том сочинений. — Вот, в статье «Наша университетская наука», читай вслух.
Читаю:
<— «...все материальное благосостояние человечества зависит от его господства над окружающей природой и что это господство заключается только в знании естественных сил и законов».
— А вот что он же писал в статье «Процесс жизни»: «Умейте только узнавать свойства природы и действительную физиономию вещей, и вы всегда будете в состоянии воспользоваться этими свойствами по вашему благоусмотрению: не переделывая природу по-своему, вы будете ее повелителем».
Слышите? Господство только в знании естественных сил и законов. И это правильно. Это единственно верный взгляд на природу, диалектический взгляд. А мы порой не знаем этих сил, действуем вопреки им, и тогда или мы наносим вред природе, или ее силы обрушивают на нас сокрушительные удары...
Рассуждая так, Мальцев потянулся за какой-то другой книгой. Раскрыл...
— Ага, вот, читай, что подчеркнуто.
Я давно знаю, слушать он готов часами. Слушает и думает. Иногда и сам зачитывает. Но, заметил я, ему лучше думается, когда слышит голос. Мысль, давно высказанная, как бы оживает, с нее спадает налет времени, и звучит она уже в устах современника, даже собеседника, с которым можно и поспорить.
Читаю, что подчеркнуто:
— «Я слышу, как часто у нас... обвиняют то землю в бесплодии, то климат в давней и губительной для урожаев неравномерности. Некоторые даже как бы смягчают эти жалобы ссылкой на определенный закон: земля, по их мнению, усталая и истощенная роскошными урожаями старых времен, не в силах с прежней щедростью доставлять людям пропитание. Я уверен... что эти причины далеко отстоят от истины... Я думаю поэтому, что дело не в небесном гневе, а скорее в нашей собственной вине».
— Там дальше тоже есть дельные мысли,— остановил меня Терентий Семенович, когда я хотел закрыть книгу, чтобы посмотреть, кто написал ее.
Листаю дальше, ищу, где подчеркнуто. Вот...
— «...раздумывая над тем, с каким безобразным единодушием заброшено и забыто сельское хозяйство, я начинаю бояться, нет ли в нем чего-нибудь позорного и некоторым образом постыдного для благородного человека или чего-нибудь бесчестного».
— Так считал римский писатель и агроном Колумелла, живший в первом веке новой эры,— проговорил Мальцев. И тут же спросил: — А как думаешь, устарели эти мысли сегодня или нет?.. Мне кажется, никакое общество не достигнет процветания, пока оно не осознает, что возделывать поле, как кто-то сказал, такое же достойное занятие, как и писать поэму. А пока и земельку нашу поругиваем, и на убывание плодородия ссылаемся, и климат виним, тогда как виноваты мы сами. Не в том, разумеется, виноваты, что дожди не ко времени или засуха случится, а что «нрав местности» не учитываем, не соизмеряем свои возможности с природными условиями, к «нраву» не подлаживаемся и тем самым ставим себя в постоянную зависимость от погоды... Дальше читай...
— Так «...следует прежде всего заступиться за землю и прийти на помощь ей — общей родительнице...».
И тут же:
«...мы обрушиваемся на нее с обвинениями в наших собственных преступлениях и на нее сваливаем нашу вину».
— Это уже Плиний, тоже римлянин, ученый и государственный деятель.
Я держал в руках ту самую книгу, в которой собраны размышления Катона, Варрона, Колумеллы и Плиния о сельском хозяйстве и которая была издана у нас по инициативе и энергичному настоянию Терентия Семеновича Мальцева. Издана, правда, давненько, в 1957 году, и, к сожалению, малым тиражом, так что ныне она стала библиографической редкостью и сыскать ее можно не в каждой библиотеке. (А в некоторых библиотеках, знаю это не понаслышке, была списана в макулатуру как никому не нужная, ни одним человеком за двадцать с лишним лет не затребованная.) Жаль, очень умная и нужная книга.
— Ну, а что к «нраву местности» не подлаживаемся, то это понятно. Нам, гордым людям, не очень хочется подлаживаться. Нам управлять погодой хочется. И когда-нибудь, познав законы природы, мы научимся и этому, исполнится эта давняя мечта земледельца.
— Может, и научимся. Только не знаю, сумеем ли управлять как следует, на великую пользу себе и природе,— ответил Мальцев задумчиво, глядя на сложенные на коленях руки. — Ведь сейчас, когда мы говорим про управление погодой, то имеем в виду интересы одного сельского хозяйства. Но когда научимся это делать, то неминуемы будут споры и согласования между самыми разными ведомствами. Возьмем простейший пример: на время проведения тех же летних Олимпийских игр и зрители, и спортсмены, и другие заинтересованные стороны захотят иметь сухую безоблачную погоду, а в это время хлебная нива, луга и пастбища нуждаются в хороших дождях. И я не уверен, что земледелец в этом споре сторон одержит верх...
Разговор этот происходил летом 1980 года, во время московской Олимпиады. Как раз в те дни всюду шли, не переставая, обложные дожди, и спортивные комментаторы чуть ли не в каждом своем репортаже сетовали на плохую погоду. Правда, избыток дождей не радовал и земледельцев.
— Ну, научимся мы управлять,— продолжал свои рассуждения Терентий Семенович. — Но ведь, как говорится, людям не угодишь. Крестьянин радуется летнему дождю — дождь посевы поит живительной влагой, а горожанин клянет этот самый живительный для нивы дождь — он нарушает его планы, с берега реки гонит или с лесной ягодной поляны. Сейчас мы миримся с ним, вынуждены мириться и волей-неволей приспосабливаться к погоде, а когда управление окажется в наших руках, то тут уж каждый потребует учитывать и его интересы...
Потом я раскрыл «Письма из деревни» Энгельгардта и среди подчеркнутых Мальцевым строк нашел такое: «Если бы хозяину дать власть над погодой, чтобы по его мановению шел дождь или делалось ведро, словом, чтобы в его руках были все атмосферические изменения, то, я уверен, не найдется хозяина, который, командуя погодой, сумел бы так все подладить, чтобы у него был наивысший урожай, наибольший доход. Увлекся бы, например, уборкой сена, напустил бы безмерно звонкую погоду и в то же время позабыл бы холодком ударить на какую-нибудь бабочку или муху. Ан у него червяк либо лен, либо хлеб пожрал бы или скот от язвы подох бы».
В летние дни 1980 года, накануне своего 85-летия, Терентий Семенович написал статью. Написал, но никому не отдал — значит, решил еще над ней поработать.
— Хочется, чтобы каждая мысль была ясной, чтобы была она понята не только учеными, но и рядовыми земледельцами, каждым, кто читать будет,— сказал он в ответ на мою похвалу написанному. И совет мой передать рукопись в печать не принял. — Готово, пожалуй, только обращение к читателям,— добавил Терентии Семенович.
В этом обращении к людям, возделывающим землю и выращивающим хлеб, к людям, которые кормят нашу великую державу, к людям «самой достойной профессии», есть такие слова:
«Всю свою жизнь я был и остаюсь земледельцем. И никогда, ни единого раза не усомнился в величии труда на земле, хоть труд этот и нелегкий. Я радовался и мучился, я торжествовал и переживал, но никогда не терял веры в то, что человек способен познавать стихийные силы природы, а познавая, обращать их во благо людям, во благо себе, даже такие страшные ее силы, как засуха. Веря в это, верю и в то, что человек, хозяйствуя на земле, способен или волен не истощать возделываемую пашню, а еще больше повышать ее плодородие. Эта вера не давала и не дает мне покоя в стремлении «пытать» природу с единственным желанием — выведать тайны ее, ее законы, в следовании которым, а не в противодействии им и проявляется наша мудрость и сила.
Да, человек способен сохранять землю в постоянной пригодности для возрастающих потребностей. Эта вера, подкрепляемая практикой и получаемыми результатами, и побудила меня написать этот труд, который, хочу надеяться, послужит если не руководством, то хотя бы поводом для размышлений. Движет мною одно страстное желание — чтобы держава наша, народ наш всегда были с хлебом. А хлеб, как известно, всему голова. Так было, так будет всегда».
Возможно, Терентий Семенович перепишет и эти слова, найдет более яркие, обращенные к людям, к гражданам страны своей. Но и эти строки хорошо выражают смысл его жизни и деятельности на земле.
Через некоторое время спрашиваю его про статью: не отдал ли куда? Нет, отложил. Сел за другую — «По пути Марксовой теории». Но и ее положил в стол: что-то в ней не нравилось ему. Про нее напоминали, у него просили ее, но он отмалчивался, отнекивался, говорил, что над ней надо бы еще поработать, однако все некогда, да и не работается что-то.
Я тоже попытался настоять, побудить его к завершению этой статьи, так необходимой сегодня: в ней обнаруживалось философское осмысление и осознание объективных законов земледелия, чего так недостает ныне агрономической науке.
Терентий Семенович выслушивал меня, соглашался, но статью из стола не извлекал. А однажды откликнулся сердито:
— Нет, надо действовать как-то иначе, а уж потом и статья не помешает...
Он уже жил желанием встречи с философами и готовился к ней: нужно побудить людей к действию, а не к разговорам. Так что и статьи эти были не чем иным, как подготовкой к обстоятельному разговору.
Однако временами словно бы охладевал и к этому замыслу. Не передумал ли? Я не задавал ему такого вопроса, но напоминал о встрече, спрашивал: когда она состоится, нет ли договоренности, какие вопросы вынесет на обсуждение?
Терентий Семенович не всегда с равной охотой включался в разговор на эту тему. А однажды, помолчав, проговорил с грустью:
— А все-таки жаль, что человеку так мало отпущено. Только накопит он опыт, осмыслит кое-что, в силу войдет, а его уже старость и немощь подстерегают, уходить торопят.
И признался вдруг, словно помощи просил:
— Как же хочется жить, читать, работать, бороться. Все кажется: что-то не сделано, что-то упустил. Мучит ощущение незавершенности начатого дела. И знаю, завершить бы надо. Да вот беда — сил уже нет. Все чаще появляется усталость.
Я был ошеломлен этим неожиданным признанием. Привык видеть его энергичным, деятельным. Он не знал, что такое скука, свободное время, безделье, потому что никогда не был праздным. А главным правилом своей жизни, как он сам однажды написал в анкете, считал: «Успевать работать, успевать читать и думать о прочитанном». Но ему всегда катастрофически не хватало времени. За всю свою жизнь он ни разу не попросился в отпуск, чтобы отдохнуть от трудного своего дела.
И вот этот великий трудолюбец, который всегда работал на пределе физических и душевных сил своих, не умевший жить без дела, которое и было его жизнью, превращенной в трудовой подвиг, — вот этот человек без всякой позы, виновато склонив голову, признавался в усталости.
Терентий Семенович тяжело переживал это состояние, старался подавить его, всячески загружал себя, откликаясь на многочисленные приглашения. Его хотели видеть на своих совещаниях агрономы и педагоги, члены обществ «Знание» и охраны природы, школьники и студенты, книголюбы и Охотники. Ему звонили и писали приглашения, к нему ехали делегации с поручением уговорить, добиться согласия.
Он по-прежнему вставал рано: в три-четыре часа утра уже был на ногах.
— Раньше некогда было спать, а теперь и время вроде бы есть, но не спится.
За всю свою жизнь, где бы он ни был — дома или в командировке, он не проспал ни одного рассвета. И не случайно на вопрос «Ваше любимое время дня?» он, не задумываясь, ответил однажды: «Восход солнца».
— А вот учиться очень хочется,— признался он. — И, как ни странно, желание это с возрастом не только не ослабевает во мне, но делается все сильнее — день и ночь бы читал. Наверное, упущенное наверстать хочется. Ведь я многого еще не знаю, а знать хочется. Ответ в книгах найти, мнение умного человека услышать. О чем? Да разве мало над чем жизнь наша заставляет задумываться?
...Вставал рано утром, включал электрический чайник, брал в руки книгу. И частенько зачитывался так, что вода выкипала до донышка и начиналось угрожающее потрескивание. Терентий Семенович сидел тут же: знал, что может забыть про чайник, и поэтому устраивался рядышком, — спохватывался. Бежал в сенцы, где стоят бачки с водой, привезенной специально для чая из Шадринска. Из колодца, который во дворе и к которому ходят по воду все соседи, он не берет для чая: «Не тот вкус».
Попив чаю, заваренного в стаканах, накрытых крышками от кофейных баночек, и съев бутерброд с сыром или два-три пряника (так и в обед и в ужин), Терентий Семенович идет во двор — зимой дорожки очищает от снега, летом в огороде возится: копает, сажает, пересаживает, пропалывает, поливает. У него и на огороде есть паровой участок, который он все лето содержит в совершенной чистоте: копает, граблями боронует. Поначалу я подумал, что какие-нибудь опыты ставит. Оказалось, всего лишь «производственная необходимость»: весной не успеть ему сразу оба дела сделать — вскопать огород и посадить картошку, вот и оставляет свободный участок, который можно загодя и не торопясь взрыхлить и удобрить, чтобы весной, не перекапывая, посадить картошку
Каждое утро, когда еще спит деревня, он прибирается не только во дворе, но и перед домом, «у лица» мусор подберет, подметет, чтобы чисто было, когда люди пойдут.
В эти ранние часы его ничем не отличить от односельчан, от стариков деревенских. Идут мимо люди — кто на ферму, кто к городскому автобусу торопится, — здороваются на ходу, но так, будто и невдомек им, что вот в этом человеке, вышедшем навести порядок перед палисадником, соединились и сблизились, как в легенде, две эпохи российской истории, далеко отстоящие друг от друга, соединились и сблизились все события новой эпохи, ставшие для многих далекой историей.
2
Недавно я просматривал почту Терентия Семеновича, собранную за многие годы в огромные связки: письма, открытки, телеграммы.
«Впервые повстречался с вами, когда вы поездом возвращались из Москвы, и мне довелось послушать ваш рассказ о наших главных заботах — о Земле и Хлебе,— писал ему железнодорожник из Свердловска Е. Потемкин. — Сидел я в купе рядом с вами, слушал ваши слова — и запали они мне в душу, как семя доброе в землю».
«Два наших соседа по купе улеглись спать, а мы разговаривали, и наша беседа продолжалась до самого утра»,— напоминал о встрече, состоявшейся лет двадцать назад, геолог Николай Зенков.
А молодой рабочий КамАЗа (так и подписано письмо) не встречался с Мальцевым никогда. Однако знает его и восхищается:
«Какая у вас удивительная судьба! Какую большую и прекрасную жизнь вы прожили! На ваших глазах росло и крепло Советское государство. Вы видели то, что мы сейчас знаем по книгам и фильмам. Не только видели, вы сами активно участвовали в строительстве государства. Большое спасибо вам за все то доброе и хорошее, что вы сделали».
Должно быть, так всегда: большое видится на расстоянии. Вблизи, в селе, на него смотрели привычными глазами. Здесь его, патриарха-хлебопашца не отличить от односельчан ни на улице, ни в быту. Здесь он живет, здесь он каждый день на виду А в быту много таких дел и забот, какие как бы приземляют, упрощают человека. И он так же, как все, управляется по дому, по двору, по хозяйству, словом, как и все деревенские старики, дети которых давно выросли, обзавелись семьями и отделились. Хоть и неподалеку живут и наведываются частенько, однако в доме уже не помощники, самому надо управляться.
Зашел я к Мальцеву ранним ноябрьским утром, а он березовые дровишки покалывает: в стариковских теплых валенках выше колен, в долгополом изношенном пальто, в шапке — одно ухо торчком.
— В охотку или ради разминки? — спрашиваю. Нам всегда почему-то хочется услышать: мол, люблю это дело, жить без него не могу.
— Надо,— ответил он коротко, как ответил бы на его месте любой крестьянин, для которого работа — необходимость. Люби не люби ее, а делать надо.
В другой раз увидел Терентия Семеновича с новой кадушкой на плече: из Шадринска вернулся с покупкой.
— Давно пора капусту солить, а посудины нет — старая непригодной оказалась. Вот и пришлось ехать,— объяснил он причину своей отлучки из дому.
Дом Мальцева тоже ничем не выделяется в ряду рубленных из дерева изб — не хуже и не лучше. Перед домом узкий палисадник с молодыми елочками и лиственницами — сам сажал. Палисадник отделен от дороги канавой, поросшей мелкой муравой,— канаву тоже сам каждую весну подправляет. Через канаву мосток. Напротив мостка — дощатая калитка. Чтобы открыть ее, нужно повернуть железную щеколду. С улицы, на углу дома, прибита табличка: «Здесь живет Мальцев Терентий Семенович, дважды Герой Социалистического Труда, заслуженный член колхоза «Заветы Ленина».
Невольно добавляешь: и почетный академик, автор безотвальной системы земледелия. Но об этом табличка умалчивает. Мальцев считает, что титулы эти и звания ни к чему, он больше дорожит именно этой честью: «заслуженный член колхоза».
Каждый, кто впервые переступает порог этого бревенчатого дома, сначала попадает в его «чистую половину», в горницу, где хозяйничает Анна Терентьевна, старшая дочь Терентия Семеновича. Она неотлучно живет в отцовском доме, а после смерти матери, после того, как все сестры и братья отделились, приняла на себя все заботы хозяйки. Однако хозяйкой она была только вот в этой чистой половине, где собраны немногочисленные подарки Терентию Семеновичу: несколько портретов его, макеты, среди которых и макет первого безотвального плуга.
Отец заходит сюда не часто. Но утром заглядывает обязательно: спросить с тихой улыбкой, как спалось, все ли ладно,— по утрам он всегда так улыбается, и от этой спокойной и доброй улыбки Анне Терентьевне делается хорошо и надежно.
Поговорив коротко, отец снова уходит к себе и надолго замыкается в своем кабинете, если не придет кто и если дочь не уговорит его супчику поесть или домашних пельмешек.
Иногда заходит в горницу посмотреть «Международную панораму» и программу «Время» по телевизору. Бывает, что задержится послушать эстрадный концерт.
В этой половине Аннушка, как зовут ее все, встречает и угощает гостей. Здесь выслушивает она деревенские новости, с которыми с утра до вечера идут к ней подруги. Она же первой встречает и тех, кто приезжает к Терентию Семеновичу, депутату Верховного Совета РСФСР. Идут с жалобами, просьбами, ходатайствами. Едут и в будни и в воскресные дни. Так что покоя она не знает, однако недовольства не только не выказывает, но и не чувствует его в себе, без надобности не пришли бы, не приехали люди, а раз приехали, то, стало быть, очень надо. Уверенная в этом, она в отличие от секретарей всех приемных не допытывается, зачем и по какому поводу, не жалуется на занятость, а, усадив посетителя, идет на отцовскую половину, говорит: «Папа, к тебе пришли...»
Иногда она пытается задержаться тут, чтобы высказать возмущение свое беспорядком, в каком живет отец. Но он не позволяет ей ни убирать здесь, ни переставлять мебель, ни вообще прикасаться к чему-нибудь, одно твердит: «Не трогай». Правда, когда возмущение Аннушки достигает предела, Терентии Семенович, выпроводив ее, берет в руки веник, тряпку, приступает к уборке, наводит некоторый порядок в своем кабинете, в котором если и есть свободное место от книг и журналов, то только на столе. Да и стол свободен не весь, а лишь малая его часть в серединке. Только в этой серединке и видно, что стол застелен плотной бумагой, густо исписанной,— здесь самые нужные телефоны и адреса тех, с кем он поддерживает переписку.
В самом кабинете свободен лишь узкий проход к столу. В громоздких шкафах и на шкафах, на подоконниках и тумбочках, на столе и вокруг него — всюду книги, журналы, газеты, письма. Письма избирателей, письма-отклики на ту или иную телевизионную передачу, на ту или иную статью его или о нем. Кто с просьбой обращается, кто выражает свои добрые чувства к нему, «любимому народом колхозному академику»: мы вас знаем, хорошо, что вы есть, благодарим за все, что вы делаете и что отстаиваете.
В одном из этих писем я встретил и упрек. Упрек не Мальцеву, а писателям и журналистам: они рассказывают, что у Мальцева в личной библиотеке пять с лишним тысяч книг. Но еще никто не рассказал, какие книги читает Мальцев. Конечно, важно не количество книг в личной библиотеке, а сколько прочитал их человек, какую пользу извлек из них для себя и дела. «Именно поэтому и хотелось бы побольше узнать... о чем думает ученый-полевод, образ, жизнь и работа которого служат примером всем нам, являются нашей гордостью».
Желание это не единичное. Видел я, как стремятся в его кабинет попасть, на библиотеку своими глазами взглянуть экскурсанты-школьники, группы которых почти ежедневно приходят и приезжают в деревню, лелея надежду встретиться с «дедушкой Мальцевым». Подойдут к дому — и стоят, робко ждут, не решаясь взяться за железную щеколду, чтобы калитку открыть и во двор заглянуть. Увидит их Терентий Семенович, выйдет за калитку, сядет вместе с ребятишками на бревнышки перед домом, и потечет неспешная беседа, вполне серьезная, но и доступная ребятам. Умеет Терентий Семенович говорить о любимом своем деле и с учеными и со школьниками. На самые неожиданные вопросы отвечает.
— Дедушка Терентий Семенович, а вам трудно работать? — спросила его однажды маленькая школьница, приехавшая с классом своим «в гости к дедушке Мальцеву».
Подобный вопрос застал его врасплох Терентий Семенович развел руки, улыбнулся, погладил девочку по голове, потом сказал:
— Как и тебе учиться. Если лень одолеет или уроки запустишь, то трудно. Правда?.. Вот. А когда себе не даешь поблажки, то ничего, тогда все получается, все ладится, тогда и трудное дело не в тягость...
— А полюбить трудное дело можно?
— Чем дело твое труднее, тем интереснее делать его. Но нужно только увлечься этим делом, и тогда оно так полюбится, что никакого другого не надо.
— А как увлечься?
— Вот когда понадобится тебе поднять и перенести это бревнышко, то ты без досады к нему подходи, без страха, а подходи вроде бы с охотой: ну-ка, мол, как взять его половчее, чтобы без передышки снести подальше. Одно снесешь, другое, у тебя и появится навык, сноровка, а значит, и увлечение, и захочется тебе завершить начатое дело как можно успешнее. Так что никогда не поддавайся лени, это лень делает любой труд невыносимым, а вообще труд всегда приятен, если человек усвоил привычку к труду с малых лет.
— А отдыхаете вы как?
— Что-нибудь опять делаю, книги читаю, думаю. Ведь жизнь, дорогие вы мои, коротка, как бы долго она ни длилась, поэтому надо заполнять до краев каждый час отпущенного человеку срока...
Сидят на бревнышках, разговаривают. Руководитель группы, улучив удачный момент, непременно про библиотеку вспомнит: взглянуть бы, Терентий Семенович отнекивается, даже чуть-чуть сердится:
— Тут поговорим, там беспорядок.
Не совсем так: там тот порядок, который удобен хозяину. Там тот мир, в котором он предпочитает быть один, наедине с книгами — своими друзьями и умными собеседниками. Если и допускает кого в этот мир, то не сразу и не ради удовлетворения праздного любопытства, а когда обнаружит в человеке единомышленника.
И менять обстановку не любит, хотя во всех других домах такую громоздкую мебель давно уже повыбрасывали, пожгли в печках и понакупили новой, полированной. Но Терентий Семенович привык к этим шкафам, к столу, табуреткам и расставаться сними не хочет.
В шкафах этих, прочных и вместительных, хранится главная ценность этого дома — книги. Хозяин считает, что их тысяч пять. Думается, больше — тысяч шесть с лишним. Добрая четверть из них — по философии.
Однажды Терентия Семеновича попросили ответить на анкету. На вопрос «Ваши любимые писатели?» он написал: «Писарев, Добролюбов, Чернышевский, Герцен, Лев Толстой, Гельвеций, Дидро, Макаренко, Некрасов, Шолохов, Салтыков-Щедрин и другие. Нравятся писатели с философским уклоном».
К этому перечню великих имен я добавить хочу еще несколько: это Белинский и Монтень, Руссо, Рабиндранат Тагор и Гоголь. С сочинениями этих авторов я видел Терентия Семеновича часто.
Кому доводилось разговаривать с Мальцевым не на ходу, а вот здесь, в его кабинете, кто прикасался к его книгам, тот потом уверял, что все они читаны с карандашом в руках. Я тоже, какие только книги ни извлекал из тесных шкафов,- ни одной нечитанной не нашел — каждая помечена рукой хозяина: подчеркнуты фразы, абзацы, а то и страницы. Где тонкой, где жирной чертой, где и виньетками на полях разрисованы — это те места, которые побудили его к размышлениям, убедили в чем-то и которые в разговоре или споре он находил и зачитывал. Зачитывал вовсе не для того, чтобы подкрепить свои слова цитатой из книги, нет. Книга для него — это размышления автора, которого он приглашает в собеседники.
— Вот что умный человек по этому поводу говорил...
Находит книгу, нужную в данный момент разговора. быстро: беглый взгляд по полкам — и извлекает на свет божий именно ее, хотя и хранилась она не в первом ряду, не под рукой, значит, не первый раз достает ее. Сначала сам читает, потом отдает собеседнику.
— Читай...
Читаю вслух. Мальцев слушает, кивает головой, подтверждая верность мысли.
— На Аристотеля ссылается? Сейчас найдем. А ты читай, читай. — И Терентий Семенович подходит к шкафу или опускается на четвереньки и так передвигается вдоль шкафа — еще какую-то книгу на нижних полках ищет. На четвереньках, босиком. Босиком и в холодные сенцы зимой выходит.
В одном из писем, пришедших ему после телевизионного фильма «Мальцев из деревни Мальцево», он прочитал недовольство по этому поводу: мол, как можно показывать всемирно известного человека босым? Знаменитые люди у нас обеспечены всеми благами, и мы хорошо это знаем, однако на Западе могут подумать бог знает что.
Мальцев читал и улыбался: на Западе, мол, пусть думают что угодно, он не изменит крестьянской привычке. До недавнего времени, пока здоровье позволяло, и по полю, и по пашне, и по жнивью он тоже ходил босиком. Обувь стесняла его.
— А пожалуй, нет на полях нашего колхоза такой пяди, где бы не ступил я босой ногой,— сказал он однажды, сам поражаясь этому. Подумал, покачал головой и пояснил: — По полям-то я никогда не ездил на машине, даже когда она уже была, а все пешком, пешком...
Сколько же сотен тысяч километров прошел этот человек по родимой земле, по любимой земле! «Жизнь прожить — не поле перейти» —говорит пословица, но перейти его бессчетное количество раз, и всякий раз с какой-нибудь тревогой, думой, заботой?! Год за годом, десятилетие за десятилетнем, всю свою жизнь он бессменно стоял на часах, никому не давая поле в обиду. Поле и истину.
И, вздохнув, с грустью заговорил о другом:
— Жаль вот, нет у нынешней молодежи прежней привязанности к земле. Молодым почему-то кажется, что труд земледельца — это черная, неблагодарная работа, не требующая ни знаний, ни напряжения ума. И думают-то так не только городские ребята, но и наши, деревенские, которые родились, выросли здесь, окончили сельскую школу. Окончили, но так и не узнали за все годы, что в поле человек имеет дело с природой, которая постоянно побуждает искать, думать, опытом проверять каждое положение науки. Не догадываются даже, как много еще тут неразгаданного, столько, что хватит дела не одному поколению...
И тут я приметил на табуретке книгу, которая, как мне подумалось, попала сюда случайно,— должно быть, забыл кто-нибудь из учителей. Ну, в самом деле, зачем Мальцеву могло понадобиться «Методическое руководство к учебнику «Русская литература для 8-го класса»?
— Расскажу сейчас, вот только приготовлю чай, а то что-то голодно стало,— откликнулся Терентий Семенович на мой вопрос. Выставил на стол чайник, заглянул в него, сходил в сени за водой, вылил в чайник и вытер руки.
— Пусть греется, а я расскажу, зачем понадобилась мне эта книга... — Он взял ее с табуретки и положил на колено. — На днях приезжали на экскурсию школьники из соседнего района. Разговорились. Вот я и поделился с ними, что очень нравятся мне слова из хорошо им известного литературного произведения: «Да, хлебопашец у нас всех почтеннее. Дай бог чтобы все были хлебопашцы!» Ребята в голос: «Кто писатель, какое произведение?»
«Гоголь Николай Васильевич, —говорю, —«Мертвые души». Небось проходили?»
«Проходили, — отвечают ребята, — Чичикова знаем, Ноздрева, Собакевича».
Вижу, учительница смутилась, однако за ребят все же заступилась: «Нет такого вопроса в программе, Терентий Семенович».
Может, и нет, только как же, думаю, учитель сельской школы пропускает такие прекрасные слова? Разве только потому, что помещик Костанжогло их произносит? Ну и что с того, что помещик? Это же позиция автора-патриота!..
Вернулся я домой, а успокоиться не могу — ответ учительницы из головы не идет. Взял в школьной библиотеке вот это «Методическое руководство», рекомендованное в помощь учителю Министерством просвещения РСФСР, и совсем расстроился. Действительно, основное внимание образам помещиков и чиновников губернского города, мимоходом — лирические отступления, но ни слова о тех размышлениях, на которые побудили автора все эти помещики и чиновники, образы которых рекомендуется изучать нынешним школьникам. А ведь размышления очень интересные...
Мальцев отложил «Методическое руководство» и достал из шкафа томик Гоголя, испещренный пометками:
— Почитай-ка вслух...
Я читал и ловил себя на мысли, что тоже, как и те школьники-экскурсанты, размышлений этих не помнил и читал их как бы впервые. Значит, надо будет перечитать.
За чаем Терентий Семенович вспоминал 30-е годы, первые годы колхозной жизни, когда опытничество на земле приобретало и размах и популярность. При каждом колхозе создавались хаты-лаборатории, опытники пользовались уважением, о них в печати рассказывали, их поддерживали научные учреждения. Движение это, бесспорно, сыграло свою роль в развитии науки и практики земледелия. Жаль, забыли мы о нем — и утратили кое-что полезное. Утратили чувство поиска, которое приносит человеку ни с чем не сравнимую радость.
По именам вспоминал своих любознательных юных помощников — много их тогда было, и все работали с увлечением. Но вспоминая, он никогда не жил прошлым, никогда не идеализировал его, а если о чем и жалел, то только вот о таких утратах полезного.
— Думается мне, что опытничество — самый надежный путь к тому, что мы называем привитием любви к земле, к хлеборобскому труду. Тут, на опытном участке, и может развиться у ребят любознательность, без которой не настроить их на большую цель в жизни.
Он говорил, а я вспоминал, как еще при первой встрече спросил его о местной школе, где Терентий Семенович бывает часто. Полагал, влияние Мальцева на юные умы и сердца должно быть огромным: ведь школа рядом с его домом, рядом с опытной станцией, и дом и станция видны ребятам из всех окон. Однако Терентий Семенович замялся и ответил не сразу.
— Случая такого, чтобы молодой человек пришел на опытную станцию и сказал: «Хочу заняться опытничеством, помогите», — не припомню за многие годы ни одного...
В ответе этом были и горечь, и недоумение, и разочарование.
3
Случилось так, что разговор этот был продолжен после посещения сельского Дома культуры, где «показывали себя» пьяные парни. Признаться, я бы не обратил на них никакого внимания, если бы не увидел, как изменился в лице Терентий Семенович. Только что он увлеченно говорил о законах природы, к познанию которых человечество всегда стремилось и будет стремиться. И вдруг словно споткнулся, сник.
— Жалко мне людей этих, — признался Мальцев, когда домой к нему мы вернулись. — А как хочется, чтобы каждый молодой человек был душевно и умственно способным испытывать те радости жизни, которые испытывал и испытываю я, чтобы имел цель, интересную для себя и полезную людям... А молодые люди, окончив десять классов, получив хорошую подготовку к познаниям, порой только о бутылке и думают. Боюсь я за них: если не спохватятся вовремя, то и свою жизнь впустую проживут, ничего доброго не сделают и чужую заедят. Даже подумать страшно: человек впустую проживет жизнь, не прикоснувшись умом к таким заманчивым загадкам мира...
Сказав это, он, как мне показалось, задумался о чем-то другом. Но я ошибся.
— Когда земледелец действует так, будто никаких естественных сил природы не существует, когда не считается с ее законами, то он расплачивается за это не только недобором урожая, но еще и урон природе наносит, нарушает экологическое равновесие, что оборачивается многими бедами, порой непредсказуемыми. Наверное, то же самое и в обществе? Ведь сущность человека, как утверждал Карл Маркс, «есть совокупность всех общественных отношений». И не надо бы нам делать вид, будто все идет хорошо. Да и нельзя не считаться с теми явлениями, которые все ощутимее беспокоят общество, а не только нас с вами. Уклоняться от прямого ответа и действия — значит, позволять этим явлениям разрастаться. Сами посудите: бурьян, сорняк в поле вреден, но он не делает наши культурные растения сорняком. А всякая дрянь и пьянь в человеческом обществе может делать такой же дрянью и пьянью вполне хороших людей. И, к сожалению, делает...
Через несколько дней в этом же Доме культуры Мальцева поздравляли с 85-летием. В банкетном зале стояли самовары, из которых потчевали гостей чаем с медом. Ни вина, ни водки не было: все давно знают, что Терентий Семенович и сам не пьет и других за выпивку не милует.
На этом торжестве, на котором надо бы одни хорошие слова говорить, он в ответной своей речи напомнил людям и о беде, которая страшит его.
— Я беспокоюсь, когда вижу, как парни и девушки увлекаются по поводу и без всякого повода выпивками. Беспокоюсь, потому что у человека, одурманенного водкой, ума не шибко много остается. А когда ума нет, то и чести нет. А уж если без ума и чести человек остался, то про совесть и спрашивать нечего: нет ее. Но прежде чем молодежь наставлять, давать ей нравственный наказ, нужно подумать нам, вышедшим из возраста молодых: как мы себя ведем, какой пример показываем. А пример-то мы подаем не всегда тот, который нужен молодежи, нужен для построения будущего образцового общества. Наше поведение часто расходится с нашими словами, и иногда расходится в противоположные стороны. Об этом надо всем серьезно подумать, потому что пример — в воспитании главное. Поэтому, думается мне, с кого надо начинать воспитание? С учителей, с отцов и матерей, с руководителей трудовых коллективов.
Вечером юбиляр сидел дома в окружении внуков и правнуков и пил с ними чай, который сам заваривал в стаканах и чашечках, накрывая их крышками от кофейных баночек. Чай с пряниками и печеньем. Никаких деликатесов на столе не было: он всегда обходился тем, что в магазинах есть, что не надо просить у кого-то, потому что не любил, не умел и не думал просить. Брал сумочку, когда в город ехал, по пути заходил в магазин, покупал то, что на прилавках видел.
В будничной своей жизни он никогда не утруждал никого личными просьбами, никого не обременял собой. Даже там, где Герои Социалистического Труда обслуживаются вне очереди, он пристроится к очереди и выстоит ее, если кто-нибудь, узнав его, не подтолкнет чуть не силой вперед.
Однажды я попытался пожурить его за это неумение пользоваться заслуженными благами. Терентий Семенович сердито посмотрел на меня (он никогда не сердился, если собеседник выражал несогласие с ним и вопросах теории и практики, но мог прекратить разговор, а то и дружбу, когда чувствовал расхождение в нравственных позициях) и выговорил мне с укором:
— По-моему, каждому человеку необходимо самоограничение — таким образом он учится управлять своими желаниями, дабы не брали верх эгоизм и разные прихоти...
На следующее утро, как и договорились накануне, я приехал к нему чуть позже обычного. В доме ничто уже не напоминало о торжестве. Анна Терентьевна была в своей половине. Терентий Семенович сидел на табуретке у стола, на котором начинал шуметь чайник. Сидел нога на ногу, с книгой на коленях. Склонившись низко, он торопливо искал в ней что-то. Рядом. на свободной табуретке, лежало еще несколько книг. То было полное собрание сочинений Писарева в шести томах, издания 1894 года. Я уже снимал их с полки, читал места, помеченные Мальцевым.
— Вот, прочитай, что писал молодой человек строгого ума,— говорил Терентий Семенович.
«Если вы хотите образовать народ,— читал я,— возвышайте уровень образования в цивилизованном обществе».
— Это мысли Писарева о побуждении к учебе и знаниям. Двадцать четыре года было ему, когда он написал эту статью... Не перестаю удивляться уму этих людей. Двадцать восемь лет всего и прожил на свете... А Белинского, Чернышевского возьмите: писали о литературе, о литературных делах, а умом охватывали все стороны человеческой жизни и деятельности. — Помолчал, потом спросил: — Как думаете, есть сейчас такие критики, такие умы?
Задавая этот неожиданный для меня вопрос, Мальцев (так мне показалось) ждал, надеялся услышать утвердительный ответ. Больше того, мне подумалось, что отрицательный ответ способен разрушить в нем какие-то надежды, разрушить что-то такое, без чего жизнь наша в настоящем и будущем окажется скучной, без мысли, поддерживающей и ведущей человека. Но, пока я думал, он сказал:
— Наверное, есть, а мы их не знаем, не слышим их. Не слышим только потому, что нет пророка в родном отечестве, а ум и гениальность признаем лишь тогда, когда человека на кладбище снесут...
— Должно быть, есть,— согласился я и подумал вот о чем. Размышления великих критиков о русской литературе (о литературе, не о земледелии) привлекали и продолжают привлекать внимание Мальцева не меньше, чем ученые труды знаменитых естествоиспытателей. Потому, наверное, что в размышлениях этих (как и в обстоятельных суждениях Гоголя и Герцена, Льва Толстого и Жан-Жака Руссо, Рабиндраната Тагора и Садриддина Айни) Мальцев находит ту нравственную опору, без которой трудно было бы осознать жизнь, как без постижения философских трудов классиков материалистического учения трудно, а то и невозможно было бы решить ему те задачи, которые стоят перед агрономической наукой.
Пройдет всего несколько дней, и Мальцев подтвердит эти мысли:
— Меня и выучили и воспитали книги... Книги открывали мне прекрасный непознанный мир, а земля манила многими тайнами. Вот это ощущение тайны и стремление к познанию и побуждали меня к поиску, сначала к чисто практическому: «Что надо делать, чтобы пашня родила лучше?», а потом и к научному: «Почему пашня плохо родит и что, кроме старания, надо приложить к ней?»
Просматривая я листая книги, собранные в рубленом деревенском доме, я подумал вот о чем.
Мы хорошо знаем Мальцева. Не очень хорошо, но знаем, чем велик ученый Мальцев, какие проблемы его волнуют, против чего он борется и что отстаивает. Начинаем постигать и ту философию земледелия, которую исповедует он, опираясь на диалектические законы природы. А если бы, представим такое, мы не знали его? Смогли бы потомки узнать, что в наше с вами время жил и работал талантливый ученый? Думаю, что, перелистав и перечитав книги, которые он читал с карандашом в руках, статьи и книги, которые он написал сам, потомки наши вполне могли бы представить его облик, круг волновавших его проблем. И многое познать, обогатиться.
Признаюсь, до встречи с Терентием Семеновичем Мальцевым мне не доводилось проникать в мысли и чувства своих собеседников и таким вот способом — листая книги, ими прочитанные. Но никогда, ни с каким другим собеседником не оказывался я и в том неловком положении, когда вынужден был признаваться, что не читал ту или иную книгу, не знаю того или иного автора, а если и читал, то ничего не сохранил в памяти, ни одной мысли в прочитанной книге никак для себя не отметил, не перечитывал, не возвращался к ней, утешая и обманывая себя тем, что некогда.
И всякий раз, при каждой встрече поражался даже не тем, как быстро он находит нужную книгу — к этому я уже привык. Поражался безошибочному поиску выраженной в книге мысли, соответствующей теме разговора. Так ориентироваться в книгах может только человек начитанный и от природы наделенный необыкновенной памятью. Прочитав однажды, он надолго сохранял отысканные в книгах сокровища человеческой мудрости и потом щедро делился ими с собеседником.
Именно он, Терентий Семенович Мальцев, заново открыл для меня многих знакомых авторов, обратил мое внимание на те произведения, которые оставались почему-то незамеченными.
Вспоминаю свою первую встречу с Мальцевым, встречу до обидного запоздалую, но установившую добрые и прочные между нами отношения, породившие и оживленную переписку, и частые встречи то на родной его земле, то в Москве. Так вот, командировка моя кончалась. К тому же надо, как говорится, и честь знать — не день, не два, а две недели сижу неотлучно с Терентием Семеновичем. Мне-то на пользу, а он, думаю, утомился: с раннего утра до темного темна нескончаемые разговоры. Нет, говорил он, я слушал да иногда вопросы задавал. Одно мне мешало распрощаться — копию статьи он обещал дать: будет, не будет она опубликована, а размышления его о том, как нам каждый год быть с хлебом, мне пригодятся. Однако у него остался единственный экземпляр, и он отдал его на перепечатку. Машинистка должна была к вечеру занести, но не занесла почему-то.
— Ладно,— сказал Терентий Семенович,— я утречком пораньше встану, возьму у нее и привезу в гостиницу. Заодно и с билетом на поезд помогу.
Что ж, я распрощался с интереснейшим собеседником (две недели как два дня пролетели), уехал в Шадринск, в гостиницу, чтобы переночевать, выспаться, а днем и на поезд. Решил: не видать мне статьи.
Под утро я проснулся от шума за окном. Слышу, у гостиницы остановилась машина, в гулкой предрассветной тишине хлопнула дверца. Похоже, что газик — только у него так хлопает дверца. Подумал: «Мальцев?..» Глянул на часы — нет и шести. А он если и приедет, то не в такую же рань. Но — стук в дверь. Открываю — Терентий Семенович... С каким-то пакетом в руке. Статью, значит, привез.
— Ты вчера уехал, а я все думал: что-то еще хотел прочитать тебе, да не прочитал. Только под утро вспомнил,— почти виновато проговорил Мальцев, снимая пальто и к столу присаживаясь. Сел, придвинул к себе настольную лампу и извлек из пакета «Письма об изучении природы» Герцена. — Вот послушай...
Он читает, я слушаю и пытаюсь, не производя лишнего шума, одеться — не приходилось мне еще вести беседу в таком вот виде.
— А это сам почитай...
Терентий Семенович отдал мне книгу, откинулся на спинку стула.
— Умная книга, посмотри, будет время,— задумчиво и тихо проговорил Мальцев.
— Читал,— отвечаю.
А он мне:
— Читать мало, вникнуть надо, изучить. Изучить, чтобы уразуметь — властвует над природой не механизированный человек, не грубая сила, а человек, овладевающий знанием общих закономерностей. Грубая сила может лишь разрушить природу, тогда как разумная власть — украсить и обогатить. Украсить и обогатить настолько, насколько человек овладел знанием ее законов.
Терентий Семенович оделся, уходить собрался.
— И все же жаль, без вашей статьи уезжаю,— вырвалось у меня.
— Да привез же я! — ответил он. И извлек ее из того же пакета, перепечатанную и подписанную. Это его размышления о планировании, агротехнике в урожае или, точнее, как хозяйствовать, чтобы каждый год быть с хлебом.
Я проводил Терентия Семеновича до машины.
— Домой сейчас?
— Нет, в лесхоз надо заехать, березовых дровишек выписать. Добрые хозяева с лета запасаются, а я вот до зимы дооткладывался.
И уехал. Вечером ему выступать (попросили) в комсомольско-молодежном клубе «Родная земля». Завтра — перед студентами в педагогическом институте по случаю какого-то юбилея (письмо прислали и звонили несколько раз). Потом в местную школу приглашали заглянуть, с учениками побеседовать. Потом еще и еще куда-то, на какие-то встречи, беседы, юбилеи.
Уехал Терентий Семенович, и мне тоскливо-тоскливо сделалось, будто с отцом своим я расстался. Будто я, здоровый человек, способный и дров наколоть, и многие другие работы поделать, не сделал ничего. Ни я не сделал, ни сельские школьники, ни члены молодежного клуба, ни районные руководители, которые чуть не каждый день с разными просьбами к нему обращаются. Стою, думаю, а в ушах голос его — Терентий Семенович читает Писарева: «Польза, которую я приношу обществу, а следовательно, и самому себе, будет тем значительнее, чем успешнее идет моя работа...»
Уже дома я нашел в сочинениях великого русского критика и мыслителя эту фразу и дочитал ее до конца: «...а работа моя пойдет тем успешнее, чем основательнее я изучил свое ремесло. Общество видит и ценит результат моей работы, и если результат оказывается хорошим, то общество заключает, что я знаю хорошо свое ремесло, и называет меня образованным специалистом».
Его ремесло — хлебопашество. Он изучил его и внес немало нового не только в практику, но и в теорию земледелия. Так что общество, думается мне, с полным правом может назвать его не просто образованным специалистом, ученым, но ученым талантливым, потому что только истинному таланту дано не останавливаться перед фактом, а искать и находить причины, порождающие эти факты.
4
В ноябре 1981 года Терентий Семенович прилетел в Москву на сессию Верховного Совета Российской Федерации. В тот же день мы встретились с ним («Встретимся, наговоримся досыта», — написал он в письме, сообщая о дне своего приезда и намекая, что есть для разговора и кое-что новое). Встретились, я его про здоровье спрашиваю, а он мне:
— Да вот в больнице лежал в августе. Уезжал когда, наказал своим: не торопитесь с косовицей пшенички, дождитесь полного ее созревания...
Наказал и попросил хотя бы через день привозить ему по нескольку колосков с поля. Просьбу эту исполняли, колоски привозили. Он брал их в руки, растирал на ладони и говорил:
— Хорошо идет налив, но пусть постоит еще.
А однажды сказали ему:
— Да уж косим мы.
Мальцев отпросился из больницы на несколько дней, приехал домой, вернулся к полю. А оно уже почти все убрано. Осталось всего гектаров сто пятьдесят. Правда, по такому сухому году — первый и единственный дождь прошел лишь 12 июля — намолотили неплохо: пшеница дала больше 30 центнеров с гектара, однако могло быть и значительно больше, если бы не поспешили, к тому же ни погода не торопила, ни сроки не поджимали.
— Да помогите вы нашему председателю не косить дня три хоть оставшиеся сто пятьдесят гектаров, пусть постоят до настоящего созревания,— не без укора попросил Мальцев, обращаясь к приехавшему в колхоз первому секретарю обкома Филиппу Кирилловичу Князеву.
Оставшийся этот клин скосили через неделю после массовой жатвы. И намолотили с каждого гектара по 47 центнеров зерна.
— Жаль, что так несвоевременно начали уборку,— выговаривал потом Терентий Семенович председателю.— Сам теперь видишь: намолотили на круг по тридцать три центнера пшенички, а если бы потерпели еще недельку, то не меньше сорока центнеров с гектара взяли бы.
Согласился председатель: вполне может быть, что центнеров семь недобрали.
— Потеряли, — уточнил Терентий Семенович. — И не семь центнеров, потому что не гектар у нас был посева, а две тысячи семьсот гектаров. Это значит, что только наш колхоз потерял двадцать тысяч центнеров пшенички.
Его самого ужаснет эта цифра: выходит, невидимые потери во много раз превышают потери видимые? Сколько же допустили этих невидимых потерь в районе, в области? И потеряли вовсе не из-за того, что уборочная техника была неисправна, дороги не отремонтированы или зернохранилища не подготовлены: материальных затрат тут не требовалось ни рубля. Потеряли из-за несвоевременного усердия, на которое побуждает сводка, как побуждала когда-то на весеннем севе.
И Мальцев садится и пишет статью: пора народным контролерам выходить на борьбу не только с видимыми, но и с невидимыми потерями — не позволять преждевременную уборку. Надо, чтобы спелость каждого поля определяла специальная комиссия, в которой были бы и народные контролеры, потому что слишком распространенной и привычной стала уборка невызревших хлебов, не набравших вес клубней.
— Вот уж правда: век живи — век учись,— продолжал свой рассказ Терентий Семенович. — Сколько жатв было, а только эта выявила ошибки наши, раньше не замечал почему-то...
Но чувствую, что самая важная новость не эта. И не ошибся.
— Думал я, думал и пришел вот к какому выводу: а ведь закона возрастающего плодородия почвы в природе нет...
Я посмотрел на него с недоумением. Что он говорит? Терентий Семенович заметил мое удивление и, улыбнувшись, успокоил:
— Но нет и закона убывающего плодородия. Есть процесс созидания. И есть процесс разрушения. В разных условиях преобладает то один, то другой. Но если почему-либо прекратится один, то не станет и другого, потому что они есть жизнь, ее диалектическое течение. В философии это именуется единством противоположностей. Значит, процессы эти едины и являются лишь двумя сторонами одного закона природы... Вот только не знаю, как его вернее назвать. Может, закон создания-разрушения почвенного плодородия?
Потом снова заговорил о лете 1981 года: опять первый год нового десятилетия оказался засушливым.
— Что тут, очередная случайность? — размышлял Терентий Семенович вслух, сам себе задавая вопрос.— Нет, что-то тут, наверное, есть...
Теперь он был почти уверен в этом. Вот и ученые Сибирского отделения ВАСХНИЛ, анализируя урожайность зерновых культур за ряд лет, тоже выявили периодические колебания, повторяющиеся через 3, 4, 7 и 11 лет. Утверждают: тут прямая связь с солнечными циклами и другими природными явлениями.
Значит, в природе существует какая-то ритмичность явлений? Да, существует, доказывает наука.
К этой проблеме, может быть, самой глобальной, к изучению ритмов биосферы, ученые подошли совсем недавно. И обнаружили, что все события в жизни природы связаны с определенными ритмами, разными по продолжительности — от нескольких дней до десятков, сотен и тысяч лет. Они-то и определяют погоду, климат на обширной территории нашей планеты, а в конечном счете и урожайность земных полей.
Ритмы биосферы... Ученые полагают, что явление это вовсе не случайного характера, и относят его к числу фундаментальных закономерностей природы. А если это так, то мы, зная эту закономерность, сможем наложить сетку ритмов с известного нам прошлого на будущее. И тогда какая-нибудь служба, «прослушав» ритмы Вселенной и сопоставив все данные, скажет земледельцу: ожидаются такие же условия, как в таком-то году.
Он был все такой же: жаждущий знаний и истины, постоянно сосредоточенный на беспокойном вопросе: «Почему?..» Но когда спрашивали его: «Чем занимаетесь, Терентий Семенович?», он неизменно отвечал:
— Хлебопашеством. Такое мое самое главное дело.
Где искать глубину
Художественное творчество уже по самой сущности своей должно исключать скороспелость выводов и утверждений, торопливость в подходе к теме. Оно мстит неудачами за самонадеянное желание веско сказать о том, в чем ты еще толком не разобрался. Но вместе с тем оно, художественное творчество, позволяет автору страстно откликнуться на сиюминутное, казалось бы, явление действительности — и так откликнуться, что это явление, как и само писательское слово о нем, предстают одновременно непреложным фактом и общественной жизни, и современного литературного процесса. Подтверждение тому — лучшие образцы отечественной писательской публицистики.
Когда читаешь материалы недавних Пленумов ЦК КПСС, то ловишь себя на мысли, что те или иные положения партийных документов в свое время в той или иной степени — через факты нынешней сельской действительности и анализ строгих статистических данных — были как бы предвосхищены в произведениях очерково-публицистического жанра. Зачастую опыт убеждал нас, как полезно может быть страстное и доказательное слово литератора, посвященное злободневным народнохозяйственным задачам.
В постановлении ЦК КПСС о литературно-художественных журналах отмечалось: статьи и очерки о положительном опыте хозяйствования, о проблемах социального переустройства села, об охране окружающей среды вызывают широкий читательский интерес. По некоторым из них приняты решения партийных и государственных органов».
Порой можно услышать такое мнение: нужно ли, дескать, ныне писать просто о чем-то хорошем в деревне — о хороших, работящих людях, интересных встречах на сельских проселках, когда вокруг нас проблема на проблеме»? В наметившемся литературном увлечении представлять как проблему едва ли не любое хозяйственное дело мы частенько и человека-то начинаем видеть одномерно, лишь как объект положительного или отрицательного отношения к сущности производственного вопроса...
Да, необходимо авторское стремление с партийной принципиальностью обличать негативные моменты в хозяйственной практике. Но не случается ли порой так, что за деревьями мы не видим леса? Ведь справедливо замечено критикой, что вовсю гуляют по книжным страницам мрачные искатели всяких проблем и проблемок, но все меньше остается носителей нравственных ценностей, накопленных за века трудовой жизни народа. Народ в не меньшей мере, чем правдивого критического писательского слова о каких-либо частных недостатках, вправе ждать и доброго, светлого слова о себе.
Таким добрым светлым словом является повесть Ивана Филоненко «Хлебопашец».
Это обстоятельное описание наиболее значительных эпизодов из поучительной судьбы и многолетних земледельческих трудов Терентия Семеновича Мальцева. Автор с понятной уважительностью живописует биографию «народного академика», выходца из самой обыкновенной семьи русских крестьян, в отлаженном хозяйственном укладе которых «жизнь и работа не существовали порознь». И вместе с тем писатель, опираясь на признания-откровения Терентия Семеновича, старается подвести читателя к разгадке секретов его жизненных принципов, его жизненного успеха. Как получилось, что малограмотный деревенский парень через одно только неустанное самообразование вышел в авторитетные ученые?
Для всех нас Терентий Семенович Мальцев (автор повести это подчеркивает) не просто талантливый творец прогрессивных методов и приемов земледелия для родной ему сибирской почвенно-климатической зоны. Он — носитель самых высоких нравственных качеств в хлебопашеской профессии, его судьба — убедительное подтверждение тому, на что способен в условиях нашего социалистического общества работающий на земле человек, пытливый, целеустремленный, неуступчивый перед наскоками неумных, но ретивых уполномоченных. И хотя отдельные страницы повести Ивана Филоненко несколько описательны, все равно они дают нам возмоожность увидеть и почувствовать, как нелегко порой было Терентию Семеновичу Мальцеву отстаивать свои агрономические убеждения, свою «науку побеждать» недороды, засухи, черные бури, побеждать в столкновениях с чьими-то многолетними, устоявшимися рутинными рекомендациями и требованиями: отстаивать свою, назовем так, колхозную самостоятельность. Не всегда он бывал окружен соратниками, не всегда вовремя и до конца понимали его старания и нововведения в полеводческом хозяйстве, ибо даже ныне не без горечи прорвалось в словах Терентия Семеновича: «много в нашем колхозе перебывало разных председателей, а добрую память по себе оставили лишь двое — Иван Никонович Коротовских да Иван Гаврилович Авдюшев. Умные были головы, не брали «под козырек», когда против совести поступать понуждали».
Надо отдать должное автору повести «Хлебопашец» за то, что, воссоздавая в документально-художественном произведении образ известного всей стране человека, он посчитал обязательным возвысить бесспорную, но, увы, нередко забываемую в писательских сочинениях истину: труд — вот главный критерий нашей нравственности, высшее проявление духовности. В нем истоки человеческого подвижничества, непоказного героизма. И пока наши критики спорят, каким же должен быть истинный современный героический характер, куда как полезно попристальнее всмотреться в таких вот «тихих» людей, как Мальцев и ему подобные... Обращение к таким характерам — это обращение к самой жизни народа.
Эрнст Сафонов
Примечания
1
Книга С. Максимова «Куль хлеба и его похождения» вышла в свет в 1873 году. В наше время впервые была переиздана через сто с лишним лет (в 1982 году) с предисловием почетного академика ВАСХНИЛ, дважды Героя Социалистического Труда Т. Мальцева. В нем он писал: «Еще на заре нынешнего века книгоноши-офени, которых у нас называли «мелочниками», разносили по зауральским деревням «книжки для народа» с Ирбитской и с Крестовской ярмарок. Добирались они и до моего родного села Мальцева. Вот тогда и попадали в наши избы сочинения умных и добрых писателей. Хорошо, что труд Максимова прочтут и ребята восьмидесятых годов нашего века, хорошо, что «Куль хлеба» возвращается к юным — завтрашним хозяевам земли».
(обратно)2
Деревни Свистельники и Шумляны находятся на границе нынешних Ивано-Франковской и Тернопольской областей.
(обратно)3
Фриден — мир, криг — война.
(обратно)4
Ныне город Палдиски в Эстонской ССР.
(обратно)5
Ныне Кингисепп,
(обратно)



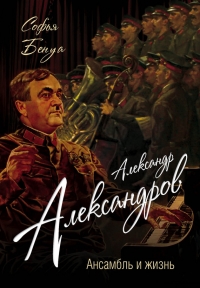




Комментарии к книге «Хлебопашец», Иван Емельянович Филоненко
Всего 0 комментариев