Анатолий Найман Рассказы о
Издательство благодарит Анатолия Генриховича Наймана за помощь в подготовке книги и за предоставленные фотографии.
Новый вид из окна
Поезд прибывал в половине девятого, комиссионные открывались в одиннадцать, значит, для начала я должен был убить эти два с половиной часа.
Я не наведывался в Ленинград уже больше пяти лет, с тех пор как, разлюбив одних, расплевавшись с другими и как следует поссорившись с оставшимися двумя-тремя давними и близкими друзьями, я пережил полугодовой приступ непомерной тоски и скуки и уехал в Москву, где вскоре женился и зажил семейной жизнью, без прежних изнурительных и безрезультатных увлечений чем-нибудь и без таковых же разочарований. Я написал «двумя-тремя» не потому, что забыл, сколько у меня тогда было друзей, а потому что хотя их было три, но поссорился я как следует только с двумя, а третий в это время вступил в фиктивный брак с итальянкой и укатил в свою Итальянию и, как говорится, скатертью дорога. Я, разумеется, и с ним поругался, но, как видите, не-доругался, и хотя прощались мы надутые друг на друга, но прощались все-таки, потому что он сказал, что это навсегда и, возможно, так оно и было.
Он много чего тогда говорил, он вообще был чрезвычайно словоохотлив и вне, как он выражался, вербального самовыражения себя не представлял. Приземлившись в Риме, он дал одно за другим два длиннейших интервью, и в них такого напорол про свободу слова и совести и «свободу с большой буквы», гонения на интеллектуалов и на него лично, про порядки в «Ленинграде – этих наших южных штатах» и даже про меня, его «одного друга, фамилию которого по понятным причинам нельзя опубликовать и который сейчас вынужден бежать из этого города-вампира, города с атмосферой, удушающей всякую живую жизнь» («La vie vitale» было в тексте, который я читал, но я уверен, что он сказал «живая жизнь», потому что с этой живой-жизнью он носился как раз последние полгода и выстреливал ею через фразу), что я сильно рассердился на себя, зачем я все-таки не поссорился с ним, как с двумя другими, и, за неимением никакой иной аудитории, в резких выражениях заявил жене, что отныне считаю себя с ним в ссоре, а лучше сказать – вообще с ним не знакомым. (Отдельно от этих необходимых пояснений к началу моего рассказа, для которых называние имен необязательно, и только для удобства дальнейшего повествования сообщаю его имя – Игорь К.)
Хотя по-московски на часах было уже утро, я вышел из вагона в ночь, в черноту, пробитую во множестве мест фиолетово-металлическим светом без сияния. Весь вокзал был перестроен (но опять – симметрично московскому), и лампы тоже были новые: уж не помню, какие были прежние, желтые, но эти были по сравнению с теми, как те по сравнению с газовыми (решил я, никогда газовых не видев). Я прошел перрон, еще храня под одеждой тепло, захваченное в вагоне, но уже в ангаре вокзала его стал выедать сырой мороз, и когда я вышел на площадь, я продрог, однако как будто организм к тому времени успел вспомнить прежние свои приемы приспосабливания к этому климату и включил старый, отлаженный за три десятилетия терморегулятор, и, завернув за угол аптеки на Невский, я начал – не согреваться, конечно, а – переставать мерзнуть, получая взамен, тоже без какого бы то ни было усилия вспомненную телом, зябкость, с которой можно жить целый день и полгода зимних дней подряд.
Я пересек Невский, словно бы вдвое сузившийся за эти пять лет, по переходу прямо против круглого метро (занимавшего место какого-то здания или сквера, которые я еще, кажется, застал и мог вспомнить, и многого, вроде конной статуи Александра III из навсегда запертого дворика Русского музея и еще более внушительной, хотя и несравненно менее материальной, тени неистового Виссариона, завидовавшего отсюда внукам и правнукам, чего я помнить не мог), прошел мимо трех троллейбусных остановок, удивившись, что как прежде знаю их последовательность и номера маршрутов и сами маршруты от кольца до кольца, и вошел в сосисочную, которая – сколько, лет пятнадцать тому назад? – открылась (на месте обыкновенной столовки) как рекламно-экспериментальный пункт питания, снабжаемый самыми свежими и лучшими продуктами ленинградского мясокомбината, и в ту, при открытии возникшую, репутацию, которой я верил десять следующих лет, хотя уже через год съесть в ней было можно только вечный клейменый ромштекс.
Гардеробщик, инвалид со знакомым незнакомым лицом, пробурчал, что никаких пакетов он не примет, и я пробурчал в ответ, что, пожалуй, и сам ничего на такой вешалке не оставлю: вешалка была с картонными номерками и у самой двери на улицу. Пакет, однако, хотя был и легок, и компактен, уже раздражал меня, газета, в которую все было завернуто, в одном месте прорвалась, а в другом, под шпагатом, начала лохматиться. Я прошел в зальчик, лежащий двумя ступеньками ниже остальных, сел за угловой и потому двухместный стол и положил пакет на свободный стул. Публика была утренняя, либо унылые приезжие вроде меня, либо унылые местные бобыли, либо унылые весельчаки с ночи. Пахло моей любимой капустой с кухни и кофием-о-ле с соседних столов. Официантка не появлялась, я пригрелся и стал погружаться в дремоту. Внезапно мой стул толкнули, и громкий голос произнес: «Почему здесь? Чья вещь? Освободить место!» Я поднял голову и узнал директора нашей школы.
Я взял пакет себе на колени, и он сел рядом со мной, сунув тяжелый портфель под стул. Без сомнения, это был он самый, Вселд-Якыч, буй-тур Всеволод, старый, конечно, морщинистый и плешивый, но он, директор, дирик, атас и так далее, и даже если бы я не узнал его по физиономии, «почему-здесь?» уж во всяком случае убедило бы меня. «Почему-здесь?» – спрашивал он любого возникшего на его пути по коридору младшеклассника и автоматически брал его крепко за ухо. «Почему-здесь?» – вырывалось у него еще в случае внезапного недоумения или неясности: «Друзья и дружба надоели, – помню, читал он, – затем, что не всегда же мог… Почему-здесь? Кто прочтет?» – обратился он к классу. Кто-то сказал: «Бифштекс!» – и он повторил в раздумье: «Бифштекс?.. Бифштекс и страсбургский пирог шампанской обливать бутылкой?..» – остановился и со злобой рявкнул: «Почему-здесь?» Он преподавал нам литературу… И сыпать острые слова, когда болела голова. Боже мой, как все это было прелестно! Beef-steaks, почему-здесь, душный воздух и электрический свет восьмого класса, онанисты Алексеев и Алехин на последней парте, желание смеяться, дерзить, сделать что-нибудь, не делать ничего. Как все это было прелестно, или, что то же самое: как все это было давно!
– Чему улыбаетесь? – спросил он по-прежнему страшно и зловеще.
– Здравствуйте, Вселд Яковлевич, – сказал я. – Я ваш бывший ученик. Выпуск пятьдесят третьего года. Помните?
– А-а… – протянул он. – То-то я смотрю. Дети страшных лет России? Помню… Ну, заказывай тогда.
Я спросил, чего он хочет.
– Пива! – поспешно и сердито ответил он. – У них тут ничего, кроме пива, уже не бывает. А от пива одна моча. «Заведение»…
– Ну? ты как? где? – стал он спрашивать, когда нам принесли сосиски с горошком и откупорили сразу четыре бутылки. – Кандидат? Или уже доктор математических наук, да? Вас там было несколько умников, я помню, сообразительных таких… А я, как раз после вашего выпуска, в аккурат через год, по профессорско-преподавательской линии пошел. В народном просвещении реформы начались, апробации новых систе-ем, туда-суда, суё-маё…
Видно было, что ему очень хотелось матюгнуться, и он выпил залпом два стакана пива.
– А у меня методики были, помнишь какие!.. Помнишь какие! – вскричал он на всю сосисочную и вытер указательными пальцами глаза под очками. Он тотчас засмеялся, весело и хитро.
– У меня все образы были разобраны, помнишь? Мои планы, – он стукнул ботинком портфель, – томов премногих тяжелей… Я создатель универсального – универсального! ты пойми только! – учебника русской литературы. Плач Ярославны, может собственных Платонов, старик Державин, Онегин-Печорин-Бельтов – лишние люди, Собакевич, Манилов, Чичиков – нарождающаяся буржуазия, лабардан-с, Хаджи Мурат, образ русской женщины Наташи Ростовой, зеркало революции, впереди идет матрос, образ матери в одноименном романе Горького!.. Ты понял? Все здесь! – он опять пнул портфель. – А почему здесь? Почему здесь, а не на полках библиотек?.. То-то и оно. Это и есть вопрос…
Он выпил еще пива, съел в два куса сосиску, нежно хрюкнул и объявил важно:
– Я преподаю сейчас курс русской литературы в школе для детей семей людей, работающих в иностранных консульствах и некоторых других спецучреждениях. Сам понимаешь, должность немалая, работа непыльная. Но эти зай-гизунты в джинсах по-русски ни бум-бум, моя-твоя не понимай. А раз так, я этого ни на полшишки клянчить не стану. Вот, – закряхтел он, наклоняясь под стол и доставая портфель. – Вот, возьмем, к примеру, – он вынул толстую тетрадь, полистал ее и начал читать: – «Шинель. План сочинения. Первое: время и исторические условия написания…» А-а! пропадай все! – он вырвал страничку и протянул мне: – Бери на память, а я и так на память все помню! Дома прочтешь… Так вот: югенды из дружественной нам Германской Демократической Республики идейное содержание и художественные особенности повести Эн Вэ Гоголя «Шинель» знают наизусть спереди назад и сзаду наперед. Но почему Петрович стал называться не Григорием, а Петровичем, этого они не поймут ни в четвертом рейхе, ни в пятом. А потому, скажу я тебе, хотя это не имеет никакого отношения ни к идейности, ни к художественности, что, получив от барина отпускную, Петрович стал попивать довольно сильно по праздникам. «Сначала по большим, а потом по всем, без разбору, лишь бы в церковном календаре стоял крестик».
Мы оба заулыбались.
– Там есть такое замечательное словцо, – сказал я, – что Акакий Акакиевич не замечал, что он не на середине строки, а на середине улицы.
– Там много есть замечательных мест, – вдруг став угрюмым, ответил он. – Сэд алья тэмпора Удалость (как сон любви, другая шалость) проходит с юностью живой, – продекламировал он безо всякого выражения.
– А вы знаете, вот было открыто… не так давно… – я замялся, потому что неожиданно не мог сказать, что это было Ахматовой открыто, не мог язык имя произнести, – что значительное лицо – это чуть ли не Бенкендорф.
Я сказал это совершенно не к месту, как будто хотел похвастать, сначала упоминанием Ахматовой, и когда не получилось, то хоть вот знанием. Я почувствовал неловкость уже посредине фразы и кончил ее себе под нос. Или он был директор, и тогда нечего мне выскакивать, или просто посетитель пивной, и тогда тем более помалкивать бы мне, трезвому, на тонкие темы. Заполняя паузу, я все-таки произнес: «А на розвальнях правил великан-кирасир».
– Вот что, – сказал он, поднимаясь из-за стола и застегивая портфель. – Я вас не помню абсолютно. Если вы мне скажете, что учились в сто девяносто девятой, я отвечу, что даже не знаю, где такая находится; если в образцовой имени Николая Островского, то там преподавал мой брат Вячеслав. А если в Петер-шуле! – он сделал на этих словах ударение и пристально поглядел на меня, потому что я действительно учился в бывшей Петер-шуле. – То я замечу вам, что в пятьдесят третьем году я находился в Берлине – и не по делам изящной словесности! Благодарю за компанию!
Он кинул на столик рубль, щелкнул каблуками и, левое плечо вперед, вышел из помещения.
В пакете у меня была дубленка: темно-коричневого цвета, тонкой замшевой выделки, мэйд ин Франс, мужская, пятидесятого размера. Месяц тому назад, без какого-нибудь предупреждения, в дверь моей квартиры позвонил незнакомец странного иностранного вида, лет не то двадцати, не то сорока, с ослепительно-алым чемоданом в руке, и с порога спросил:
– Как имя К.?
– Иосиф, – сказал я в изумлении.
– Ка-ак?! – ахнул он и сделал несколько шагов назад.
– Черт! Игорь. Простите. Оговорился.
– Как имя Игор мама и как имя Игор папа? – спросил он все еще подозрительно.
Я назвал. Он вошел, закрыл за собой дверь и представился:
– Мартин Фрут, Цинциннати, штат Огайо, епископ епископальной церкви. Игор друг.
В чемодане было несколько книг, синяя нейлоновая куртка, набитая гагачьим пухом и накачанная вечно горячим воздухом, и эта самая дубленка. С груди епископ достал письмо Игоря, во все время моего чтения остававшееся теплым.
Игорь писал, что он полностью и навсегда порвал с литературой, что само упоминание и воспоминание об hommes de lettres вызывает в нем тошноту, что он теперь занимается исключительно живописью, painting, на которую в Цинциннати, штат Огайо, большой спрос.
– Painting? – сказал я вслух, и епископ Мартин Фрут оторвался от разглядывания иконки преподобного Серафима, подаренной мне, когда я уезжал из Ленинграда.
– Пэйнтинг! – подтвердил он. – Господ бог лубит добрый пэйнтинг. Игорь есть добрый пэйнтор. (Могу поклясться, что он произнес: пойнтер – причем нарочно.) Там есть слайд.
Я встряхнул конверт, и оттуда выпали два малюсеньких слайда. На одном красный конь бил задними ногами белую церковь. На другом полосатый кот ощеривал пасть, и в одном его глазу отражалась Спасская башня Московского Кремля, а в другом – я это не то чтобы увидел, слишком уж было крохотно, а сначала понял и только после этого все-таки увидел – вышка с часовым над стеной. Конь был похож на кота, а кот на коня, но церковь, Кремль и вышка выглядели вполне-вполне пристойно.
– Когда же это он научился, прохиндей? – сказал я не гостю, а как бы при госте, мысль вслух. Но он, оказывается, понимал лучше, чем говорил, да и говорил, вероятно, лучше, чем говорил.
– Мои приходжане лубят Игор и лубят Игор пэйтинг. Игоря пэйнтинг, – поправился он. – Мои приходжане платят Игор пять сот долларов картина.
– Какого же размера он сейчас пишет картины? – спросил я, изобразив лицом и интонацией такую профессиональную заинтересованность и серьезность, а под конец так ухмыльнувшись, что и последний его приходжанин догадался бы, что тут не все чисто и что я великий глумливец. Но владыка Мартин сделал несколько измерительных движений пальцами и произнес уверенно:
– Двадцать инчес на тридцать инчес.
– Вы хорошо говорите по-русски, – сказал я.
– Мой папа бул капитан Красной Армии, – выложил он со скоростью, вдвое большей, чем говорил до сих пор, и «бул» было не южным, а трудно произнесенным «был». – Мой папа бул окружен, бул отвезен в Германию, бул во Франции в Резистанс и уже в сорок третьем году бул в Нью-Йорке у моей мамы в постельке, – он засмеялся.
– Хорошо, – сказал я, – это очень хорошо. Я буду дочитывать письмо, а вы вот пока посмотрите Феофана Грека. (Бул у меня такой альбом, специально, чтобы занимать епископов епископальной церкви.)
Игорь писал, что в штате Огайо скоро будет конец света, но что, похоже, здесь это будет организовано лучше, чем в родных пенатах. На биржах биржевая лихорадка, царит инфляция доллара, а при инфляции, как правило, покупают картины и драгоценности, и поэтому у него сейчас столько денег, что он не знает, куда их девать. Нейлоновую куртку он посылает мне на зиму: «Надеюсь, она согреет тебя во время долгой русской стужи, хе-хе». Книга Борхеса «Алеф и другие рассказы», английский текст которой отредактирован самим Борхесом, – ныне бестселлер «западной элиты» (?). Гослитовского Мандельштама он посылает в предположении, что в Москве с ее бумагопрядильнями таких книг не продается, тогда как в штате Огайо, напротив, они лежат стопками во всех ларьках Союзпечати. («Предисловие, которое за 15 лет своей многострадальной истории приплыло в славную дымшицовскую гавань, составлено, как ты увидишь, весьма искусно в том смысле, что к 37-му году у О. Э. испортилась нервная система, отчего его творческий путь прервался».) Антология «Все о женщинах и словами женщин», возможно, будет интересна моей жене или ее подругам, поскольку это самый последний крик вимен-либерейшн, «столь любезного нашим гимназическим сердцам своей откровенностью». (Я полистал эту книгу в присутствии епископа и, обнаружив, что она укладывается в одну фразу Платонова: «Чего вам надо: все-таки это женщины, люди с пустотой, поместиться есть где», я бросил ее в ящик для грязного белья, чтобы, когда наступит лето, сжечь.) Еще одна книга была пухленькой монографией о Мондриане (которого и я, и Игорь принципиально не любили с младых ногтей) с множеством цветных репродукций, из которых ни одна не была лучше или красивее другой. И – дубленка. «Прошу тебя забашлять ее подороже какому-нибудь дантисту или дантоведу и денежки вручить моим старикам. Мондриана тоже загони и на эти деньги съезди к ним в Питер, ладно? Заодно развлечешься, хотя подозреваю, что Питер без меня – как без Невы». Следующий лист был ксерокопией какого-то стихотворения с Игоревыми комментариями к нему.
– Не скажете ли вы, где бы я мог вечером выпить чашечку кофе? – спросил епископ Фрут.
– То есть? – переспросил я.
– Не подскажете ли, где есть в Москве какой-нибудь частный дом, где бы я мог провести вечер за чашечкой кофе?
– Разве что мой собственный, милости просим.
– Нет, благодарю вас. Я имел в виду людей, которым было бы интересно знакомство с епископом епископальной церкви.
– Уж не знаю, как вам и отвечать, батюшка, – сказал я. – Что-то я таких не припомню.
– Вы не имеете контактов в Москве?
– Имею, но явно недостаточно, ваше преосвященство. И непрочные, – сказал я с видимым сожалением.
– Хм. Продолжайте читать! – отдал он приказ и опять уткнулся в эль-Грека.
Стихи были переводом из Джона Донна, «Гимн Богу моему Богу, во время болезни». Я достал с полки его Selected Poems и стал читать. И то, и другое мне очень нравилось. Английский Донн вздыхал ветрами и скрипел снастями, но и русская гравюрка с него выглядела явственно английской. Комментарии, как всегда, отдавали бахвальством и превентивной самообороной.
– Готово? – спросил американец, не поднимая головы от головы на блюде, приписываемой школе Феофана.
– Готово, мистер епископ, сэр, – сказал я. – Прочитано.
– Что передать Игор?
– Передайте масса Игорю, мистер епископ, сэр, что фпасибо ему большое, что все будет сделано о’кей, как он просит. Передайте, что его перевод весьма полон и точен, большая удача. Запомните?
– Дача, – повторил он. – Дача, ордена, роскошные автомобили. Запонял.
– Хорошо. Передайте еще, если можно, что последняя строчка у Донна – скорее, «Значит, поднять Бог может, раз бросает». И ритмически поинтереснее. Как у Мандельштама на странице 247: «Ходит по кругу ночь с горящей пряжей». Запомните?
– Да. «О семицветный мир лживых явлений». Страница 248.
Я проводил его до остановки, и мне показалось, что за ним следили. Во всяком случае, когда он сел в автобус, возле меня оказался человек в овчинном тулупе, продиктовавший себе за пазуху: «Сел в автобус», а когда из двора выехала черная «Волга» 23–04: «Выехала черная «Волга» двадцать три ноль четыре».
Я переждал дней десять и, аккуратно завернув дубленку, отправился в комиссионный. Однако у самой его двери меня остановил за плечо какой-то тип с бегающим взглядом, ткнул пальцем в пакет, сказал: «Дубленка? А почитать у тебя ничего не найдется? Ивана Денисыча там, или Континент, а?» Похожее произошло и в букинистическом, куда я пришел с Мондрианом: «А одежи у тебя никакой нет? – спросил парень в нерповой шубке. – Техасов там, или куртона какого-нибудь?» Мондриана я все-таки продал. В конце концов, плевать, вяжите, если вы такие. Но дубленку решил от греха подальше из Москвы увезти, то есть попробовать реализовать (любимое слово родителей К.) ее в Ленинграде, а не получится – просто отдать им и пусть уж они соображают. Главное, что принеси я им три рубля от их гениального сына или бриллиант Санси огранки голландская роза, театр будет один и тот же: притворный ужас, непритворный страх, да можно ли брать, да кто именно привез, да не привез ли он еще чего-нибудь… В кармане у меня лежал обратный билет на сегодняшний же «хельсинкский» (23.40), но я скажу, что еду дневным (16.34) и задерживаться у них не имею времени. А до вечера где-нибудь проболтаюсь.
Войдя в магазин, я незаметно осмотрелся. Народу было немного: пенсионер возле брюк, сминавший в ладони и, как бабочек, выпускавший на волю один за другим висевшие перед ним суконные обшлага, да две одинаковые интеллигентки, по очереди указывавшие друг другу издали пальцем на то или это джерсовое платье. Все трое были публика неподозрительная. У фарфора стоял высокий господин в кожаном пальто с бобровым шалевым воротником. Из угла с музыкальными инструментами за ним, отворачивая лицо, следил человек в фетровой шляпе пирожком. За этим, в свою очередь, наблюдал некто с другой стороны улицы, из сумрака между колоннами Гостиного Двора. Мне захотелось сию же минуту засвистать, сделав безразличное лицо, какой-нибудь популярный мотивчик. Я двинулся к шубам, прицениться.
Дубленок, разумеется, не было, но судя по ярлыкам на цигейковых и беличьих я должен был получить рублей четыреста: выделка, фасон, вещь ни разу не надевана, да и вообще, поди найди французский шипскин. (Этот пассаж, как и предполагаемая сумма, был еще московской заготовкой.)
– Ботанэ, стой смирно, не оборачивайся, – дохнул мне в ухо тихий голос. Я обернулся и под фетровым пирожком узнал лицо Миши Железняка, как следует пожеванное и покусанное третьей четвертью двадцатого века. Он учился со мной до седьмого, потом ушел в техникум, после чего, как передавали, процветал в качестве телевизионного мастера. На экзамене по русскому письменному в пятидесятом году наш классный руководитель посадил меня и его за одну парту и торжественно сказал мне: «Все дашь ему списать, а потом проверишь. Мне этот сучий потрох второгодником не нужен». Ботанэ было мое прозвище в пятом классе.
– Тш-ш, – сказал он. – Покантуйся тут, а я должен одного антиквара наладить.
Он двинулся вдоль прилавков, скучающим взглядом пробегая по отрезам кримплена, пишущим машинкам «Ундервуд» 30-х годов и новеньким фотоаппаратам. У фарфора, в двух шагах от кожаного человека, он остановился.
– Ну, Люсь, покажи, – произнес он устало, и я заметил, что продавщица сдержала улыбку.
– За вчера и позавчера только вот, вот и вот, – махнула она рукой себе за спину, не глядя.
– Опять Лимож, опять одно и то же, – прогнусавил Миша. – Лимож, Мейсен, Байе. Копланда не было?
– Нет, – ответила девица, почти фыркнув.
– Копланда не было, а Кузнецова мне даром не надо, – сказал Миша и плечом оттолкнул кожаного. – Простите, вы чего тут рассматриваете? А-а, все то же саксонское барахло, которое уже никто второй год не покупает…
– Да, знаете ли, – откликнулся тот, – в общем-то, где-то, барахло.
Миша зевнул, отвернулся и остановил взгляд на мне.
– Кого я вижу! – воскликнул он. – Собственной персоной!
И он пошел мне навстречу, раскрыв объятья.
– Из Москвы? Или, может, из-за рубежа? Читал выступление на симпозиуме. Читали его выступление на симпозиуме? – обратился он к любителю фарфора. – А? В «Литературке»? Да вы никак не знакомы? Это, – он уютно взял меня под руку, – мой школьный друг, а ныне известный московский писатель Константин Федин, слышали, может, «Дни и люди» и так далее. А это, – он подтянул его за рукав, – наша ленинградская знаменитость, драматический тенор Роберт Эштреков.
Шуба Эштрекова вблизи оказалась лайковой, из чуть-чуть мятой лайки, с татуированной на груди сценой охоты на газелей. Миша взял под руку и его и вывел нас из магазина.
– Прости, Константин, – сказал он мне и обратился к Эштрекову: – Вам, я полагаю, нужен фарфор? Моя тетушка по материнской линии, последняя, увы, из рода Апраксиных-Вердеревских – фамилия вам, я полагаю, известная – вот уже полгода как будучи пассе-муа-ле-мо, не в своем уме, просит меня продать сервиз на двадцать четыре персоны, китайского фарфора, принадлежавший герцогине Лонгвиль, известной французской, как вы знаете, интриганке не то семнадцатого, не то восемнадцатого столетия. В Санкт-Петербург он был привезен в 1813 году моим прапрапрадедом с материнской стороны баронетом Юшей Вердеревским, выпускником Шляхетского корпуса и отчаянным сорвиголовой. Тетушка моя, кстати сказать, и сейчас может считаться достаточно богатой: порядочно серебра, драгоценных безделушек, мебель акажу, людовик, рококо – всего не перечислить… Я этот сервиз продавать не хочу, потому и тяну. Скажу цинично: старуха скоро умрет, все равно все мое будет. Но так как она и денег, вырученных за такую в общем-то бесценную вещь, всех не проживет, а вы, я вижу, где-то настоящий ценитель истинного искусства и, разумеется, дадите на несведущий взгляд приличную, а по сути ничтожную – потому что чтó сейчас стоят деньги? – сумму, то вот и давайте условимся: вы придете сегодня вечерком…
– У меня спектакль, – вставил важно тенор. – «Иоланта».
– …перед спектаклем, перед самой «Иолантой», вот по этому адресу, я вас встречу у подъезда, потому что там вахтер…
– Почему? – встревожился тенор.
– Давняя история, – не делая попытки успокоить его, сказал загадочно Миша. – Закрытый дом. Для бывших аристократических фамилий и семей первых советских наркомов. Я вас встречу. Вы увидите сервиз, и мы обо всем договоримся. Жду вас в полшестого. Есть? – Миша снял трикотажную перчатку и радушно протянул ему ладонь.
– Есть! – четко повторил тенор и стал стягивать норковую варежку мехом наверх. На нас оглядывались прохожие.
– Ну? Ария Германа из оперы «Пиковая дама»? – разлыбившись, пошутил Миша, – ужасно, как мне показалось. Но Роберт Эштреков тоже расплылся в улыбке и негромко, но профессионально пропел:
– Пусть неудачник плачет, – пожал нам руки и двинулся к Невскому.
– Идиот, – сказал ему вслед Миша. – Клинический случай. – И он повел меня на другую сторону.
В сумраке под аркой Гостиного Двора стоял наш одноклассник Олег Кудрявцев. Он очень растолстел и поэтому словно бы совсем не изменился со школы, как будто ту его внешность облепили тестом, которое в любой момент можно было отслоить по прежнему контуру. Как прежде, на его лице было отсутствующее выражение, как прежде, здороваясь, он отводил глаза в сторону, и я не удивился бы, достань он сейчас из кармана «Лисьи чары», или «Письма Рубенса», или «Коринну», все эти книжечки издания Асаdemia, которые, начиная с восьмого, он каждый день приносил в класс и читал в щель между партой и откидывающейся крышкой и которые у него регулярно отбирались учителями и с нотациями возвращались маме Кудрявцевой, регулярно за ними приходившей. После школы он ушел в глубокий люк, как тогда острили, всплыв лет через пять инструктором горкома комсомола по культуре.
Мы поздоровались, как будто виделись вчера, и Миша направил нас к Екатерининскому садику.
– Вроде придет, – сказал он Кудрявцеву.
– А меня это абсолютно не интересует, – угрюмо отозвался тот.
– Значит, не тебе и говорю.
– Кто это – твоя тетушка? – спросил я.
– Твоя тоже, – сказал Миша. – Броня. Мать Кабака.
Кабак был еще один наш одноклассник, Лева Кабаков, который сидел сейчас за взрыв на заводе. В цехе взорвался котел, кого-то покалечило, и ему дали три года за халатность, он был начальником. Броне, по моим расчетам, было лет семьдесят пять, но я слышал, что в семьдесят она вышла за какого-то профессора, который тут же умер.
– Она переехала?
– В дом для бывших аристократов и первых наркомов. Мы туда зайдем.
Я сказал, что зайду, когда сделаю дело.
– А ты все спекулируешь? – спросил, заблеяв, Кудрявцев. Так было принято в наше время шутить. Например, человек нацеплял на грудь значок – «А ты все ордена получаешь?» Или называть всех «твой друг»: «Как говорил твой друг Берия…», «Приезжает твой друг Марио дель Монако…»
– Кто он такой? – спросил я у Миши. Так тоже можно было шутить.
– Из гестапо, – ответил Миша. – Но наш человек… Ты чего продаешь?
Я подумал-подумал и признался.
– Сколько просишь?
Я сказал триста пятьдесят.
– Надо съездить в Лисий Нос, как думаешь? – почти утвердительно спросил он Кудрявцева.
Тот промямлил:
– Можно съездить…
– Есть там один деятель, – объяснил мне Миша. – За триста пятьдесят, думаю, возьмет. Чтоб за пятьсот продать.
– Болтаешь ты много, – сказал Кудрявцев.
На Малой Садовой мы сели в такси.
Нева у Петропавловки и вдали, у Литейного, была подо льдом, в широком же течении свободна и дымилась, одной этой студеной лжетепловатостью пробирая до костей. Невы было очень много, она разливалась к горизонту, затекала в улицы и на площади и не только неотвратимо возникала под регулярно вспухающими мостиками и мостами, но, завораживая, убеждала в том, что она повсюду, что ее потемневшее от времени зеркало и есть почва города. Город плоско лежал на ней, как мерзнущая жаба, – не жалуясь, потому что сам выбрал такую судьбу.
За островами начинался теперь район новостроек, но это воспринималось как уже виденное кино, а выезд из города ощущался безошибочно на том же самом месте, где всегда. (Как всегда, чувствовалась под колесами автомобиля бывшая граница с Финляндией, в неотличимом от любого другого месте на шоссе за Белоостровом.)
Миша, сидевший впереди, включил приемник.
– Спрашивать надо, – сказал сердито шофер, артист Баталов лет пятидесяти.
– Ты, шеф, рули! – улыбнулся ему Миша. – А то не дай бог в столб врежешься, а скажут на меня, – снял улыбку так быстро, что тот промолчал. Поймав песню Сольвейг, он успокоился и развалился на сиденье, положив руку шоферу на плечо.
– Ты где работаешь? – спросил я у Кудрявцева.
– В одном доме.
– Большом?
– Да не маленьком.
Мы оба усмехнулись.
– В самом деле? – спросил я.
– А чего ты нервничаешь? Ты же человек односемейный, непьющий, неизвестный – ты ничего не бойся.
– А ты не нервничаешь?
– Не-а. Нам нервничать нельзя. Нам страна доверила судьбы человеческие, нам надо быть спокойными. Мы, как саперы, только наоборот: ошибешься – и нет другого человека.
– Так ты что же, начальник? Или стучишь помаленьку? – сказал я и ухмыльнулся злобно ему в лицо.
– Стучать – будешь – ты! – отчеканил он. – Стучать будешь ты, когда тебя спросят. Например, спросят: «Вы ничего не имеете нам сказать?» И ты застучишь как дятел: «Имею. На Кудрявцева. Он стоял тогда-то в таком-то часу под аркой Гостиного Двора». – «А что, вы думаете, он там делал?» – «Почти уверен, что он прикрывал там афериста и валютчика Михаила Железняка. И антисоветчика», – добавишь.
– Кудрявцев, – сказал я, – это вас теперь так учат, что все всё всегда говорят, или ты своим умом дошел?
– Все. Всё. Всегда. Один, потому что бесстрашный, другой, потому что трус; один, потому что дети, другой, потому что время такое; один «по глупости», другой – «всё понимая». Ну почему не сказать, скажи ты мне! Ну было бы что скрывать, а то одни разговоры да рукописи, да иностранцы. Слышал ты, чтобы где-нибудь когда-нибудь что-нибудь осталось скрыто? Всё, всё известно, вся история в малейших деталях. Только успевай говорить. Потому что пока ты промолчишь, другой столько выложит, что тебе уже ничего не останется. В борьбе за гласность выложит, или от скепсиса и цинизма. Невозможно же скрыть то, что должно в чем-то выразиться: в речи, в книжке.
– А в шепотке? В молчании?
– В шепотке – тем более. Шепоток слышнее громкости, громкость сейчас фон, шумовой фон, а к шепотку прислушиваются. Ну, а жить беззвучно и неподвижно – это все равно что голым в театр прийти. Кругом все галдят, суетятся, а ты один не шевелишься – расступитесь, граждане, человек помирает, вызывайте срочно машину. Кто так скрывается, тот всех и заметнее… И потом, живой так жить все равно не может, обязательно как-нибудь дернется и крякнет, – он засмеялся. – Что скажешь, Ботанэ?
– Он скажет, – не оборачиваясь, заговорил Миша и приглушил меланхолический вальс Сибелиуса, – что это безнравственно, да, Ботанэ? А-морально. Да?
– И еще смешнее, – сказал я. – Я скажу, что это подло. Что ты, Кудрявцев, подлец.
– А ты – высокопарный межеумок, – сказал Кудрявцев. – Не обижайся только, а то ты, я помню, обидчивый… Почему это безнравственно? Почему подло? Ты стараешься жить так-то. А я стараюсь тебе навредить. А ты меня за это ненавидишь. Ну и чудесно! Так жизнь и идет! Из нас она и состоит: из тебя да из меня да еще из нескольких людей, склещенных друг с другом. И всегда шла, и дальше так будет идти! Ты что, хотел бы прожить жизнь какого-нибудь швейцарского профессора, кантон Невшатель, тысяча восемьсот тире тысяча восемьсот девяносто, который перед смертью только и мог вспомнить, как на последиссертационном банкете выпил лишнего, да кучевые облака? А тут: я – тебя, ты – меня!..
– Она – нас! – сказал Железняк.
– Hу так, все в порядке, Кудрявцев, чего ты корячишься, – сказал я. – Один к стенке, другой стреляет. Что бы тому было делать у стенки, если бы этот не целился?..
– К сте-е-енке. Стреля-я-яет, – передразнил меня, – нормально поговорить никто уже не умеет. Только про палача и жертву. До стенки есть еще: донос, обыск-выемка, допрос, предупредительный арест, три года, пять лет, пятнадцать лет наконец. И все это, заметь, жизнь. Но про это, кроме «подло», никто ничего сказать не может и сразу заводят про стенку.
– Что же делать, – сказал я, – что же делать? По-другому действительно не объяснить… Ты записался в свой краснознаменный отряд, он стоит в резерве. Ты рассуждаешь так, будто это будет продолжаться вечно. Но вас подкормят, переоденут и – вперед! Куда, не вполне известно, но, кроме как на прежние позиции, вроде некуда… Ты прав, про стенку сейчас говорить бессмысленно и, главное, бестактно. Но потом, у стенки, уже не поговоришь, так?
– Приехали! – сказал Железняк, расплатился и вышел из машины, мы – вслед за ним. Перед нами лежала асфальтированная автомобильная дорожка, перекрытая невысоким шлагбаумом и осененная большим орудовским кирпичом. Она располагалась перпендикулярно к шоссе в сторону залива и вела в лес.
Метров через двести, дважды круто вильнув, дорожка уперлась в высокие глухие ворота. Столь же высокий и глухой забор виртуозно, как слаломист, бежал между высоких сосен, одни оставляя слева от себя, на воле, другие, точно такие же, отбрасывал на участок. Железняк нажал кнопку, до которой надо было тянуться, вставая на цыпочки, и через несколько секунд мы услышали из-за забора волчий скок и хрипение. Потом раздались шаги, «Тубо, Сбогар, иси!» – женским голосом, щелчок какой-то задвижкой, нас осмотрели в глазок, и в воротах открылась дверь. Из нее выскочили два тигровых дога, ткнулись в каждого из нас и помчались обратно. Мы вошли внутрь. За дверью стояла девица в горностаевой душегрейке, кожаных белых брюках и ботфортах, шитых золотом. И ее лицо, честное слово, было мне знакомо.
– Тамара, – подала она мне сложенную ладонь не то для поцелуя, не то для пожатия (я кое-как пожал).
– Сам дома? – спросил тревожно Миша.
– Сам в Пицунде вроде, – ответила Тамара. – А Владик дома.
Мы прошли еще метров пятьдесят, и из-за сосен стал виден дом, трехэтажная каменная вилла в добром колониальном стиле, с портиками, балконами и колоннами. На ступеньке стоял, надо думать, сам Владик в засаленном джинсовом костюме и спортивных тапках на босу ногу. Лицо его было землистого цвета и в буграх от заживших волдырей, рыхлое, бесформенное, и первое за сегодняшний день абсолютно мне незнакомое. Не представившись, не поздоровавшись, он оглядел нас и повел в дом… Были ковры, кактусы, мраморные ступени, малахитовый бассейн для золотых рыбок……………………………………………………………… тепло с березовым запахом……………, тихо звучащая стереомузыка…………и паркетный пол, набранный по эрмитажным эскизам. В комнате на втором этаже, куда мы пришли, было три окна, центральное – цветной витраж, похожий на Руо, если не сам Руо, а из двух других был виден залив под серым льдом. На стене висела шкура леопарда.
– Это он с последнего сафари привез, – сказал Железняк. – Расскажешь, Владик?
– Иди ты вон, – ответил Владик, доставая из стены бутылки. – Меня за это сафари сам знаешь как употребили.
– Он его подстрелил, – с искусственным воодушевлением заговорил Миша, – а лицензии не было…
– На них лицензий и не бывает, – буркнул Владик. – Под охраной.
– Ну вот. Его за задницу и в газеты. «Сын русского бocca – браконьер». Пришлось кучу валюты выплатить. Сколько, Владик?
– Я не считал, – сказал Владик и заржал: – По безналичному.
И Миша, бедный, засмеялся.
– Сотерн или мозель? Или марсалу? – спросил Владик.
– Ты нам еще кахетинское предложи, – подмигнул мне Миша. – Кюммеля, кюммеля давай! Кюммель мне в тот раз в душу запал!
– Кюммеля нет. С тмином есть голландская буза.
– А мне сотерн, если можно, – сказал я.
– Что у него там? – спросил Владик у Миши, показывая глазами на мой пакет.
– Это потом, – ответил Миша. – Сейчас давайте царапнем.
– Открой ему, – сказал Владик, передавая Мише бутылку.
– А вы незнакомы, – сказал Миша светски. – Это московский писатель…
– А мне не один хрен? – прервал его Владик. – Пусть пьет.
– Он зимой не в духе, – пропела Тамара.
– Молчи, падаль, – отозвался он. – Еще слово скажешь, выгоню.
Мы выпили, без слов и не разом. Владик вдруг сел в кресло, вцепился пальцами в ручки, и по лицу покатился пот. Потом он простонал, и его отпустило. Он вытер руками лицо, погладил грудь, подошел к окну и уперся кулаками в подоконник. Потом быстро налил себе еще водки, проглотил, постоял несколько секунд в напряженном ожидании, но на этот раз обошлось. Он вздрогнул всем телом и расслабился.
– Тамарка, – сказал он, повеселев, – сальто прогнувшись назад с приземлением в шпагат!
Тамарка отошла в угол, разбежалась и, подпрыгнув, перевернулась как он сказал. Железняк захлопал в ладоши и шепнул мне:
– Ты ее не узнал? Селищева, олимпийская чемпионка.
– Селищева? Тогда не чемпионка, – пробормотал я. Откуда-то я знал, что Селищева могла стать чемпионкой, но с чего-то сорвалась и чемпионкой стала другая, тоже наша, но не Селищева.
– Брусья, – сказала она, услышав. – Брусья – моя коронка. Я на бревне травму получила, а на брусьях бы у меня было золото.
– Твое золото из дерьма смолото, – проговорил Владик и засмеялся искренне: – Ха! Ха! Ха! – через паузы.
– Вот таким я тебя люблю, – сказала Тамара, тоже искренне.
– Так вы писатель? – обратился ко мне Владик.
– Точнее, переводчик, – ответил я.
– Не один ли хрен! – заметил он, на этот раз доброжелательно. – И чего сейчас переводят?
Я сказал.
– Значит, в основном Африку и Азию? Я так и думал, – сказал он, опечалившись. – Сводолюбивые, в рот компот, материки… А моего друга Эрни Освальда небось не переводят. Эрни Освальд из Орвилля, писатель… Не знаю, чего он там пишет, но живет мужик не хуже Льва Толстого. Дом в Чикаго, вилла в Испании, гарем в Орвилле. Кирюха экстра-клаcca, шанель может пить. Но не колется, – сказал он строго, помолчал и информативно кончил: – Сейчас операцию сделал: все свое отрезал на фиг и женский орган пересадил… Сорок восемь лет человеку…
Из угла, где сидел со стаканом в руках Кудрявцев, раздались первые такты карменовской сегидильи. Он заворочался, мелодия повторилась.
– Возьми трубку, – сказал, ухмыляясь, Владик.
– Чего? – спросил Кудрявцев.
– Чаво… – то ли повторил, то ли передразнил Владик. – Телефона.
Колокольцы пропели «Я здесь про-пля-шу се-ге-ди-и-и-илью» еще раз. Звуки исходили из вазочки с маргаритками. Кудрявцев понюхал их, потом поднял вазочку и сказал «алло».
– Догадался все-таки, – опять ухмыльнулся хозяин. – Глаза и уши…
– Puis-je parler a monsieur Vladique? – раздалось из цветов довольно громко.
– Владика, – объяснила Тамара.
Он поставил вазочку перед собой на ковер и, потянувшись за бутылкой, произнес: – Говори по-русски!
– Здесь Люсьен, – сказала вазочка с легким акцентом. – Салют! Как поживаешь, Владик?
– Нормально. Чего надо?
– Суаре в консульстве. Консул рад видеть тебя э Тамара.
– Я с компанией, – сказал Владик и показал рукой на нас.
– Меня не считайте, – тотчас проговорил я.
– Консул рад видеть твоих друзей также, – отрапортовал Люсьен.
– А напьемся? – сказал Владик и выпил водки; все это время, разговаривая, он занимался тем, что аккуратно наливал себе в стакан, поставленный на ручку кресла. – А изблюемся?
– Фо-па-буар-ком-эн-тру, – промурлыкало в вазочке, – э-ту-сэра-бьен.
– Говори по-русски! – рявкнул Владик.
– Я говорю, все будет в порядке. Приезжайте.
– Ауфидерзей, – сказал Владик и понюхал маргаритки: прозвучала сегидилья, и Люсьен пропал.
– В Вологде лучше было, – заявил Владик с грустью и нежностью. – Лес так лес, не этот парк. На медведя охота, прелесть. Обложат, позвонят, приедешь – прелесть. На волков с вертолета. Круглый год парное молоко, творожок. Никаких оранжерей, никаких витаминов. Чудно! Никаких консульств, французов, хунхузов. Девчонки веселые, заводные, никаких брюк… А счас копеечный фонтан из Лондона привезли – сразу: «Почему фонтан?» Он нашей водой не бьет, привезли цистерну английской, простой, водопроводной, – сразу выговор. Всё твои глаза и уши, – обратился он к Кудрявцеву.
– Песья морда и метла, – сказал тот. Вообще он держался тут очень независимо: похаживал, поглядывал, наливал себе когда хотел.
– Ну, так что там у тебя? – повернулся Владик ко мне, и я понял, что это его «ты» – дружеское.
Тамара стала развязывать пакет, узел не поддавался.
– Ножа нет? – спросила она Железняка.
– Что я, комсомолец? – ответил он и разорвал бечевку. Достав дубленку, он несколько раз встряхнул ее и погладил. Сейчас, признаться, она выглядела не такой шикарной, как у меня дома.
Тамара оглядела ее со всех сторон и сказала:
– Примерь, Владик.
Он только бросил на нее взгляд, не пошевелился даже и спросил:
– Сколько за нее хочешь?
– Четыреста! – сказал Железняк.
– Может, Эдик возьмет… – промямлил Владик. – Шофер мой. За триста. Мне-то даром не надо.
– А предложить кому-нибудь? – спросил Железняк.
– Предложить можно. Предложить всегда можно. Но тут, – он мотнул головой куда-то за окно, – никто не возьмет. Ну, кому? – обратился он к Тамаре. – Колычевы, Шестаковы, Минские?.. У них этого добра навалом.
– У них – да, – отозвалась Тамара.
Видно было, что ей не хочется выпускать вещь из рук.
– Оставь, если хочешь, – сказал Владик мне без интереса. – Может, кто и возьмет. За триста.
– Ему деньги сейчас нужны, – сказал Железняк. – Он на один день.
– Здесь не госбанк, – сострил Владик и опять заржал. – Заворачивай, – распорядился он.
Железняк посмотрел на Тамару.
– Может, Эдику? – сказала она жалобно.
– Заворачивай! – прикрикнул на нее Владик. Она стала складывать дубленку и заворачивать в какую-то новую бумагу с тиснеными цветочками.
– А ты, значит, фирму закрыл? – сказал Кудрявцев.
– Ты о чем? – не пугаясь, ответил Владик.
– Об этом самом. Об мохере. Об часах.
– А-а-а… Ну́-так. То случайно… Честно, ребята, взял бы – денег наличных нет. За триста, ей-богу, взял бы.
– Ладно, – сказал мне Миша. – Не расстраивайся. В Питере устроим, клянусь. Есть один верный человек.
– Я вот чего вас хотел спросить, – обратился ко мне Владик на «вы», культурно. – У меня картина есть, – он встал и пошел в коридор, поманив меня, – так вы, как переводчик, скажите, стоит она денег или нет?
На лестничной площадке (другой, не той, через которую мы проходили) висела большая, метра два на метр, горизонтальная картина, изображавшая сундук, из которого были полувыброшены дорогие тяжелые ткани и в приоткрывшемся под ними углу блестели драгоценности. Драгоценности: кольца, камни, ожерелья, броши – были наклеены на холст. Картина была повешена довольно высоко, выше человеческого роста, и под этим ее краем стояло пузатое бюро карельской березы, так что рассмотреть богатство как следует было невозможно, но издали все выглядело ослепительно.
– Художник хотел и материю, сыка, приклеить, – сказал Владик, – но ткань все была дешевая, парча там, твид – я не разрешил. Жемчуг, конечно, искусственный, камни – стекляшки, но вон то кольцо, божился, что золотое.
Художник, сыка, и ткань успел к краске приложить, виден был какой-то рубчик, елочка, плетение нитей, даже волосики кое-где торчали, но это все была, разумеется, трепотня. Зато, встав вплотную к бюро, я вдруг явственно увидел, как из-за откинутой крышки сундука в него старается заглянуть серого цвета (весь фон картины тоже был темно-серый) мертвец, и мертвец этот – Владик. Черты лица были окарикатурены, но как бы самой смертью, кожа на скулах расползалась, какие-то еще мерзости вроде язв или гноя, если захотеть, можно было заметить, но Владик был – как живой. Теперь я уже не мог видеть в картине ничего, кроме этого.
Он поймал мой взгляд и сказал:
– Это я потом заметил. Когда вешал. Изобразил меня, гад, жмуриком… Так стоит денег? Как скажете?
– Стоит, – сказал я.
– Я два куска отдал.
– Стоит.
– Значит, нормально.
Он взглянул на меня лицом с картины, и мы пошли в комнату. Я вдруг начал зевать. Я зевал безостановочно, и, закрывая рот, со сладкой уверенностью знал, что сейчас же его открою. Мне не хотелось спать (хотя в вагоне я спал кое-как), мне не было физически (да и никак) плохо, я не чувствовал ни малейшего опьянения, ни голода, никаких желаний, кроме как позевать.
– Может, вам прилечь? – спросила Тамара.
– Пожалуй, – согласился я, и она повела меня в соседнюю комнату.
Едва я лег на бок (на правый, сердцем вверх, как всегда ложусь), едва моя щека коснулась подушки, как глаз и ухо, на которых я лежал, медленно всплыли сквозь содержимое головы и безболезненно установились рядом с глазом и ухом обращенной к потолку щеки. Я лежал, как камбала, и зевал. Потом поверху проплыла лодка, меня покачало немного, укрыло пледом, и я перестал.
Я перестал всё: зевать, покачиваться, волноваться, встречаться со старыми знакомыми, знакомиться с новыми людьми. Я просто лежал на диване, как дома, и думал про жену и про обоих детей и про то, что я, подлец, только сейчас о них в первый раз думаю, да и думаю не так сердечно, как предполагал буду думать, когда уезжал. Я думал, что путешествия – вздор, вернее, что их надо (если надо) делать в юности, когда ты еще не знаешь точно, где живешь, а когда уже знаешь, то это просто потеря времени, потому что на жизнь отпущено ужасно мало времени и надо как можно скорее возвращаться домой, раз твоя жизнь там. Что времени ужасно мало, ну пусть даже еще лет тридцать, так ведь все равно оно откалывается теперь кусками минимум на полгода, значит, шестьдесят таких кусочков – и все. И это в лучшем случае. То есть в лучшем случае я встречусь с Мишей Железняком и Олегом Кудрявцевым раз пять-десять, и больше ни разу. Что если бы все путешествовали, но только все-все, то путешествия потеряли бы и оставшийся смысл, смысл передвижения, потому что почему путешественник может утверждать, что он прибыл в Петровское-Разумовское? – потому что я там живу, а если я сам куда-то отправлюсь, то понять, Петровское ли это Разумовское или Камден-Таун, не будет никакой возможности. Наконец, я подумал, что не получается у моего сегодняшнего дня сюжета. Кажется, вот-вот – и все выстроится: нити свяжутся, пружина разожмется, начала достигнут концов – но нет, миги и часы бесформенно громоздились, все уродливо закашивалось и каждую минуту грозило рухнуть.
И вместе с тем я ощущал в себе странную уверенность, что что бы я сегодня ни сделал и что бы со мной ни произошло, этому не нужен никакой сюжет, то есть никакой индивидуальный, потому что, приехав в Ленинград и позавтракав в сосисочной и зайдя в комиссионный и прикатив сюда на дачу, я на время каждого из этих действий вписывался в какой-то из уже отделанных кем-то и повторенных неоднократно сюжетов, стройных и точных, у которых есть неизвестные мне начала: до приезда, а у другого – до завтрака, а у третьего – до магазина и так далее – и, соответственно, есть неизвестные мне концы. И даже не вполне неизвестные, я как будто знал, что знаю их все, но не знаю, какой именно разворачивается сию минуту, да и знать этого почему-то было не нужно.
Я встал, прошел к ним в комнату и сказал, что мне пора ехать. Владик промычал что-то маловразумительное, куда, мол, торопиться, посидим, а там и в консульство все вместе поедем, но Железняк и Кудрявцев поднялись. Тогда он сказал, что ладно, он тоже сейчас в город поедет, там потрется, а вечером заедет за нами. Мы ничего не ответили, он выпил еще порцию, и все пошли одеваться.
На дворе опять были сумерки, но воздух, казалось, стал менее влажным. Я сошел с крыльца, сделал несколько шагов и тотчас услышал приближающийся сзади топот и легкий металлический звук. Я обернулся, но поздно: на меня, ускоряясь, накатывалась белая кавказская овчарка, с открытой пастью, но не лая. Я сделал шаг назад, споткнулся и упал навзничь, выронив пакет. Зубы лязгнули рядом с моим горлом, она нависла надо мной, встав на задние лапы, но дотянуться не могла, потому что была на цепи, а цепь, через кольцо, на протянутой поперек двора струне. Я подтянул к себе пакет (она успела тяпнуть его когтями), отполз и поднялся на ноги.
– Это Малашка, – подъезжая, сказал из окна машины Владик, а Тамара, выскочив из противоположной дверцы, закричала: «Фу, Малашка!» и объяснила:
– Ее в три выпускают.
Пакет был порван, и дубленка задета когтями: три следа, когда я потер это место, почти исчезли, но от четвертого остался заметный шрам. Мы сели в машину, в обыкновенную «Волгу»-пикап, только с двумя антеннами и четырьмя фарами.
Владик довез нас до Палаты мер и весов, взял телефон и уехал. Мы перешли через проспект, и Железняк вошел в подъезд Технологического института. Мы с Кудрявцевым стояли у памятника и молчали. Через минуту Миша вышел и позвал нас. Мы прошли мимо вахтера, поднялись по ступенькам, свернули в коридор направо, потом налево и через большие стеклянные двери вышли во двор. Нам навстречу торопились и нас обгоняли студенты (студентки по большей части), прямо против дверей был садик, в конце двора другой, с памятничком, и я, оказывается, это знал: ступеньки, полутемный коридор, стеклянные двери, садик, студенток и чугунную головку Менделеева. Я уже однажды шел здесь, больше того, меня уже однажды точно так же вели здесь приятели, Женя, Дима и Сережа, вели меня в гости к знаменитой Асе Полонской, распутной Асе Полонской, красавице Асе Полонской, отец которой был профессором этого института и имел здесь квартиру. И сворачивать, правильно, надо было за котельной налево и опять налево и весь двор проходить насквозь и входить в корпус, который глядел окнами на Московский проспект.
«Доцент Вовси» поблескивало на двери на первом этаже, на втором медная дощечка была сорвана, «Профессор Немец» мерцало на третьем, и в эту дверь Железняк позвонил. Нам открыл высокий юноша лет восемнадцати, поздоровался и исчез. Миша повел нас по коридору, зажигая по пути свет, ступая легко и быстро, как хозяин. Мы вошли с ним в последнюю дверь и услышали из соседней комнаты женский голос:
– Миша, ты?
– Я, Броня, – громко сказал Миша и подмигнул нам. – И со мной друзья.
– Такие же дегенераты, как ты и как мой сын, должно быть, – сказала она. – Пусть покажутся.
Мы сбросили пальто и шапки на стул и прошли в соседнюю комнату.
– Не смотрите на меня, я не одета, – сказала Броня и поглядела на нас из ореховой рамы трюмо, перед которым она сидела в халате. Она (чуть не сказал: ничуть) не изменилась внешне, насколько я мог разглядеть при свете двух маленьких ламп по бокам туалетного столика: гладкие каштановые волосы блестели, изумрудные глаза блестели, колено в шелковом чулке блестело, баночки с косметикой были раскрыты, сверкали флаконы, папироса дымилась на краю хрустальной пепельницы, все было как всегда.
– Ты постарел, – сказала она мне и, быстро приблизив лицо к поверхности зеркала, вгляделась в какую-то свою морщинку. Потом повернулась к нам и произнесла насмешливо и торжественно: – Вот так же смотрели на меня когда-то Зиновьев и Радек, а несчастная Сейфуллина сказала: «Боже, как хороша».
В комнату вошел Миша.
– Вам, – она показала на него и Кудрявцева, – есть приписка в письме из тюрьмы. Чтобы помогали мне. Кретины – что вы, что он. Я написала, что вы очень заботливы… Да! Тебе, – не отрываясь от зеркала, она поглядела оттуда на Мишу, – звонил сюда какой-то певец, не то гребец, я их теперь не различаю. Что-то насчет фарфора. С ним Денис разговаривал.
Миша и Кудрявцев переглянулись, и Миша выскочил из комнаты.
– О, несчастные, – сказала Броня равнодушно, – всё чего-то суетятся, всё по копейке, всё чужое. Что это сейчас все такие нищие, а?.. И ты туда же? – обратилась она ко мне.
Миша провел молодого человека, открывшего нам дверь. Мы с Кудрявцевым прошли за ними.
– Узнаешь? – спросил меня Миша, показывая на парня, длинноволосого, широкоплечего, румяного.
Я не узнавал, а главное, не хотел узнавать. Что-то мерещилось мне в его лице, но я за сегодня устал узнавать, вспоминать, повторять за кем-то и за самим собой что-то бывшее – и отказался узнавать.
– Денис, – представился он.
– Это же сын Левки, Бронин внук, – сказал Миша.
Денис приятно улыбнулся. Ну да, вылитый Левка, ну конечно, Левка же женился чуть не на первом курсе.
– Ну? – обратился к нему Миша и вдруг заметно побледнел.
– Сервиз не ваш, а наш, – сказал он.
– Бронин, – поправил его Миша. – А клиент не твой, а мой.
– Я не виноват, что вы ему наш телефон дали.
– Бронин, – опять сказал Миша. – Не твой, а Бронин телефон.
– Я вас из доли исключать не собираюсь, – сказал Денис. Он говорил, стоя прямо перед Мишей, но обращаясь и к Кудрявцеву.
– Ты в это дело не влезешь – понял? – сказал Миша и, стремительно выбросив вперед руку, чиркнул ногтем мизинца по щеке Дениса, от угла рта вниз. На щеке сразу выступила кровь. – Тебе там места нет – понял?!
Денис вытер кровь и посмотрел на ладонь.
– Мы вас зарежем, – тихо сказал он.
Миша подошел к нему вплотную и наступил на ногу.
– Понял? – сказал он ему ласково, и оттого что их лица были рядом, стало видно, что Миша уже старый человек. – Ты понял меня? (почти с желанием узнать, понял ли тот в самом деле). – Поди умойся, – сказал он и толкнул его к двери в коридор. – И возвращайся, есть как раз для тебя дело! – прокричал он ему вслед.
– Я ушла, – сказала Броня из-за двери. – Если кто позвонит, буду завтра. Не убейте его.
Денис вернулся с пластырем на щеке и стал в дверях.
– Покажи! – скомандовал мне Миша.
Я развернул дубленку. Денис подержал ее на вытянутых руках, осмотрел, потом надел и вышел поглядеться в зеркало. Вернувшись, он снял ее снова и снова стал осматривать, увидел Малашкин шрам и поковырял его.
– Вещь с дерибасом, – сказал он. – Сколько?
– Триста пятьдесят, – ответил Миша. – Деньги сейчас.
– Сейчас двести пятьдесят, через неделю – триста.
– Как? – спросил меня Миша.
Я кивнул, я хотел раз навсегда освободиться от пакета. Денис унес дубленку и через минуту вернулся с деньгами.
– Двести сорок восемь, – сказал он. – Все что есть. Сорок восемь те же пятьдесят.
Я сосчитал деньги и сунул их в карман.
– Больше ничего нет? – спросил меня Денис. Я помотал головой.
– Тогда я пойду, – сказал он Мише.
– Как вы договорились? – спросил Миша.
– Завтра позвонит. В одиннадцать, – ответил он.
– Не раньше? – спросил Миша. – Вспомни-ка.
Денис промолчал.
– Ладно, буду завтра в одиннадцать, – сказал Миша. – Иди.
Тот повернулся к двери.
– Как твой Израиль? – спросил Кудрявцев.
– Третьего дня был в ОВИРе, – сказал Денис, – опять в стадии рассмотрения. Я объявил голодовку. Дал телеграмму в Верховный Совет.
– Давно голодаешь?
– Третий день… Тем более и пост сейчас.
– Про пост надо телеграфировать в Патриархию, – сказал Миша. – Иди, диссидент.
Денис вышел.
– Разрешат ему, как думаешь? – спросил Миша Кудрявцева.
– Давно бы разрешили, если б не был на крюке, – ответил Кудрявцев и посмотрел на меня: voila.
– Ладно, который час? – сказал Миша. – Пять… Ты, Ботанэ, не расстраивайся, что мало взял, – могли и отнять… Идем, я тебе фокус один покажу. Может, получится. – Он потянул меня в темную Бронину комнату и подвел к окну: – Я тут в Палате работал, автоматику им налаживал, – он показал на табло напротив, ярко горевшее «16.59–18 °C». – Эти цифирки иногда веселый могут выкинуть номер. Ты посмотри-ка минут пять, может, что и увидишь. Чисто ленинградское…
И он вернулся к Кудрявцеву.
«17.00, – вспыхнуло на табло и: —19 °C».
Одинокие фигуры возникали из темноты справа от правого от окна фонаря, быстро пробегали под окном, исчезали слева от левого фонаря и дальше уже не появлялись. Никто не шел им навстречу, никто не шел по противоположной стороне улицы. Несколько деревьев чернело там между соседними домами, и казалось, что и за ними есть деревья, что так, узкой тесной аллеей, они тянутся параллельно Фонтанке, отделенные от нее каменными зданиями, пока где-то далеко, за Измайловским, за Огородникова, за городом, эта аллея не вбежит, наконец, в том же месте, что и река, в настоящий лес.
«17.01, – сменились цифры: —19 °C».
Я взглянул в сторону Загородного. Самого Загородного я не видел, но ясно представлял себе, как город в этом месте дает кривизну. Все шло параллельно и перпендикулярно, а здесь под углом, и это было предупреждение, предупреждение о том, что дальше, у Сенной, все вообще перекосится, Садовая начнет заворачивать как канава, текущая рядом с ней, хотя и за домами, Подьячевские пойдут под углом, Римского-Корсакова – под углом, дома потеряют координацию, и все перемешается.
«17.02–19 °C».
Цифры вдруг перестали помигивать, пропала точка и ноль после 17, потом ноль появился, но погас кружок градуса над девятнадцатью. Потом все цифры разом погасли, и я несколько секунд видел их плавающие черные контуры на ставшем менее черным табло. Потом зажглись и замелькали все цифры и некоторые буквы (я отчетливо видел 8, Р и П). Внезапно пляска прекратилась, цифры замерли, и я прочел: «1703–1913».
Царь Петр брел по пояс в ледяной воде залива к сидящему на мели ботику с окоченевшими матросами и, оглядываясь на мыс в форме лисьего носа, прикидывал, что бы тут можно было построить («Трехэтажный дом в колониальном стиле», – прошептал я). Краснощекий камер-юнкер Воронцов стоял на запятках саней, летевших вдоль хрусталей Лебяжьей канавки и мчавших веселую Елисавет к трону, а его к вице-канцлерству. Джузеппе Бальзамо останавливал свою карету, недоезжая Таврической, и с лицом, перекошенным гримасой боли, распахивал дверцу, в которую, внезапно появившись ниоткуда, впархивала нежная европеянка. «Милостивый государь Александр Христофорович, – быстро писала смуглая рука (а в окне стоял прозрачный весенний сумрак неизвестно какого времени суток), – так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я вероятно в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже…» Трясущийся в лихорадочном ознобе Эдгар Аллан Поэ стягивал на груди непромокаемый американский плащ, уже потрескавшийся под ледяными сквозняками Васильевского острова, и спрашивал у каждого встречного: «Где порт? Гавань?», и кто-то бородатый кричал ему с извозчика: «Гoy хоум!» – и хохотал. Пышущий здоровьем морской инженер смотрел любостяжательно и сердцебиенно на хозяйку салона и, не заглядывая в учебник, диктовал ее дочери решение гимназической задачки, к неудовольствию знаменитого писателя, только что срезавшегося на ней… И в десятке метров отсюда, прямо под окном, у которого я сейчас стоял, шли по этому самому асфальту, только теплому, летнему, и, улыбаясь и ничего не видя, глядели на подымающееся над Сенной солнце – я, Женя, Дима, Сережа, а красавица Ася Полонская пела «Пару гнедых». Грек из Одессы, еврей из Варшавы, стройный корнет и седой генерал. Боже мой, как давно это было. Как прелестно это было! Как прелестно! – потому что было!.. И я заплакал.
Я заплакал над тем, что родился в этом городе и обожаю его, а уехал и не хочу вернуться, ни за что; над тем, что Ася умерла тридцати двух лет в сумасшедшем доме от белой горячки; над тем, что мои дети такие маленькие, а родители такие старые; над тем, что у Франца Кафки были такие трудные отношения с отцом, а у Томаса Манна с сыном; над Левой Кабаковым, ждущим сейчас вечерней поверки на жгучем колпинском ветру; над тем, что Железняк так жестоко разодрал Денису губу; над Кудрявцевым, который прочитал столько книг издания Асаdemia, а потом попал в случа́й; над собой, стоящим у чужого окна и в без малого сорок лет вытирающим соленые слезы.
Это продолжалось несколько секунд, может быть, даже меньше: секунду, пол. Миг. Потом между 17 и 03 вспыхнула точка, а за 19, вместо 13, кружок градуса и С. Было три минуты шестого, температура воздуха была 19° мороза. В коридоре зазвонил телефон, и Миша взял трубку. Владик обещал заехать в четверть шестого, в половине надо было быть в консульстве.
– Ну как? – спросил Миша, входя. – Увидел что-нибудь?
– Ты халтурщик, – сказал я. – Наладчик. Ни тенора не мог наладить, ни Палату мер и весов… Я в консульство не пойду. Подбросите меня куда-нибудь…
Мы оделись, и впервые за этот день у меня были свободные руки.
Я вышел из парадного и вдохнул разъедающий легкие, отравляющий кровь, дурманящий мозг воздух, чистый, морозный, проветренный и хранящий все запахи, все благоухания и миазмы, когда-либо попавшие в него. В нем был туман, шквал, весна, вокзальная карболка, затхлость подвала и сигарный дым.
Мы вышли на площадь, ее пересекал троллейбус номер восемь (от Финляндского до Нарвских, вспомнил я) и трамвай номер три (от Благодатного до Новой Деревни). И там, и там, и там, и там был город, и везде, кроме того места, где находился в эту минуту я, он был другим, меняющимся, колышущимся, не в фокусе, и здания в двадцати шагах становились призрачными и почти прозрачными. Впрочем, я, кажется, уже читал про это.
Мы сели в машину Владика и поехали к центру. Консульство оказалось на Мойке, почти напротив дома Пушкина. Было довольно много автомобилей, и Владик повел свой в переулок. Тамара поехала с ним, а мы вылезли у дверей консульства и стали прощаться. Неожиданно рядом с нами оказался Денис, с пластырем, хотя и меньшим, чем первый, и в дубленке, хотя и не моей.
– Тебе чего здесь надо? – спросил Кудрявцев.
– У нас тут демонстрация. Через десять минут, – быстро и нервно сказал тот.
– В честь чего? Что за демонстрация? – также быстро спросил Кудрявцев.
– Против ОВИРа. Против незаконных действий ОВИРа.
– Ну-ка беги, – сказал Кудрявцев и в первый раз за день вынул руки из карманов и оживился. – Беги отсюда, сейчас же… И нам, – сказал он Мише, – тоже лучше уйти.
– Я тут вообще случайный прохожий, – сказал я. – До следующей встречи, я побежал…
– И хорошо, – сказал Кудрявцев резко. – Чем скорей, тем лучше.
Денис оглядывался по сторонам и не двигался с места. Кудрявцев взял его за плечо и круто развернул.
– Ты, видно, не понял, что тебе сказали, – произнес он очень серьезно и толкнул его. Тот отлетел на несколько шагов и опять остановился. В эту минуту из дверей вышел директор нашей школы, в костюме и белой рубашке с бабочкой.
– Здравствуйте, Всеволод Яковлевич! – произнесли мы почти хором.
– Почему здесь? – раздельно произнес он и вгляделся в наши лица. – Железняк, Кудрявцев. Вас не знаю, – сказал он мне. – Почему-здесь?
– Случайно, Вседд-Якыч, – ответил Железняк. – Проходили мимо.
– Мимо! Мимо! – приказал он. – По домам! Здесь делать нечего… Это кто с вами? – показал он на Дениса.
– Кабакова сын, – ответил Железняк. – Левы, Льва Кабакова.
– Пошел прочь! – сказал Денису Всеволод. Тот не двигался и, улыбаясь, смотрел на него.
– Чему улыбаетесь? Почему здесь? – гаркнул он, быстро подошел к Денису и крепко схватил его за ухо. – Пошел домой! К отцу!
Денис вырвался, ударил его в живот, и когда он падал, ногой навстречу в лицо. В ту же секунду засвистел милицейский свисток, и Миша, и Олег побежали. Я видел, как они спрыгнули на лед Мойки и черными фигурками неуклюже запрыгали по глубокому снегу к противоположному берегу. Милиционер больно держал меня за руку, стягивая куртку с моего плеча, и свистел не переставая. От Капеллы, от Конюшенной и с Дворцовой ему отвечали бесконечные свистки.
1975
Мемуарр
I
Мой восьмилетний внук стоит посреди лужайки между яблонями, шагах в двадцати против моего окна, и жарко разговаривает с пустым местом. В руках у него палка, иногда он наносит ей удары шпажные, иногда сабельные, до меня долетает «получай!». Иногда, судя по жестикуляции свободной руки, переходит на доверительные убеждения, похожие на «как же ты, дружище, не понимаешь?». Пораженный неблагородством, вскидывает ко лбу ладонь – «как можно?». Но терпение и дружеская проникновенность быстро лопаются, следует: в таком случае – получай!
Мне уже порядочно времени не хочется продолжать то, что я делал на клавиатуре и экране компьютера, поэтому растворяю окно пошире и вслушиваюсь. «Думаешь, негодяй, я позволю тебе издеваться над людьми? – говорит внук. – Думаешь, ты пират, и от тебя нет защиты? Получай! Повезло тебе, что мой дедушка ленивый и ничего не умеет. А то уже в прошлом году я имел бы лук и поразил тебя с дальнего расстояния».
Лжец! Вот уж кто я не, это лентяй. И что значит «ничего не умеет»? Чего не умею, а что и умею. Дверной замок на веранде, например, врезал, электропроводку на веранду протянул, по науке, через распаечную коробку, вывел на патрон. Что-то еще. Но, конечно, он прав по существу: дедушка я так себе. Лук с самого начала не пошел, орешина была выбрана слишком толстая, почти не гнулась, я подумал, что кряхтеть над ним много, а будет ли стрелять? Сосед стал давать советы, настроение упало. А главное, быть дедушкой – это труд, это выполнение многих статей кодекса. Передать его тебе может только твой дедушка, а не передаст, составляй сам – из книг, из наблюдений. И, что хуже всего, втягивай себя в соображения, а в них, сквозь каждое, продета жилка абстракции, от которой вкус во рту, как лизать медную проволоку.
Одного деда у меня не было от рождения. Рано умер, в Первую мировую. Дома говорили об этом недомолвками, но что не на фронте, а скрываясь от мобилизации, так ли сяк ли прозвучало. Куда ему воевать: шестеро детей, еврей из захолустья. Перебегал от родственника к родственнику, и инфаркт. Лет, выходило, в сорок.
Второго я видел, мне тогда исполнилось пять. Мама специально повезла в Ригу, показать меня и брата семье. На какой-то день гостевания – война, мы чудом удрали, их немцы всех расстреляли.
Не затем деды как институт существуют, чтобы их у детей, у подростков не было. Вон, американская литература полна дедами и внуками. Рабочий механизм семьи – и прозы: дед бьет из ружья ястреба, падающего на цыплят, учит мальчика, как правильно целиться, сажает к себе на лошадь, показывает, как рубить дерево. Американская живопись, не говоря уже фотография: обязательно высокий худой старик и мальчик, вокруг лето, и они вдвоем в темном дверном пролете.
Однако не прошло и шестидесяти, а может, семидесяти (с чего считать) лет, пробел заполнился сам собой, причем по максимуму. Всем дедам дед достался мне, явился на пустующее место: им оказался я. Правда, только по названию, без понятия. А ведь как беззащитен был внук, противостоя пирату! Как нуждался если не в покровительстве, то в подпорке! И никого лучшего, чем дед, на эту роль не было. Сам по чуть-чуть впадающий в детство – точнее, позволяющий себе то в одном, то в другом впадать. Забывающий свои знания – точнее, не сопротивляющийся тому, чтобы забывать. Движущийся на встречном внуку курсе – чтобы в какой-то точке сравняться с его незнанием. Дослужить костылем до того его возраста, когда смотреть на него можно будет, не чувствуя пронзающей трогательности, – сражающегося с еще неизвестным ему противником. Не будет так жалко его, слабого и одинокого. И до того возраста своего, когда уже несомненно станет, что сделано все, что дальше некуда и нечем, что палка, за которую внук какое-то время держался, ему не требуется, а обратно деревцем уже не станет.
Итак, дед из меня вышел неполноценный, но ведь внук я был совсем никакой. И, однако, был. Поведением, одиночеством, воображением, безразличием к тому, действительно передо мной пират или однодворник-одноклассник, чье невзрачное имя, если кто поинтересуется, мой рот мгновенно произнесет с той же уверенностью и убедительностью, как Сильвера и Гарри, я не отличался от моего обделенного дедовым прикрытием – хотя ведь не вовсе его лишенного – реального внука. Я так же сосредоточенно разговаривал с невидимыми собеседниками, разводил и потрясал руками. Я даже прикладывал их к сердцу и хватался за голову. И, конечно, протыкал насквозь и валил с ног палкой. Несколько раз я на улице врезался в суконные животы прохожих, меня безжалостно отдергивали, сбивали с направления, иногда давали подзатыльник, отбрасывали. Дальше, чем требовало невинное столкновение. Это могло быть обидно, унизительно, горько, но горечью седьмой воды на киселе – свежем, пахнущем домашней плитой и дикой клюквой, утоляющем жажду, пропитанном сладостью счастья, которое не требует объяснения.
Одновременно, как выяснилось через каких-нибудь шестьдесят-семьдесят лет, я набирал слои телесной ткани – деда, очки сообразительности – деда, живую массу и психические приемы – деда. Как в школьном анекдоте два соседа по купе: – Вы куда едете? – В Харьков. – А откуда? – Из Москвы. – А я из Харькова в Москву. Во техника до чего дошла! – я двигался в один и тот же миг туда и оттуда, вперед и назад, вдаль и издали. Долгие годы, не оглядываясь, я катил в сторону деда, о котэ дэ шэ ле гран-пэр, как сказал бы не помню кто. Но деда не того внука, который расправлялся «получай!» с миром, еще не приносящим ему вреда, еще даже не скалящимся на него. Долгие годы этот мальчик был в лучшем случае существом лишь назывным, не-сущим, небывшим, тем паче небудущим – когда же воплотился, я стал его дедом, только чтобы не нарушить правил общежития. И, возможно, чтобы компенсировать ту близкую к бесконечности продолжительность, в течение которой он водил меня за нос своим отсутствием. Не потому ли и я оказался ему дедушкой-голубчиком-сделай-мне-свисток больше номинальным? А вот кому подлинным, кому по максимуму, кому таким, который в языке, то бишь в жизни, ибо есть ли жизнь-то помимо языка? – натаскался до того, что запросто, лехко может сказать «пробел заполнился по максимуму», так это тому, кто втыкался во взрослое грубое потертое сукно лет за шестьдесят-семьдесят до того. Натаскался, наблатыкался. Жизнь, сама-то немая, кое-как гундосая, кое-как свою гундосость разбирающая, и натаскала. Наблатыкала. Сделав из меня моего собственного деда. По полной.
Что же было в промежутке? Между деда отсутствием и его в виде меня столь протяженным втелесиванием и вразумением? Надо вспомнить. О, чего только не было! Да каждый сам знает. Начать с зубной боли. Трещины в эмали, пещерки в костной ткани. Их рассверливание, таящее в себе рабскую готовность и паническую неизбежность в любой миг вспыхнуть взрывом истязаний. Нестерпимых, дальнеродственных насаживанию на кол, предутреннему расстрелу, свинцу, дробящему череп. Для будущей закупорки месопотамским цементом.
Начать непременно с этого, а продолжить равным ему, зубному изуверству, садом наслаждений. О коих умолчим из-за неосуществимости выкупа у тех, кто их доставлял, копирайта на оглашение. Из-за невозможности, которая, если по-честному, лишь скрывает бессилие адекватно их изобразить. Правда, на уровне всех уже существующих попыток, как-нибудь бы изобразили. Но соединить «наслаждение» и «как-нибудь» – все равно что плюнуть в бешеное сотворение воды и базальта на потомакских Грейт-Фоллс. Где – помню – был, стоял, трепетал, терял рассудок. С пересохшим ртом: и захоти плевать – чем?
И так далее. Чего только не было, все было. Все, что у всех, – и кое-что, что только у меня. Все, что можно вспоминать. Ах, предупредил бы кто-нибудь, что ни в коем случае, не надо, не вспоминай! Чтó вспомнил, то немедленно и забыто. Отныне будешь вспоминать только вспомненное. Отныне три тысячи шестьсот секунд каждого часа; двадцать четыре часа каждых суток минус сон при условии, что ничего не снится; тридцать суток каждый месяц – самодовольно ужмутся до «а сейчас он поделится с нами воспоминаниями». А он уже поделился. Вот на этих трех, ну пяти, сотнях страниц, которые, если гладко пойдет, мы за пару дней осилим. Пока не вспоминал, то, помнишь, переплывал Оку – и как сносило! Струи были струны тревоги, сети риска, раз на раз не приходился. А стал вспоминать, и сплелось в один общий кроль и брасс. Против которых потоку не устоять – и обмелело. Обмелев, где заросло, где высохло. Тридцать метров пешком до белого бакена не выше сосков, тридцать от него до красного по плечи, и последних тридцать до берега, уже поднимаясь из вод, как дядька Черномор. Сложив рубашку, штаны, кеды, перетянув ремнем, подняв над головой. Можно не плыть, плаванье – там, в воспоминанье.
А ведь соврал! Ведь это ты Лугу переплывал. И не особо сносило. А одежку над головой, как знамя и SOS, ввысь подняв, Жеймяну форсировал, по дну ступая. Лугу под Ленинградом, Жеймяну в Литве – вспомни-ка, мемуарист… Ну, Лугу, ну, Жеймяну. Но не соврал. Приврал – это да. Так небось не книгу судеб переписываю. В ней, в судеб, ни единого наклона буковки нет неправды. Потому никто ее и не видел. А у меня мемуарр, такой специальный жанрр, чтобы привирать, бессознательно и правдоподобно.
Например, мемуар про кота Мамурру. Такой персонаж в стихах Катулла. Я студентом листаю книжку «Лирика», только что вышла. Туманная роза на супере, воробей на обложке, чувак с лирой и в бороде, чувиха с цветком и грудью на развороте титула. Кот Мамурра (прибавлено: и с ним похабник Цезарь). Кот прежде всего небось потому, что Мамурра – мурлыканье. А так – мерзавец. И никакой не кот – а козел. Говорят, поселилась под мышкой дикая тварь у тебя – старый вонючий козел. Пиотровский Адриан перевел. В аккурат в этой «Лирике» ему имя вернули. Замученному в застенке, после двадцатилетней безымянности. Кота это он придумал, римляне крепче выражались, а по-русски в самый раз. Так котом в моей памяти и отложился – никак не из-за гофмановского Мурра, а потому, что жирует и потаскун. Богатей, и каждый день все богаче, потому что взяточник. У Катулла он попросту хер. В переводе – не Пиотровского, не замученного, а векового старца в сединах – попристойнее: хрен. «Блудящий хрен истасканный». Бессмысленное словосочетание: старый хрен – понятно, блудящий – орхидея с зубами? Кот бы лучше. На своих же девках делающий деньги. «Ты падаль!» – «Сам ты падаль!» – «Мразь и падаль!» И тут наместник, чье лицо подобно гноящемуся вымени, смеется. Не для вас, Козлов, сделан подземный переход? Клевещущих козлов не досмотрел я драки. Не досмотрел я РАППа. Не досмотрел, как РАПП сгонял этап. Переводчику сорока не исполнилось.
Короче, Луга, Жеймяна, прибавлю к ним Лиелупе с Даугавой, да и Волгу с Днепром, и Пыжму на Урале, и Тису в Карпатах, и Темзу – там, где она называется Айзис, Изида, и Гудзон на подходе к Нью-Йорку, а и, чего мелочиться, Миссисипи – это в которых я плавал. Приведу к общему знаменателю, сложу, поделю на равные русла, вот и выйдет мемуарная Ока. В Миссисипи не плавал, сидел на берегу, ножками в ней болтал – за дальностью от места прописки идет в зачет как заплыв. Тем более что в каких-то из них, и почему бы не в ней, видел утопленников. Сколько? Спасенных – двух, сгинувшего – одного, и одного неизвестно кого, достанного со дна, в коряжине застрял. И захочу, могу про них вспомнить. Например, что были они две девицы и два мужика. Неинтересно? Утопленник всегда интересно. А когда в первый раз вспоминал, о-очень выходило интересно. Про каждого. А сейчас, вспоминать, что интересного про каждого рассказал, интерес собачий.
Возврат к исходной точке. Что же такое было, про что говорится «чего только не было!»? Что-то, отчего нападал восторг. Отчего налегало отчаяние. Что-то, что ужасно не хотелось, а надо было исполнять, чтобы не стало хуже. Масса делишек, мыслишек, болезнишек, удовольствишек, которых смысл, цель и содержание – убить время. Потому что шестьдесят лет, семьдесят лет тиканья ходиков – как с ним справиться, если не придушить, не заткнуть Хроносову пасть? Сплошь глупые предприятьишки – особенно те, что выглядят умными, то есть заманчивыми, особенно те, что особенно умными, особенно заманчивыми… А-а-а, ты, стало быть, исключительный. Всем подходит, а тебе – глупые? Ты с Промыслом несогласен, ты недоволен, тебе подавай выдающееся… Ну да, и это тоже, бесконечные разборы, бесчисленные разборки, согласен – несогласен, доволен – недоволен, это тоже лет тридцать всяко съест. И на то, чтобы притерпеться к хамству «ему подавай выдающееся», не меньше прикинь.
Давайте, наконец, вспоминать. Детство. Мухоедство. Не забывая, что они же – дедство, полпредство. Роман «Овод». Где Обводный канал и Фонтанка-река тра-та-та каждый вечер встречаются, там чего-то там пьют, блатные песни поют и еще кое-чем занимаются. Каждые сперва еще только сумерки, потом именно что вечер, потом непроглядная ночь, с первого сентября, берущим за сердце радиоголосом народного артиста – «Овод». До первого января. До первого марта. Какая-то Этель, какая-то Войнич. Старушка, бабушка. Дедушкина вдова. Советское полпредство в Сан-Франциско дало обед по случаю титилетия Этели. Полномочное представительство. «Монсиньор, я Риварес!»
Это мое детство. Первоиюньский выезд детского сада на дачу. Жидкая манная каша. Свисающие с потолка, цепляющиеся за волосы воспиталок липучки – противомушиное средство. Насекомоедство. Мотыльки, комарики, оса – все приклеились. Воспиталка бодалась. Воспиталки ели манную кашу из ведра. Из эмалированого – алюминиевыми ложками. Эмаль. Со сколами. Запомнил внук, вспоминал дед. Лиможские эмали. Внук ни тпру, ни ну, ни кукареку, дед знал. Зал лиможских эмалей. Не в Лиможе. Не в Лиможе, а-а… в Эрмитаже, комната номер. Психея преподносит подарки злым сестрам. Миловидным. Купидоны преподносят что-то какой-то юной даме. Мадемуазели. Свет в помещении приглушенный. Розу? Голенькие… Это могла быть толкучка экскурсии, водили со школой, внук мог бросить взгляд. Дед мог знать и то, что запомнилось внуку. Плюс отдельно, Эрмитаж, комната номер.
Детство не мемуарно. Детство – ядро надвигающегося ужаса. Психического. Психейного. Эротического. Забыть, забыть что-то негодное! Негожее. Как врал. Как подглядывал. Как зажмуривался. Закрывался одеялом с головой, затыкал уши. Совался, куда почему-то знал, что нельзя. Детство – извержение всего желанного, что нельзя. Всего, что нельзя и потому желаемого нестерпимо, вожделенного, горячего. Гейзер. Детство – узел романа в четырех томах, в каждой главе обещающего с этим запутанным, стыдным, гоголь-могольным развязаться, выговориться, оторваться. Но влипшего в него, как братец Кролик в смоляное чучелко. Выползающего, как остывающий чугун, как карамельная масса, в пятый том, в шестой – объявленные совсем из другой оперы, но продолжающие объясняться, уточнять. Заходиться в самобичевании. Оправдываться.
Хорошо, пусть без детства. Откроем заслонку, направим, что поддастся, в изложницы влюбленности. У меня, еще в статусе внука, хотя об этом и не догадывавшегося, их было три. Первую звали, верьте не верьте, Ева. Нормально. Библия ни при чем, Библии еще не существовало. Почему не Ева, если есть Ада, если есть Оля? Куда необычнее, что официально, по метрике, ее можно было звать Ева-Татьяна. Дочь австрийских антифашистов, бежавших от Гитлера. В Свердловск. На год младше меня, а мне шесть. Если у влюбленности была причина, то в чем, не знаю. Что девочка – другого в голову не приходит. Длинные волосы, мягкие манеры, нежная речь – не мальчик. Если схватить, то не чтобы бороться, а только сжимать.
Вторая, когда пошел в школу. В восемь, но сразу во второй класс. Звали – и опять: не хотите верить – не надо: Муза. Фамилию знал прекрасно, несколько лет, но при таком имени попробуй не забудь. Уже когда забыл, натыкался и вспоминал. Демидова, Шувалова – что-то такое. Откуда-то знал, что мать – татарка. Не – Муза по матери татарка, она русская-разрусская, но мать татарка. Отец, не знаю, Степан Разин, Александр Матросов. Она – несусветная красавица: белокурая, голубые глаза, румянец. Уралка. Так и отлеглось: муза – красота. Немного сонная.
Третья – девятый класс (обучение раздельное). Дина. Худенькая, нервная. На мою влюбленность отвечала раздраженно. Не нравился я ей. Даже когда чем-то заинтересовывал, не больше чем минут на десять. Вдруг реле щелкало: тороплюсь, дальше провожать не надо, пока. А и в самом деле, чем я мог заинтересовать на дольше? Из ряда вон выходящая ее притягательность, помимо хрупкости и тревоги как у попавшей в никому другому не видимую западню, шла от того, что она жила в квартире, где Раскольников убил старуху и девицу. Про что я ее или расспрашивал (чувствует ли заклятость места? не остался ли какой-нибудь след Достоевского?), или ей рассказывал. Мол, когда прочел (прошлым летом), днями ходил вокруг дома и даже поднялся, позвонил в квартиру. Это все правда, но захватывающе было только для меня. Ее не пробивало. Конечно, тут же стал врать. Дескать, на лестнице – у нее ведь деревянная лестница, еще та, я прав? – под последней перед квартирой ступенькой пошарил и нашел приклеенную снизу, свернутую в тугую трубочку, обернутую кусочком клеенки того сорта, которым оборачивают горло, когда делают компресс, записку с двумя словами «Наполеон напролом». Отнес в Публичную библиотеку на экспертизу, почерк Эф-Эм подтвердили, и сказали, что это невероятное открытие. Дина на меня взглянула диковато и с открытой неприязнью. Я, уже наверно в отместку, решил спросить: вы книгу-то читали? Она ответила: читала-читала – а) лишь бы закончить разговор, б) как когда ссорятся, в) когда не читали.
Был еще один план в моей влюбленности. Он-то, может быть, и задел бы ее, и не то что я держал его в запасе, но смысл его был как раз в необнаружении. Дина не такое частое женское имя и сейчас, а из сохранившихся с праматерних времен – в ряду двух-трех редчайших. К девятому классу Библия вполне уже существовала, и история Дины с братцами была в ней самой немыслимой. Почище змея с Евой, почище Каина-Авеля, почище, если позволите, и Потопа. Эти все с участием, а главное, в реальном, чуть ли не материальном присутствии Бога. А с Диной – людская в чистом виде. Субъекты, которых мы знаем лично, чьи душевные движения понимаем, как свои собственные, – на Бога только ссылавшиеся. Совершенно так же, как русские, немцы, американцы, нательными крестиками «С нами Бог», ременными пряжками «Гот мит унс» и монетами «Год виз ас» оправдывающие свои взаимногубительные действия.
Изнасилование девицы; не то осознание грозящей мести и расплаты, не то западение на ее совокупительные прелести; явка с повинной, с просьбой отдать в жены. Обычное дело, каких миллион. Согласие братьев на условии принять всему племени жениха обрезание крайней плоти. Ответное согласие. Всеобщее обрезание. Даже скучно, как благопристойно. Нападение на ходящий враскорячку беспомощный мужеский пол, умерщвление каждой особи, без единого пропуска. Чуток чересчур, немножко с перебором. Но не так, чтобы это нас, читающих, лишило чувств и дыхания. Тут шикарно обоснование – воля Бога. Больше – угождение Ему! Велел резать крайнюю, а мы всю! Самого Его при этом нет – где-то в другом месте. Но дураку ясно, что Он – такой. Что отвести Ему эту роль – можно. Напрашивается.
Познакомившись с Диной, хотел я узнать, так ли. Дерзкие догадки – верны ли? Наследуя имя той, какую-то гомеопатическую частичку знания ее об этом могла она получить. Но сорвалось, на подходе, на стадии раскола черепа никак не библейского калибра.
Стало быть, Ева, Муза, Дина и мать их Секвойя.
Почему я предпочитаю вспоминать то, что случается сию минуту, делать воспоминанием то, что прожито только-только, чуть ли не еще проживается, складывать в картотеку картинки одновременно с тем, как они возникают прямо на глазах? Потому что так воображению, галлюцинациям и выдумкам, мозаикам и головоломкам меньше времени вмешаться.
Пятидесяти лет был я записан историей литературы в мемуаристы. Историйкой. Ибо какая такая у нас литература, чтобы иметь историю? Я застал хвостик имевшей. Торжествующей и гонимой. Два качества необходимых и достаточных, чтобы заслужить себе историю. Торжествующей – потому что ошеломительной дарами редкостными и гонимой. Гонимой – потому что опасной дарами редкостными и торжествующей. История – номер пробы после огненного испытания. Я попал в круг юношей тоже редкостно, хотя и не так впечатляюще, одаренных и тоже, хотя и слабее, гонимых. История – имена лиц, отлепленных взглядами тех, кто смотрел на них юным зрением. На кого смотрели они. Волчий и горностаевый хвосты литературы, имевшей историю, обмахнули нам лоб, пощекотали губы, погладили по щеке. У всех так, у бездельников, никчемностей, фатов, тщеславцев, даже убожеств. У прожигателей жизни, душ общества, бабников, блатных. Кто к пятидесяти годам умеет рассказать про таких, объявляется литератором, л’омм дэ леттр. Если у его персонажей реальные имена, и достаточное время были на слуху и осели в памяти десятой части населения, его приказом по литературе переводят в мемуаристы. Раньше пятидесяти лет вспоминать прожитое не стоит. Неприлично. После пятидесяти не имеет смысла, прожитое ушло.
С середины мая до середины сентября воздух полон насекомых. Воздух, ветер, туман, листья, трава. Крючковатых, загнутых, пустых, ускользнувших от лекал антропоцентричной биомодели. Самоцветных красок, дворцового блеска, непредсказуемых пируэтов, настраивающегося оркестра. Этот летатлин похож на Гермеса, это пенсне на Троцкого, это кружево на Клеопатру. Все вместе на Афинскую школу. Лето напролет они валятся наземь спектрально искрящимся ювелирным невесомым сором, крошатся в пыль под ногами и просто мгновенно иссыхая. Их мемуары – о неведомом нам счастье, о неисчислимых страданиях, о геноциде и вере в бессмертие – могли бы иметь ценность библиотек Атлантиды. Но они не оставляют мемуаров.
Мы вспоминаем – и лезем с тем, что вспомнили, к другим. Находим нужным вспоминать – и находим нужным лезть. Вероятно, из-за того, что нам выпало жить не один сезон, а шестьдесят-семьдесят раз по четыре, не один день, а шестьдесят-семьдесят раз по триста шестьдесят пять. Другого объяснения не вижу. Все вспоминают одно и то же. Первую мировую, от которой неспособный воевать, хотя и способный стать дедом, должен бегать как заяц до разрыва сердца. Вторую мировую с теорией больших многонулевых чисел, нарвавшихся на жгучий укус металла. Боль, доставляемую с восторгом. Шпок, шпок, шпок. Свирепость. Не просто растабуирование материи, а с непотребством… Не к чему распространяться, каждый сам знает. Я мемуарром занимаюсь, а не исповеддью.
Мемуары – медицинский мазок. Мои детство, отрочество, юность – эпоха мазков. На ватку на палочке. Пустяшная процедура, а какая-то малоприятная. Сухой ваткой по слизистым тканям. Слизистые ткани против, не хотят, чтобы по ним, их стиль – скрытость. Любить мазок – мазохизм. Ваткой со взятым мазком возят по стеклышку, суют в пробирку. От мысли к ним прикоснуться передергивает. Прямоугольнички стекол высохли, пробирки побились, запылились. Мой внук не знает, что это. Всё вымести, стены побелить. Дээнка-шмээнка – вот что такое нынешний мазок. Мемуары внука будут это.
Через шестьдесят-семьдесят лет ломкие бумажные осколки строчек и четверть-строчек взметнутся от неведомых нам шагов – как завтра крылышки капустниц, пляшущих сейчас над мокрой глиной. Их унесет сквозняк, втопчет каблук. Очень хорошо. Очень правильно. Паутины тонкий волос. Траектория слезинки на праздной физиономии – если вы, конечно, такой сентиментальный. Я – нет. Взметнется, унесется, втопчется – родное, натуральное, заслуженное, производительное. Жаль-то жаль, но не сильней же эта жалость того, что оно было такое родное. Естественное до последней степени. Что чем-то, может быть, просто рождением вовремя я это заслужил. Что оно такие душевные сдвиги, замыслы, поступки и, куда деваться, слова, слова, порох слов, прах слов, слизь слов в нас произвело. Удар потери сокрушителен. Но праздник обладания неистребим.
К тому же…
Всегда не просто присутствовало, а в каждой мелочи каждую минуту участвовало, не отставало, окутывало, размещалось в самом центре нечто абсолютно чужеродное, некая стихия принципиально иносущная, ничему вовне себя не служащая, – власть. Рецепты мемуаров примитивны. К власти пришел Керенский. Тогда-то я и встретил Марь-Иванну. Отец ея служил жандармом при двух последних государях. Ея волосы пахли душистым сеном, она была порывиста. В тетушку ея, старше Марь-Иванны всего двумя годами, был влюблен Блок. Однажды он приехал за ней на извозчике. Я как раз входил в дом, мы столкнулись в дверях. Поздоровались. Он сказал: «Дождь. Мостовая. Столб. Цирюльня». Возможно, это были первые подходы к стихотворению.
Настроения в обществе в период Временного правительства.
Моя самоотверженная матушка.
Солдатская прямота отца невесты граничила с грубостью.
Мои друзья: по кадетскому корпусу; по семейным связям; по улице.
Я был пьян ароматом свежего сена.
Мемуар – не правда жизни, а ее демонстрация. Больше того, сама жизнь – демонстрация себя. Себе самой. Всем другим. Единому Богу. Кто не жаждал открыть кому-то то, чему надлежало быть скрытым, чтобы остаться жизнью во всей полноте! Кому-то не считая собственного сердца, которому заведомо все всегда открыто. Иными словами, кто не жаждал открыть кому-то сердце, продемонстрировать его содержимое и тем положить конец своей жизни? Так что мемуар – это демонстрация демонстрации.
А теперь не валяйте дурака и наедине-то с собой сознайтесь, что демонстрирует себя жизнь ровно в ту меру, какую назначает ей власть. Марь-Иванна вместе с тетушкой, Блоком, извозчиком, четырехстопным ямбом и благоуханием сена были отпущены вам Марь-Иванниным отцом. Не как таковым, а как жандармом. Под командой, прежде всего, двух государей. Керенского же – настолько, насколько на него отцова жандармства хватило. А хватило на шпоры – на коня, увы, нет. А как пришли большевички́, никаким государям, ни, подавно, Керенскому, ни, само собой, папаше не выделили на белом свете и уголка, а вам, букашке, оставили пучок сохлой травы – и нюхать, и жевать, и спать на нем и делиться им с друзьями по кадетскому корпусу. Вот и весь ваш мемуар: демонстрация демонстрации демонстрации.
Одна надежда, что самоотверженность вашей матушки окропит его слезками, не учтенными властью, и оживит.
II
Травма в одном действии
Бездействующие лица:
Август Макарович, Майя Модестовна – супруги
Светлана, Ярослав – их дети
Корней, Тигран, Ниобея – их внуки
Действующие лица:
Валера, Виталик, Виктуар – их друзья
Сильнодействующие лица:
Сталин
Хрущев-Булганин
Брежнев
Андропов-Черненко
Горбачев и Ельцин
Путин-Медведев
[Опубликовано в журнале «Новый мир» № 3 2010 года, стр. 93—115]
III
Нечем писать автобиографию. Все, что я могу под этот заголовок занести, это что вчера был на вечере авангарда полувековой давности, вернулся сквозь прохладную октябрьскую темень домой и читал английский роман. Чекист, согласно высочайшему афоризму, не бывает бывшим, и вот, авангардист, согласно его собственному манифесту, тоже не бывает. Манифест сам по себе авангардистичен – потому что где еще он есть, кроме как там? О боже, какую прелестную чушь они мололи, о культурном взрыве, о радикальном неприятии цивилизации, о групповом наскальном портрете, который единственно они оставляют грядущему. Семидесятилетние, одутловатые, морщинистые. Как милы они мне были! Кряхтя, ворочали речью, как силосом, перетаскивая его вилами туда, где уголь, а оттуда лопатами уголь туда, где силос. В заскорузлых сапогах, в тяжелых куртках, с каплей на кончике носа, с негнущимися пальцами. Готовились к зиме – которых столько уже после той весны пережили.
В романе, который я, вернувшись, читал, мои и их (еще не знавших, что они авангардисты, а только плюхавших не в склад и не в лад авторучками и кистями чернила и белила на все, что попадалось под руку) по той весне ровесники, кембриджские студенты, играли в покер, ставили Шекспира, писали рефераты по Анаксагору и Анаксимандру, ласкали девушек, неприступно на все готовых. И говорили, говорили, болтали очаровательно ахинею и прозрения, смешно, резко, остро. Как мы в то же время, что они. Как, скажем, я. Мы – я одно из этих мы – говорили тогда так, что это хотели слушать, это запоминалось, это пересказывали. Это ничего не значило, кроме окраски текущей минуты, произносилось не для себя, а ради хорошего настроения. У всех, включая произносившего. Он – и им был и я – знал, что доставляет удовольствие, ему это очень, ужасно нравилось, он был заряжен на это.
Потом пришел год, конец лета, что ли, когда, выйдя после такой сходки, такого чудного, освеженного грузинским вином говорения на улицу, он – на сей раз это точно был я – отдернул голову от фонарного света. Далекого – на ближайшем столбе лампа не горела, – тусклого. От, если честно, мглы, от скорее тьмы, чем света. Точнее, отклонил от чего-то – чтобы не столкнуться с тем, что там было. Не пугающим, просто неожиданным. Но, отклонив, в ту же секунду отдернул опять, потому что это же самое оказалось и у виска. На тот миг это было везде. Что-то, во что и я был включен, чему принадлежал, в чьем полном распоряжении находился и что все объясняло, хотя я его об этом не просил. Да и объясняло так, что большего мне не требовалось, а при этом оставляя непонятного столько же, сколько было.
Я подумал: Бог. И с этой ночи стал понемногу-понемногу думать не как хотел, а как решил, что Ему хочется, чтобы я так думал. А главное, стал говорить так, как решил, что Ему хочется, чтобы я так говорил. И никому, начиная с меня, это уже не доставляло удовлетворения, не приносило удовольствия, не поднимало настроения. Говорить, пожалуй, хотелось, а слушать нет. Но то, о чем я говорил, было так несравнимо со мной, несоизмеримо, так бесконечно могущественнее меня, что у меня не оставалось выбора.
Я потратил на это десять лет жизни, пятнадцать. Вообще-то всю жизнь до сегодняшнего дня, только где-то после пятнадцати перестал думать, правильно ли я, с Его точки зрения, думаю, и говорить, хотя и с оглядкой, но не сверяя с моим представлением о Нем каждое слово. Просто чтобы не дергать Его все время. Со мной продолжало случаться то и это, моя биография постоянно пополнялась. Я постоянно что-то из нее запоминал и все, что запомнил, вспоминал. И как когда-то, то одно то другое рассказывал. Разница заключалась в том, что когда-то это была всего лишь частица речи, становящаяся частицей минуты, в которую звучит. Непреднамеренная, не придававшая себе значения вне этой минуты. А теперь это был мемуар. И он свел на нет мою биографию.
Я учился в химическом институте, после школы. Во мне тогда поселилась страсть. Один человек, химик. Его красота, внутренний огонь, голос, речь породили ее. Они в нем олицетворялись как единая стихия. Я решил, что это страсть к химии. Почему – отдельная история. Истории – пожива мемуара. Я имел в виду химию, которая так называлась, прежде чем стала наукой. Химия – нежная тайна вещей, их сокровенная натура. Не архимедовы жидкости, выталкивающие все равно какие строго геометрические пифагоровы тела, не катящиеся прямолинейно идеальные ньютоновы шары. Я думал, что она сродна стихиям, что в ней объяснение мира. Оказалось, это справочник по составлению комбинаций из сотни простейших элементов. Число комбинаций практически бесконечно, но принцип их составления один. Мира она не объясняла, она подсовывала вместо него еще один набор таблиц. Позвольте, а вот полет цветочной пыльцы, он ведет к урожаю, а ведь какие-то его завихрения ускользают от таблиц в мистические сферы. Или человеческие сперма и яйцеклетка – в какие бы формулы их ни втискивать, они своевольны, они другие у одной и той же пары на протяжении пяти минут. Элементы мира неизмеримо более косны, но и им отпущено немного той химии, донаучной. Я был уверен: результат реакции гашения извести должен зависеть и от того, кто гасит… Теперь скажите, этот абзац – как и мой диплом об окончании института, – чтÓ он: автобиография или мемуар?
Мемуар съел хлеб моей биографии, сжег в своей печи ее дрова. Притворившись спектаклем, лишил ее драматургии. Задушил тем, что исчерпал ее время. Частью сделал из времени муляж, набил это чучело нарезкой слов, частью измельчил в сор и отправил на свалку. То, что осталось от дней из отпущенных на каждого, так называемых «завтрашних», стало сугубо временным, негодным к употреблению. Я не могу отмечать сорокалетие свадьбы: через год она, не изменившись, станет сорокаоднолетней. Если за этот год не исчезнет. Бесследно. Как все остальное. Как никогда не бывшее. Я не могу встречать Новый год, если он просто какой-то Новый год, временный как одноразовый пропуск. Лучше я буду смотреть в телевизор на футбол Лиги чемпионов, он не притворяется описанием моей жизни.
Все, что мое жизнеописание сейчас собой представляет, свелось к его названию – Автобиограффия. Как Мемуарр – список лиц на сцене, она – список олицетворений. Они – маленькая труппа циркачей, выходящая слитной, грудь к спине, колонной на арену и по окончании номера уходящая в закулисную дыру. Они наряжены в одинаковые костюмы, одинаково нагримированы. Они – игральные карты, то сложенные воедино, чтобы никто не подглядел, то развернутые веером, чтобы показать, что одной масти.
Авта – аллегорическая самость. Гречанка в тунике – с грубыми чертами лица и тяжелой телесностью. И в движении, и в покое от нее исходит напор, сродный рабочему, плясовому, экстатическому.
Био – аллегорическая растительная витальность. Более организм, чем живое существо. Охотник, почти сливающийся с природой.
Граф – аллегорическая амбициозность. Нацеленность на производимое впечатление. Важность, пышность, поведение напоказ – прошитые едва заметной нитью неуверенности в себе. Писарская каллиграфия почерка. Играющий себя актер, немного клоун.
Фия – сестра ФИО (Фамилия-Имя-Отчество), Фамилия-Имя-Ячество. По делу бы, с нее жизнеописание должно начинаться: фия-авто-био-граф. Я – родился, я – женился, я – умер. Вместо – меня родили, меня женили, меня уморили. Какой-то Анатолий, из каких-то Найманов.
Эти четверо – единосущные, нераздельные, всегда одновременные ипостаси автобиографии. Обезьянничающие ее опыту о Боге, ее представлениям о Нем. А при этом и ее компоненты, не теряющие своей самостоятельности. Ее двигатели и продукция. Форма их существования – круг, венок, сплетание, танец. Био и Граф преследуют Авту и Фию, те завлекают их. Не кордебалет, а четыре солиста, но назубок знающие роли.
А если вглядеться, впиться в них зрением, насытив его всей, какая есть, душевной силой, то вдруг увидишь, что это четверка агентов власти. Они заняты переделкой вольности, отваги, творчества, составляющих жизнь, в либретто жизни, в биографию. Превращением вина в воду.
Что бы или кто бы они ни были, они неправда. Та, которую реальность, победившая все другие реальности и воцарившаяся на земле, признала единственно реальной. Себя признала. А ее материал и продукт единственными годящимися быть материалом и продуктом биографий. Фактами. Факты – денежные знаки, дензнаки, деньзнаки этого мироустройства. Этой реальности. Этой неправды. Прилети с ними на луну, они туалетная бумага худшего качества.
Правда – в другом измерении жизни. Опыт ее есть у каждого, но считается необсуждаемым, никому не нужным, как бы стыдным. Если какую жизнь и имеет смысл описывать, то только ее. В ней нет фактов, от них остались ярлычки и обертка. В ней цену имеет желание, а не то, удовлетворено оно или нет. И влюбленность – а не отвечено на нее, или оставлено без внимания. И опьянение – а не исполняются ли его грезы. И привлекательность как таковая, и тоска. И утраты – прежних желаний, влюбленности, мечтаний, прелести, печали – все равно справились мы с ними, или они неутолимы. Есть они, или отняты, они одинаково действительны и призрачны. Они – туман над утренней рекой после вчерашней дневной жары и ночной прохлады, колышущийся нелепо и таинственно. Мелкодисперсный бисер, мечущийся сияющими хлопьями в самолетном иллюминаторе.
Цели их снижаются и возвышаются, содержание загрязняется и очищается. Но материализуются ли они, или остаются бесплотностью – не имеет значения. Их метафизичность предпочтительна, однако физическое воплощение, хоть и утяжеляет работу души, не извращает сущности. Так или так, они могут стать поступками, но не могут – фактами. Поскольку они – то, что нельзя использовать. Что, использованное, превращается в обладание, услаждение и философию. С которыми мы привыкли выходить к людям, выносить напоказ. Наши лозунги. Наши рекламные щиты.
У того, что паркет в квартире, в которой я живу сорок лет, набран местами плотно, местами не совсем, и там, где есть щели, они забились симпатичной мягкой пылью, – вид правды. Бытовой, строительной, но это не правда. И что прошлой осенью я в своей комнате ел дыню, и семечко упало в одну из щелей, и я не стал вынимать – тоже только вид. И что этим летом сосед сверху залил меня водой, пока я жил в деревне, – тоже. Все это милицейский протокол, инвентарная опись, а не неудержимая лавина каких-нибудь четверть девятого в каком-то черном метельном ноябре, когда, лежа под одеялом, видишь, как открывается дверь и в нее проскальзывает мреющее пятно с пылкой кровью под кожей и разогревает тебя куда стремительней и куда жарче, чем ты надеялся, и, разогревая, выпрастывает из темноты свою белизну, пока не становится различимо до малых черточек. Каких-нибудь без десяти семь апрельским дождливым утром, у шестилетней дочки тридцать девять и восемь и читаешь ей «Мцыри». Пышно говоря, это не сногсшибательные струи мгновений, часов и сезонов, через чей ревущий на порогах поток я, готовый к худшему, пытаюсь провести свой плотик, не перевернувшись, а архив оплаченных счетов, подшивка этапных эпикризов.
А вот что я после трех месяцев каникул вошел в конце августа в квартиру и посередине комнаты лежала желтая, тонкого аромата, с подсохшим уже, уходящим в пол стеблем, идеально спелая дыня «колхозница», – правда восхитительная. И, само собой, бесспорная.
Ну, могла лежать – какая разница?
У реальности, которая узурпировала звание невыдуманной, эта правда вызывает отторжение, холодное безразличие, смех. Но подлинная жизнь, со всеми ее перипетиями, изломами, катастрофами, – она.
Жанр написанного на этих страницах – вещица. Через е и через ять. Пустяк, вещдок, регистрирующий отзвуки вещего. Все три части: история о дедушках, реках, девочках, насекомых, раешная пьеса, и заключительное эссе суть одно. Все три можно просто читать подряд. Все три можно разыгрывать на сцене как единое действо. Все три одинаково существенны и эмоциональны, рассудительны и иллюстративны: собственно мемуар, театральная полупритча и, так сказать, минус-биография. Авта, Био, Граф и Фия – тоже бездействующие, действующие и сильнодействующие лица, только не драмы, а балета. Как и сами Мемуар, Травма и Автобиограффия.
Я упустил свою биографию. Мемуар задушил ее, после чего вампир власти выпил из мемуара кровь. Кровь моей биографии – мою кровь. Я упустил ее – и как бы я хотел, чтобы это воистину так и было! Чтобы я прожил жизнь, не удостоившись биографии. Жалкой, общепринятой, неподвижной, мертвой.
Отец
(1902–1976)
* * *
Моего отца звали Генрих Копелевич. Не самое привычное для русского уха имя-отчество. Именно поэтому он всегда настаивал, чтобы его произносили правильно, даже оговаривал как условие общения: дескать, сочетание не самое легкое, так что потрудитесь, пожалуйста, правильно произнести. Мы сняли дачу в деревне на Волге, добрались до места, расположились, отец говорит хозяйке: для вас, возможно, прозвучит необычно, но имя мое Генрих, а по отчеству я Копелевич, прошу вас именно так ко мне обращаться. Хозяйка повторила, пожалуй что с испугом: «Генрих. Копелевич. – Помолчала и спросила: – А можно я вас буду звать просто Осип?»
Его родные четверо братьев и сестра были Карловичи. Мне в детстве объяснили, что дед жил в Польше, а там два имени не редкость. Копель, мол, было еврейское, а Карл – польское. Через много лет мне пришло в голову, что, может быть, чиновник, переписывавший метрику или паспорт на русский манер, попросту прочел латинские буквы «Kopl» как славянские «Карл».
Родился отец в польском местечке, в 1902 году. Почти сразу семья переселилась в Лодзь, а в Петербург – уже когда он был подростком. Польский язык он помнил и, так сказать, скучал по нему. Какие-то фразы, поговорки, стишки произносил, какие-то песенки напевал. «Място Луджь, място Луджь»… Когда Польша обосновалась в соцлагере и в книжных магазинах «стран народной демократии» стали продавать польские книги, он купил одну и около месяца с удовольствием читал, некоторые пассажи вслух. Какую, не помню, помню только, что начиналась описанием склада, где стояли «бочки з кисвой капустой». В 1939-м место его рождения после очередного раздела страны, на этот раз между Гитлером и Сталиным, отошло к Белоруссии.
Его отец умер в 1918-м, сорока лет. Детей вытянула мать, полуграмотная, говорившая с акцентом, властная женщина. Ее я помню. По семейному преданию, когда я родился, она подошла к корзинке, служившей мне колыбелью, вгляделась в меня лежащего и произнесла: «Будет академик».
(Я, между прочим, об этом вспомнил, когда была учреждена так называемая «American Pushkin Academy of Arts’ и меня известили, что я являюсь ее членом. Я осторожно поинтересовался, а кто еще… Роберт Де Ниро, Лучано Паваротти, Софи Лорен, Майкл Джордан, Пеле… Я, уже подозрительно, спросил: а из наших?.. Белла Ахмадулина, космонавт Леонов, адвокат Падве, Виктор Шендерович… Тех и других набралось с полста. Я одному, с кем с юности приятельствовал, позвонил, он говорит: а что тебя смущает? Вступительных взносов не просят, исключительно почет и посулы в дальнейшем собираться то в Париже, то в Мадриде… В общем, торжественно, с шампанским выдали нам удостоверения за подписью президента – москвича, эмигрировавшего в свое время в Штаты, которого вся затея и была. Цель ее осталась для меня неизвестной. Де Ниро, Пеле и вообще вся иностранная половина, видимо, опоздали на рейс.)
Едва ли бабка моя Соня имела в виду именно такую академическую карьеру, но другой никакой мне за жизнь не представилось. Умерла она в Ленинградскую блокаду, от голода.
Четверо ее сыновей получили высшее образование, один погиб совсем молодым под трамваем, дочь окончила техникум. Мой отец – Ленинградский Технологический институт. Но уже тридцатилетним – происхождение было «из мещан», это лишало права на стипендию. Как и остальные, он работал и учился на вечернем.
Кроме того, кончая реальное училище, то есть на следующий год после революции, он почувствовал сильную тягу к толстовству, прибился к единомышленникам и как минимум два года провел в земледельческой колонии. Колонистам был выделен участок под Москвой, в Тайнинке – сейчас это совсем близко к Кольцевой дороге и набито дачами, а тогда выглядело даже не пригородом – деревней. Община жила исполнением толстовских заповедей: пахала, сеяла, доила коз, строила, заготавливала дрова, обменивала плоды своих трудов на одежду. Их навещал сам Чертков Владимир Григорьевич, правая рука Льва Толстого. Когда отцу подошел срок отбывать воинскую повинность, он отказался по убеждениям, был судим и год провел в Бутырской тюрьме. Работал водовозом, на лошади.
(Когда мы с женой перебрались в Москву и родители первый раз приехали в гости, я по пути с вокзала показывал им наши достопримечательности: метро «Новослободская», Бутырка, Савеловский. Отец виду не подал, только после его смерти я узнал от мамы, что местность была ему не чужая. А не говорили они мне о том давнем заключении, «чтобы не давать лишней пищи антисоветским настроениям». Отец несколько раз на мои диссидентские заявления отзывался: «Ты не знаешь, что значит зависеть от хозяина. Любой социализм лучше». К счастью, я этого не знаю и сейчас, но с людьми «хозяинской» складки в частном порядке сталкивался и удовольствия действительно не получал. И еще. В другой их приезд ко мне забежал приятель, сказал между прочим, что встретил такого-то и тот сокрушался, что арестован N, знакомый диссидент. «Я, – говорит приятель, – промолчал, а сам подумал: чего так горевать? N знал, на что идет. А главное, дело плевое, не больше, как на годик.» Я ему: ты чужими годиками так уж не распоряжайся: сутки хотя бы там проведи, тогда рассуждай… А перед сном отец говорит: вот именно, хотя бы сутки.)
Когда началась война, завод Свердлова, на котором отец работал, был эвакуирован в Свердловск и целиком переведен на выпуск самоходок и танков. Мы вчетвером жили в комнатке в коммунальной квартире, у младшего брата обнаружилась начальная стадия туберкулеза, голод был свирепый: гниловатые капуста и картошка, отцу на ужин ломтик хлеба, остальным – по половинке. У мамы от университетских лет во Франции осталось несколько вещей, довольно ветхих. Отец два-три раза ездил их менять, в деревню. Один свитерок потянул на петуха – как оказалось, такого жилистого, что почти несъедобного. Еще завод нареза́л сотрудникам кусочки земли под городом: весной отец отправлялся вскапывать грядки, а осенью привозил перекинутые через плечо неподъемные мешки, главным образом, с картошкой, но и понемножку моркови, свеклы и редьки, невероятно горькой.
Потом вернулись в Ленинград, комнату нашу, не говоря о бабушкиной, нам не отдали. После нескольких месяцев, прожитых по углам, отец нашел место на заводе «Линотип» – давшем ордер на однокомнатную квартиру в подвале (кухня без окон). Правда, в четырех домах от Невского. Где мы прожили 10 лет. По совместительству он преподавал в техникуме – без большого успеха: студенты, заметив, что он плохо запоминает фамилии, отвечали один вместо другого, плюс однажды из портфеля посыпались на пол сушки, утром вложенные мамой.
На «Линотипе» он занимал должность старшего инженера технического отдела, дослужившись до максимального оклада, 140 рублей. (У мамы, участкового врача, 80. «Честная бедность», ничего общего с бедностью роскошной, которую проповедовал поэт.) Старших инженеров в отделе на сотню сотрудников было два, имя-отчество второго – Зелик Киселевич. Генрих Копелевич и Зелик Киселевич. Если кому смешно, милости просим посмеяться. Но не чересчур, ибо, как сказал у окошка «до востребования» писатель Фридрих Наумович Горенштейн в ответ на насмешки очереди над «Фридрихом» и «Наумовичем»: «Русские думают, что у них красивые имена».
Показателем наивысшего производственного и общественного успеха отца было вывешенное на доске «Передовики завода» его фото. Передовик – противное слово, выдуманное: передовик, задневик. Но и в качестве такового он выглядел самим собой, мало чем отличаясь от себя домашнего, уличного, думающего, отдыхающего.
* * *
Какой он был отец? Что видел, что получал от него мальчик, в результате чего любил, боялся, уважал, критиковал? Ну, например, мы с ним идем из бани вдоль Фонтанки, у арки в так называемый «толстовский» (случайное совпадение: известный в Петербурге доходный дом) двор сидит шпана, кто-то ставит мне подножку, я падаю, отец бросает сумку на землю, компания срывается с места, отец за ними, догоняет обидчика, дает по шее. Я трепещу и горд.
Он прекрасно плавал. Окончил плавательную школу при «Обществе спасения на водах». Бабушка присутствовала на заключительном экзамене: плыть надо было в походной выкладке, в одежде и обуви – сперва нырнуть за «тонущим», обезвредить его попытки утянуть спасателя на дно, затем отбуксировать к берегу. Вторая часть – обычные соревнования на дорожке. «Кроля» тогда еще не было, скоростным был «треджен», ныне позабытый (грубо говоря, английские сажёнки). Но любимый стиль отца был «брасс», безукоризненный.
Он обладал музыкальным слухом и мягким баритоном, пел. Проучился полкурса в Консерватории, бросил из-за нехватки времени. Пел в пол-, в четверть голоса (чаще напевал) шубертовского «Лесного царя», «Сурка» Бетховена, «Что наша жизнь? Игра!» (Германн из «Пиковой»), классические русские романсы. Любимая песня была «Дороги» (холода, тревоги, да степной бурьян). Не любил «Из-за острова на стрежень», «Степь да степь», говорил: «Городской романс – мещанство».
Что он был питомец другой эпохи, выращен ею и воспитан, я осознал с опозданием, уже после его смерти. Например, объясняя что-то, он иногда ссылался на А. Ф. Кони, знаменитого юриста и писателя, непременно (потому что привычно) называя его «сенатор Кони». Я знал, кто это, что-то его читал, но не понимал, что отец говорил о ком-то знакомом, возможно, и лично (пересекались в одном кругу, находились в одном помещении), а не «историческом». Я не видел в отце человека, который однажды прочел «Скифов» и «Двенадцать» Блока как вещи, вчера еще не существовавшие, только что написанные, вчера впервые напечатанные. Он уверенно ориентировался в сиюминутной действительности, он и был ею – для меня, в моем представлении. Для него же она была несколько раз и заметно, чтобы не сказать, решительно, уже поменявшейся. И бессознательно сравниваемой с той, что была прежде – первой, второй, какой там еще. (Я однажды представил себе людей середины 1870-х годов, которые жили-поживали без какого бы то ни было намека на «Анну Каренину», на «Братьев Карамазовых», и вдруг в течение одного пятилетия прочли то и другое в номерах журнала «Русский Вестник»: их элементарно передвинули в иной, изменившийся мир, с теми же приметами, но в новых координатах.)
Пожалуй, только в пожилом возрасте я стал понимать, чтó в мое миропонимание было заложено им. Одна из моих коренных, несдвигаемых за жизнь установок возникла из его рассказа про Толстого (позднее я слышал то же про Чехова), который на чье-то признание о страхе при виде генерала сказал: «А вы посмотрите на него в бане». Когда я летом не то перед, не то после 8 класса окончил «Войну и мир», прочитал от первой страницы до последней и, переполненный, явился об этом ему сообщить, он посмотрел на меня не без иронии и спросил: «Ну, и что, стал ты лучше?» (Я рассказал Исайе Берлину, он мгновенно отозвался: «Он прав. Для чего мы все и читаем».)
Мы шли с ним мимо Летнего сада, встретили его знакомого, про которого я подумал: странный, необычный. Он был высокий, костистый, в то же время выглядел хрупким, старше отца, хотя из их разговора следовало, что они ровесники. Раза два он обратился ко мне, и в самом тембре его голоса присутствовала такая ласковость, которую я ощущал почти физически и при этом видел, что ничего специально он для этого не делает. Когда мы расстались и я что-то про это отцу сказал, он ответил: «Просто он философ… И, увы, пьяница». А вечером к нам пришли друзья родителей, отец рассказал про эту встречу, и гость, университетский профессор, услышав «философ», спросил: «А где он преподает?» – на что отец, на минуту растерявшись, сказал: «Да нет, он уличный философ».
(Кстати сказать, у отца была какая-то чуть ли не нежность к пьяным: упавших он оттаскивал на скамейку, приваливал к дереву, доводил, если человек мог ходить, до трамвая.)
Толстовство было не столько душевной склонностью, сколько наилучшим выражением его душевного склада. Он добивался непосредственного взгляда на вещи. Делал это независимо и упрямо. Считая, что единого мнения о чем бы то ни было у разных людей быть не может, он, если все жаловались на дождь, готов был сказать, что день солнечный, – чем безмерно раздражал маму. Когда Ахматова пригласила моих родителей в гости в Комарово и мы уже подходили к дому, отец спросил меня, любит ли она стихи Есенина, а также сравнение Толстым (а может, Щедриным) поэзии с пахарем, приседающим на каждом втором или третьем шаге. Оба раза я ответил нет. И почти сразу после первых слов знакомства он объявил, что его любимый поэт – Есенин, написавший прекрасное стихотворение «Ты жива еще, моя старушка», прочел две строфы, и что он согласен с Толстым (или Щедриным), что поэзия – это пахота с приседанием. Она на оба выпада произнесла только: «Да-да, я знаю», а когда я проводил их на станцию и вернулся, сказала: «Ваш отец очаровательный человек. Узнайте у родителей, когда я могу отдать им визит».
* * *
Через какое-то время после смерти отца мама отдала мне его дневник. Он вел его нерегулярно, первые записи – марта 1935 года, последние – конца 1975-го. Вот несколько строчек из него.
«О людях мы почему-то думаем хуже, чем они есть на самом деле. Мама как-то сказала мне: «Нельзя быть слишком добрым». Боже мой, разве похожи мы на добрых, разве умеем ими быть?»
«Как часто нас останавливают препятствия только потому, что мы их сами признали непреодолимыми».
«Мы часто и легко (охотно) прибегаем к общим характеристикам, потому что трудно и лень вдумываться в людей».
«За склонность к душевному анализу мы расплачиваемся свежестью и силой наших чувств».
«“Все врут и все обманывают” – вот тот символ веры, с которым мы живем, понимание, с которым подходим к людям, хотя если приглядеться, у самих нет ничего, ради чего стоило бы нас обманывать».
«Стоит поглубже вглядеться в жизнь, чтобы увидеть, что живут люди только потому, что помогают друг другу, хотят они того или не хотят. Этого хватит на всю жизнь и даже больше».
«Работа над собой – Толстой».
«Отсутствие зависти и доверие к тем путям, по которым ведет Жизнь – как легко, как радостно бы жилось».
«Толя свой, но еще не родной».
«В это тяжелое для меня время неожиданно явилось согревающее чувство надежды, что все будет хорошо. Мне трудно писать об этом, но одно я знаю: мне легче и смелее стало жить».
«Суриков».
«Патефон».
«Володя» [брат, был подвержен депрессиям, погиб в блокаду – А. Н.].
«24-я годовщина объявления войны. Какой это был страшный день. Яркий солнечный день, а казалось, упала душная кошмарная ночь. После речи Молотова я бросился бежать на почту, послал Асе телеграмму в Ригу, чтобы она срочно с детьми выезжала. Потом пять лет тревог, лишений и потерь. Как мы только остались живы?!»
«О государстве следует судить по тому, как живет в нем самый бедный его гражданин».
«Теряюсь и поступаю против своего желания и понимания при встрече с такими людьми, как наш директор Иван Васильевич, так как знаю, что во многом зависит от него благополучие мое и всей семьи; и меня томит это рабское чувство в себе».
«Я подвержен панике».
«Честертон».
«Ненависти в мире все равно больше, чем ядерного оружия».
* * *
Отец не попадал в погром, не погиб на фронте, не потерял, хотя на то были все основания, в начале войны семью. Не оказался в ГУЛАГе. Не был выселен в Биробиджан. Прожил жизнь русского интеллигента. Читал хорошие книги, слушал хорошую музыку, время от времени ходил в театр. Хотел побывать за границей – с невозможностью этого примирился. Разделял идею ассимиляции, но не как инструмента отказа от еврейства. В синагогу не ходил, мацу, когда следует, ел. Метафизику предпочитал религии. Когда кого-нибудь хоронил, почти обязательно приговаривал: «Теперь пойдут века».
Его судьба не уникальна, ни на что не претендует, она просто свидетельство. Она свидетельство, ее не надо оценивать. По мне, это необычайно привлекательно – особенно на фоне нынешней общей амбициозности.
Ближайший πD
Во второй половине 2000-х на телеканале «Горизонты» прочно закрепились два еженедельных ток-шоу. По-русски – разговорных зрелища. Оба приглашали на передачу по 5–6 человек из интеллигенции, разной степени ума, знаний и убеждений. Одно вел писатель с именем. Имя волей причудливого сложения обстоятельств и рассчитанно частого повторения и стало основанием причислить его к литературе – единственным, потому что писал он выдуманные вещи в выдуманной манере. Оно же превращало его телевизионное предприятие в чепуху, потому что распыляло все, что говорилось, его постоянными перебиваниями и ссылками на личные впечатления и мнения, которые должны были опять-таки убеждать, что он писатель. Вторым руководил университетски образованный, начитанный, быстрой сообразительности журналист-обозреватель. У него бывало интереснее, встречи и речи другого интеллектуального уровня, который он отчасти и задавал. Но собственное ли его намерение было таково, или канал выдвигал условия, он так активно поправлял и направлял участников, что к концу передачи все оказывались правы: умные и так себе, честные и не очень, патриоты и либералы.
Однажды летом, в деревне, радиомагнитные качества которой позволяли принимать лишь три телепрограммы, все второстепенные, я попал на его передачу «Кто больше способствовал обрушению советского режима, диссиденты или кремлевские либералы?». Я был знаком и до, так сказать, обрушения, и после с двумя десятками, а может и больше, входивших в диссидентский круг. С несколькими из самых известных. С несколькими находился в близких отношениях. Мое суждение о том, кто завалил советский барак, ясное и не допускает сомнений. Во-первых, Солженицын, во‑вторых, Рейган, в‑третьих, «Хроника текущих событий» и особенно Буковский, затем Бжезинский и фильм «Кто-то пролетел над гнездом кукушки». Понятно, что Орвелл с «1984» и Кестлер с «Тьмой в полдень» тоже здесь, да даже и «По ком звонит колокол». И «Тарзан», и все трофейное кино. И вся предсмертная мука всех зеков, и верещагинские штабеля трупов с бирками на ноге, дожидающиеся специальной заполярной погоды, чтобы быть зарытыми. Но мы истории не пишем – а вот о том, как в баснях говорят, прекрасно укладывается в перечисление от Солженицына до «Кукушки». И уж кого там нет ни духа, ни помина, это кремлевских либералов.
Как и «бедственного положения советской экономики». Бедственность бедственностью, барак, что и говорить, иструхлявел, особенно в тех углах, на которые привыкли мочиться, экономя на пробежке по тьме и стуже до дощатого сортира. Может, потому и завалился он без предполагаемого не на жизнь, а на смерть сопротивления и традиционного выдюживания. Cкорее даже с облегчением. Но конкретно завалили его вышеперечисленные.
Экономике у меня, между прочим, тоже есть собственное объяснение. Не крякнуть под весом брони она не могла, это само собой, это даже те понимали, кто ее броней нагружал. Умственное их состояние общему делу как нельзя лучше способствовало, о нем свидетельствует спасительная мера, которую они всем центральным комитетом нашли и развесили лозунгами по стране – «Экономика должна быть экономной». Но вынула из-под колес этого товарняка тормозные «башмаки», сдвинула с места и толкнула под горку всесоюзная стачка модниц, которые, как известно, легкомысленны – и несокрушимы. В один прекрасный день и последовавшее за ним десятилетие появились в обиходе деньги, достаточно большие, чтобы платить сто рублей (месячную зарплату, и не низшую) за пару женских сапог, но все-таки достижимые – настолько, чтобы не пойти из-за этого по миру. Уровень бедности приподнялся за счет приподнявшегося – ровно на столько пунктов, чтобы ухватить сапоги – уровня перенапряжения сил. Примерно в то же время рассеянные в общей массе, как гелий в атмосфере, люди из числа творческих – в искусстве, в делании карьеры, в безделии – взяли курс от жизни, какая она ни есть, к выборочному участию в ней. Об этом поговорим позже. Случайно ли так совпало, или по причинам одним и тем же, только еще не открытым в те дни широкой публике (например, возможно, молоденькие модницы на определенных условиях брали у этих полнеющих людей деньги на сапоги, а тех условия настолько устраивали, что они охотно давали), но если когда экономика и начала приходить в бедственное состояние, то тогда.
Возвращаясь к передаче. Произносить Солженицына собравшиеся на ТВ категорически не хотели. Буковского так и не произнесли. Не было такого – или, скажем, был, но на правах Белки и Стрелки. Милых примет времени, увы, сгинувших в просторах ближнего космоса – кому что сейчас говорят их имена? Солженицына пришлось все-таки выдавить из себя один раз, в дальнем, скороговоркой пролепетанном придаточном на пару с Сахаровым. Типа: …какового, конечно, Альсандр-Исаича отнесем к иномыслящим – в противовес Андрей-Дмитричу, который, конечно, несравненно большую сыграл, да-да, роль, да-да, ярчайший, что спорить, представитель как кремлевских либералов, так и, да-да, этих… Не нужен им был для шоу на заданную тему Исаич: назови его и можно шоу закрывать и объявлять концерт по заявкам. И Буковский не подходил. Какое-то не для круглого стола, не для воротничков от Армани бесстрашие, обзывание райкома партии зоосадом, уходы подворотнями от топтунов, какие-то чудовищные инъекции галоперидола по методе ведущих психиатров, голодовки, обмен на чилийских генсеков. Не к нашим дням все это вело, и никак не смотать было в один клубок ни с кремлевскими, ни с либералами. Так что заменили его на Горбаневскую, просклоняли ее доброжелательно пару раз, однажды совсем дружески назвали Наташей. Жаль, не было самой, могла бы придушить пение с первых нот, пошло бы их представление по-другому.
Я догадывался, кого они кличут крем-либералами: Черноуцана (реальный человек, но как бы и целая порода черноуцанов по классификации Ламарка) и прочих, это само собой; «Вопросы философии», «Проблемы мира и социализма», хитромудро вынесенный в Прагу. Но моего грузинского знакомого в этом списке не ждал. А они – запросто, и не один раз, и по имени-фамилии, и только по имени. Это засветилось, как штамп ОТК: вранье.
Я так и думал с самого начала. Телевизор даже технически, по способу передачи изображения вранье. И чтобы несколько человек, говорящих каждый свое, манипуляциями распорядителя оказались в согласии, вранье. И наконец само сопоставление тех, кого бросают в «воронок», камеру, зону, с теми, кто на «Чайке» пролетает под аркой ворот Кремля, вранье. И все-таки я оставлял процент на сомнение, приличные на вид сошлись господа. Но когда донесся из пыльного, душного, пластмассового чулана телестудии звук его имени, крестьянского, рыцарского, древнего, нежного, я знал наверняка: все вранье.
Но продолжал смотреть. Потому что там оказались двое знакомых мне с давних времен, один достаточно близко. А я был уже, как любили говорить среднекультурные женщины в моем детстве, сильно в возрасте, старик, я мог уже никогда не услышать об этих двоих, если не посмотрю.
К тому же на этих трех каналах в самые последние годы появились еще два ток-шоу, одно с ведущим, похожим на конферансье, и одно мелодраматическое. Приглашенные на них набирались из того же круга, что и на те два. И мне пришло в голову, опять-таки по старости, по слабоумию, по готовности смешивать в одно не связанные между собой вещи, что все эти красноречия по одну сторону стола неведомо как соединятся сейчас. И там будет уже, два умножить на четыре, восемь, а то и больше знаемых мною с давних-давних пор, можно сказать, всю мою жизнь, персонажей. Мое поколение. Что я в последний, может быть, раз с ним встречусь. И прощусь.
1.
Я печень загубил на нашем поколенье.
Строчка – дешевка. Но хотя бы не постмодернизм. На отвращении к постмодернизму я загубил желчный пузырь. А про печень придумал, только чтобы снять патоку-патетику. А также примеряемую на себя мглу, которая очертаниями один к одному судейская мантия. Хитон из реквизита ханжонковского ателье «Русьфильмь».
Потому что, если по-честному, то —
С печалью я смотрю на наше поколенье. Его прошедшее иль пусто, иль темно. Ему и больно и смешно. И матерно грозят ему в окно.Что оно мне? Сплошная чужь. Почти абстракция. Забыть – и думать забыть. А сижу в машине, жду человека – позвонил, что привез посылочку из города Лондона. Машинально взглядываю в зеркальце заднего вида. Пустая субботняя улица, цветочный киоск, и возле него сорокалетний грабит моего ровесника. Ровесник высокий, седой, богемистый. Пиджак на нем на размер больше, как бы накинут, свисает, обшлага завернуты – и волосы густые ветерок туда-сюда колыхает. А сорокалетний в прикиде обыденном типа кэжуал его обхлопывает, тискает, лезет то за спину, то за пазуху. И – чтó мне седой, а выхожу из машины. Просто смотрю. Даю сорокалетнему знать, что смотрю. Метров с пятнадцати. Ровесник мой, вижу, датый, и этим вся сцена, и добродушное невнимание к амикошонским действиям второго, и эти действия и амикошонство, и сам грабеж объясняются. Гоп-стопник замечает меня, круто ко мне разворачивается, быстро подходит, лицо подносит к моему вплотную, и – ась, вась, не понял, что-то хочешь сказать, отец? что-то показалось? чем-то недоволен? С ихней блатняцкой скоростью, и не исключено пыряние ножиком. Или битой по стеклу машины. (Где у него бита?) Или камнем. (Где камень на заасфальтированной улице?) Тут появляется человек с посылочкой. Тот возвращается к клиенту, боковым зрением вижу, что операцию заканчивает удачно, останавливает машину, сажает его, на другой уезжает сам. Открываю посылочку, в ней мои письма к дружку, который в Лондоне, а когда-то был в Ленинграде. Письма лет за пятьдесят, и он их мне возвращает, в зеленом полиэтиленовом пакете «Макдоналдс». Без приписки, без ничего, разве что не с плевком. Лет уже двадцать был мной недоволен. Еще одна встреча с поколением.
Первую с ним встречу знаю только из рассказа старших – матери и тети. На загаженной, тесной, днем детской, вечером подростково-молодежной, к ночи молодежно-взрослой и во все времена суток алкогольно активной площадке на Загородном рядом со Звенигородской, куда с улицы ведут ступеньки вверх – шесть? семь? – сижу я трехлетний с трехлетней же девочкой. На земле, в углу, образованном внешней гипсовой оградой и фанерной стенкой сарайчика, где под замком хранятся метлы, лопаты и грабли. Крепко упираемся друг в дружку смежными боками. Играем, что я муж ее дочери и только что в первый раз вошел к ним в комнату. Она мне медленно, чтобы я ничего не упустил и все понял, говорит: «Дорогой Володя. Посмотри вокруг себя. Запомни раз и навсегда. Все, что ты здесь видишь… твоего… нет… ничего. Запомнил?» Меня зовут не Володя, но мне нравится, что я Володя. Я говорю: запомнил. «Повтори». Говорю: что видишь – твоего ничего. Она объясняет, что это она, мать моей жены, говорит «твоего», а я должен сказать «моего». Говорю: моего ничего. Она: «Раз и навсегда». Я: раз и навсегда.
Через тридцать лет, на столетие Ленина, выпивая в компании, составленной сплошь из моего поколения, и уже не безымянных, как девочка, а половину и сейчас могу вспомнить, я рассказываю историю. Будто бы в пионерлагерь, где я болтался по путевке тетиного профсоюза, приезжал старый большевик, кадровый рабочий, лично знавший вождя революции. И его жену Надежду Крупскую, и самое главное, его тещу Лилиану Крупскую. По его словам, Лилиана, когда они втроем – она, дочь и зять – въезжали в Кремль, сказала: «Дорогой Володя. Посмотри вокруг себя. Все, что ты здесь видишь… твоего… нет… ничего. Запомнил?» И будто бы Ленин ответил: «Никогда, мама, я вам этого не забуду». И в двадцатом году собственной рукой приписал ее имя к расстрельному списку. С мотивировкой «за религиозное воспитание детей».
Я рассказал. В каких местах надо, посмеялись. Не самой истории – не больно она была смешная, – а тому, что я всю эту муру выложил, бесстрашно и вызывающе, как будто мне хоть бы что, а они хоть бы что, бесстрашно и вызывающе выслушали. Через два дня вызывают по телефону на Литейный. Там в коридорах я обнаруживаю опять-таки наше поколение: очень занятых, возможно, даже перегруженных работой моих ровесников. Встречаю, правда, и других, пожилых, седых, но они удивления не вызывают, поскольку они и есть Литейный. Как амуры на лепных потолках Эрмитажа. А что свое мое родимое поколение – вот это неожиданно, не был готов. Свои – хотя и с внешностью такой, что я ни одного из них никогда не видел, но мог. И увижу завтра на остановке, не опознаю. В частности, и у двери кабинета стоит свой, берет мой пропуск, гостеприимно манит за собой внутрь.
Точнее, своя. Женщина. Но такая непривлекательная, что пол просто ни при чем. Кургузенькая, личико куда-то вбок и сморщенная. Однако одного с нами всеми поколения. Начинает, как всегда, от Адама. Сказал бы, и Евы – если бы, повторю, не была такая, судя по Рубенсу и даже аскетичному Мемлингу, чужая ее внешности. Наконец, подъезжаем к Ильичу и его чувихам. Вот у нее лежат две телефонограммы – показывает мне, – что я выступил с особо циничной клеветой на самое святое. Было?.. Я говорю: волынить, как вы, не собираюсь, отвечаю мгновенно и легко: не было. Не выступал, не клеветал, а почти дословно пересказал воспоминания соратника Ленина, рабочего-путиловца, который сообщил мне, как и всей пионерской дружине, такой факт… Имя-фамилия соратника?.. Не запоминающиеся, говорю, лучше вам справиться в архиве пионерлагеря… Почему вы утверждаете, что факт реальный?.. Привык доверять старым большевикам… А если он по возрасту выжил из ума?.. А Лилиана, говорю. Вы знали, что мать ЭнКа Крупской зовут Лилиана? Я, например, не знал.
И в этот момент меня посещает мысль: а что как эта тетка – та девочка с площадки на Загородном? Ведь на самом-то деле это она рабочий-путиловец – мною в таковое звание признательно возведенная. Ибо из ее уст принял я универсальную мудрость тещ, обращенную ко всем, какие есть, Володям. Мама и тетя описывали ее сусально: оборочки, бантик. Выходило милашечка – в моем воображении. У детей все дети – дети. Детки, с картинки. Мымр вроде моей следовательницы среди них не бывает. А может, моя девчуша как раз в эту сторону склонялась? И это она и есть, только никто ее трехлеточный афоризм не заметил и, как мне, не напомнил. И в данную минуту по ее кабинету мечется клубок призраков, который не распутать никому на свете, настолько они друг о друге не догадываются.
Девчуша.
Какая-то ею услышанная от кого-то мать какой-то дочери.
Сама, значит, эта дочь.
Дочерин Володя.
Мои мама и тетя.
Старик Финн из «Руслана и Людмилы» в окружении кадровых рабочих.
Ленин с Крупской.
Небывалая Лилиана.
Два невыявленных и тем самым не пригвожденных к позорному столбу осведомителя в составе выпивающей компании.
Вся эта компания.
Я, врущий как бог на душу положит; изовравшийся до того, что не только этот мордоворот напротив, но и сам не знаю, чему верить, чему нет; с таким рвением заботящийся о возможности врать дальше, что до сих пор не назвал и не собираюсь своего имени.
И наконец мордоворот, который запросто может отправить меня к Макару и дальше.
(Стало быть, и Макар.)
(И телята.)
Само собой, и все наше поколение, в виде многоголового кольчатого пресмыкающегося взятое напрокат из мультипликационной анимации. Но оно не в счет, поскольку его реальная телесная ипостась перешибает его же призрачную.
2.
Теперь надо объяснить, почему я решил эту историйку так вывернуть и подать и почему на людях? Объяснить якобы читателю, а если по-честному, то себе: автору и действующему лицу. Потому что меня это интересовало с самого начала и интересует до сих пор. Первое время причины я находил по крайней мере близкие к тем, какие казались мне настоящими. Хотя, какие они, эти настоящие, я не знал никогда. Знал только, что такие есть. Потом ответы стали все больше от них отдаляться. И на сегодняшний день пришли к единственному и, не ручаюсь, что верному, умозаключению: что жутко скучно стало. Так смертельно скучно, что вот и вывернул и публично огласил. Чтобы четче стали очертания жизни.
Была жизнь. Как у других, так и у меня. Все больше похожая на природу. С примесью культуры, тоже все больше походящей на природу. На искусство не похожая ничуть. На призванную к поступкам, битве, открыванию земель ничуть. Больше всего похожая на время. Было пять минут второго, стало шесть, был день – повечерело. Иначе говоря, что я попал в лапы всемирного заговора по замене жизни на лабуду. Что появление на свет таких субъектов, как я, недосмотр. Не затем гоминес эректи и сапиентис выживали и осваивали пещерный век, чуму, столетние войны и переселение народов, чтобы пренебречь тем напрашивающимся выводом, что всего этого надо избегать, как пещер, чумы и так далее. То есть наглотаться транквилизаторов, учредить покой, уют и необходимыми усилиями поддерживать этот порядок вещей. Не затем же этот порядок был в конце концов более или менее достигнут, чтобы из-за того, что мне скучно, я осмеливался его подрывать. Если мне позарез нужны поступки, передо мной открыта промискуитетная толчея; если битвы – помощь сражающейся Анголе и секция самбо при жэке; если странствия – путевка на озеро Иссык-Куль, а то, глядишь, и до Болгарии.
Это – постигшему стихотворение Верлена «Хандра» в переводе на русский. А одолевшему в оригинале, тому, видимо, Афинские ночи, Иностранный легион, Кения сафари. Мне ни этот набор, ни тот не подходил. Свободное всемирное не подходило совершенно так же, как земляночное советское. Сам по себе выбор не устраивал – что надо выбирать из предлагаемого. Скука объявляла, что ее не избежать. И день за днем ужасно злить меня вот это стало – как сказал поэт, непререкаемо лучший из всех, но не Верлен. Я решил рискнуть – слабенько, а все-таки. Вечеринка на столетие Ленина и доконала.
Помнится, что в гости нас, граждан, на него, столетие, стали звать минимум за год. Газеты, радио и телик. Дескать, начинаем справлять. Это вам я, Брежнев, говорю и я, Суслов, удостоверяю, и Политбюро в полном составе присоединяется. Что загодя – две причины: грандиозность события – и обучение широких масс тому, как о нем говорить. Появление на свет в некоем частном доме в Симбирске лысенького, как в будущем, и, как в будущем, измазанного кровавой слизью еще не существа, уже не эмбриона общепринятым, эстетически, идеологически и воспитательно не самым привлекательным, хотя самым забористым путем – что и говорить, в данном конкретном случае оказалось не рядовым. А столетие, прошедшее с того дня, и прямо небывалым. Так что рассуждать о нем абы как, на уровне своих умственных сил и умеренного чутья, индивидуумам, действительно, доверить было нельзя.
Я – и знаю, еще миллион человек – имел о случившемся и главном герое случившегося кое-что сказать. Хотя и понимал, что если личность близко к реальной так-сяк опишу, то величину, а главное, цену явления, которое она породила, включая разнообразные события, мысли, массовые и частные сдурелости и так далее вплоть до незамысловатого хеппенинга – безусловно запорю. Однако вместе с еще миллионом желающих может и удаться.
Газеты же, радио и телик намерение, если у кого возникнет, открывать рот отменили, и точка. Да до рта даже и подумать, да и не подумать, а этак думануть разок – отменили. Обо всем и без исключения. Что тебе в голову придет – заведомо не то чтобы запрещено, а не годится. И какой он был революционер – уж казалось бы, восхитительный, воплощение всех революций – делиться не лезь, сообщать не вздумай. И что мужескаго полу – Инесса Арман, Фанни Каплан (Инесса! Арман! – какие звуки! Фанни – фам фаталь, с револьвером! шарман!) – не заикнись. А хоть и человечески невинное, например, что он со своим голеньким черепом, бровками и картавостью – милашка: сразу и навеки забудь. Или что брутальный. Или неопределенно: фрукт. Забудь немедленно. И каков он смерти брат и супруг, Франкенштейн и Дракула, и Захер Мазох, и Маркиз, сочиняемые судорогой западных литературных фантазий, а у нас как живой, на кинопленке, и целлулоид не вспыхивает – низзя, в списке можного не перечислено. В общем, ничего не перечислено, ни единого пункта из сферы реальной, а только портреты нечеловеческой улыбки, четыре из тридцати трех букв алфавита, чтобы сложилось немыслимое андрогинное имя, иногда кепка неизвестной фирмы. «Стетсон»? – ни-ни, проглоти язычок.
И к этому погода. А какую бы вы хотели иметь протяженностью в год – начинающийся его январской смéртюшкой (павшей в аккурат на Кровавое воскресение), февраль чернил и плача, муторный март, апрель жесточайший (это еще не сто-, это подступы к 99-летию), потом майские, потом лето на садово-огородных (с газетой какого-то года, разрезанной на фрагменты под размер тряпичного мешочка в будке сортира), трехмесячный осенний дождь, шестимесячный грязный снег – какую?! А родился он, вдруг запевала на тыщу голосов школа – в апреле, именно в апреле, весною, именно весною, когда сердца людей добрее (тут помню нетвердо) и юнош полн голубизною (как-то так). Во всеуслышание. И что этот апрель разрешалось выговаривать, само по себе было пугающим, мрачным, депрессивным. Свет-окрас дня конкретно двадцать второго числа не запомнился, но в памяти остались низкое небо, сырость, если не мокреть, промозглый холод. И анекдот: беру журнал – Ленин, включаю приемник – он, на всех волнах, телевизор – во всех видах, утюг – Ленин. (Юмор механический, шутка-пичужка в слове «утюг», смешное слово.)
И хорошенькая, а вглядеться, так и красивая, женщина тридцати лет по имени Рогнеда, с которой у меня ничего, кроме того, что среди соображений постоянно присутствует то, что у меня с ней ничего, приглашает в компанию, которая собирается как-то, думай сам, отметить столетие Ленина. Актриса. Заподозрить в провокации и попытке подвести под монастырь невозможно так же, как в правоверности. Спросить: вы приглашаете или кто? – удерживаюсь вовремя, за секунду до ее разъяснения: приглашаю я, но не как заинтересованное в вас лицо, а по поручению компании, остановившей на вас внимание в числе еще дюжины отобранных. Явно реплика из какой-то постановки, мне не известной, – которая, возможно, к этой дате и осуществляется, и я таким образом становлюсь ее персонажем, это пустяки, а что интересней, и сорежиссером. Я решаю, что пойду, хоть ничего от такой затеи не ожидаю, – и найду момент рискнуть.
Компания была – умная. Умных. В том смысле, что если встречались прелесть лиц или стройность фигур у женщин, то в первую очередь чтобы продемонстрировать с неопровержимой наглядностью, что то и другое второстепенно по отношению к интеллектуальности их вида. Так же как привлекательность и элегантность или, напротив, безразличие к одежде у мужчин. Второстепенны настолько, что мысль об ухаживании или о попытке заинтересовать собой казалась прежде всего нелепой. Большинство я знал – одних шапочно, других понаслышке, а кого не знал, примерно представлял, кто и откуда. Ленинград – что вы хотите? Москва, хе-хе, деревня, а Ленинград, гм-гм, соцгородок при Медном всаднике. Был и «специальный гость», он же, понятно, гвоздь программы, некто известный, москвич – имя и из какой сферы называть не стану, а то выйдет сплетня. Как ни остерегайся, каких ни делай оговорок, непременно выйдет. Вел он себя деликатно, по крайней мере в начале, и это к нему располагало – потому что в нем была яркость, на нем лежала печать одаренности, а главное, его выпускали за границу. При почти тотальном нашем – остальных – содержании в границах СССР. Если кто-то когда-то и доезжал до ГДР или ЧССР, то таким, как приглашенные сюда, в просторную комнату с окнами на Неву возле Тучкова моста, с карандашным этюдом Александра Иванова, картиной Татлина «Композиция №» и несколькими рисунками Тырсы на стене, хватало вкуса об этом не упоминать.
Был накрыт стол, холодноватый, с бутылками темными и бутылками прозрачно-светлыми, с закусками, на вид простоявшими лишний час и заскучавшими. Начали запросто и легко, повода, собравшего компанию, не касались. После двух тостов проходных москвич заговорил в домашнем тоне, подчеркнуто скромно и подчеркнуто вежливо о пассаже из «Крейцеровой сонаты», ничем не выдающемся и этим как раз тронувшем его. Что-то об удовольствии, которое доставляет младенец телесной трогательностью, когда непроизвольно двигается лежа на спине. Перевязки – так называются складки на его пухлых ручках и ножках. Толстой этого слова не употребляет, чтобы не пересластить, но наш спецгость и волей случая собутыльник, в данную минуту вспоминающий, этой нежности на грани сюсюка не стесняется. Особенно в связи с сегодняшней годовщиной. Ему приятно представлять себе, как сто лет назад молодая мать смотрела на новорожденного и млела, угадывая пунктир намечающейся перевязки. Вот, собственно, и всё, что он хотел бы не забывать, когда думает о диктаторе пролетариата то, что он о нем думает.
Лица затуманились, глаза подернулись размышлением и смущением, атмосфера на миг словно бы пошла слоями. Потом все выпили, не вместе, а по очереди, каждый сперва обдумав. Я тоже. Отдал себе отчет, насколько послеродовая картина, нарисованная моим воображением, не походила на его, и выпил. И остро (может, и излишне остро) почувствовал, как свободен от пристрастий и устоявшихся штампов его характер, как нацелен обнаружить положительное, как не упускает из вида самый малый его знак – и как привычно повернут на худое мой. Злобствуешь? – спросил я себя. А он нет.
Как хотите, а я, сказала через некоторое время женщина, судя по некрасивости, видимо, очень умная, никак не могу отказаться от их говорящих имен, его и брата. Владей Миром, Владимир, – и Стой на Страже Людей, Александр. При фамилии вероотступниковой Иулиановы. Если это заметила я, убогая, то едва ли не обратил внимания просвещенный папаша Илья Николаич. А с ним и молодая мать – как вы ее патетически обозначили.
Взяла и произнесла. Вроде меня, злодейка. Но, слава богу, не я. И все разом заговорили, даже решусь сказать, загалдели. Предопределение вздор! Сатана! Но ведь сколько сделал! Звезды, схождение звезд! Где правда, нет добра! Где нет добра, то неправда!.. Как вдруг москвич легко поднялся, легко прошел к проигрывателю, поставил пластинку, подхватил Рогнеду, повел. И не как вообще подпевают, а точно в мелодию, какой-то нотой так залезая в душу, что я, слыша, знал, что никогда мне так не удастся. Потянул негромко и опять-таки легко: «Какой-то пьяный барон, ступая нежно как слон». И этого, всего вместе: перевязок, подхода, слуха, тембра голоса – не мог я ему без сопротивления уступить. Рогнеды? Ну да, и ее. Ее – как олицетворения его неоспоримого превосходства. Встал, зацепившись за ножку стола, проплелся намеренно неуклюже к некрасавице специалистке по именам, криво склонился, поднял и потащил – тоже… Тоже что? Заныв, завыв, уже нарочно не в лад: «Какой-то пьяный барон – весь извиясь как питон».
– Я рад с вами познакомиться, – сказал он, став ко мне вплотную, едва наше танго четырех кончилось. Негромко, так, чтобы слышал только я. – Я не могу сказать, что слежу, но всегда обращаю особенное внимание на ваши стихи, когда они попадают мне в руки. Я ценю весь ваш питерский круг и, мне кажется, понимаю ваше направление.
Ничего я ему не ответил, а только утвердительно качнул головой. Допускаю, я был рад даже больше, чем он, но не признаваться же в этом. Тем более не бубнить же светски «я тоже рад». Поколение стоило мне испорченной печени, и если кто-то улучшает его качество, оказываясь так хорош, как он, то дай-ка я позабочусь о загрязнении среды, восстановлю собой пэ-аш.
– Вы замечательно спели, – все-таки сказал я. – Наверно, врожденный слух.
– Вам спасибо, что сбалансировали мою салонность и красование. У вас врожденный нюх. Мне говорили – на фальшь и дешевку. Ваши поклонники в Кракове. Месяц назад был в Кракове. Пел в молодежном клубе, подошла пара, говорила про вас разные лестные слова.
Это он все выдумывал. Обо мне говорила Софья Осенка, «осочка-теософка», она мне написала. Письмо шло весь этот самый месяц, пришло позавчера. Москвич за это время слетал в Мексику и в Таиланд. Все его путешествия и встречи неброско, без одобрения, но со значением, которое непонятно что значило, освещались в газетах. Я огорчился из-за того, что она что-то там про меня ему болтала. Из-за того, что подошла, что они стояли, мололи, улыбаясь, чепуху, что он теперь может, болтая со мной, на это сослаться. Что рядом с ней был Янек… Яцек… Я столько раз метался между этими именами и, как правило, ошибался, что вообще перестал его называть или, неизобретательно шутя, называл по-польски в третьем лице «пан»… Огорчился, что ее письмо ко мне наполовину было посвящено встрече с советской звездой.
Звезда смотрел на меня. Внимательно, ласково. Возможно, он говорил мне приятные вещи искренне, возможно, говорил их всем, потому что приятное и говорящий приятное всем приятны. Возможно, взгляд его значил: огорчайся тому, что тебя это огорчает. Загляни в свою мелкую душонку и огорчись.
– Да, я был в Кракове! – сказал он в полный голос. С вызовом, неизвестно кому предназначенным, неизвестно на что ответом. – Я говорил с краковским кардиналом, знатного польского рода, в присутствии самого примаса. Еще там был невзрачный, как тень, епископ – чей политический вес перетянет их обоих. Все трое мои поклонники. Моих стихов, поэм и опер. Я читал им и немного пел. Я сказал им про Ленина то, что сказал вам. Оттуда я полетел через Париж в Мексику. Меня пригласил промышленник, его капитал уже сейчас больше, чем у Поля Гетти. Через двадцать, через тридцать лет он будет номером один в мире. Я прожил у него неделю, он сказал: слетаем на неделю в Бангкок, у меня там дела, а еще у меня там сеть массажных клубов, я хочу расслабиться. Мы летели вдвоем в огромном салоне в половину его самолета, с челядью в другой половине. Он хотел разговаривать, всю ночь. Посередине его фразы я растянулся на диване и заснул. Таи – глухое место, плохо освещенное. Там можно наткнуться на кого угодно. Я наткнулся на тех, кого рассчитывал увидеть. Я люблю рисковать. Мои знакомства рискованные. Везде – но больше всего здесь, в СССР. Кто не рискует, не пьет шампанского.
Он схватил бутылку, мгновенно раскрутил проволоку, ловко, в умеренном свисте и тихом хлопке спустил давление, управился с пробкой, разлил по бокалам, поднял свой. «Ну! Риск благородное дело! Иметь дело с неблагородными людьми – благородное дело. Не отказываться от Ленина в компании благородных людей – риск. Зато пьешь шампанское. За Ленина – русское, царское, зверское воплощение риска! Кто что имеет сказать? Кто присоединяется?» И выпил.
Я открыл рот и рассказал свою историю. Но сперва тоже выдернул со стола бутылку – такую же, непочатую. Долго возился с проволокой, в результате сломал ее. Пробки не удержал, выстрелила, залил стол. «Это же “Салют”», – сказала моя некрасавица-диссидентка. Я посмотрел на этикетку: действительно, газированный сидр. Общий смех, немного более заливистый, чем стоил мой конфуз. Всё вместе – именно то, что мне было нужно и чего безнадежно хотелось. «Тещу Ленина звали Лилиана», – начал я и благополучно закончил расстрельным списком. И глотнул из горлышка омерзительной жижи.
– Я сейчас, – сказала звезде Рогнеда ясным полным голосом, так что заодно и всем, – как раз сыграла Крупскую. Надежду Константинну. – И посмотрела на меня. И мне стало полегче. Вообще – и как отвергнутому ею.
3.
И хоть бы кто из них, из поколения, когда-то заплакал! Из нас. Никогда. Потому что то, ради чего следовало жить, была реформа.
Поколению не ставят целей. Если оно само себе не ставит, то живет, как живется. Как выйдет. Интеграл от личного эгоизма по максимальной его, эгоизма, остроте крысиных зубок. Но попадаются и такие, которые ставят. Хотя бы намечают. Сперва полувынужденно – потому что не только сами, а сообща. С властью, с народом, с «международным положением». Победить Наполеона. Тут и своя воля, но не меньше и высшая. По-лицеистски проводить тех, кто верхом и пешком уходит его побеждать. Вдохнуть республиканской марихуаны. Дозреть в родных палестинах. Выйти на Сенатскую. Задохнуться в петле, выжить в Сибири, вернуться стариками. Стать поколением декабристов. Или нестерпимо страдать от вида чудища обла, озорна, огромна, стозевна и лаяй. Стать поколением разночинцев, «Народной воли», интеллигентов.
Я мог наблюдать два поколения, отчужденных от меня, стоя с ними бок о бок. Родительское – и русской эмиграции. У отцов-матерей была цель – сама собой предъявилась, как ледниковый камень, высунувшийся посреди степи, – не предать принципы. Не сделать чего-то, за что могут не подать руки. Это немало, когда в Кремле Сталин, и на Лубянке Сталин, а на остальных улицах сталинцы! Когда уже непонятно, кто может не подать руку, а все равно предать нельзя. Когда рукой только придушивают, прибивают, наводят дуло «парабеллума», а все равно надо кучковаться с теми, кого, а не кто.
Послереволюционная эмиграция имела цель – и отвернуться, отмахнуться от нее не имела возможности – сохранить образцы России, какой они ее узнали, в ней родившись. Хотя бы как павшего, закоченевшего, потом забальзамированного и выставленного в зоомузее мамонта – чтобы, когда доберутся до воскрешения по ДНК, было из кого выщипнуть клетку. Кто на пике предвоенного террора, кто сразу после войны, покатили из Парижа и Шанхая домой. Были высланы, сосланы, разбросаны по тюрьмам-лагерям, вышли, кто выжил, и стали за чаем говорить с нами, советскими, голосом, тоном и в ритме, которых мы никогда не слышали. Ссылались на имена и мысли, которые мы откуда-то знали и понимали, но никогда не употребляли. Глядели на нас внимательными, предупредительными, спокойными глазами, выражение их лиц было несуетливо, жесты и движения медленнее наших. От них исходило некое органическое, как внешность и походка, благородство.
Их было мало, как перчинок в супе – придающих, однако же, всей кастрюле запах и вкус. Поколения всегда мало, и трудно объяснить, почему оно называется по Лунину – декабристов, а не по Булгарину – доносителей. Почему пленников ГУЛАГа, а не героев НКВД – со штатом осведомителей, а главное, с забитым стадом раз навсегда сдавшихся и даже перешедших в сочувствующие, в разы превосходящим ГУЛАГ. Почему диссидентов – по Буковскому, а не пленников ГУЛАГа – по братьям Вавиловым.
Но наше – как многие, как большинство – было себялюбцев. Наше хотело – если суммировать атомарные желания и вывести общую формулу – одного: чтобы нам было получше. Цель жизни – реформа. Нужна была реформа, она изменила бы положение вещей в желанную нам сторону. Как-то так, что причин увлажняться глазам не осталось бы в природе, никаких. Надо было сосредоточиться на реформе, а не раскисать, не расстраиваться до таких состояний, чтобы лицо морщилось и по нему текли слезы. Из-за того, что возлюбленная не любит. Разлюбила. Полюбила другого. Из-за того, что одинок… Совсем один. Никого. Ни единого близкого. Из-за того, что срывается. Не получается. Что имел, того лишился. Получил большее, дороже, но того не вернуть. Что умер – кореш, ровесник, тезка, больше ты, чем ты сам. Одна лестничная площадка, одна дорога до школы, один класс, вместе ездили в Озерки и однажды в полсотне шагов от трамвайного кольца, в одну минуту, в пяти шагах друг от друга, нашли два совершенно одинаковых, тугих, тяжелых, с картинки, красно-коричневых боровика. Ты ему рассказывал «Мустанг-иноходец» и он тебе «Мустанга-иноходца», потому что вы читали одну книжку в один и тот же день. И когда фэзэушники прижали к стене – тебя – бросился отбивать, а когда в другой раз его, ты убежал, и твое предательство сблизило вас больше, чем его героизм. Ближе не бывает, а он умер, его сшиб грузовик, пьяного, нет его. И Высоцкий умер, брату крикнуть успел пособи, зареветь бы тогда. Или через два дня, через месяц. Ни, ни, ни, не распускаться. И Кассиус Клей – порхал как бабочка, жалил как пчела, а теперь развалина. Но не сдается. И что не сдается, это и невыносимо. Тянет разрыдаться. Ни в коем случае! Реформа переменит жизнь по-нашему. Так, чтобы и на ум забыло приходить, что из-за чего-то можно плакать.
Это, а не эпохи, не традиция, не катаклизмы, и вылепляет, выковывает, вызывает на публику, выбрасывает в мир поколение. Новый, тонкий слой вселенской снеди. Из теста слишком жидкого, из замешанного нельзя круче, из пышно взошедшего, из рано опавшего. Полуфабрикат. Обугленный сухарь. Маца в подражание манне небесной. Еще сотня ангстрем, в лучшем случае микрон, поверх уже обскребанной, надкусанной, сложившейся, слежавшейся лепешки человечества. Поверх – чтобы закрыть то, что within, и чтобы приготовить себя уйти within. Это английское слово – «внутри, в пределах».
(Пока все это в моей голове – точнее: во мне во всем – посередине ночи – когда проснулся, тьма, и сна нет – одно проносится, другое проползает, а я проносящееся притормаживаю, а проползающее подгоняю, со двора раздается короткий мужской крик. Я, чтó какие ночные крики значат, лучше-хуже себе представляю: этот не куражный, пьяный, не с горя, не для себя и не для кого-то, а реактивный, плохой. Утром асфальтовая дорожка с мыском детской площадки огорожена милицейской красно-белой лентой, уже полуоборванной, треплется. Стоят бабули. Выхожу – ребяты напали на такого в ваших годах, а он возьми помри. Прямо на месте.)
Английское слово «в пределах». Тонкая вещь. Например, Софья в состав не входила, была вне. Четыре года в одних и тех же аудиториях, на тех же скамьях, впритирку. По одним и тем же торцам-морцам, мостам, через одни Невки, в одних трамваях. По одним паркетинам Эрмитажа и Русского, ступеням Филармонии, за одними столами, с Твиши и Тибаани в одних стаканах, с два-восемьдесят-семь и четыре-двенадцать и безалкогольными котлетами по шесть копеек. А не входила. Была не за, а вне. Все в ней, от и до, и она вся, от и до, – вне. Тоненькая (осочка), грудки ни меньше ни больше (меньше не надо, больше из другой оперы), и французское платье. Два: с длинными рукавами зеленое для зимы и мандриановски цветное на бретельках летнее. Как у Эдит Пиаф. Не парижский шик, а нормальное французское для всех – как Сена, Нотр-Дам и двенадцатый аррондисман. Чуть-чуть длиннее, чуть-чуть шире и одновременно ýже, чем ждешь. Которого как такового и нет, но под которым она, Софья, и есть. Которого как такового и нет, пока та, которая под ним, не станет его снимать. Которое для того и есть, чтобы она его снимала. Чтобы эти сто-двести косо вырезанных и гладко сшитых грамм ткани упали на пол и валялись как ничего собой не представляющие, но без которых та, что была под ними, представляла собой что-то совсем другое.
Все это перед Яцеком-Янеком. Или перед Жюлем-Жимом, или и не знаю, был ли кто, перед кем, – мог ли быть такой. Все это в моем воображении, холодном и горячем. Но не передо мной. Передо мной: с Новым годом, привезуа́ тебе Ль’ом револьтэ («л» и «в» невообразимой пленительности), ты же ль’ом револьтэ, мы же экзистенциа́уы, так или не? Передо мной: муй ойчец теософ, не часто среди поляков-мужчин («теософка»). Передо мной: сейчас Яцек (Янек) подойдет, ты не против?.. Я не против. Я составил пропорцию. Польша: СССР = Европа: Польша. Софья – европейское наше. Софья находится здесь, чтобы мы узнали обособленность нашего поколения от нашего европейского. Если мы такие же (станем или суть), реформа ни к чему. Тогда можно пойти в кино третьим с осочкой-теософкой и Янеком-Яцеком, проводить их до общежития и, если хочется, плакать, плакать, всхлипывать всю дорогу домой. Тогда можно разнюниться, когда Ленинград-Варшава тронется и они замашут руками из-за спины проводника.
Научитесь произносить within. Уифзыʼн. Узнайте у китайцев древнее значение уифзына.
4.
Наше поколение гуляло. Во дворе. По улицам. По уличкам проходных дворов. В куцых скверах. Разбитых архитекторами, садовниками. Фугасами. Где дом был стен, там сквер стоит. В скверах близлежащих. В которые по пути. В где можно нарваться на местных. Тоже, впрочем, нашего поколения. В городских садах. Где-то и в пыльных-мусорных, да, и в таких обреталось наше нашепоколение, в пусть и пыльноватых, и мусорноватых, но ведь в той же мере, считай, и придворных. Куда уже сейчас, когда я позволяю себе с печалью смотреть на нас, превратившихся в паколение, продают на вход билеты. Как в Лувр и Военно-морской музей. И водят коммерческие экскурсии по аллеям, которыми мы просто брели, уставившись в землю и в никуда, мотались, шагали от нечего делать. А скоро будут записывать, как в Уффици, за полгода. Наше поколение гуляло в городском саду Летнем, а? Летний-то сад, мой огород-то. И мой, и мой! Наш. В городском саду Михайловском – Большом. В сквере Михайловском – Малом. В Екатерининском садике, пыльном, грязненьком, согласен. Однако и на Марсовом поле шатались-сидели.
Екатерининский негоден для прогулки. Для прогуливания себя – и одновременно его, садика. Он видим насквозь, идущий по нему видим всеми во всякую минуту. Прошел по периметру – заходи на следующий круг. Но хоть так, а ведь бедный Гоголь после премьеры «Ревизора» выскользнул из-под лестницы Александринки с последними зрителями, а куда топать? Статуи еще нет, вместо садика партерный сквер: травяной газончик, грядочки с цветами. Хило, пусто. Нашему поколению пожалте – сама Екатерина. Сама – правда, угнетает: тронным безразличием, самодержавной незаинтересованностью в гуляющих. Бронзовым весом – выше поясницы и ниже; гранитным – постамента.
Зато екатерининские орлы! Суворов, о! Державин, ага. С временщиками-откупщиками. Один к одному: Потемкин, Орлов, Бецкой, Безбородко. Всех девять. Их сиятельств. Плюс Воронцова-Дашкова, требующая отгадки. Нашего поколения отцы-основатели – потому как физиономий их, болтаясь после уроков, навидались не меньше, чем одноклассных. Не приходил ли кто из них к нам в актовый зал на Первое мая, Седьмое ноября, вот вопрос. Память шалит. На Первое, на Седьмое развешивалось по городу Политбюро. Екатерининских коллегий и советов – карикатуры, недружественные шаржи. Мумифицированные нервы полости рта. Пакля. Загипсованность.
Под ними наше поколение в виде еще детей. Чахоточные в чахоточном Питере-свитере. Кто их выгуливал? Кормилицы? Воспиталки продленного дня? Сами себя, вот кто! Целомудренная шпана. Туманно-туманно бормотали, что под кринолином у Дашковой что-то не то и не вполне понятно, для чего. Что у матушки-императрицы – ого-го как не то, хотя и более понятно. А что и как, поди сообрази. Это по геометрии-то Киселева для пятого-то класса. Допустим: штанишки спустим, восставим перпендикуляр, и через девять месяцев готовый экземпляр. В этом бы кое-как разобраться.
Ибо и как общественная категория, и как идеология наше поколение строилось на противостоянии мужской половины девицам. Естественно, этим противостоянием и выражалось. Девицы были поприщем нападения, войны. Юноши и молодые люди жили в городе девиц, занимаясь тем, что осаждали его: девицы были и противником, и целью, назначенной к достижению, и наградой за победу. Действия обеих сторон – враждебные, примирительные, не говоря уже, согласные, – составлявшие по сути взаимодействие, осуществлялись исключительно в форме прогулки. Не имевшей маршрута и бесконечной. Не столько, стало быть, в форме, сколько в рамках и в русле. В руслах, если быть точным, поскольку город стоял на текучей, многократно и повторяемо расходящейся и сходящейся большой воде. Куда идти, не было. Кафе стоило денег, которых не было. Самих кафе – почти не было. В том, что называлось «дóма», в любой комнате уже кто-то был. Кино, с разной назойливостью занимая внимание, от действий отвлекало. Садовая скамейка, на которую можно бы сесть, втягивала в цепь испытаний. Ее нужно было найти – всего вероятнее, с кем-то поделив – на ней нужно было мерзнуть – и быстро промокать. Потому что город был северный, в нем шел дождь и дул ветер. Оставалось идти.
Из Екатерининского, мимо сада Аничковых (в его чахлость то пускали, то гнали), по Толмачева (так и быть – Караванной) до сквера на Манежной (партерного, партерного) с заходом во вжатый под стену «Зимнего стадиона» (Манежа, Манежа, согласен) и, не замедляя шага, по (когда вернули проход слева и справа от дома «восьми генералов») Кленовой (так себе клены). На выбор: под сень самых-самых чащ, кущ и рощ, либо на простор песчаной плеши с могилой посередине. Это вариант запасной. Главный – Малой Садовой на Большую и теми же чащами-рощами, уже упомянутыми Михайловскими и Летними.
Силки. Тенета. Пробег по диагонали обнесенных Воронихинской и прочими решетками, утыканных зеленью клеток. Удушье налегающих плечами улиц. Бочком-бочком поталкивало, а нет-нет и сносило – за город. К царскосельским-павловским садам, их диффузно расширяющимся приюту, укрытию, идиллии. Но ведь целое предприятие. Вокзал, билеты, электричка. С отложенной в уме памятью еще о паровике – читай: путешествие. Читай: путешествие другой эпохи, чуть не царистской. Читай: детство, то, что пропало, чего навсегда нет, никогда не будет. Но вода уже прибирала к рукам: не угодно ли в Петергоф? Топография садов ленинградских выносила к невским пристаням, откуда доставляли к петергофскому причалу катера-ракеты. (До них – речные трамвайчики, довоенный рай. Все то же детство: мы с тобою поедем на А и на Б.) Где улыбаются уланки. После пьянки.
Но как-то раз, после пьянки уже другой, студенческой, регламентной, вынужденно полагающейся, так что никакой, даю себе возбудить в душе элегическую грусть, вспомнить, как сидел на скамейке, на которой никогда не сидел, заявляюсь к государыне в Катькин, поднимаю воротник плаща как бы от ветра, которого нет, и подкатывается ко мне субъект. Волосы, выровненные сверху горизонтально, жемчужный ангорский пуловер, белоснежная сорочка, телесность облонских кондиций: вы, говорит, не боитесь?.. Чего?.. Вы, меня не обманешь, юноша славный, чистых устремлений, а что как я-то испорченный?.. Чего, говорю, надо?.. Мне ничего, но на этом месте от вас известно чего может быть надо. Или вы еще наивны и не в курсе?.. И слово за слово объясняет мне про гомосексуалов, чье это место стало. Штрих. Никакой не сквер, никакой не Катькин, а Штрих!
Делаю вид, что не новость, что тертый калач и терт настолько, что ничто для такого не новость. Но – нокаутирован. Левым крюком и прямым в подбородок. Левым – что вот я, оказывается, где гулял невинным ребенком, а прямым – что гомосексуалы, это, помилуйте, кто? Что, тоже наше поколение? Но главное – что ты, Дельвиг, имеешь в виду под родительным падежом? Что это за штучки у мужеского с мужеским – если я правильно этого битника понял?
Я окинул его взглядом максимально равнодушным, но не уследил, что подпустил – совершенно ни к чему – пренебрежения, и сказал: «Ты уверен, что не оговорился? Гомосексалы? Не гермафродиты?» Он уставился в меня глазами изумленными, расположенными, чуть ли не исполненными восхищения и, спотыкаясь, выговорил: «Как выражались в России Романовых: м-да».
5.
Мне было сколько? – семнадцать с месяцами; ему, Вадику, – девятнадцать, Илье, которого он привел с собой, – двадцать два. Вадик представился Вадик, назначил встречу на через неделю, здесь же. Черезнедельный Илья, плечистый, в полосатой бобочке, с лошадиными руками, с развитыми брюшным поясом и тазовым, взялся за меня с места в карьер. «Ты думаешь про меня: старик еще не старик, но бесспорно заматерелый взрослый сукин сын. Я. В общем, правильно. Потому что я про себя уже все решил. Кто начинает решать, тот взросл. От глагола взрослеть, прошедшее совершенного вида: он взросл, они взросли. Тебе ведь в голову не приходит решать. Шатаешься, куда тянет, и башка пляшет от впечатлений. И от умозаключений длиной в полсекунды. Это юность. Она жизни не принадлежит. Молодость уже да. Я пишу диплом, в институте связи. У меня есть гениальная идея – радиотелефон. Не радио-и-телефон, как у есаулов из Генштаба, а нормальная телефонная трубка, и всё. Без проводов. Как, почему и что куда, тебе знать не надо. Точнее, рано: не то подумаешь не то и сморозишь дурь. Идея гениальная. Но не умная. Потому что умная – писать диплом, как будто у меня ее нет. Диплом – «система контрольно-измерительных приборов в замкнутых процессах». Как у всех, не выделяясь. А радиотелефон покамест для девиц: хотите, барышня, узнать, давайте номер, я вам позвоню по беспроводной связи. Чтó есть беспроводная связь – при желании можете в нее вступить. В ее, так сказать, символический прообраз».
– При чем тут гомосексуализм? – сказал я.
– А при чем он тут? – спросил встречь он озадаченный. И Вадик утвердил весело: – Проехали.
Четыре года большая разница в юношеском возрасте, особенно когда на него приходится четыре дня, выделенные Сталину для предсмертного хрипа. Когда более, чем семейное, чем отеческое, чем глядящее ласково и по-нездешнему мудро отовсюду, включая зеркало, его лицо заменяется на двоицу, из которой один похож на зава снабжения и сбыта, а второй, несмотря на бородку или даже благодаря ей, на бабушку. Когда двоица сменяется штатной единицей зава. Когда «Фиеста» и «Неизвестный солдат» и «Путешествие на край ночи» читаются полуюношей, а не полувзрослым. Когда понимание того, что кажется реальностью, приходит с опережением, а не с опозданием. То, что я слышал от Ильи, видел у него, от него получал, на девять десятых упиралось в его практический опыт, а ничто не устаревает так быстро, как практика. Однако сплошь и рядом я не мог сказать, общая эта практика, а он в нее включился и усвоил, или его личная. Потому что он был, конечно, фрукт.
В семь лет, перед войной, он с отцом и матерью жил на даче в Луге и пробовал начать плавать. Делал это достаточно осторожно, вытягивая из воды голову насколько возможно, отчего, как известно, глубже опускаются ноги и продвигаться приходится полустоя. Отец ему объяснил, он согласился, соредоточился на том, чтобы держать лицо ближе к поверхности, так, чтобы вода только-только не попадала в рот, – и как раз глотнул полновесный огурец. А испугавшись, еще несколько поменьше. Выскочил на берег и первое, что сказал, едва откашлялся, это, что в реку по канавкам и мелким руслам стекают от домов нечистоты, он видел это своими глазами, поэтому должен, не теряя ни минуты, выпить стакан разведенной марганцовки… Он читал об этом в отрывном календаре – «Первая помощь при желудочно-кишечном отравлении». И как родители и некоторые из загоравших рядом ни пытались разубедить его подшучиванием и научно, пришлось отцу бежать домой, выпрашивать у соседа велосипед и мчать в пристанционную аптеку и обратно. И строго следовать распоряжениям Ильи, как готовить раствор. (И оставить по себе в его памяти чувство благодарности вечное – поскольку через полгода погиб на Волховском фронте. «Вот странно, – словно бы медитировал Илья на своем простеньком признании, – что это такое – чувство? в памяти? оставить? вечное? благодарности? Реальных вещей – ни одной, слова́ для них – пожалуйста».)
Это он рассказал к случаю – когда я, съев два уличных пирожка с фабрично-мясной начинкой, почувствовал себя неуютно, и он объяснил, что по этой причине и отказался от того второго, который я купил специально для него. Я себе не враг, сказал он, вот если бы запить марганцовочкой, охотно бы подвергся.
Другую историю, отчасти развивающую эту, но уже не в пассивном, а в исключительно активном залоге, рассказал на его дне рождения его одногруппник. После четвертого курса мужскую часть отправили в трехнедельные военные лагеря. Женского персонала в них было только средних лет повариха – и медсестра, молоденькая. Охотников хватало и на первую, вторая же по желанности и недоступности поместилась в сферах неземных и если вынуждена была сходить на землю помазать нарыв ихтиоловой мазью, то побывавшие у нее в лазарете описывали его как высокий терем (в падеже: в высоком терему). Лазарет охранялся часовым, назначаемым непосредственно командиром части, и право на лечение ты должен был доказать еще на крыльце. Больше половины претендентов часовым тут и отсеивались. Илью привезли на «газике». Белого, как смерть, с ногой, перетянутой резиновым жгутом между икрой и коленом: его ужалила змея. Часовой и водитель бегом пронесли его внутрь, и на неделю он из общего поля зрения исчез. Но не всех. На второй день некоторые видели его в тяжелом повизгивающем инвалидном кресле, с натугой толкаемом сестрой. На третий он уже ходил хромая и грузно опираясь на ее плечо. На четвертый она вела его под руку, временами подхватывая под поясницу. На пятый и шестой они уже могли добраться до опушки ближайшего леса.
То же было с карьерой. Непредсказуемые инициативы и решения то приводили к рывку, то точно так же тормозили, останавливали, казалось, отбрасывали назад. При этом на круг выходила прибыль, он продвигался. Опять же – он продвигался не по службе, а приростом ценимой репутации. Никуда не лез, повышений в должности норовил избежать. Это ценили и начальники и сослуживцы. Начальники знали, что могут присоседиться соавторами (а по субординации – присоседить соавтором его), сослуживцы – что от него не будет подвоха и даже самим можно безнаказанно за его счет поживиться, если не наглеть. Его звали – как бы между прочим, не подчеркивая – на специальные заседания в министерство, и те, кто делал усилия и следил, чтобы попасть в список, охотно брали его в свою – или шли в его, зависит от точки зрения – компанию. Его вносили в списки отправляемых на конференцию за границу, и не только в соцстраны, а и в промежуточно обосновавшуюся Югославию, и в Индию, а один раз и в Испанию. В общем, он делал карьеру, словно бы не делая ее. И уж в чем все были согласны, никаким боком, ни намеком он не делал ее за чей-то счет. Только за свой собственный, а точнее, за процент от него – не следя, какова доля, то бишь насколько невелика.
6.
Вадик был расположен ко всем, и все, даже не расположенные к человечеству в целом и всячески добивавшиеся нерасположения к себе от каждого встречного, ощущали это и по своим возможностям в своей манере отвечали взаимностью. В двенадцать лет родители отправили его в привилегированный пионерлагерь Союза архитекторов. Навещая по воскресеньям, они стали замечать, что сын раз от разу выглядит все более упитанным, чтобы не сказать раздобревшим. Оказалось, дети, трое из попавших в столовой за один с ним четырехместный стол, упросили его съедать ненавидимое ими сливочное масло. Его выкладывали одинаковыми прямоугольничками на завтрак по числу голов. Хотя сам тоже его не любил, он им эту услугу оказал, из любезности. За это они стали отдавать ему бутерброд с красной икрой, также входивший в порционное меню.
Ко времени нашего знакомства это был тип симпатичного шалопая. Он учился в строительном, на проектировочном отделении, прилично сдавал экзамены. Проектировочное считалось как бы архитектурным, в полшаге от него. Родители были архитекторы, отец достаточно заметный, стало быть, определили и сына по этой части. На четвертом курсе нашли место в строительном бюро, не совсем фиктивное, не совсем рабочее. А учиться перевели на заочный в Архитектурный в Москве. Его он и кончил и только тогда немного поблек.
Пока ходил в строительный, он был фигура. И на островке между Техноложкой, Военмехом и родным его ЛИСИ, и на Невском, и вообще везде, где появлялся. И он, и вся небольшая их компания. Кто они были, мы, прочие, включая меня, дружившего с Вадиком тесно, не знали точно. Один учился на юридическом в университете, еще один в Плеханова. Экономический Плеханова в то время был не золотой трамплин в роскошную жизнь, как сейчас, а отстойник с преобладанием девиц – надеющихся, в большинстве же не надеющихся, как-то выйти замуж. На своего соученика из Вадиковой компании они смотрели, как на существо иной природы, если вообще осмеливались смотреть. Вся компания была такая – оскар-уайльды. Нездешние длинные пальто (палетоты), синего сукна, бутылочного, песочного; сияющие башмаки, не модельные, не салонные, просто уличные, ну может быть, надетые в гости; только что, ну вчера-позавчера подстриженные волосы, час назад чисто-чисто вымытые, непокрытые – в любой мороз, снегопад, дождь. Шалопайство было в этом. Нельзя это носить, так тщательно за этим следить, так холодно улыбаться, иметь такие бритые нежно-розовые щеки – и заниматься еще чем-то. Можно только входить с высокими, глядящими прямо перед собой, в ту же меру улыбающимися, так же элегантно и нарядно одетыми девушками в ресторан. Помнить имя-отчество швейцара, помнящего твое имя-отчество. В театр – через головы очереди показывая гардеробщице, что вы уже здесь, меняя подаваемый ею бинокль на подобающую купюрку. Слушать заполночь пластинки Хиз Мастер’с Воис. Никогда в жизни не покупать у лотошницы пирожков с фабрично-мясной начинкой.
В первые годы знакомства он говорил живо, почти всегда шутя – неназойливо, никого не язвя, ни присутствующих ни отсутствующих, по большей части добродушно, время от времени остро. В начальный период нашего общения я старался ему подражать. Общение было равноправное за одним исключением: на встречи со своей компанией он меня не приглашал. На семейные обеды – пожалуйста, на вечеринки с приятелями вроде Ильи, с расплывчатой архитектурной братией, с девушками, возможно теми же, что украшали собой общество оскар-уайльдовское, да. Но меня и самого в ту сторону не тянуло, и у меня у самого был кружок, от Вадика отдельный. За столом с отцом и матерью, иногда и тетушкой, кузиной (родня у них была многочисленная, как в девятнадцатом веке) он держался, как всегда – естественно, свободно, обаятельно. Но пару раз были друзья родителей – тут манера менялась, нет-нет и говорил серьезней, взвешенней. А однажды – их коллеги: он только отвечал, когда к нему обращались, обдуманно, по-ихнему, скучно.
В двадцать девять он женился. Вернее, начал жениться. В общей сложности это заняло следующих лет двадцать. Сперва на балерине из Чехословакии. Русской по происхождению, из эмигрантской аристократической семьи. Они стали жить месяца по два-три в год в Праге, летом ездили по Европе, по полгода в Ленинграде – и Москве. Москве – понимай: в Заи́стровой Долинке, там у сестер ее мамы был участок в полгектара, запущенный, с дряхлой деревянной дачей. Молодоженов пригласили погостить. Их навестили родители Вадима. Они походили по тропинкам и вдоль забора, переговорили между собой и за вечерним чаем предложили хозяйкам и гостям план. Не устроит ли тех и других продажа двадцати-тридцати соток племяннице с тем, чтобы молодые построили там для себя – отец выразился аккуратно: жилье, – а тетушки привели в порядок свой дом? Ответ не требует спешки, план предложен не для того, чтобы начать его осуществлять, а только привыкать к нему и осваивать как идею. В случае принятия можно положиться на их с женой помощь как профессионалов и как тертых калачей, имеющих в этой сфере связи. Их с женой выгода будет заключаться в том, что они наконец могут перестать ломать голову, какой преподнести молодым свадебный подарок. Говоря это, отец улыбаясь повернулся к невестке и сыну – и все расплылись в улыбках поверх, так сказать, ошеломленности.
Первым откликнулся Вадим. Словами признательными – родителям, успокоительными – хозяйкам, ласково-забавными – жене (что-то вроде: через тебя и я, глядишь, найду угол). Потом, построжев глазами и голосом, – себе: «Если бы эта немыслимая перспектива обрела хоть какие-то черты вероятности, разумеется, я как строитель, как мужчина, как не в последнюю очередь глава семьи, взял бы на себя максимум хлопот и труда». И – аплодисменты, а улыбки уже совсем широкие и прорывающиеся счастливым смехом. Я эту сцену так – не без иронии и даже сарказма – описываю с его слов. С его слов через пару недель после события – и через много лет, когда сомнений в том, случилось ли такое когда-либо, было много больше, чем уверенности.
В пользу того, что да, случилось, неопровержимо говорит, пожалуй, наличие даты: какое-то июля или августа 1965 года. Старушки уже назавтра выразили радостное согласие, дрожащими от волнения голосами клялись, что никаких денег не возьмут, что для них счастье заполучить к себе племянницу с мужем. Заполучить, само собой, без посягательств на их свободу, претензий на вмешательство в их независимость – только как милых и, что притворяться, любимых соседей! Их разубедили юридическими прежде всего объяснениями. В конце следующей весны молодые въехали в новый дом через новые, с противоположной стороны от старых, ворота. На новой «Шкоде», доезжавшей до Пушкинской площади за полчаса.
В августе 1968-го в Прагу с ужасающим грохотом ворвались ужасающего вида танки Советского Союза. Несколько дней их называли Варшавского пакта, потом эту чушь забыли, и Вадиму с женой, их семьям и родне, их знакомым, включая компанию в красивых пальто разного цвета, старшим и ровесникам жить сделалось невыносимо. И тем, кто терпеть не мог советских русских, и кто антисоветских, и кто народно-демократических чехов-словаков, и кто нормальных, и кто говорил так, и кто наоборот. Главным стало то, что одним и другим жить приходилось бок о бок. Вадим с женой были в Вене, вернулись в Прагу. Сказать им друг другу было нечего. Жена уходила к друзьям, с утра, на весь день, на сутки. Оба понимали, что ему там нет места. Просыпаясь рядом или садясь завтракать, они часто взглядывали друг на друга, с болью, она еще с отчаяньем, он тяжело, она в какой-то миг с нежностью.
Наконец он сказал: мы женились не за этим. Это моя вина, что я о таком даже не подумал, не то что не предусмотрел. Ты возразишь, что общая, но это мои гусеницы – твои мостовые. Уеду – и посмотрим.
Я не верю, что он что-то присочинил или недосказал, передавая мне их разговор. Он прилетел в Ленинград, позвонил назавтра. Не то хотел рассмеяться – не получилось, не то экономя на речи, фыркнул: пошли погуляем, все это время не гулял. Я спросил, как там. Помимо того, что передают «голоса». «Не знаю, что передают “голоса”. А у меня… и у нее… там…», – и коротко все пересказал.
7.
Подробнее у меня изложилось, чем думал, и не вполне на тему. А может, и как раз – на нее. Кто способствовал обрушению режима? Хроникеры текущих? Или кремлевские мечтатели?
Несколько было телефонных звонков, Ленинград – Прага, Прага – Ленинград. Все больше деловых. Все более редких. Встретились – один раз. Муж и жена, вы подумайте, один раз, за целую оставшуюся жизнь! По делу. Дом и сотки на Николиной. Сказала по телефону: я не приеду, никогда, придумай сам. Ему летать по Европе как при ней – крылышки уже обрезали. Ехать в Чехословацкую социалистическую республику, к непонятно кому: кто она, как, с кем; к новой власти, которой все непонятно с ним, – он не петрушка. У сокурсника-поляка попросил справить вызов, не без скрипа получил визу. Встретились в Варшаве, перекусили в кафе, она была все на той же «Шкоде». Нотариус оформил ее отказ от собственности в его пользу. Нотариус Кшиштоф – Каковский, или Таковский, главное, что Кшиштоф. Заняло меньше получаса. Платил, хорошо хоть без обсуждения, Вадик. Еще одно кафе. Там он передал ей чек от отца. Тоже целая история: уголовный риск перевоза через таможню законного чека. Она не брала, глядела враждебно. «Вы мне ничего не должны». – «Не долг, в подарок». – «За то, что без скандала? Или за танки?» – «Он тебя полюбил». – «Надрывные русские нежности. Лучше бы подкинул что-нибудь теткам». – «Подкинул. И я буду». Чмок в щеку, чмок в щеку, уехала. Хо, подумать, муж и жена.
Развод шел через оба посольства. Медленно, обстоятельно, потому что заочно и потому что одно другому показывало, что глубоко внюхивается. Зато не требовало усилий от сторон. В какой-то день его вызвали и прочли решение суда советского, с которым чешский соглашался. Кончалось: того же дня зачитано официально второму супругу. Сбитый с толку мужским родом, переспросил: жене? Читавший секретарь посмотрел на него неприязненно, передал бумагу, ткнул пальцем, где расписаться. Вадим в замешательстве предложил: может быть, в буфет, а? пльзеньско пользéнько? Тот протянул руку за пропуском, подписал и показал на дверь… «Тут я расслабился, – изобразил, как он расслабился, Вадим, заканчивая рассказ. – Обручение Венеции, говорю ему, знаете такой обряд? Я – был женат на ЧССР. Спасибо Франтишку Кафке за развод со Златой Соцлистичской»… У него к этому времени полгода лежало в ЗАГСе заявление на заключение нового брака. Думал, вот-вот разведут, и подал загодя. Уже два другие доносил с просьбой отложить на более позднюю дату.
Суетливая спешка проистекала от нервной напряженности. Он был влюблен и видел все признаки и доказательства безоглядной влюбленности в него. И именно то, что так сошлось и в этом взаимном притяжении и преданности не находилось изъяна, посевало в нем тревогу. Она была известная на всю страну переводчица американской литературы, каждая новая выпущенная ею книга становилась событием. Она переписывалась со всеми пятью из легендарной пятерки, они звонили ей домой, присылали с оказией забавные неожиданные подарки. Кто бы из новых ни приезжал в Москву по культурному обмену, первое их требование было увидеть ее. Сартр, лягушиный принц, не имеющий ни к инглишу, ни к Штатам отношения, соблазнял ее, а провалившись, просил руки. Для наших, для интеллигенции, особенно молодых, в первую очередь, для пишущих, она была законодательницей стиля современной русской прозы. Знакомство с ней ценилось в московском кругу необсуждаемо выше знакомства с Хемингуэем или Фолкнером. Я говорил с Агашей, Агаша мне сказала – означало принадлежность к ордену и сияло орденом на груди. Агаша – так она девочкой настояла быть записанной в паспорте.
Вадим столкнулся с ней в гостях и к концу вечера знал, а наутро тем более, что влюбился. Оказалось, что еще сильнее она в него. Он понимал, что это может прекратиться в любую минуту. Она была старше его на десять лет – он и это зачел в угрозы их близости. Исходящие от нее. Больно нужен этой прекрасной мадам де Сталь с серебряными нитями в шатеновых кудрях, этой Гипатии с зелеными глазами и улыбкой, расцветающей из звездчатых излучений морщинок, такой хлыщ и прощелыга. Чем несомненнее она выказывала радость при виде его, нежность, когда глядела на него, когда что-то говорила ему, волнение, когда они дотрагивались друг до друга, тем сильнее, доходя до паники, становилась его убежденность, что еще немного, и всему конец. Он ожидал слышать от нее вещи выше того, что мог постигнуть, и, слыша то, что воспринимал как самое обыкновенное, был уверен, что просто не понимает, что она говорит.
Говорила, например: «Душевные состояния в детстве, детские чувства – куда они девались? Почему главные воспоминания – всегда об обладании, о насилии, даже когда это связано с влюбленностью и любовью? Об обмане, удаче, достижении назначенной цели. Или достижении вообще, неожиданном, добыче, свалившейся с неба. Почему если восторг, то по поводу материалистическому – нóмера в цирковом представлении? яркого наряда у девочки? проносящегося мимо с ревом автомобиля? Ничего задержавшегося в памяти, если это не отразилось потом, на судьбе, на характере, на карьере! Ничего восхитившего просто так, ни одной сердечной раны, если у нее не было последствий, никаких движений души, если они не были позже подвергнуты анализу! Толстой под 80 писал «Воспоминания», не приводившие ни к каким выводам. Не было из них выводов. Как стремительно и необратимо все поменялось на противоположное, приземленно-практическое, полезно-бесполезное! В чем дело? Истребление чувствующих людей, победа грубого плебса? Плебс и парии всех стран, соединяйтесь!»
Он думал: «Ну да, она совершенно права. Меня это не интересовало, но пока она говорила, в голове бумкало: я сам так думаю, я и сам так думаю. Что же, она от дверей заворачивает Камю и Сартра, а моя голова варит, как ее? Этого быть не может! В этих ее словах еще что-то. Чего я не усекаю, не могу». На сумасшествие, он сознавал, тянуло едва ли, но психоз явнéйший. И, приняв, что быть оно будет неизвестно как, верней всего, рухнет в одночасье, но есть какой-то шанс, что сколько-то и продолжится, и, вероятность ничтожная, что а вдруг возьмет и навсегда так останется, он решил, что во всяком случае должен и может иметь на те годы, когда ничего не будет, свидетельство – что было. Он придумал сказать ей, что у его мамы неожиданно обнаружилась серьезная болезнь. И она призвала его и заставила дать слово, что они – Агаша и он – исполнят ее желание, каким бы наивным и сентиментальным оно ни показалось. Она хочет увидеть в его паспорте штамп об их браке… Суеверно боясь накликать беду, прибавил: сейчас ей лучше, врачи говорят, диагноз не подтвердился. Но слово он дал, и вот – как быть?
Агаша сказала: «Это может быть правда, тогда наш ответ – да, без рассуждений. Но думаю, что ложь. В полной невинности перетащенная тобой из того самого, оторванного от всего грядущего, наподобие толстовского, детства. В таком случае лучше тебя нет на свете, и уж конечно да, да, да. К тому же и я, без твоих и твоей мамы хитростей, хочу поиметь от тебя этот штамп… Наврал?» Он ответил: «Какая теперь разница?»
Через пять лет Агаша заболела не просто серьезно, а неизлечимо, и умерла. На похороны пришла толпа, над могилой звучали речи, в которых ее называли оправданием России, русским именем вровень с великими именами прошлого, нашим ответом Западу и, не уточняя и не детализируя, нашим ответом несвободе. Им противостояли шишки из Министерства культуры и Союза писателей. К Вадиму подходили незнакомые или туманно знакомые люди, выражали сочувствие. Присутствовали, произнесли по короткому спичу и пожали ему руку американский посол и культурный атташе.
В полном составе явилась та молодых лет ленинградская компания Вадима. Заинтересовавшись по его рассказам, Агаша со всеми ними успела познакомиться. Была высокого о них мнения, они же полушутя уверяли ее, что составить мнение о ней им мешает ее слава. В статье, заказанной «Атлантик мантли», она написала о них как о группе, возникшей из совокупности частных дружб. Цельность этой группы обеспечивали интеллектуализм так же, как одежда, и философские взгляды так же, как манеры. В Америке это могло бы стать темой книги или книг. А то и течением. В России ни они не рассматривали себя со стороны, ни кто-то со стороны – их. Существенным для них был не результат, а их представления о том, какой хорошо бы быть их жизни. Только их, а не вообще. В России, кончала она, дорожат своими представлениями. Да и то не очень.
Вадим отдавал себе ясный отчет, что ее смерть – его конец. В самом прямом смысле слова. Конец его-прежнего, это понятно. И конец, в другой плоскости, в поле, утратившем перспективу, его-будущего, каким бы он ни стал. Но из этого, по своей привычке как-то выходить из положений, он сделал вывод: следует соглашаться. Со всем. Не предпочитать одно другому, не сопротивляться. Так что через год он был женат на структуралистке – разжигавшей костер с одной спички, умевшей свистеть в четыре, два и один палец, со спортивной фигурой. Появилась она, прочтя как раз в «Атлантик» Агашу, – взять у него интервью. Потом принесла свою брошюру об этом – то же, что написала Агаша, но с миллионом ссылок и на непонятном языке. Как если бы Вадимова компания приснилась ей ночным кошмаром бутылок, песчаных барханов и пачек прабабушки стирального порошка, синьки, и стала рассказывать о себе, поставив целью ввести читателя в кошмар не описанием, а непосредственно и выбрав языком кошмара русский. Они поженились, а когда она от Вадима ушла, он говорил, что оставила скорее приятное впечатление. Симпатичная, веселая. Но подтвердить ничем, кроме зеркальца, не мог. Задержалось в памяти только оно, ее главное научное открытие. Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее, «Спящая царевна». Что зеркальце – это не отражающее стекло, а циферблат, показывающий время. Как таковое. Мачеха смотрится в него, но видит не себя, а свой возраст. Скажем, сорок лет, сорок пять. По тем временам старуха. Как она может выглядеть – всех румяней и белее? Вадим говорил: остроумно, правда?
Было еще несколько браков. Из сравнительно экзотических помню чемпионку Тверской области по штанге. Она дружила с лауреаткой всесоюзного конкурса по звукоподражанию, эта тоже строила планы относительно Вадима, и он опять был готов расписаться. По нисходящей, говорил юмористически отец. Мама горько: катится по наклонной плоскости. Вадим, надо сказать, ни с одной не выглядел удрученным, ничуть. Легкомысленно повторял пришедшее на язык: браки у меня есть, жен нет. Тот, что стал последним, обещал быть таким же – юридическим. Но в него вмешались, а потом и переплелись, а потом и захлестнулись петлей личные интересы брата жены. Набухал скандал, который знавшие действующих лиц ждали, что закончится поражением Вадима. Как вдруг он сам стал разогревать температуру, причем много превосходя градус интриг противника, яростно, стремительно. Устроил жене публичную сцену и прогнал. Так что пятидесятилетие встречал холостяком, собрав старых друзей, промежуточных супруг и несколько потертых личностей, которые задавали тон. Тон, пренебрегающий условностями, алогично интеллектуальный, прелестный. Юбиляр рассказал, что порвать с последней «дружиной», как он выразился, а заодно и всем институтом брака, его подви́г мягкотелый Пьер Безухов, а Безухова, как известно, прекрасная Элен. Торжество обслуживала спокойная ласковая женщина. Одна из личностей бестактно спросила: «Вы ему кто?» Ответил Вадим: «Татьяна Михална (или как-то иначе, но столь же уютно) – бухгалтерша из Дома офицеров. Она берет сверхурочную работу на дом». Ближе к полночи она вышла, и, действительно, из соседней комнаты стали щелкать счеты и трещать арифмометр.
8.
Некто Дры́ган.
Никакой рассказчик не имеет права на такой синтаксис. Минимальное в этом случае к рассказчику требование – выразиться хотя бы «был некто Дрыган». Но в том и дело, что Дрыган, о котором рассказываю я, так же был, как не был. В моей жизни он возникал несколько раз, и всегда довольно близко: соседом по парте, бегуном команды, которому я передаю эстафетную палочку, соседом по палате на двоих, собеседником в безостановочном многодневном разговоре, какое-то время дру́гом. И вдруг исчезал – бесследно, с концами. Но «был» вовсе не совпадало с «возникал» – так же как «не был» с «исчезал». Вот именно что убедительнее всего его не было, когда мы были рядом, болтали, куда-то шли, а главное, когда смотрели друг на друга. То есть когда я на него.
У него были глаза разного цвета, карий и зеленый. Поколение – конгломерат всего, не упускающий, не исключающий из себя ничего. Избыточность объема позволяет. Надо бы сказать – никого, поскольку ведь люди. Но поколение неукоснительно, как будто только затем, чтобы продемонстрировать прежним и будущим свою суверенность и самодостаточность, коллекционирует отдельно еще и качества, проявления, редкие так же, как объединяющие. Философию, витальность. Гениальность, ущербность. Шестипалость, альбиносость – по которым мгновенно вспомнишь человека. Разноглазие – по которому никак его не запомнишь. Я думаю, с Дрыганом в этом все дело. Или почти все. Едва отвернешься, и не вспомнить, на кого только что глядел. Я нарочно проделывал опыт: всматривался в лицо, замечал черты, в частности глаза, отворачивался и заставлял себя проговорить подробную опись. И такое начиналось разъезжание фрагментов в разные стороны, такая путаница, как будто морок нападал, и уже усилие требовалось хотя бы вспомнить, что он Дрыган.
Да и это не только не помогало, а еще больше мути напускало. Впервые он появился в пятом классе, через неделю после начала учебного года. Утро, солнце – отчего на переднем плане грязные стекла. Директор вводит новенького. Тот стоит, все видят, смирно, а как будто весь ходит. Кажется, что мелко-мелко перебирает ногами, а упрешься взглядом в ботинки, в коленки – статуя. И телом, и беспорядочнее всего лицом. А останови-ка его, когда оно от карего к зеленому такое, а от зеленого к карему – ничего общего. Директор говорит, это Коля Дрыган, ваш новый товарищ, садись, Дрыган, – и показывает на пустое место около меня. Пока все в порядке вещей, списки утрясаются, состав не окончательный, за первую неделю двое со мной сидело, куда-то девались.
Но пятый класс. Он сам по себе размытая картина, взбаламученный раствор. Он тоже и есть, и нет его. Только директор за дверь, кто-то: «Цы́ган Дрыган попой дрыгал». Новенький вскакивает и безошибочно к частушечнику – в нос, в губы, одним разом. Чернильница вылетает из гнезда, синие со ржавым отливом струйки по лицу, кровянка из ноздри и со рта по подбородку. Учитель ему же – бах по затылку, бах Дрыгану, а он присел. С быстротой непостижимой, хук не прошел, очки не засчитываются. На следующий день после уроков староста тук-тук в учительскую, озабоченно, делово – нужен классный журнал проставить оценки за контрольную. Выносит, мы весь класс на последнюю страницу: Дрыган Николай Давыдович, национальность – цыган!
Он проучился у нас месяц. Я бывал у него дома, он у меня. Мы с ним жили примерно на равных расстояниях от школы, километрах каждый в двух, но в противоположных направлениях. Провожали то я его, то он меня. Расставшись, на пути домой обдумывали, кто что сказал, назавтра обсуждали и продолжали. Однажды я спросил его отца, правда ли, что они цыгане. Он засмеялся, ответил: «А что, нельзя?» Он был специалист по баллистике. Так представился: Давыд Николаевич Дрыган, специалист по баллистике – как Мюнхаузен. Мать сказала: «Цыганее не бывает. Его дед был француз, Дрыга́н, не то Поль, не то Жюль. В Крымскую попал в плен». Отец опять засмеялся: «Не «не то», а «и и». Поль-Жюль. Она прекрасно знает, притворяется». Мать не обратила внимания: «ПолПоля-полЖюля притащил с собой легенду – что его дед был цыган, которого Наполеон любил, как брата. А я вообще Курносова. И вся женская линия у Дрыганов была русопятая». Отец лыбился по-всякому. Мать сказала: «А вообще, да, цыгане. Не знаю, какая у французов кровь. А цыганская мы все знаем какая. Посмотреть только на рожи: что он, что Колька. И плечи несут, и башкой крутят, и по улице идут, как плясать собрались. Топ да топ, да ромалэ». Я спросил: «А вы тоже по баллистике?» – «Нет, я по гене…» – «… алогии, – то ли перебил, то ли подхватил отец. – Кто кого родил. Авраам Исаака, Нафан Давыда, Давыд Николая». Я ничего не понял, кроме того, что весело.
Через месяц отца перевели в Гатчину, Дрыган мой пропал, как не было. Через четыре года прихожу в «Буревестник», физкультурник послал. Как он сформулировал – побегать-попрыгать. И – Дрыган. Я его не узнал – имел право, никакого с тем сходства. Узнал по глазам, читай, догадался. Он стал у нас оставаться на ночь, раз в неделю всяко. Я раз-два в месяц ездил на выходные к ним. Отдельная квартира, у Дрыгана своя комната. Так мы с ним побегали-попрыгали до самого института. И еще полгода студентами, я Техноложки, он классического отделения университета. Тут отца отправили в Казахстан, но уже от Москвы. Тогда самая баллистика была в степи, но на цель наводили в Кремле. Мать стала устраивать новую квартиру, Дрыган перевелся в МГУ на ту же классику. Которая, он объяснял, оказалась совсем не та же: ленинградская латынь была одна, московская другая, это ему ставили в строку до защиты диплома, и на защите указали.
После института я отправился по распределению на завод – он поехал к отцу. «Взглянуть на дальние провинции империй, о которых только читал и сдавал сессии». Я довольно быстро попал в серьезную аварию. Загорелся цех, продукты горения были из группы тяжелых ОВ. Отравляющих веществ. Я был начальник смены, хватанул первую порцию, когда еще не разобрались, что к чему, и среднюю, и последнюю, пока всех не эвакуировали. Нас, около десятка, отвезли в Мечникова. Я чувствовал себя прилично, но формула крови! Врачи не говорили «внушающая тревогу» или «ужасающая», а только «формула крови» и не смотрели в глаза. Постепенно всех кроме меня выписали, и из понятной жертвы производственного травматизма я превратился в одиночку с загадочной для медицины болезнью. Однажды врач сказал, что везут такого же второго из Средней Азии и это интересно.
Дрыгана вкатили в кресле, он был в том же, как у меня, приподнятом, не соответствующем показателям анализов настроении. Оказалось, что в этом Казахстане испытывали самые разные снаряды умерщвления, он без спросу забрел куда не надо и чего не надо вдохнул. Того же, что я. Оба согласно решили, что если мы с ним здесь затем, чтобы на нас наблюдать, как от этого умирают, по крайней мере проведем последние дни в симпатичной компании; если как лечить – попробуем поправиться. Мы могли с легкостью встать, как ни в чем не бывало сделать несколько шагов, и так же естественно и свободно в любой миг упасть без сознания. За нами ухаживали, показывали светилам, толпящимся студентам и возили в каталках по аллеям.
Дрыган говорил, что случившееся с нами, то есть выборочно именно с нами двумя, каким-то образом укладывается в раннефиникийский миф о царях-близнецах, в младенчестве украденных драконом. «Я-то считаю, что дрыган происходит от французского драгон, так что все драконское меня интересует давно и особенно». Один стал строителем, другой военачальником. Первый принялся складывать башню и не мог остановиться, добавляя новые и новые этажи. Второй придумал метательную машину и постоянно ее совершенствовал. Наконец пущенный им однажды камень ударил в основание башни, как раз в ту точку, где в это время стоял брат. Он был убит на месте, башня рухнула, и самый верхний ее камень отскочил к метательной машине и убил второго брата.
Еще он сказал, что хотя о своих двух империях начитался от пуза, но те места, куда он попал, говорили не о них, а о третьей – что было для него совершенно неожиданно. Он довольно явственно, чтобы не сказать – остро, почувствовал близость Индии. Не умозрительно, а очень лично – как места своего исхода, древней родины. Так что если его предки имели какое-то отношение к великим и те их отличали своим расположением, то не к Наполеону, а к Александру или Августу. С которыми, на сегодня он в этом уверен, его цыганская кровь и пробралась под европейские осины.
9.
Обобщать – самое милое дело. Выстраиваем так-этак факты, которые оказались нам известны. На те, что не попали в поле зрения, плюем. На этом основании описываем одну общность, другую, третью, каждая следующая крупнее предыдущей. Чем крупнее, тем больше вольничаем. Наконец, выходим на человечество. На человечестве отрываемся, гуляем по полной, без ограничений. Это край, никакой более общей совокупности людей нет. Присобачивать к ним мир духов – все равно что чертить карту земли с облаками. Есть еще Бог – тот, который не над всем, а во всем, в частности и в человечестве. Но с Богом лучше ничего-никого не обобщать – как и его самого. Поскольку это одно из его собственных главных дел и занятий, для чего он располагает всеми фактами, всеми же и распоряжается, и смотри, как бы он тебя самого не обобщил с каким-нибудь из них очень тебе неприятным. Да еще каким-нибудь очень неприятным тебе образом.
Первая более или менее отвлеченная общность, которая, на этом пути объявившись, таковой осознается – да, да, во‑первых, такковой, во‑вторых, оссознается, – поколение…
Вот что. Заколебали вы меня этим поколением. Заколебало оно меня собой. Заколебал я себя им. Хочу, как Мартин Лютер Кинг, свободы. Хочу к людям. В метро. Хочу на прием в Американское посольство. Которое по случаю приема называется Спасохауз. Располагаясь с древних времен в святом Спасохаузовском переулке. Там фуршет, вино, улыбки, готовые, как свора собак, сорваться с поводков и облизать как можно больше лиц. Хочу к выпускникам Каппа-Лямбда-Мю Лиги, к комсомольцам-добровольцам, на иерусалимский базар всех времен и народов. А меня, как котенка, носом – в поколение, в поколение, в поколение…
И никуда не денешься. Семья, дом, род уложены в рамки частной жизни. А есть непосредственное окружение. Согласен обвести его взглядом, собрать насколько возможно воедино. Желаю описать его как целое. Мечтаю обнаружить общую для него и себя принадлежность к массовой группе. Отобранной прежде всего по возрасту. К сверстникам. Что я, вы, что все принадлежим к племени, сознание наступит позднее. Если наступит. Но редко кто не ощущает себя членом поколения, не замечает своей причастности ему. Кто равнодушен к тому, что именно с этим, а не с другим его связали. Предопределение, история, практика. Родственность или чуждость его интересам и целям живо занимает каждого. Все распространяем на себя его достижения и промахи. Невзгоды. Миха утонул пьяный, не пожив. Леха сделал миллион на недвижимости. Надюха вышла за голливуда, ни больше ни меньше. Но вообще-то все мы – потерянное, замордованное, недоношенное, продешевившее.
Мало-помалу состав меняется, по чуть-чуть, почти незаметно. Примыкаешь к тому-другому старшему. К тебе – тот-другой младший. Уезжаешь на год за границу, там, кто твоего поколения, кто не твоего, не разобрать. Возвращаешься, в твоей конторе три-четыре оттуда, тоже непонятно. А другого столь же ясного опыта, как прибитость к поколению, еще нет. И на́ тебе – получается, что поколение просто скол человечества, пришедшегося на время твоей жизни. То есть: старики, прикомандированные к нему, сорокалетние к нему же, сверстники. То, что оказалось в одной упаковке общего срока времени.
Годится. Сообщество ближайшего круга – пусть это и будет поколение Мне – годится. Ближайшего из многих концентрических, пришедшихся на одно время. И не к чему прикусывать язык, если языку хочется пустить вслед: и на одно пространство. К «пространству» привыкли со школы. Прекрасно, милости просим приплести пространство. Потому что поколение, хоть ограничь его пятилетием годов рождения, хоть положись на сродство сверстников и прикомандированных стариков и разных промежуточных и сними все ограничения, в Ленинграде будет это поколение одно, а в Москве мал-мала другое. В Ленинграде Киевское шоссе ведет на Киев, Таллинское на Таллин. А в Москве, что Энтузиастов – Владимирка, узнать можно только по блату или по снисходительности к приезжим. В Ленинграде если с Выборгского взять левей, то приедешь к воде, и если правей, к воде. А в Москве если с Пролетарского левей, попадешь к коми-пермякам, а правей – к печенегам. И ленинградцы воду от воды отличают как обсиканный палец указательный от среднего, и москвичи мерю от вотяков как те же два. А уже наоборот: москвичи воду, а ленинградцы чудь – никогда. Это как английский язык: выучить – и знать по рожденью.
Когда Вадим меня привез в Заистровую Долинку, то показал: вон Николина Гора – восемь километров, вон Горки Ленинские – за потемней который лесом, вон Истра течет. А Заистровая потому, что тут два русла было… Я, где я, сообразил и, чтоб соображение и образованность предъявить, спросил: а Баковка? а Жуковка? А Баковка, а Жуковка, сказал он, тоже наши. По Успенке и, как учил Солженицын, на юг и направо, не бери в голову… И это остановись-мгновенье, бывает, щелкнет, как зажигалка, чиркнет, как спичка, и что вертится на языке прикушенное потому, дескать, что штамп и общие слова, может выкатить смысл простейшей непретенциозной правды. Например, что, как по времени поколение разъезжается где за собственный край, а где к середке, так и по месту обитания. Только уже никак не вширь, а сколько места кому дадено, всё его подтягивая себе под подошвы.
Честно, мне эта ближайшесть круга и его расползаемость и съеживаемость так мила, так родна! Что говорить – не то, наше, чужое каждому из нас, потер., заморд., недонош., продешев., а – мое. С которым я. Которое из меня – в частности. Вот и сам я из центра жизни покатился вовне одним из расходящихся по воде кругов. Втиснулся точкой между его точек, из пупа земли спокойно и неспешно двигаясь к ее периферии. С целью достичь края, стать кромой, уйти в кромешность. Еще существовал за долю секунды до того, как он ткнулся в незнакомый мне, отталкивающий меня, как и всё приближающееся к нему, чахлый грязный берег. И тут же был им мгновенно поглощен. Последнее, что заметил, – что без какого-либо ни с его, ни с моей стороны усилия. Первое, чего уже не заметил, а как будто кто-то вдогонку дал мне знать – что без следа.
Одна из постоянных – с молодости – присказок Ильи: сфера моих научных интересов лежит в проявлении потустороннего по сю сторону. Иллюстрация – квадратура круга. Ну нет такого квадрата, который площадью был бы с круг. Ну не извлекается корень из пи-дэ-квадрат-дробь-четыре. А как пойдут расходиться по жидкой поверхности, так в каждую минимальную единицу времени бегущий круг догоняет очередной квадрат, от площади которого только что отставал. То есть и не извлекается – и извлекай на здоровье. И это знак из другого мира нашему.
Выходит, чуть-чуть сложней все эти чувства, все эти мои рассусоливания, вся эта морока насчет поколения. Не я ее развел, сама разводится, как пещерная сырость. И ведь только затем, чтобы показать, что не совсем проста. А вся-то сложность (которой на поверку чуточка) в пещерной задачке: где я в мы и кто мы этому я?
Сперва – никто мне не нужен, плевать на всех. Все ваши группы – трупы. Само собой, и труппы: кого-то изображающие, третьеразрядные, потные. Негры Джимы, покрашенные синей краской, в витрине с надписью «бешеные афроамериканы». Все ваши скопления, все ваши больши́нства, все ваши единства – они.
Но это сперва. А незаметно, как весна становится летом и майская жара июньской, так вылущивает индивидов из капсул на зады села, где толкаются, топчутся, земля дрожит, ветер клонит. Можно и дальше плевать, и плюем, и плюют, но инстинктивно тянет – не то чтобы примкнуть, приткнуться, прислониться, а знать, что есть куда – приткнуться, припасть, прижаться. К скоплениям и единствам, достаточно густым, чтобы физически и всяко поверить в ихнюю крепость.
Перво-наперво к поколению. Это мы с вами уже перетерли. Но можно и к поколению по духу. По притягательности. По авторитетности. К шестидесятникам, например. Тоже интегральная сумма сигма, и не слабая. Тоже – и ненаше, и полно дружбанов. Тоже – и выговорено, и недоговорено. Заявлено – и недодержано в проявителе. На резкость наведено изумительно – а рука с камерой дрогнула.
К гомосексуализму. Если по направлению мыслей и эстетического чувства, не по практике, то напряг кой-какой все равно в животе ощущается, бродит. Но напряг не грех. Скорей уж удерж себя перед совестью и Богом Авраама и Лота. Я не скотоложец оттого, что арабские кобылы, по мне, красивее финских женщин, а жирафы еще красивее лошадей. Но гомосексуалист не гомосексуалисты. Пьяной горечью Фалерна кубок мне наполни, мальчик. Только будь осторожен, на стадион выходят парни всей земли. Гомсомол планеты. Кто хочет, приложись к нему. Есть зачем: там твой мальчик, твой милый. И там же штурмовики в сказочной униформе – оптовая поставка мускулов. Это ли не единство! С чего они так едины? Есть почему не прикладываться.
(Я когда с Дрыганом один раз эдак разглагольствовал, он вставил: тогда и к вампирам.)
А почему, кто ищет, не к боговерующим? Вот уж сходбище, вот уж церква-кирха-кьорх! Вот уж притираться, совпадать, уходить есть куда в тель-материю! Как нарочно для этого сделана. Кириакос – не в бревнах, а в ребрах, под которыми кирос-власть.
К евреям. В рассеяние литературы, в кружок поэзии, в концертирование. Тому-другому, видите ли, не подходит, что куда с предложением душевной близости ни сунься, одни они. Ну суйтесь к своим – кто мешает? Али своих не стало – цветочной пыльцы, пчелиных роений, вечерних спевок?
К загранице. Объяснять ли? Такая большая, такая чистая. Как молочно-белая и кофейно-черная амстердамские атлетки. По одной в окне. Зато в каждом. Тяга за границу, желание, чтобы нравилась, удовлетворение тем, как нравится. Что-то в этом от борделя, нет?
Ну вот, теперь мы все про это знаем. Знать не делать. Знать – решиться делать. А решиться – значит своя воля. Сделается само. Но на то была собственная воля, все видели. Поэтому – презираю. Вас – большинства, скопления, поколения. Захотел – прибился, захочу – отобьюсь. Что прибился – выходит, по какой-никакой, а любви. Что отбился – из презрения. А также чтобы забыть, что когда-то прибился. Испугался быть не вместе. Подчинился общести. Был не против позависеть. Вот из мести тому мандражу, порабощению, услужению общности, той прибитости и презираю.
От чего завишу, то ненавижу – это с одной стороны. Это наше, и от него тошнит. А с другой, как сказал на шоу Илья: чем богаты, тем и рады – когда ему лепил бесстрашный из молодых: чего вы своими гордитесь? ваши и подлы, и стукачи, и трусы, да еще целок из себя строят. «Чем, – сказал, – богаты, тем и рады. Подлы и строим – факт. Это наше, и от него тошнит. А это мое, и не тронь. А то, ишь, какие умные!» Кто, спросил ведущий, не поняв, – да и никто не понял, у всех вид растерянный. Те, кто умные, Илья ответил.
Я много раз ездил к Вадиму в Заистровую Долинку самостоятельно, на своей машине. Выучил дорогу досконально, знал все светофоры, повороты со спуском, повороты с подъемом, тормозил и разгонялся автоматически. Этот путь и Вадимов участок, по которому нашатался-навалялся, отложились на тех же экранах памяти, где ленинградские прогулки, и так же отчетливо. От прогулок их отличало только, что я так и не понял, не мог прочувствовать, часть чего большего и родня каких близей и далей этот маршрут и площадь земли. Но Долинка, усвоенная, определенно срослась с моей органикой. Как задолго до того с Вадима. Чем, в таком случае, не органика поколения? Пяти-шестидесятых и Ленинграда. Я не находил тут натяжки. Внутренности – патриоты организма. А между собой антагонисты: много голова думает – слабей перистальтика кишок; не так легкие дышат – почки забиваются. Надо Илье сказать. В смысле что сообщества – организмы, однако и простая сумма внутренностей. Послушать, что он по этому случаю брякнет.
По мере роста известности самого знаменитого насельника Долинки, обитатели Николиной Горы стали подпускать шпильки. После роскошного скандала, ставшего, как принято говорить, достоянием гласности, злословие завершилось каламбуром, неталантливым и невпопад. Завистливая Долинка – в рифму к Заистровой. Я поймал себя на том, что думаю: дураки. Что вы про нас с Вадимом, а заодно про Илью, про Катькин сквер, про медную всадницу-императрицу, про «Ревизора» в Александринке, короче, про нас, как бы вы нас себе ни представляли – компанией, кругом, необъявленным союзом, а и поколением, – что вы про нас понимаете?
10.
В мою на земле бытность появилась одна великая книга. «Великая» – и определение расплывчатое, и слово надутое. Использую потому, что другие еще хуже. Использую затем, чтобы, использовав, от поисков более точного, лучшего побыстрей отделаться. Поточнее-то было бы сказать, что в книжном шкафу нет места с такой пространственной конфигурацией, куда бы она со своими, как у Квазимодо, горбами, как в кунсткамере, прободениями, как в новой математике, саморазрушительными кривизнами, словом, калечностью формы – любой из воображаемых и невообразимых, – встала и не торчала бы, не цеплялась, не корежила бы соседние переплеты. Такова – в еще большей степени – и «Война и мир». Таковы – по-другому, более понятно, более литературно – «Карамазовы».
Эта книга – «Архипелаг ГУЛАГ». В качестве таковой: великой, одной из вершин литературы – она не была прочитана. И в обозримом будущем не будет. Возможно, что и никогда. По двум причинам: в ней слишком внушительны, необоримы искусством, несоизмеримы с художественностью факты – и в ней нет условности. Это «Комедия» Данте, выведенная из эстетики вероучительных доктрин в документальную реальность. Пыточные мучения переписаны протокольно. Человеческая толчея действует на восприятие не так, как поэзия, очевидцы не так, как визионеры. Записи актов жестокости, унижения, гибели рассчитаны на другие рецепторы, бьют по другим нервам, ужасают иначе, чем те же ужасы, запечатленные в прекрасных картинах.
Есть еще одна особенность у этой книги, делающая ее уникальной. Ее написал человек, родившийся и воспитанный в советское время, но в тот его период, когда были живы и имели неофициальное влияние люди прежних установок и уклада. Подходившие к современной действительности с досоветскими нравственными, интеллектуальными и культурными мерками. Солженицын, когда писал «ГУЛАГ», сам соответствовал им и тяготел к этому слою людей. Сильнейшее впечатление производит книга тем, как наглядно вылепляется ею его личность, как делает из него автора этой книги. В нем еще нет ничего от «пророка», «учителя жизни». Когда он умирал в 2008-м, о тех мерках и людях и о том нем у нового общества оставались лишь расплывчатые представления, воспоминания, противоречащие одни другим. Примечательно, что немалую роль в этих переменах сыграл он же, каким стал после книги.
В годы ее создания-вызревания-созревания первостепенную значимость имело мнение, появлявшееся из туманных слухов, лживых газетных осуждений, непроверяемых похвал. Смешно сказать, мутная неосновательность мнения была куда достовернее нынешней видимости информационной подлинности и полноты. Их стали готовить, смешивая излишество фактов и откровенность личных свидетельств. Излишество требует сокращений, выбор того, что сокращать, что оставлять, зависит от политтехнологий. Разница между откровенностью и ее подменой неразличима. Вместо Солженицына, прошедшего через ГУЛАГ, оставившего на его зубах клочья шкуры и мяса, наконец написавшего «ГУЛАГ», появился Солженицын из телевизора. Американец, миллионер, русский мудрец-мудрованец. Пренебреженный наглыми бездарными думцами, подструганный президентом-эксчекистом под себя. Любезный зрителю провинциальный актер с амплуа резонера, страдающего за идею.
А раз так, то параллельно вместо Солженицына появились несолженицыны, антисолженицыны, имитаторы, эстрадники, новые из бывших…
Остановите меня, заткните мне глотку перечислениями худшими этих и лучшими – поднимите мне веки. Что случилось после книги, ничего не стоит. Я помню, как ее не было. Я помню, как читал ее в, может быть, первом тамиздате – не понимая, где я и где меня нет. Как перечитывал – чтобы понять, что́ я тогда читал. И как читал в последний раз – чтобы понять, что я не читал ее прежде. Немыслимо талантливую, небывалую, безошибочно сыгранную на чем-то самодельном. С подтяжкой струн после каждых двух-трех пройденных единым духом страниц. Честную честью русского офицера наполеоновских кампаний.
Эта же самая книга как книга-обличение, вопль, свидетельство всегда забьет ее, запросто, без стараний – ту, про которую я говорю. Почему она и останется непрочитанной: до нее не дочитаться, не пробиться сквозь ревущий огонь фактов. И пусть так. Пойди доверти казенный карандаш в ямке горбыльной доски, чтобы занялся дымок, пойди сложи сырые кривые сучья слов так, чтобы этак-то разгорелись. Одна надежда, что те, кого пронял факт, могут в руке составлявшего протокол заподозрить мощь древнего искусства писцов.
Из проигрышей, которые я набрал за свою жизнь, можно сложить курган, размером много превосходящий отпущенную мне кладбищенскую кубатуру. Все они по одной причине: я держал курс на выигрыш. Он и оборачивался проигрышем. Сочиняя стихи, которые нельзя было опубликовать, я принял, к примеру, разрешенное мне режимом место переводчика поэзии. Я добился успеха, под конец работал в нашем тачальном цехе по высшим расценкам, с лучшим материалом: поэзией трубадуров, французских символистов, английских модернистов. По этой дорожке пошли многие, среди них один мой друг с ранней молодости. Только он не выбирал, переводил, что давали, стихи нацменьшинств, соцстран. Не стало советской власти, переводческая индустрия закрылась, наши труды сошли с поверхности жизни, как струпья с расшибленной коленки. Он остался, кем был, прах исчезнувших тысяч строк не тяготил его. Мне в продолжение нескольких лет приходилось отвечать на вопрос «вы бывший переводчик?». Дескать, печатаете стихи, прозу, но по профессии-то вы переводчик?
Я читал «Архипелаг ГУЛАГ», видел, как прекрасна книга. Читая, понимал, что жизнь без опыта, дающего основание ее написать, неполноценна. Все-таки это было нечто совсем другое, чем Данте. Ему, чтобы при его таланте и гениальности не написать «Комедию», нужно было пропустить католическую доктрину, итальянскую и европейскую истории, обыденные службы в Сан-Джованни. В принципе это можно наверстать. Не наверстать поражения в войне гвельфов и гибеллинов, согласен – так это и принадлежит другому измерению. Тому же, где ГУЛАГ – опыт, которого ничем не заменишь. То, чего лишаешься, избежав ГУЛАГа, невосполнимо. Книга отказывала мне в судьбе соучастника, оставляла на роли лишь читателя. Точно так же я, читая «Войну и мир», узнавал персонажей как личностей или как типов, но войти в их общество как равный член не мог ни при каких обстоятельствах. Я ускользнул из лапок тетки из Большого дома, я избежал ареста, следствия – пассивного и активного, зоны, баланды, перекличек. Я лишился – ареста, следствия всех видов, бараков и зоны рабочей, бушлатов, полярных ветров, кумов и наседок. Конечно, я рад, что избежал. Радоваться ли, что лишился? Если говоришь такое, не допуская притворства даже в самой малой степени, – типичный выигрыш-проигрыш.
Как, если не великой, назвать книгу, которая тащит к таким мыслям?
11.
И теперь Витя Либергауз, и всё. Витя Либергауз, который не менялся.
Дачное знакомство. Как он ко мне подошел – мне десять, ему десять – в Ассари на Рижском взморье и произнес: «Я ленинградец, из интеллигентной семьи, а вы? давайте дружить», – так до сего дня, до середины восьмого десятка, не изменился. Волосы соль-и-перец, трость, несколько ссохся, но так же строен, речь так же прекрасна, книжна, с привлекательной присадкой выспренности, душевный настрой высок, цели благи. «Покажи мне твою ладонь, – сказал он уже тогда, на белом пляже под шум ветерка и плоских волн, – ты задумывался над своей линией жизни?» Он хотел приносить пользу людям, стать инженером или агрономом. «У моего отца есть готовальня. Перешла по наследству от деда. Отец – адвокат. Может быть, она ждет меня. Изящные штангенциркуль, рейсфедер». Его линия жизни вышла пряма, как на чертеже, ровно и уверенно проведенная тем фамильным рейхсфедером без отклонений и разрывов, тушью «ИГ Фарбен-Индустри» времен пакта Молотова-Риббентропа. Ради соблюдения прямизны он в восьмом классе сменил фамилию, папину на мамину, и ничего с тех пор не менял. На перемену имел право – он получал паспорт, его признали первичным гражданином страны, фамилию отца ему навязали в младенчестве, материна юридически была ей абсолютно равна, и наконец, меняя, он не получал никаких преимуществ. Он поменял Львов на Либергауз.
Почему тот, кто меняется, меняется? Потому, что активный, предприимчивый. Потому, что ищет выгоды. Потому, что где-то что-то плохо лежит, и кажется, подбери – а для этого выпусти из рук, что прежде ухватил, – и выгадаешь. Потому, что честный и находишь силы отказаться от сделанного или добытого, когда открываешь, что в их состав попали неблагородные примеси. И точно так же позднее частично отказываешься от отказа, когда открываешь, что, начиная делать и добывать, о неблагородстве не подозревал, вины, стало быть, не несешь, поступал искренно.
Почему тот, кто не меняется, не меняется? Потому, что с самого начала и до самого конца знал, как будет лучше и что надо делать, чтобы так и было, и решительно расстается с нелучшим ради лучшего, поскольку деятельный и к тому же ловкий, и нельзя сказать, что нечестный.
Ассари был рыбацкой деревней с едва заметными прослойками курорта для бедных. Пляж в сравнении с Дзинтари-Майори казался диким. Были дачи пустые, дачи, сохраненные за прежними хозяевами, но с подселением, дачи, переписанные новой властью на хозяев новых, были халупы без хозяев, однако заселенные. Львовых устроили «по знакомству» их родственники, нас наши. После завтрака Витя заходил за мной и вел к какому-нибудь дому. Не входя в калитку, он криками вызывал жильца – жильцов – и предлагал: «Хотите, мы сходим вам за керосином?» За копченой салакой? За лекарством? Я ждал шагах в десяти. «Уходи, воришка! – отзывались те. – Мал еще взрослых обжуливать». По-русски без акцента и с акцентом, и по-латышски – мы понимали не зная слов. «А за хворостом?» – спрашивал он.
В общем, Аркадий Гайдар, «Тимур и его команда». Хотел помогать людям, хотел делать добро. С раннего, еще дооктябрятского детства. Искренне. Дошел своим умом – не сообразуясь с большевистской пропагандой, с призывами по «Пионерской зорьке». Рассказал мне случай. Его детский сад выехал на летний оздоровительный сезон. Дощатые бараки, умывальня на два десятка сосков, по десятку сортирных очков на мальчиков и девочек. Манная каша, капустный суп. Но – пруд, лес, луг. На выходной приезжают родители, автобусом горздрава (где мама работает врачом ВКК, а папа юристом). Телячьи нежности, показная приветливость воспиталок, лепет воспитанников. Автобус в состоянии полного распада, шофер чинит внутренности, шины пузырятся в дыры покрышек, половина окон забита фанерой. Зовут на обед. Детей. Уводят на мертвый час. Подъем. Родителей не видать: дети детьми, у взрослых купание и черника. Витя приглядывается к автобусу, видит за лобовым стеклом голову шофера на руле. Неподвижную, беззвучную. Бежит в спальню, достает из секретной щели в тумбочке лупу. Карабкается на кожух над мотором, приставляет лупу к стеклу. Сомнений нет: он мертв. Убит. Война, и он убит. Витя стучит в дверь директора. Инвалида, однорукого, ему объяснять не надо. Вызывайте милиционера, враги убили шофера. Идут вместе, директор своей рукой бьет мертвеца по загривку. Тот: а? что? где? – спрыгивает на землю. Подождите, говорит Витя, там муравей. Я увидел через увеличительное стекло. Под резиновым шнуром. Он тащил на себе мотылька, без чувств. Их надо спасти… Лезет в кабину. И глядите! Вот муравей. И мотылек. Увы, без чувств.
Я ему лет через тридцать напомнил. Да, все точно. Одну тайну, решает Витя признаться, правда, скрыл. Десятистепенную, ничего не меняющую. Он накануне загадал, привезут ему родители подарок или нет. И в автобус стал заглядывать, и за лупой бегал – поглядеть: а вдруг привезли и забыли?
Тот первый отрезок линии, которую провел Витя тушью после нескольких уроков черчения карандашом, подчеркивала текст объявления, написанного им от руки – «сбор пионерского отряда 6 класса на баскетбольной площадке тогда-то». Председателем совета отряда был он. В конце класса девятого он позвонил, позвал меня гулять. Словарь и тон показались мне более торжественными, чем обычно: приглашаю, предлагаю прогулку. В Александровском саду, в аллее, откуда уже был виден Всадник, сказал: «У москвичей есть Огаревы горы». Я поправил: Воробьевы. Он: «Оговорка. (Усмехнулся:) Огаревка. А у нас одна Сенатская площадь». Сделал радушный жест рукой, но площади все равно не получилось, тесное место. Сел, и я за ним, на скамейку. «У меня план на лето. Я был в журнале «Костер». Денег не дадут, но командировочное удостоверение обещали. Тема – приобщение детских садов и лагерей к работам на плодово-ягодных участках Псковской области. Отчет предположительно напечатают. Как ты?» Почему Псковской, сказал я немедленно, а не Краснодарской? Он расплылся в победительной улыбке, достал из верхнего карманчика бумажку, протянул. Написано было – «почему Псков, а не Крым?».
«Знаем наперед… Потому, что все, кто хочет в Крым, в глазах тетенек из детского сектора – и моих – плуты. В Псков не рвутся – а клубника и яблоки там не хуже». Выделил в особый соблазн: «Там есть место – Алоль. По карте смотрел. Алоль, одно название чего стоит». Задним числом я узнал, что слово финское: ну почему у всех испанское, а у нас чухонское? Задним числом я допустил, что не так он меня и звал, не так и хотел, чтобы я согласился и мы мотались вдвоем, а наоборот, поездку видел исключительно как собственное предприятие. Родственное подвигу. Я не поехал, по правде сказать, даже возможности такой не обдумывал. Ничего тогда не обдумывал. А сейчас сказал бы, что, не отдавая себе отчета, сторонился его затеи как идейной, а сам глядел на надвигающийся срок лета как на пустой и бездельный. И хотя речь не обо мне, мне мой замысел удался. Как выяснилось, и ему его тоже.
В сентябре по радио, которое у моей матери было включено всегда, как форточка приоткрыта, правда, на тихий-тихий звук, и так же как форточка незамечаемо проветривало нашу частную закупоренность общественным сквознячком, прошло несколько передач для юношества, молодежи и вообще населения о важности неравнодушия. О необходимости вторжения в чужую жизнь, если что-то в ней задевает. Был выдвинут и за несколько дней получил статус комсомольско-государственного лозунг «Никто не посторонний». Первоисточником была статья Виктора Либергауза в журнале «Костер». Обсуждения, очерки, литературно-музыкальные композиции начинались со ссылок на нее. В газетах появилась постоянная рубрика «Почин Виктора». Парадный номер «Костра» сиял на стенде «Новинки, о которых говорят» в школьной библиотеке, перетянутый медной проволокой, – на руки его не выдавали. Наконец я подкараулил его зачитанного братца.
Как Витя входил в подробности плодово-ягодной агрономии и участия в ней детских заведений на Псковской земле, как оценивал достижения и проблемы, уложилось в два первых абзаца. После этого начиналась история чепэ, с которым он столкнулся и в котором принял личное участие. Рискованное. В одном из небольших совхозов за ночь была снята с кустов черная смородина на площади трех соток. Подозрение пало на ближайший пионерлагерь. На пионеров нажали, выявились зачинщики, было подготовлено решение о снятии с них красных галстуков и отправке в город. На плацу, где проходили торжественные линейки, сошлась вся дружина и воспитатели. Открыли общее собрание, обличения и позор набирали силу, когда слово попросил тогда еще никому не известный Витя. А ты кто такой, спросил старший вожатый. Витя назвался, объяснил, как здесь оказался, предъявил командировочное удостоверение. После чего сказал: «Но выйти перед вами меня заставила, буквально вытолкнула, моя личная нравственная позиция. Я сам был председателем совета отряда и знаю, как уходит из-под ног почва у тех, кто попадает в такой переплет. И что испытывают при этом рядовые пионеры и председатель. Вы назвали виновных, но достаточных доказательств вины не привели. Ягодный участок не охраняется, как прописано в инструкции. Это мог сделать любой из местных жителей, на чьей плите в эти дни варилось варенье. Это мог сделать любой дачник, для которого совхозные кусты – ничьи. Это мог сделать цыган, который в воскресенье торговал на рынке в райцентре. Это мог сделать я – и как бы вы могли меня опровергнуть, если бы я сделал признание?»
Так, в кавычках, Витя привел свою речь. Шикарно. Может, так и говорил, может, редактор, гусь, навел марафет. Девочки якобы заплакали первые. Стали сморкаться воспиталки и вожатые-девушки. Обвиненные всхлипывали не сдерживаясь. Директор совхоза сказал: да нужна мне ваша смородина, покрою в августе на орехах. Начальник лагеря беззлобно пожурил доморощенных шерлок-холмсов.
Я позвонил Вите. Мама сказала, что он приходит домой поздно, вызывают на методические семинары, приглашают в Смольный. Не сразу, но он отзвонил. Никакой важности в голосе. Оценивал трезво, говорил ясно. Но оценивал нечто, говорил про что-то, чего я ни разу не мог самостоятельно и вовремя по его словам предугадать, опознать. Я был уверен, что подозреваемые, разрыдавшись от его речи, душераздирающе сознаются в воровстве. Что старший вожатый отберет у него удостоверение, найдя в нем признаки фальшивого. Что начальник лагеря скажет: а с тобой, паренек по фамилии Либергауз, разберутся в нужном месте компетентные товарищи. Что директор совхоза после Витиного допущения, что он сам мог обобрать кусты, подаст в суд и взыщет с его родителей стоимость ягод. Что, вообще, он зачем-то – чтобы разыграть читателей, или, войдя в сговор с редактором, пристроиться в журнале, всего же вернее, по заказу тетенек из детского сектора в Смольном – описывает не действительность, где вор пятые сутки стонет на все село от заряда соли после выстрела в ягодицу, обвиненные давно уже ходят строем в черных робах по детской колонии, заодно с Дрыганом, который конечно же тот цыган с рынка в райцентре, – а вдолбленный в нас историчкой солнечный город Кампанеллы, он же фаланстер Фурье, c аллегориями Отзывчивости, Самозабвения и Человеколюбия в качестве граждан.
Витя сказал, что за время путешествия узнал народ, что люди у нас хорошие, а идеалы, которые ставят перед ними идеологи и руководители на разных этажах власти, просто прекрасные и вполне исполнимые. Что человечеству нужен не земледелец и не строитель, а защитник – конкретного индивидуума и его чувства правды. Адвокат. Как казенная фигура. Как земная опора. Как посредник высшей справедливости. Он, Витя, через год будет поступать на юридический.
Но поступил в Литературный институт, в Москве. На третьем курсе напечатал в «Юности» повесть «Хорошие плохие». Смесь социалистического «Кандида» и вариаций все той же истории о ложно обвиненных подростках, теперь уже в бытовой краже. На четвертом – в «Новом мире» – публицистически пафосный, большой очерк о проблемах поколения шестнадцати-восемнадцатилетних, их полууголовном существовании, манипулировании власти ими. Опять был резонанс, в печати, в полемике на местах и в центре, управляемый сверху. Много слабее садомазоогородного. И вообще, очевидная – и тогда, и особенно в ретроспективе – потеря времени. Что эти сочинения, что весь Литинститут.
В конце концов все-таки он пришел на юридический. ЛГУ. С опозданием на четыре года, как считал я и все, кто был в курсе дела. Он – нет. Настаивал на том, что знания и навыки, усвоенные на литсеминарах, как и личный опыт творчества, вывели его за пределы правовых условностей, расчистили горизонты жизни полномерной, не приводимой к знаменателям цивилизации.
12.
Я никого не оцениваю, не выставляю баллы. Я – реагирую. Точно так же, как когда жарю картошку и брызги кипящего масла попадают мне на кожу, я не обличаю масло, не говорю ему «ты злое» или огню «ты дурной», а отдергиваю руку. Этому глубокомыслию как минимум пятьдесят лет. Тогда оно звучало несколько иначе, с легким японским акцентом. Но его градус, плотность и протяженность – те самые, с точностью до десятого знака.
Итак.
Брат последней Вадиковой жены, из-за которого Вадик выгнал ее вразрез со своей репутацией мирного покладистого дружественного партнера по отношениям разной степени близости, был тот спецгость на искусственной ленинской вечеринке, с которым мы (я с ним, он со мной) перекинулись пустыми любезностями и грузными, уклончиво выраженными декларациями позиций и выпили, он шампанское, я газированный сидр.
Разбираясь в характерах лиц, попадающих в рассказ, я обратил внимание, что реальный, документально зарегистрированный персонаж – а таковы, естественно, все в этом очерке – естественно потому, что в нем описывается поколение, а оно не может состоять из иных – так вот, если такого персонажа не названо по какой-то причине имя, то говорить о нем гораздо труднее, чем знай мы, как его зовут. Изобразить – еще туда-сюда. А рассказывать о ком-то, да еще фигуре публичной, широко известной, постоянно давая поводы к догадкам, кто это, и никак не подтверждая, ни отрицая их, то есть не скрывая его известность и при этом оставляя неизвестным, – это заморачивать голову тому, кому рассказываешь. Отчего тратить все большие усилия на разморачивание. Отчего заморачиваться самому. Может быть, такова плата за то, что посягаешь на славу знаменитости, меньшим меряешь большее. Но путаница все плодится, и теперь разбирайся еще, чем слава отличается от популярности.
Я даже не знаю, кем его назвать. Поэтом? Композитором? Певцом? Кинорежиссером – потому что в год нашей встречи он снял фильм и в следующее десятилетие еще пять? Все заметные, все получили признание и призы, в отечестве и международные. Актером – потому что сыграл в четырех своих и в нескольких по приглашению лучших режиссеров дома и за границей? Все это было высокого качества, кое-что первоклассно – если принять, что советское, читай, советское разрешенное, при самых крайних, какие можно вообразить, послаблениях, в принципе могло быть первоклассным. Ну актерская-то игра, его в частности, пожалуй, могла.
Поэзия, музыка пропорционально приувяли, хотя все равно и рок-оперу сочинил, в драмтеатре поставил, и сколько-то сборников стихов выпустил. Это я не сообщаю, это, назови я его имя, у всех на памяти, а я сейчас только набрасываю схему его «Трудов и дней». К середине 1980-х его имя стало одним из знаемых русских на Западе, хотя, вступая там на культурологической конференции или в частном доме в разговор о нем, никогда нельзя было быть уверенным, что твои собеседники ясно представляют, о ком говорят. Каждый выбирал какую-то одну его сторону, все равно, подлинную или приписываемую. К этому времени и ему уже было в значительной мере безразлично, в качестве кого им восхищаются или бранят, а интересовало только, чтобы кого-то он занимал и был на языке. (И в журналах, и в антологиях, и в числе приглашенных, и в жюри.) Он продолжал что-то снимать, писать, играть, даже петь (все реже), но лишь потому, что это были единственно знакомые ему формы того, что он все еще любил: участвовать. И чем меньше любил (или даже: чем больше не любил) все, кроме этого, – тем больше любил это.
Участвовать – это и была жизнь. Не жизнь – сумма претензий времени, не смена испытаний и впечатлений, словом, не бытие, а та, смыслом которой мудрецы мира определили ее самое. Проживание ее минут, дней, частей и целого. Участвовать означало не снимать фильм в казахстанском зное, казахстанской пыли, бросая в воду перед тем, как пить, американскую дезинфицирующую таблетку, а – хочешь, снимать (потому что пустыня, полсотни Цельсия в тени, питьевая вода с планктоном холеры под спектрально сияющими расплывами нефти – поищи-ка опыта экзотичнее, брутальнее, опыта, сильней отличающего тебя от буржуа с аквалангом, искателя приключений в тени ставшей на якорь яхты); хочешь – кейфовать на курорте, арендованном под международный симпозиум в неформальной обстановке ланча в ресторане отеля.
Участвовать не в смысле сотрудничать, делать, нести ответственность. К этому времени, не договариваясь, негласно признали: бу́дя, оттрудились, отделали, отнесли. Участвовать стало значить – прежде всего – выбирать то, в чем участвовать. «Трудов», таким образом, не стало, остались одни «дни». Приобретя имя, ты этим самым уже участвовал. Участвовать стало значить – иметь имя среди имен.
У ренессансного, с мировым именем, выходца из России ощущение права на доступ к такому участию, так сказать, обладание этим участием перешло логически и довольно быстро в ощущение права на доступ ко всему, участия в чем ему захочется. Или к тому, что он представлял себе, что ему хотелось бы. Или – что, обладай он участием в этом, ему бы нравилось. Тут как раз рухнул государственный строй, сменились власть и система отношений, те, кого выносило наверх, были никак не лучше его – а если лучше, то в сферах эфемерных, не реализуемых на практике. Он прикидывал, чего бы ему хотелось, могло захотеться, что бы понравилось, могло понравиться. Менял выбор целей, просто предметов рассмотрения. И остановился на Кремле. На троне. На президентстве. Президентская гонка и победа на выборах не представлялись ему предприятием более сложным, чем постановка блокбастера. Если бы дело заключалось, как учили избирателей, в политической борьбе и соревновании личных качеств, то оснований обставить что демократов, что коммунистов у него было достаточно. Требовалось сойтись с мафией и генералами. Эй, сказал он себе, не ты первый, не ты последний. Всем требуется сойтись с мафией и генералами.
Так ладно у него выходило, что с Лениным-Сталиным об руку шли отец и дядья, а с царем и помещичье-усадебным укладом деды и двоюродные, все сплошь флигель-адъютанты и камер-юнкеры. Покопаться, найдем и мокрушников, и чапаевых. Не умничай. Умных президентов не бывает. Но тут кто-то ему позвонил, куда-то его свозили. Назначили специальным послом доброй воли в Париж на полгода, с проживанием в особняке с правом выкупа по твердым государственным ценам. Свою кандидатуру он снял.
А еще раньше, еще до крутейших этих замыслов, он между чем-то и чем-то, между фестивалем в Чили и карнавалом в Рио, завернул в Москву и неделю прожил у себя на даче. Думал, на день-полтора, но такое удовольствие доставляла каждая пятиминутка, и полчаса, и отдельно утро и полдень, послеполудни и вечер, и вчера, когда вспоминалось с пробуждением, и предстоящее сегодня как исполнение обещанного вчера. С лужаек тянуло сухим сосновым жаром, из зарослей и свалок круглосуточной тени в это же время прохладой. Ему приснились два сросшихся подосиновика, под березой, которую он хорошо знает. За ней кочки, поросшие травой, в ней крупные земляничины, густо. Утром встал и понял, что забыл, где это. Стал бродить наугад и нашел, сперва подосиновики, только порознь, но без сомнения те, из сна. Поднял голову – и березу. Но никаких кочек, никакой земляники. Осмотрелся, прошел подальше, свернул, попал на полянку маслят, уже червивых, и уткнулся в соседский забор. Дощатый, старый, редкий. Прямо за ним стояла береза, под ней спаренные подосиновички, справа кочка, усыпанная ягодами. Он сдвинул доску, висевшую на одном верхнем гвозде, влез, собрал несколько горстей земляники. Подумал, что если ее снимать в кино, велел бы мазнуть каждую ягоду лаком. Свинтил грибную парочку и вернулся к себе.
За завтраком спросил у сестры, чей участок за забором. Она рассказала про Вадима, про теток его первой жены-чешки. Сестра жила на даче постоянно и была со всеми знакома. Она работала в полусекретном биологическом НИИ, на границе с Москвой, как раз с их стороны, двадцать минут на машине. У нее был «Фиат», из-под брата.
Брат средним пальцем собирал на скатерти в кучку крошки, и чуть сузившимися глазами – мысли, одна приятнее и хитроумнее другой. Персоне, при жизни получившей мандат на участие в выработке мировой культуры; а через нее в плетении узорчатой, вроде тех, что держат прическу, сеточки гуманитарных связей, в которой, накинутой на земной шар, Земле будет куда уютнее, чем в авоське абстрактных меридианов и параллелей; а через нее в глобальной жизни; персоне, стоящей в нескольких шагах от того, чтобы возглавить и повести RealPolitik на одной шестой (как он думал – в изменившейся же реальности, одной седьмой) части этой Земли; этой персоне присоединить к своему участку соседский, считай, что безымянный, настолько сосед был никто и звать его никак, было, как звезде НБА выиграть у барышни-смолянки партию в бильбоке. Его собственный участок по площади равнялся сумме всех остальных в Заистровой Долинке. Двум Лихтенштейнам, пяти Монако, шутил он. К огромному отцову был прибавлен его стараниями, да и стараний-то почти никаких, само плыло в руки, – прикуплен, привлечен к многоходовым обменам, приговорен землемерами, прирезан – в несколько раз больший. Отец получил свой из рук вождя, и больший бы получил, если бы не стал путано, где намеками, где недосказанностями, вождю объяснять, что, «по преданию», здесь «некогда» было дедово именье, и не может ли он, внук, своей преданностью заслужить его возвращение семье. Вождь ответил грубо и зловеще: «Ваших дедов именья все за Туруханском – там и ждут наследников». Некоторое время ждали самых худших последствий. Но простил кормилец. Забыл. (Помнить помнил. Напоминать забыл. Так Поскребышев в воспоминаниях пишет.)
Участок Вадима великому соседу был не нужен. Но а) попался на глаза, а до того приснился, а после – материально береза, прелесть-грибки, земляничная душистость и сладость; б) случай проверить, в хорошей ли он форме – как боксер, проходящий мимо уличной драки, которой до него нет дела, но больно уж кстати подвернулась, чтобы интуитивно махнуть фирменным прямым в ближнюю челюсть. И потом: пятьдесят же уже лет, даже пятьдесят один. Сил полно, как у молодого, жмем одной рукой гири, обеими штанги – но в старости, никто не знает, все может понадобиться.
Сестра дважды выходила замуж, оба раза мужья бросали. Был слушок, что из-за брата, обидел: одного тем, что держал на расстоянии – как бедного родственника, другого, что, как бедного родственника, приблизил. Вадим, когда стала каждый день забегать, с банкой парного молока, косу одолжить до послезавтра, с билетами на «Депеш Мод», на «Спартак» – «Марсель», был не против. Как обычно, приветлив, забавен. Не сказать, что за, а по-накатанному: ваш ход, мадам. Расписались, без пышности. Но не без народных артистов и вообще выдающихся людей – брат с собой привел. Столы с «березкинским» изобилием перед домом жениха, потом всей компанией к таким же у невесты… у невесты с братом… у брата невесты. (Ускользает от формулировки единственной.) Брудершафт. – ты: брудершафты.
Всё путем. Только брат возьми и заторопись. Не то чтобы не терпелось, а не бог весть, подумал, какая за забором шишка на ровном месте, чтобы разводить церемонии. Пренебрежительно, как показалось Вадиму, заторопился – так Вадим позднее объяснял. Заторопился, прислал адвоката – с постановлением Заистринского сельсовета оформить совместное владение имуществом. Со ссылкой на статью гражданского кодекса. Это, как считал братан – и Вадим соглашался, – кнут. Пряник было приглашение зятя с женой – а если с другого конца – сестры с мужем – на чай, за которым по-семейному обсудить сложившуюся ситуацию и наилучший выход из нее. Между визитом юридического злодея и родственным визитом пролегла неделя, в течение которой сестра-жена жила на территории брата-шурина, а Вадим раздувал огонь готовящегося скандала.
В файв, как говорится, о’клок он вошел в калитку родственников, которую не закрыв, вошел в дом. В файв-оу-файв к ней подъехали два или три жалких «Москвича» и три или два «жигуля» с его старыми приятелями и бывшими супругами и «газик», набитый потертыми личностями. Едва они ворвались во двор, из дома раздался страшный крик Вадима, обрывки невразумительных проклятий, клочья обвинений, лишенных логики и просто связи, звон бьющегося стекла, треск ломающегося дерева, тяжкий удар – и он сам появился на крыльце с безумным взглядом и половинкой мраморной доски от туалетного столика в руках, которой замахивался на неизвестно что. «Вон из моего дома! – орал он, хотя дом в данную минуту был чужой. – Тварь! Чтобы ноги́ твоей! Чтобы твой сообщник! Грабитель крепостного русского народа! Мы не быдло́, быдло́ не мы! Где власть, где закон Линча?!» В эту минуту подкатила милицейская «буханка», было ровно файв-оу-тен. Первым внутрь впихнули Вадима, из дома вывели ренессансного человека, сестру-жену, подсадили. К ним влезли два мента, третий в кабину, четвертый за руль – и вперед. Оставшиеся двое выдавили присутствующих на улицу, опечатали калитку и пошагали прочь.
Ренессансному назавтра было лететь в Найроби. Глухо донеслось, что по возвращении он какие-то кнопки нажимал, рычаги двигал, с кем-то встречался. На Новый год дело закрыли – и все заглохло. Никакой радости Вадим не испытывал, о случившемся упоминал, если приходилось, с сожалением. Считал, что «дружина» была только орудием в руках брата, загипнотизированным медиумом. Единственное порицание, которое он себе позволял, было «нашла себе братца, нечего сказать!».
Косвенное подтверждение пришло от Либергауза. Братец хотел нанять его адвокатом, тот ответил, что у него контракт с Вадимом. Зависит от гонорара, не так ли? – проговорил наниматель. Витя ответил: не зависит. Описывая мне встречу, сказал, что сестра тоже сидела за столом, не произнесла ни слова. По его словам, смотрела на брата, как кролик на удава. Это, положим, из красот судейского красноречия. Но Витя утверждал, что когда разливали чай – хозяин разливал, – он налил ей заварку, а что кипятка больше нет, не заметил. Или сделал вид, что не заметил. Сказать ему об этом или пойти самой поставить воду она не осмелилась. Время от времени брала пустую чашку с лужицей заварки на дне и изображала, что пригубляет, даже делала глотательное движение. Выглядела покорной до невменяемости. Как пленница. Как кролик перед удавом.
13.
В ток-шоу на тему диссидентов и кремлевских либералов двое участников, которых я знал, были наша мировая знаменитость с дачей в Долинке и Дрыган. С поправкой на телик. Так сказать, тех, которых я знал как облупленных, объективный облик. С молодости, понятно, постаревшие, но не оставляющие сомнений, что это они. Я так непочтительно, подпуская насмешку, говорю «знаменитость с дачей», не чтобы проехаться на его счет и тем себя от него отделить, а потому, что знаменитостью он оставался, но все более бывшей. С той самой середины 80-х, когда он перестал что-то прежде недуманное думать и неделанное делать, а только занимал все больше позиций, осваивал все больше мест, просто богател, его репутация и представление о нем поменялись. Популярность немало той и другому способствует, но одно дело популярность кабаретного шансонье, которому руки хоцца целовать, и иное оккупанта. Этого можно и уважать – за образ, как икону. Но звать – для себя – Адиком или Осей, как одесского хохмача Леней, немыслимо. Краска на форштевенной обшивке знаменитости зашелушилась, металл по бортам кой-где пустил пятнышки ржавчины, а специалисты говорили – устал. Хотя издали яхта выглядела все той же красоткой.
Когда их представляли по очереди публике, они с Дрыганом пожали руки: продемонстрировали личное знакомство и один круг. Знаменитость представляли, главным образом, не. Наш гость не нуждается в представлении: автор…, исполнитель ролей…, председатель… О Дрыгане сказали член-корреспондент Академии наук, но особенно наседали на то, что он владелец конезавода. В начале, посередине (не к месту) и в конце. И один раз, при попытке (искусственной и неуклюжей) соединить желание перемен с темпераментом: диссидентов с холериками-сангвиниками, либералов с флегматиками-меланхоликами – вставили: «В интервью вы упомянули о цыганском происхождении». Мне с самого начала, а с этой минуты, уверен, и не мне одному, было очевидно, что Дрыган на шоу, в первую очередь, цыган. Быстро – и лихо – отвечал; двигался, а особенно не двигался, как будто сдерживая сильнейший внутренний импульс движения. Цыган в той же степени, как знаменитость – барин. Этот расположился в кресле вальяжно, говорил чуть-чуть небрежно. Со всеми, кроме Дрыгана. Барин, расположенный и ищущий расположения крупного коннозаводчика.
Сравнительно острых момента было два. Великий, когда объявили участников и наступила его очередь (естественно, последняя, он был фишкой передачи) кратко выразить отношение к заявленной теме, выдержал паузу, словно пытался самостоятельно разглядеть сюжет в туманной картине, но как бы все-таки сдался и сказал: я хочу определиться с терминологией. Прежде всего. Что значит заодно с властью? Что – против власти? Кто сделал эту власть? Ленин, Троцкий? Сталин, Берия? Или Платон Каратаев?.. Его лицо выражало взыскующую серьезность с добавкой малых доз печали и смятения. «Была уже такая сцена, – мгновенно откликнулся Дрыган. – У Порфирия Петровича. Да вы и сделали. Не вы конкретно, разумеется. Вы в виде «мы». В виде своего папы, например».
Второй – когда тот сказал, что собирается снимать обо всем этом фильм. Вынашивает давно, с брежневской еще поры… Он опять замолчал, взгляд отвлекся. Бес его знает, искренне или актерски. «Простите. Вспомнил, с чего начиналось». И живо, с напором, с двумя планами давай выкладывать: «Приснилась береза. Моему герою. Которую во сне он знал. А проснулся – где? Пошел по дачному участку – вот она, и подробности из сна при ней. Правда, не все. Еще побродил, и, представьте себе, стоит на соседнем участке, со всеми подробностями. А в десяти шагах другая. Эта высокая, а та еще выше. Его взгляд перескакивает – с этой на вторую, с той на эту. Два белых ствола сквозь листья, а над вершинами сине и без дна. И в этот же миг понимает, что точно так было во сне. Время идет своим чередом, Андропов, Черненко. Михал Сергеич. Борис. Все становится с ног на голову, с головы на ноги, замысел тяжелеет. Сосед продает дачу. Герой приценивается. Вдруг – всё, купили. Кто? Компьютерщик, большой бизнес в Штатах, школьником с семьей уехал. Между прочим, тоже ведь был способ режим обрушить. Знакомятся. Я перед вами виноват, перехватил покупку. Давайте мириться. Наша последняя разработка, приставка к компьютеру, «Троджен хорс», «Троянский конь». Вам от меня. Мой герой приглашает к себе. Присобачивают приставку. Ровно через четырнадцать дней – установки осыпаются, файлы исчезают, тексты стираются на глазах…» «Лубянские грезы. Какая мерзость!» – выстреливает голос Дрыгана: камеру на него не успевают перевести.
За столом было еще двое. И один внедрен в публику. Из застольных один был всецело с Дрыганом, историк, и один всецело с национальным героем. Сказал: конечно, главное терминология. Вся мировая философия только борьба терминологий. Заодно с властью – против власти. Взять меня: я вступил в партию в 57-м, на следующий год после венгерских событий… Историк вставил: сейчас говорят – венгерское восстание, даже революция, уже можно… «Вот и живая иллюстрация! – обрадовался философ. – Так кто я? Диссидент или кремлевский либерал?»… И кто же? – спросил историк. Элегантный, надо сказать, господин, даже не поверить, что наш. В безупречном костюме, грассирует, говорит спокойно, мягко. Национальный его спросил: «Вы, кажется, за границей преподаете?» – «Нет. Это вам кажется»… «Кто я? – сказал философ. – Сейчас я философ. Свободный философ. А был – и республиканским министром здравоохранения, и входил в союзный совет по культуре, и… много кем был. Ведущий меня достаточно представлял. Вы бы на его месте какую мою ипостась выбрали?» «Вступившего в партию после Венгрии», – ответил историк тоном дефинитивным, так что это прозвучало не обличительно, не обидно, а научно.
Сидевший в публике был молод, и видно, что жох. Набирал свои очки, а это проще всего на атаке знаменитости. Агрессивно. «Не понимаю, зачем я здесь. Какие такие государственный строй и политический режим обрушены, если их краеугольные опоры (пальцем на того) перетащены в наши дни не только неповрежденными, но и павлиньи разукрашенными? Для туристов из за. (Поворачивается к нему.) Вам какой степени орден за заслуги в прошлом году привинтили?»
Обратная сторона успеха, славы. Не позавидуешь. Радости все меньше, все больше неприятных субстанций, оскомины от общений, эмоциональной изжоги. Ведущий молодчику: ну-ну-ну, не кипятитесь! Но доволен. Улыбается тому, другому, историку, философу, Дрыгану. Конец. А в мозгу у меня висит секунда, ясная и в полноте. Впившаяся в меня, только не задержавшаяся, словно бы проскочившая. Философ сказал про вступление в партию – нацгерой мазнул историка предположением, что тот живет за границей, – историк ответил – дальше молодой-ранний. В эту секунду нацгерой наклонился к Дрыгану и сказал: «У вас ведь тоже был партбилет?» Условно вопросительно. Приватно. И Дрыган ему: «Как и у вас». Незначительные реплики, не на тему – второстепенное общение на фоне первого плана, где ведущий управляет развитием главной линии. Но я – убит. Ни единого раза – он не упоминал, я ни сном ни духом не предполагал.
Три вдоха, три выдоха, звоню. «Ну, какой я был?» – «Как живой. Только глаза, не видно что разные». – «А они давно не мои. Катаракта туда, хрусталик сюда… Оставили про папу-то. И мерзость оставили. Я хозяину базара, еще когда он звонил, приглашал, – первым пунктом: из меня ничего не вырезать. А то – раскидываю ему – меня часто снимают, сразу заявлю: такой-то меня чистил… Я там в коридоре на Илью твоего наскочил, тайнозрителя. Тоже привезли записывать. Говорит: меня тут знают. Как склочника. Я им объявил с первого раза – кончилась съемка, мне, пожалуйста, запись, целиком, черновую, чтобы было с чем в суд идти… И с ходу начинает рассказывать мне одну из своих историй. Меня зовут гримироваться, говорю: да знаю я ее…»
Я спрашиваю Дрыгана: «Про лампу?» – «Не помню про что, не про лампу». – «А про лампу знаешь? Мощная история». (За жизнь я прослушал все истории Ильи по несколько раз. Все – наподобие марганцовки, змеи, все мощные. Их у него порядочный запас, и я, признаюсь, так и не схватил, вкладывает он в них насмешку над собой, по виду иногда и беспощадную, или делает объективный отчет. То есть считает себя рассказчиком, или историографом. Одна из самых душераздирающих, а перемени фокусировку, самых философских, была про керосиновую лампу. Кажется, в то же лужское лето, когда хлебнул речной воды. Он пошел вечером в уборную, во дворе. Август, уже стемнело. Взял с собой стоявшую на веранде зажженную лампу. Внутри, закрывшись, поставил рядом с дырой. Вдруг выскочил с криками: «Убейте меня! Какой ужас! Я утопил лампу». Конец рассказа. В первый раз я слушал не один, мы все были уверены, что он его по какой-то причине обрывает. Нет, конец. Спросили, чего он так испугался. Наказания? Возможного пожара? Он глядел на нас с недоумением: «Почему испугался? Ничего не испугался. Просто сильнейшее впечатление. Явление ранга мировой катастрофы. Секунду назад, долю секунды, долю доли все было неколебимо и разумно, как к утру седьмого дня. Ни с того ни с сего, без причины – бам! дзынь! шмяк! Тьма, вонь! Это первое. Второе – был великолепный инструмент. Стекло, горючее, фитиль, огонь. Миг – не только нет редкостного изобретения и драгоценной вещи, а торжество издевательства над ней!») «Давай, – говорит Дрыган, – рассказывай, меня сейчас не гримируют, время есть».
И – не выгорело у меня про партию его спросить, рассосалось, слишком далеко отъехало.
14.
Не наци. Комми, конечно, не наци. Главным образом, из-за расхлябанности. Которая, по словам Достоевского, спасет мир. Никаких «окончательных решений», железнодорожных спецрасписаний, экономичных печей, утилизации костной золы. Никакой системы, даже целенаправленности никакой. Просто: попался – и привет. Неважно кто. Но все-таки! – дошли на общих работах (в мильонах) столько-то, шлепнуто столько-то, слезишек накапано столько-то цистерн. Вдохновитель-то и организатор этих побед не наци, конечно, но тоже партия я те дам. В нее влезать и в ней растворяться ради сафьяновых пропусков в библиотечный спецхран, пражских спрыснутых о-де-колонь симпозиумов, входа в коридор, куда выходят двери, за которыми раздают деньги на лаборатории и новые фильмы, – Коля! Дрыган! я тебя люблю, твои объяснения знаю, свое чистоплюйство назидательное презираю, но помилуй, Коля!
Минут через десять звонит Илья. Ему позвонил Дрыган, поэтому он торопится мне сказать, что завтра вечером передача с ним. Но утром его шофер привезет мне CD с полной записью, я его посмотрю, а вечером уже телик. Заодно скажу ему, что они вырезали, что врезали. Кстати, интересно (ему), узнаю ли я там одного человечка. «Я тебе рассказывал, как читал лекцию матлингвистам? Почему, спрашиваю их, ушные выделения…». Илья, перебиваю… «… называются сера. Ну напрягите извилину, раз вы матлингвисты»… Илья, про лекцию и саму лекцию знаю наизусть. «Как я у всех на виду засунул мизинцы себе в уши?» Как засунул, потом поджег, а в рукава спрятал бенгальские огни… Илья, помолчи-ка полминуты, мне никак не пробиться. Ты знал, что Коля в партии?.. А ты что, не знал? Это, наверно, чтобы не повредить твое нежное душевное устройство, он тебя не извещал. Мне-то сказал: а ты чего ждешь? Небось билет в троллейбусе покупаешь, не задумываешься. Ну мне-то не требовалось… И Вадиму, сказал я, и Либергаузу, и мне, и Вадимовой чешке, и Агаше… А грузину твоему требовалось…
Секундный анабиоз. Нет, я сказал. Врешь… С чего мне врать? Или он ангел? Как миленький – приобрел проездной билет в хрустально-гранитных корочках. Оказалось, не пожизненный… Черт, подумал я. Про все вместе. И про себя: старый болван. А про него – что имя все равно крестьянское, рыцарское, древнее, нежное. Только кому-то рядом принадлежащее. Брату его. Никому не известному его брату.
«А с ушами и бертолетовой солью остроумно, да?» – сказал Илья… Вот что, дорогой, меня тут массируют и гримируют, не могу говорить. «Знаешь, кого против меня на передаче выставили, главного?» Завтра узнаю.
Шофер доставил груз, я стал смотреть. У этого – который только и ждет, чтобы самому высказаться – и всегда мимо кассы, – он был главный, Илья. Название передачи тут же выскочило из головы – а может, и вовсе не было. Намеренно – дескать, у всего, о чем мы говорим, одно название: жизнь. Очень в духе этого мыслителя. В общем, на тему «Жизнь после смерти». Сперва он ля-ля, мать сыра земля, и остальные: экстрасенс в голубом, в цепях, в браслетах, батюшка в подряснике и с крестом, один переживший клиническую смерть – и Илья. Здоровый мужик, раздобревший, конечно (особенно с тех двадцати одного), и осевший, но похожий больше на бросившего спорт американского квотербека, чем на электронного светилу-технаря. А против него, непосредственный его, по замыслу, опровергатель – ужель та самая! – бывшая жена Вадика, структуралистка. Я говорю потом Илье: всю передачу – то узнавал, то не узнавал. Он мне, почему-то самодовольно: «Она, она, я сразу опознал, такая научная. Еще до начала, подкатывается: о чем будем спорить? Я, мэтр, снисходительно: какая разница?»
Расчет был понятный. Экстрасенс, считай, оттуда: его хлеб. Священник будет ставить его и всех на место. Умерший-воскресший поделится воспоминаниями. Илья – как далеко проникла наука в тайны мироздания. Бывшая Вадима – не совсем ясно, что-нибудь о возможностях языка называть такого рода вещи. Не совсем ясно, но в этом роде. А в реальности… Не вполне корректное слово. Что на телевидении реально, что не реально, кто может определить? Но в том, что было на CD, да и в оставшемся на экране, роли распределились: ей – говорить невразумительно, вроде изображающих ученость персонажей Мольера; Илье – абы как, но по-человечески. И даже если туманно, то как, бывает, говорит человек туманно, а все про него понимают: ой, дошлый, ой, умный, ой, ученый! Например, бывшая между прочим роняет: всемирно известный тра-та-та Ауэрбах пишет… Илья не дает кончить фразу: «Письмо не что иное как мазанье, чернильной жидкостью въедливой, жирным графитом чешуйчатым. Причем параноидальное. Не как хочет, так пусть и мажется, а выводя крючки-завитушки-иголочки. Совершенно такие, как любые другие, и, однако, не любые и не другие, а именно эти». Вроде невпопад, а вздрючивает, не сравнить с впопадом.
Или – она говорит: обновления языка… Он: «Обновления суть обнуления». Под конец беседы кормчий спрашивает участников, кто какой даст совет зрителям как имеющим перейти в иной мир. Все еще воздуху в легкие набирают, Илья уже катит: «В мобильном что главное? Источник питания. Одно из моих последних изобретений – такая штучка, которая будет работать минимум тридцать, а допускаю, и пятьдесят лет. И в смертный мой час жена, так мы с ней условились, положит мне телефон со штучкой в верхний карманчик пиджака. Вместо украшающего платка, в тех краях ненужного. Ежели что, позвоню. Тогда и дам совет».
А до того этот поворот с «чем богаты». Ведущий перевел стрелку на «жизнь – юдоль страданий». Такая игра ума: не будет ли нам там лучше, чем здесь. Илья сказал, что смотря кто там. Что здесь он довольно хорошо узнал «семь тысяч восемьсот человек» и даже нехорошие были ему хороши. Если бы он умел писать, то написал бы про них, какие они замечательные. Тут выкрик из публики: чем замечательные? Тем, как мне с ними было замечательно. Микрофон передают выкрикнувшему, и – это кто же? Это тот же, кто вчера терзал знаменитость. Надежда нашей новой культурологии, специалист по взаимовлиянию поколений. Так представляет его капитан программы, гордясь им. Некто Шаркунов. Да, да, и вчерашний так представлял. Бывшая что-то шепчет Илье. Дрыган вчера по телефону говорил: там есть люди – живут на ТВ. Этот, молодой многообещающий. Поэт один в очочках, всегда на галерку садится. Ходят из передачи в передачу. Хозяева их любят, что наготове, чем остреньким как бы случайно пульнуть… На этот раз звезда галерки шмаляет в Илью. «Чего вы ими гордитесь?» И Илюха ему запросто, по его уму, с усталым достоинством: «А того – что мое и не тронь. Ишь, какие умные».
Фехтование окончено, у Шаркунова хотят отобрать микрофон, но он не отдает. «А вот это понимаю, – говорит он, – и одобряю. Мой дед был из первопроходцев ГУЛАГа, еще в двадцатые замели. Мальчишкой. Отправили в заброшенную пустынь, на Север. Только-только начали осваивать монастыри под лагеря. Выжил, вышел, стал на воле столпом науки. Неважно, какая фамилия, знаменитый. Как разговор о советском терроре, первым делом интервью с ним. Мой дружок, Пашка, Петька, тоже неважно, сделал бабки на алюминии, на титане, тоже неважно, и построил там отель. Пятизвездочный. Пригласил на открытие. За его счет. Я с восторгом. Бунгало, номера люкс. Красота неописуемая, остров посередине озера. Три дня открывали, кораблики, девчушки, преподобный покровитель, расстрельные погреба. Куда надо – экскурсия, когда надо – молитва, где надо – шампань. Я что хочу сказать? Дед – одно, я – другое. Его «мое» – его, а мое «мое» – мое. И правильно, не тронь. Кому девять грамм, получи девять грамм, кому пробка в потолок, получи пробку».
Молодой человек, говорит Илья опять нехотя и устало, я моих люблю, а ваших нет потому также, что мои с юмором, а ваши без… Тот: и что в ваших такого юморного?.. Что не такие серьезные. Где можно, мы невсерьез. И перепалку, молодой чемодан, уже в ваши годы не обожали.
Вечером посмотрел с экрана. Цензурного вмешательства не обнаружил. Ну, «молодой чемодан» убрали. Кажется, убрали «параноидальное» – про процесс письма. А вообще, все немного как эстрадным лазерным цветом подернулось. На вид и Шаркунов, как распоряжающийся писатель его проштамповал, остро ставит вопрос, и Илья, знающий себе цену, не лыком шит. А не колышет. Хоть про ГУЛАГ, хоть про тот свет – развлекаловка. А для меня – ну полюбившаяся серия соп-оперы. Всё, как на CD, с той поправкой, что это не ток-шоу, а роли. Схема характеров в схеме предлагаемых обстоятельств. Скажем, экс-Илья пикируется с экс-женой товарища. Малый в голубом учился на служителя культа, переметнулся в колдуны. Священнику поручено руководство святостью, за отклонения снижает оценку. Шаркунов на глазах вступает в оппозиционную партию… «Что она тебе про него шептала?» – спрашиваю по телефону у Ильи после передачи. «Ты не поверишь. Сказала: он армянин. Я на нее посмотрел: мол, и дальше что? Она еще раз: армянин. Я его отца знаю: отец армянин. Спрашиваю: а дед? Деда не знаю. Как Вадик мог на ней жениться?»
Чем богаты, говорю Илье, это толково… Подожди, говорит, я тут выключу. И долго в трубке пусто… Потом: «Я тоже смотрел. А что толково? Ничего толкового. Ничего вообще, ни у меня, ни у кого. Я был старше тебя. На четыре года. Казалось бы, разница лет. На четыре года – уйма времени. Где эта разница? Если бы я тогда это сказал, может, и было бы толково. А сейчас какого тебя какой я старше? Или младше? Или вровень? Было знаешь что? Время было. Потому что я был старше на четыре года. Раз была разница времени, значит, было время. Кому она мешала? Оно – кому? Бенгальских огней я в рукавах не прятал. Думал спрятать – да. Что подумано, уже как бы и было, можно рассказывать. В ушах я перед ними ковырял, это правда. Вы, думаю, матлингвисты, а это уши. Сообразите-ка. Сера тут, сера там – поговорим, поговорим, давайте! С чего это вы выбрали матлингвистику, у вас что, время немереное? Математику – понимаю: я с математиками наговорился, с лекцией бы к ним не пришел. Лингвистику – понимаю, тоже бы не пришел, практиковать практикую, но не дегустирую. Не лангустирую. А лезу мизинцами в уши и потом поджигаю. Два бенгальских огня. В рукавах. И всю жизнь рассказываю это тем, кто хочет слушать и кто не хочет… Постой, я же тебе сказал, что огней не было. А хоть бы и не было. Они бы поверили. Когда я целую минуту тряс мизинцы в ушах, все впали в транс: чиркнул бы спичку, поверили… Ладно, и то хорошо, что повод поболтать. Пока».
Еще не пока. Жена. Что он с женой условился насчет мобильника в гроб. Кто такая? Он поначалу тем же тоном замямлил что-то – и хихикнул. Ну, не моя жена – что, я перед ними должен отчитываться? Старая подруга. Обратился к старой подруге. К Рогнеде.
15.
Моя идея посмотреть несколько таких программ вдруг предстала глупой. Как раньше, тоже вдруг, привлекательной, обещающей предъявить мне старых знакомых в их нынешнем, причем остраненном телевизионной картинкой, виде, дать составить новое, возможно последнее, мнение, – так теперь глупой и скучной. Двух увиденных оказалось достаточно. Более чем достаточно – потому что, досматривая Ильёвую, я уже чувствовал, что переел. Этих подстроенных дискуссий, сконструированных, конвоируемых начальством. Этих студийными шоферами свезенных людей, неохотно или, наоборот, с восторгом согласившихся, которых выдают за гостей. Похожих на множество других, а если непохожих, то подгоняемых вопросами к похожести. «Поколение». Списанные временем старичманы – вот и все поколение. Идея была искусственная, мое формальное умножение четырех передач на двух в каждой знакомых выдавало ее выдуманность. Выморочность, фигуральную и буквальную.
Рогнеда. Да. Вместо того, чтобы все, о чем тут написано, вспоминать и сводить в некое сочинение – напоминающее в лучшем случае лоскутный квилт, а вообще-то одеяло с торчащей из прорех ватой, – надо было изложить биографию Рогнеды да приложить к ней несколько фоток. А правильней не несколько, а много, в разных ролях на сцене и в разных видах в жизни. И вышло бы поколение как оно есть, и всевозможные, включая ближайший, круги ΠD, только подставляй желаемые значения диаметра. И даже «я печень загубил на нашем поколенье» не выглядело бы некстати, разве что намекало на легкое, с подмигиванием античности («черная желчь»), поэтическое преувеличение.
Потому что был период, когда меня к ней тянуло – и останавливало в непосредственной близости от нее. Не то чтобы опасной или рискованной, а не скрывавшей, что дальнейшее продвижение, возможно, приведет к награде и счастью, но непременно к краху и боли. Столетняя годовщина вождя пришлась на это время, но и до нее с год звук сердцебиения отдавался в ушах: рогнеда, рогнеда, и лет пять после откуда-то донесется: Рогнеда – и сердцебиение. Если собрать все эти роги, и гнеды, и дыры вместе, вышло бы таких систол-диастол миллиона, может быть, и три – абсолютно бессодержательных, невдохновляющих, нетворческих. Но тревожащих, вызывавших глубокое дыхание.
Какие награда и счастье, в общем, понятно. Особенно награда, которая звучит тут пошло, если не слышать, что это она и есть, Рогнеда, по-русски. А крах и боль потому, что что-что, а ни единой интонацией, ни тембром голоса, ни единым движением, жестом, посадкой головы, гримасой не притворялась она, что бесповоротно, навсегда, только. Что преданна, даже просто верна. Верна, преданна, конечно, – пока верна и преданна. Больше того: верна, предана тебе – но также и ему, им. Любому не в смысле каждому, не в смысле шлюха-потаскуха-изменщица, а любому избраннику, и если это он, они, то ведь и ты тоже – ее избранник. Короче, чужих мужей вернейшая подруга, того же Ильи по слухам. И многих с годами безутешная вдова.
А что, разве наши, мои, их отношения с поколением не такие же? Ничьей она не была женой. Можно было думать про нее как про чужую и уж всяко как про чужую говорить. Набор мыслей о ней и употребляемый в разговоре о ней словарь выглядели ожидаемыми, знаемыми наперед. Так думают и говорят студенты об академической дисциплине, вызывающей личный интерес – биологии, истории – и в то же время бессонницу и страх перед экзаменом и неизбежный трепет в момент вытягивания билета. Но про эти экзамены – позапрошлогодние, предвоенные, вековой давности – ходят легенды, первокурсников и выпускников окружает ореол причастности к суб-суб-субкультуре, вышедшей за рамки университета. «У вас там, говорят, двоечница затащила профессора за классную доску и получила четыре», – вызывали на разговор посторонние. Вызванный сразу подхватывал, красочно расписывал, прибавлял – и внимательно следил, чтобы легкомысленность сюжета не переходила в насмешку. Чтобы честь суб-суб не оказалась задета. И уж конечно, чтобы не возникало ни малейшего повода путать ее мифологию с бабушкиными сказками.
Ничьей она не была женой, но не сказать ли, что поколение – круги от ближайшего до отдаленных – было ее женихами? Мало кто избежал краха, войдя в ее силовое поле, и никто не ушел от боли. Она вела себя одинаково в двадцать пять, когда была общепризнанно хороша, и в пятьдесят и шестьдесят, словно физическая привлекательность была для нее ноль, ничто. Вы, я вижу, за мной ухаживаете, могла она сказать, а напрасно. Ухажеры – бабы в мясном отделе: мне тонкий край, мне яблочко. Титечки-попочки – и конечно: лужок заросший есть у вас, прелестная Аминта. Схема раздела говяжьей туши. Честно, мужик, ухажеры – такие. Все, кроме считаных.
И сейчас, в семьдесят, ничего в ней не изменилось – если не считать внешности. Крупная – но к этому шло и в двадцать пять. Титьки стали длинные, тяжелые, важные, не холмики шотландского девственного снега, не молочные железы. Так ведь и не с кем в снежки играть, и грудные есть не просят. Попа, говорила она, сама по себе скульптура. По крайней мере, у меня. Можно на выбор: торс или она. Я – Майоль, не спорю, но прежде всего я Генри Мур. И я – Берта Большая Нога… «Я никого не родила, – сказала она, когда кто-то поднял тост за ее «величественную осанку». – Но вешу больше своего веса ровно на вес новорожденного. С добавкой всех вод, и всего жира, и крови, и дерьма, которое ему сопутствует». Вадим проговорил в обычной необидной манере: «Ты позволяешь себе сказать «дерьма», потому что не рожала». Она возразила: «Нет, просто я сыграла в куче переводных пьес, там никогда не говорят грубее, чем дерьмо».
Тоже любила говорить: зачем актрисе внешность? Фактура – да. Дак на фактуру жалоб не было.
И зачем ей были мужья, если она сыграла массу женщин, которые все жены или, на худой конец, невесты? Однажды, когда Илья в десятый раз рассказывал про укус змеи, я отвлекся. Долетали лишь отдельные слова, какое-то из них дернуло под моим черепом спусковой крючок, и вместо голоса Ильи я услышал собственный: театр, читка пьесы, распределение ролей, медсестру дадим Рогнеде. А кому еще, если она единственная актриса, которую я знаю? И если она сыграла Крупскую – а она ее в самом деле сыграла, – то почему не Лилиану, выдуманную мною мать? И тетка в КГБ – она действительно меня допрашивала, или это тоже из сценических удач Рогнеды?
Ничьей она не была женой – хотя в последние годы жила у Вадима. Я позвонил ему – замечена ли им вспышка телеактивности. Она взяла трубку. Алло, Рогнеда? «Ее нет, – сказала она. – Говорит ее истерзанное тело». Все-таки чересчур много ролей выучено и запомнено. Что не отменяет завуалированной жалобы. Кем, спросил я, чем: приболела? Тот, кто утром кофе пьет, никогда не устает – это же была твоя коронка, еще при социализме. «Всеми. Всеми вами»… Надо держаться, тебе же предстоит войти в телефонную связь с вечностью… Она задала тон, никак не мог я с него слезть. Она же и сняла. «Приезжай», – и повесила трубку.
16.
У ворот сигналю, выходят оба – и Витя Либергауз. Сюрприз, говорит Витя, решили сделать тебе приятный сюрприз. Остаешься ночевать, говорит Вадик.
Это предполагалось. И «Джонни Волкер» четверть стакана – к двум уже действующим на столе. Не пьет Витя и, пока мы чокаемся и глотаем, энергично выкладывает: три стента, мюнхенская клиника, наблюдение академика (грузинская фамилия) в Москве, крестор, щадящая диета. Генеральский набор. Рогнеда говорит: меняй волну. Вадик: а мне нравится, убедительно и в самый раз, ни переполнено, ни недобрано, и если фраза началась, знаешь, на чем кончится, прокурору делать нечего, приговор сто пудов оправдательный. Сто пудов, повторяет Рогнеда. И Витя с удовольствием: сто пудов. Вровень с языком, в ногу.
Рогнеда достает сулугуни и брынзу, и еще два сыра, и всякие мясные нарезки. Говорит: опередив, шутка. Витя: а помните Куца? Когда он начинал отрываться… Вадик: спуртовать. …кто-нибудь обязательно: во нарезает, и кто-нибудь сразу еще обязательней: объявил нарезку. Рогнеда: Вить, полглотка, а? Не как в Ялте, когда ты меня валил-валил шампанским и я тебя домой мертвого волокла, а пол (большим и указательным показала малость просимого и предлагаемого). Для блезира. Зигзаг… Витя беспрекословно: только водку, – сам плескает в стакан. Ну за, ну за, ну за. И сам пригвождает: жалкое зрелище. Вадим: давно.
Рогнеда отправляет в щель сидишника диск. Программа, еженедельная, название всей серии «Культурная мода», конкретно эта передача, за абсолютную точность не отвечаю, но, кажется, «Культура геев: разновидность большой? маргинальность? обособленность?». В студии два этих самых гея, ведущий под вопросом, два страшных антигея (один ветеранского типа, с орденом «Знак Почета», другой комсомольского, на языке вертится «с кастетом»), священник. Женщина пожилая – воплощение материнства, и молоденькая, под пару комсомольцу, лейтмотив: я нравов свободных, но убежденная «гетерианка» – именно так сказала. И Вадим.
Спрашиваю: с чего это ты?.. По дружбе. Верховный гом страны – из нашей той компании, ты его знаешь, с бобриком бело-желтым. А я однажды важной их гонительнице сказал при людях: других забот нет? Он и попросил прийти оборонить… Рогнеда встряла: удивляюсь, что не все… бело-желтые. (Я наклоняюсь к ее уху и шепчу: а ты была членом партии? Она шепчет в мое: я и сейчас член, только взносов не плачу. Я уже Крупскую играла, была. Крупскую нельзя беспартийной. Я коммунисска раннéго часа, пью денатурку заместо кваса. Я ей: я не разочарован. Витя: не мешайте смотреть. Вадим: это же шоу.)
Шоу течет. Как обычно, каждый ведет линию, которую от него ждут. Обличающие обличают, обличаемые пафосно уличают их в незнании предмета ни под углом истории, ни современности и не обличаются. Вадим выглядел уютнее всех, светло-серая, явно какого-то мэзона рубаха с открытым воротом, прическа аккуратная, но отнюдь не уложенная. Говорил неучено, присыпанно юмором – в давнем значении этого слова: хорошего настроения (правильно будет сказать, намерением юмора). Но говорил мало, больше помалкивал и при первой возможности изображал лицом согласие, поощрение и благодарность – кто бы что ни утверждал. Опять-таки вначале, представляя свою позицию, сказал, что не замечал в гомосексуалах (так!) особенностей, отличий от не. Разве что иногда особенно предупредительные интонации, «я бы назвал их хрупкими». И что в ранней молодости он познакомился с «чудесным юношей», который был уверен, что на свете есть «гомосексалы».
Рогнеда нажимает на паузу, встает, заставляет встать Вадима. Кланяется мне – низко, широко, не разгибается долго. Тянет вниз его, он тоже наклоняется, халтурно. Либергауз подносит руку к сердцу. Мило. Напоминает детскую шараду. Пускаем дальше.
Возможно, юноша путал их с аксакалами, говорил Вадим. И хотя сам он, Вадим, не был, увы, так целомудрен и, что еще печальнее, не стал позднее, он с тех пор считает, что так, как этот юноша, и надо подходить к этим загадочным мифическим существам, если сам не такой и не хочешь строить знатока.
Опять стоп. Это, объяснили они, в эфире осталось. Вырезали следующий кусок: где он сказал, что его покойная жена говорила «еще в то время, в шестидесятых», что все рассказы о встрече Хрущева в Манеже с художниками были предсказуемо спущены в мелкое и заболоченное русло. Сюжет смастырили из вульгарности вождя и гонений на искусство. Позднее перемешанных с самохвальством. Тогда как Хрущев, крича «пидарасы», беспомощно пытался противостать надвигающемуся торжеству мира бесплодия. Которые – бесплодие и его торжество – своим крестьянским чутьем чуял, но по некультурности не мог выразить.
После замешательства, породившего в общем красноречии паузу, ведущий спросил, а кто, собственно, его жена. Этот момент склеили встык с обрывом на чудесном юноше. Вадим назвал, все немыслимо оживились, забыли о геях и стали говорить об Агаше. Ведущий был шоумен нашей школы, приходской, посы́пал вопросами. А что она еще говорила – про власть, про мораль, про культуру; а не подавляла ли вас сила ее выдающейся личности; а не замечали ли вы за ней особой сексуальной ориентации?.. Вадим состроил одну, другую, третью свои обаятельные гримасы и добродушно – тоном, во всяком случае, добродушным – сказал: «А вы за своей? За женой своей. Не замечали?» И уж совсем ангелически закончил: «Звали-то нас в застолье вроде не на нее. А?»
Стоп, эджект, всё. Дальше ерунда, объясняет Рогнеда… Если, говорю, это для меня, тронут, мерси. Вживе, конечно, живее, но фирменный знак – твой, смотреть не стыдно… Либергауз, недовольно, мне: ты тут не один, мне так очень, очень. Мне всё очень. Мне они (подбородком на Рогнеду и Вадима) сказали, ты смотрел и две эти, с Колей Дрыганом и с Ильей. И Коля, и Илья – мне – очень. Мне и сосед ваш (опять Рогнеде с Вадимом) очень… Я перебиваю: как малограмотный твердит. Очень. Не съехать… Ты, отвечает, больно златоуст. Выражаюсь, как умею. Простонародно – что значит искренне. А главное, неожиданно. Ты, как Вадим сказал, ждешь, что если у Либергауза фраза началась, представимо, как кончится. А Либергауз тебе: очень – и грызи кость.
И вдруг Вадим: и мне очень. Так как-то всё вместе и нас на фоне всех показали, что прорезалось, о чем никогда не задумывался и не подозревал. Что есть о чем. Что-то общее, что-то сродное. Причем не стадное. И чего уже не переменить и не поправить. Что-то противное, как кровь горлом. А ты сидишь у постели. И помнишь, как еще только покашливание начиналось. Те годы. И как тогда шутили: будь здоров, не кашляй. Про совсем другое. Веселое, дурацкое, никчемное, никакое. Уже шло к кровохарканью, необратимо. Так ведь все куда-то шло, у всех, и что так идет, была полная уверенность, что только так и может идти, и должно. И прямо тут, возле койки, кровь горлом из противной делается родной. Потому что единственной. Противная, дорогая сердцу кровь. Нашему столько же, сколько его. Так что и мне – очень, очень.
Показания, произносит Либергауз торжественно, в протокол не заносятся, но влияют на настроение публики, в частности присяжных. А возможно, и судей, если они неподкупны.
Мы идем гулять. Почти одновременный по жаре этих широт налив всех ягод: земляники, вишни, смородины красной, малины, крыжовника, смородины черной. Если не думать о зиме, не стоять в эту жару у горячей плиты, отнимая время у прохладного купанья, не варить варений, добавляя к июльскому многодневному зною жар раскаленных спиралей и открытого огня, – только и срока что две недели, ну три, поклевать всю эту сочно-сладко-разноцветную спелость, как птица. Добрать в августе-сентябре яблочной, сливовой и рябинной клетчатки и улететь. Или, ежели морозостойкий, не улетать. А вернешься ли через год, и ягоды вернутся ли, кто возьмется ответить?
Чьи это слова, чей голос? Не Рогнеды. Она в эту минуту говорит, что не любит ходить. Любит сидеть в саду, в плетеном кресле. Читать. Дремать. Это для нее одно и то же. Вдруг видеть боковым зрением, как кто-то быстро идет вдоль забора по дороге. Вверх. Иногда их несколько, тогда строем. Это ветерок пробегает по грубым крепким стеблям растений, нескошенных с той стороны забора. От бывшей реки, пересохшей. От реки всегда ветерок. Воды нет, а он остался.
И не Вадим. Вадим прихрамывает. Что? Тебе знать не надо. Подагра. Чепуха. Сливы уже розовеют. Маленькие, слишком рано, не созрев падают. Где подагра? Где надо. На плюсне стопы такая косточка за большим пальцем. Сизовеет, как слива. Косточка, без мякоти.
И не Витя. Витя рассказывает, как начинал карьеру, работая у известного ленинградского адвоката. Тогда говорили, частного. Выучился у него приемам. Доверял его интуиции, в ее русле развил собственную. Сориентировался в мире практических юристов. И к тому выучился работать и действовать в системе советских ограничений и фальсификаций. Развил нюх на то, откуда чем тянет. Вообще – сориентировался. Я откуда-то это уже знаю. И Вадим, и Рогнеда. Но слушать интересно. Уютно. Манера речи и голос у него знаменитых. Так он говорит. Говорит: по-другому не скажешь и объяснений не требуется.
Значит, то, про ягоды и птиц, – я. Мои слова и моим голосом – хотя рта я не открываю.
17.
В бывшем русле якобы существовавшего ответвления Истры теперь стоят дома. Несколько старых дач, несколько домиков архитектуры избяной, тоже давней постройки. Все с приделами, по большей части уродливыми, мезонинами, вторыми этажами на месте чердаков. И несколько кирпичных теремов, новых. Либергауз говорит, что его адвокатская контора иногда ведет дела о спорных владениях в похожих полудеревнях-полупоселках. Он обратил внимание, что высохшие русла очень ценятся из-за твердости грунта. Так сказать, земная кора как таковая. Я играла Воду в детской радиопьесе, говорит Рогнеда. Собачий бред, как Засуха ее изгоняет. Главная реплика была «я еще верну-усь, верну-усь, смою тебя в преисподнюю-ю». (Мечтательно:) посмотреть бы, как поплывет Заистровая наша Долинка. В море-окиян, если не в ю-ю… Вадим: список кораблей до и после середины.
В низинке выкопан пруд, садимся на берегу. Рогнеда переводит взгляд с одного на другого, на свои плечи, живот, заключает: а мы в неплохой форме. Мне: делаешь зарядку?.. Лежачую. Главное пресс… Пресс – главное, подтверждает Витя, внутренний корсет… Появляются две мамаши, здоровенные как гладиаторы, с мальчиком и девочкой, худосочными, как лягушата. С ходу кидают в воду надувные матрасы, залезают по колено, затаскивают детей. «Прошлым летом дед-засеря нажрался, чуть не утопил». Мальчику: «Озяб, блять, иди, я сказала, к Марине!»… Марина решение приветствует: «Долго я тебя буду ждать, ёп твою мать!» Мы раздеваемся, уплываем на середину. Матери на матрасах подгребают к нам. «Вы не врач», – спрашивает меня Марина утвердительно. Нет. «А вы с виду врач», – говорит Либергаузу. Тоже нет. Они разворачиваются. «А его почему не спрашиваете?» – Либергауз на Вадима. «Он тут живет», – отвечает не-Марина. «А ее?» – на Рогнеду. «Нам сказали, мужчина». «Кто?» Не отвечая отплывают. Издали одна другой: «Не все, блять, ему равно».
По пути домой вяло шутим, чем Витя похож на врача. Может, тем, что похож на еврея. Вадим: араб попал в автокатастрофу, нужно переливание крови, а группа очень редкая… Витя не похож на еврея, говорит Рогнеда с напором… Такая группа есть у одного еврея… Я не похож, подтверждает Витя. А на кого же?.. Еврей дает кровь, араб выздоравливает, дарит ему миллион, плюс коня, плюс дом… На интеллектуала… Новая авария, еврей тут как тут, на этот раз ждет яхту… Космополитический тип… Араб дарит шоколадку – в чем дело? – а у меня уже две трети еврейской крови… И подначивает: ну, ну, ну! Либергауз, Либергауз, что-то мне это говорит… Витя, в сторону Вадика: старость никого не украшает. Рогнеда: никакая не старость, а нормальный Вадин маразм. Витя: Вадь, правда, ты раньше ни про евреев, ни так позорно… Так откуда фамилия такая?.. Я вмешиваюсь: фамилия его матери… Ты ее знал? Космополитический интеллектуальный тип?.. Витя говорит: были такие бароны остзейские, Ливерхаусы… Вот, вот! Остзейские. Ну слава богу.
Лениво. От нечего делать. Как мы же молодые. Минус тогдашняя веселость, вегетативная, плюс сегодняшняя, подражательная. Мы.
Вадим шваркает на сковородку отбивные, моет помидоры, салат, ставит на стол, стуча, тарелки. Ну, быть! Или не быть? Ну, так и быть. Первые пять минут этого быть. Следующие пятнадцать того, в которое это переходит. Еще сколько-то, не сверяясь с часами, такого, которое, как вода в пруду, всегда колышется вокруг в ожидании, когда оно понадобится.
Ложь.
Я не произнес это вслух. Но если бы произнес, то так же спокойно, как «передай хлеб» или «подвинься, я тебя против солнца не вижу». Может быть, все-таки немного эмоциональнее, потому что «ложь» звучит пафоснее, чем «вранье», «чушь», «лажа», «липа», «туфта» и так далее.
Ложь было то, что я, и мы все четверо, и все остальные позволяли себе думать о себе как о поколении и в то же время выпивать так, как мы выпивали. Виски соглашаться, а водку не хотеть. Спрашивать «а “Чивас Ригал” у тебя нет?». Делать глоток, не делать следующего, отодвигать, пропускать тост, квазитост, отказываться, прекращать вообще. Не перепивать. Тогда как поколение пило не ради подъема настроения, и не из симпатии к собравшимся, и не за компанию.
Самое ошеломительное – не чтобы опьянеть. Чтобы прийти в норму – вот зачем. Нормально, то есть неуклюже двигаться, таращить глаза, сидеть с закрытыми. Наливать следующую только потому, что ничего другого нет в виду. Засыпать, падать все равно где, за столом, на улице.
Пить не водку, а московскую. И не московскую, а два-восемьдесят-семь. И не ее, а сто-пятьдесят-и-кружку пива. Не портвейн, а бомбу, не бомбу, а краску, не краску, а густую непроглядную химию, рубль семьдесят. Грязную кровь драки, еще не сворачивающуюся, но уже не закупоренную в капиллярах. Видеть трезвых или ненабравшихся, в отличие от себя, не вполне нормальными, спешащими, лишнее или непонятное говорящими. Это было не пьянство, пьянством это называли те.
Это было как баня, только не раз в неделю, а постоянно, не просыхая. Наше поколение ходило в баню. Описать его ходящим в баню будет точнее и основательнее, чем гуляющим. «Гуляло». Беллетристика. Ходило в баню и в сорок отдавало концы. Приказывая жить дальше, дольше, до семидесяти, таким, как я, Вадик, Рогнеда, Либергауз. Истолковывающим мироустройство. Оставленным выдавать себя за «всех».
…Либергауз, Либергауз, говорит Либергауз, посмотрим, кто это такой. Снимает с вешалки портфельчик – с ним приехал, – достает лэптоп. Плоский, как камбала, с нее же размером. Достает из бумажника кружок, толщиной с мацу, диаметром медали «За победу в Великой Отечественной войне». Такой, что сразу видно, не на каждом шагу валяется, подороже Вадимова CD будет. Вставляет – и возникает на экране. Не сразу (десять секунд на освоение физиономий) – титры: «Контемпорари Раша», «Эвридэй интервью». Физиономий три: его, русской молодки-интервьюерши и тетки «в годах». Выглядит этих лет порядочно моложе, но в этой моложести опять-таки в годах. Либергауз мне: ничего тебе лицо не говорит?
Все трое шпарят по-английски, русские субтитры. Тетка из какого-то отдела ЮНЕСКО, глава отдела. Лицо много чего мне говорит, мне сейчас все лица много говорят, стараюсь не вникать что. Интервью о судьбах. Они же карьеры. Идет исключительно на заграницу, и самое главное, что на Америку. Образ нового русского человека. Не нового русского, а человека. Мы не только мафия, коррумпизаны, пирамидчики и шпионы, а уважаемые люди. Америкаши должны это понять. Вот Либергауз. «Я окончил чикагскую Ло-Скул, лучшую, на мой взгляд, в Соединенных Штатах, уверен, и в мире. С этим дипломом и с этим английским само предположение о каких-то деловых неприятностях стало выглядеть нелепостью. Единственное, что предстояло, – постоянно растущее процветание. Так оно и пошло, и шло, и вышло».
Расскажите о последней защите, которую вы вели в суде.
Да. Дело отчасти забавное. Во всяком случае, не ординарное. В небольшом, население немного за сто тысяч, городе в центральной России жители собрали подписи под письмом. О засилье узбекской эстрадной музыки на городском радио и телевидении. Инициативная группа обратилась ко мне с просьбой о защите своих гражданских прав. Мои помощники провели расследование, информация подтвердилась. Но! Власти города официально заявили о своей непричастности к конфликту. Мэр сказал, что эстрадная музыка ему претит. Спутниковая тарелка, объяснил он, его вкусы и интересы более чем удовлетворяет. Теле– и радионачальство заявило, что объем национальной музыки увеличен осознанно и намеренно. Прислало справку о том, что в результате рейтинг музыкальных передач вырос на двадцать процентов. Соответственно вырос приток рекламы. Инициаторы письма утверждали, правда устно, что узбеки, захватившие опорные пункты рыночной и магазинной торговли, заплатили и муниципалитету, и телерадио. В городе действительно есть узбекская колония, малочисленная. Ее представители также попросили меня защитить их права – и репутацию. Некоторое время я не давал ответа ни тем, ни другим. Но в конце концов пришел к выводу, что возможное влияние узбекской диаспоры находится на уровне домыслов, тогда как попытка их дискриминации налицо. Я принял их сторону и выиграл дело.
Звонок от слушателя из Нью-Джерси. «Если это не профессиональная тайна, какой гонорар вам предложили стороны?» Витя мягко улыбается, лезет в карман, достает бумажку, подносит к камере. Написано «непременно последует вопрос о гонораре». Сто лет назад, сказал Витя в телевизоре, я, старшеклассник, предложил другу, в те дни моему альтер эго… (Витя за столом у Вадима с Рогнедой легонько поклонился в мою сторону, прижал, как раньше, руку к сердцу, Вадим с Рогнедой шаляй-валяй изобразили жестами и телодвижениями ссылку на свой предыдущий ко мне респект.) …отправиться в Псковскую область на сбор фруктов и ягод. (Я – за столом – минимально укоризненно: «Витя»; он: «зануда».) Друг отказался и объяснил причину. Точно как сейчас, я вынул из кармана бумажку с его ответом, угаданным мною.
Когда вы решили, что станете адвокатом?
В четырнадцать. Но оформил в шестнадцать – когда получал паспорт. До того у меня была фамилия отца, я взял мамину. Единственная причина была, что «адвокат Либергауз» в сто раз убедительнее – и, замечу, адекватнее (самого себя развлекая, себе под нос проборматывает: адвокатнее) воплощаемому замыслу – «адвоката Львова». (Последовала – за столом – пантомима, в сторону Вадима: тебе понятно? – со стороны Вадима: извиняюсь, извиняюсь, примите уверения.)
Вопросы к Вите перемежались вопросами к даме из ЮНЕСКО. По мысли интервьюеров, этим достигалась бо́льшая живость разговора. Но проступала также и мысль кого-то, кто за и над ними. Воспитателей. Форматоров. Чем больше лиц, тем больше стерты личности. Лица одно другому равны, их равенство смазывает особенности личностей. Витя сказал, молодка сказала, дама сказала, всего не запомнить, какие-то слова сразу обвалились, как лишняя оладья глины, пришлепнутая в горячке и по жадности. Между тем, что осталось от каждого, не велика разница, каркас общий.
Мы в ЮНЕСКО не отказываемся от прошлого. Мы даем ему оценку. Каким бы оно ни было. Парижане, прошедшие немецкую оккупацию, научились многому такому, чего не знала многовековая история Парижа. Победа большевиков дала нам, русским, опыт, которого остальное человечество, можно сказать, избежало, а можно сказать, не получило. Другими словами, лишено. Время течет, и в этой реке минувшие события проявляются как недодержанные фотографии, набирают вес, как сплавляемые бревна. Или рыбы. В советский период я работала с молодежью, и один из тех, с кем проводила предупредительно-разъяснительные встречи, обронил интереснейшую подробность о семейной жизни вождя революции. Я сразу взяла его сообщение на заметку… (Я – за столом – окаменел.) …я перерыла малодоступные архивы – и что вы думаете? До последнего времени считалось, что мать жены Ленина звали Лилиана. Ее звали Вивиана! Она была француженка и в родстве одновременно с Жоресом и Клемансо. Пока довольно и этого, сэля сюффи. Пока.
Вы постоянно живете в Париже или в Москве?
Я живу попеременно в Санкт-Петербурге и в местечке рядом с Версалем.
О мон дьё, простонал я, не зная, что могу так сказать.
Рогнеда приложила ладонь к щеке, Вадим поднял большой палец, Либергауз самодовольно, как будто он это устроил, может быть, и в качестве всемогущего, – завизировал: да уж, тон дьё постарался.
После этого изображение задергалось, верхняя половина ушла вниз, нижняя поднялась над ней. Через секунды исправилось. Не вошло в передачу, объяснил Витя… Вырезали, что ли?.. Ну да, но не по цензурным соображениям.
Девица задала вопрос о той поездке в псковские края. Он рассказал как по писаному, за полвека успел рассказ отстояться… Девица: а не было ли ему страшно, не боялся ли он, что заметут официально, полуофициально, побьют, при удобном случае прикончат. Он ответил: «Всего боялся. Начиная с бабочек, крупных. Ближе к вечеру. Как они сильно вылетают из-под локтя, внезапно, абсолютно бесшумно, и уносятся, пропадают, в мгновение. А в сумерках мечутся, чуть не как птицы. Как летучие мыши. Ну тени умерших. Или даже в окне. Вроде бы созерцаешь, из комнаты, защищен. Роскошный сад, роскошная лужайка. И так же, со скоростью ласточки, черная, узора не различить. А еще и залетит, и давай колотиться о потолок, об стены, сокрушительно. Не говоря о ночных. Эти – ужас, паника, жуть прикосновения. Холодного, скользкого, жирного, безостановочного перемещения»… Странно, сказала теледива, бабочка шедевр природы… «В каком именно виде? Бабочка многолика. Летит – одна. И вы замечали? никогда не понятно, головой вперед или назад. Села – другая. Распахнула крылья – одна, сложила – совсем другая. А ведь есть еще – при-открыла, полу-открыла, на треть, на четверть, на каждый миллиметр».
Немудрено, что это убрали, чувиха выглядела ошарашенной. Чего не скажешь про мою с Литейного – довольно кивала головой: яркое описание, поэтичное, мы в ЮНЕСКО ценим поэтичность. Вадим заметил: всегда больше спрашивают, чтобы было из чего кроить. Рогнеда прибавляет: показывали бы и то, и другое, интересно же сравнить, что в еду идет, что на помойку.
Всё, поехал, говорит Либергауз… Оставайся, уложим напротив – Вадим показывает на меня… Раб своего процветания, говорит Либергауз, не могу. Нажимает кнопку на мобильном, выговаривает в него: давай. Есть машина, есть шофер. Есть особняк с колоннадой, два крыла. А мне сколько и вам. Нельзя не эксплуатировать нажитое. Поехали, предлагает мне. Мотаю головой. Он говорит: понимаю, – но во взгляде сочувствие к не имеющему особняка. К не поехавшему в Алоль и теперь не имеющему особняка. Подкатывает машина, даже не бесшумно, а с минус-шумом. Высасывая шум лиственный, шагов, травяной. Показываем друг другу, что обнимаемся. Он говорит Вадиму-Рогнеде про меня: как с первого раза не поехал, так и держится… Пррьють – нет Либергауза.
Я зеваю, и Вадим поднимает указательный палец: наверх. Иди наверх. Сколько раз я у них ночевал, всегда на втором этаже, в одной и той же комнате. Иди в твою комнату, говорил Вадим – и Рогнеда стала говорить. Зимой мне давали второе одеяло и включали калорифер: батареи грели по-дачному, к утру слабее, я подмерзал. Летом оставляли только простыню, но в жаркие дни нагревшаяся крыша долго не остывала, я сдвигал простыню ступнями в край и там сминал – чтобы не касалась, не покушалась на мою первозданную свободу, однако была достижима. Я и они говорили «первозданная», неосознанно поддерживая манеру речи, с годами укоренившуюся в нас. В той же манере следовало сказать – «прилипшую».
Поднялся, свернул в ванную, чистанул зубы щеткой, по поверью закрепленной за мной, вышел, чувствуя себя уже наполовину лежащим в кровати. По лестнице грузно всходил Вадик, в левой руке держал бутылку недопитого «Джонни», в правой ночной горшок, передал мне торжественно то и другое. И я припластался к кровати своими половинами, четвертями, осьмушками – весь. Заснув еще до того, как начал к ней наклоняться.
18.
Я проснулся с начинающимся светом, было прохладно, я подтянул пяткой простыню и укрылся. Лежал на спине, глаза закрыты. Сон был где-то рядом, но путавшийся с дневной ясностью. Что-то приятное, однако с маленькой легонькой как будто порчей. Всех их увидеть по телевизору было славно. Да, именно это – приятно. Но все все-таки в первую очередь старики, вот главное впечатление. Старикам не надо говорить. Особенно выступать, особенно в телевидении – не надо. Бормочите друг другу. Друг-други сами это знают. Говорить лучше помоложе. Когда живут еще к неизвестному итогу, не окончательно, не вполне предсказуемо. Им надо настаивать, противоречить, побеждать. А старики говорят никому. Они умирание. Вместо поколения умирание. Жаль. Это, что ли, порча? Ну да, это тоже порча, но это общее место.
Нет, моя, промелькнувшая в моем мозгу порча – это мое думание про это. Сейчас. Про стариков и так далее. Ну да, жизнь переехала в телик, тебе-то что? Теликовая жизнь стала предметом обдумывания. Обсуждения. Но ведь что не сам увидел, а тебе показали – кто-то показал: смотри, – о том нет права рассказывать. Хотя бы и себе. Ведь ясно, и всем это показали, все видели, а ты выдаешь за свое, себя одного, наблюдение. Ведь тебе на это все хором: да знаем, знаем, не хуже твоего знаем… И что же тогда делать с телевизором? Очень просто: продолжать показывать: сперва, как самолет упал, потом что про это сказали очевидцы, потом что авиаспецы. А потом токшоу: кто что про это думает. То есть и ты тоже, и тебя пригласили. И уже никакого самолета, никакой аварии, никаких разбившихся нет в помине. Бездейственная жизнь, обессобыченная вселенная.
Подождите. Вот что. Я один там не был. Они все были – кроме меня. Они все были связаны между собой и доступны для новых знакомств. Любых. Я подумал: а я? Оказывалось, я один был один. Занимала ли их такая категория, как поколение? А оно само? Когда-то, безусловно, занимала. Как раз когда мне оно было до фени.
Сон наплывал сценами, которые, быстро пробуждаясь, я опознавал как приснившиеся. Их сменяли эпизоды несомнительно реальные. При одном таком перескоке, вероятно на грани, допускавшей моментальное соединение того и другого, раздался звонок, я накинул халат и пошел открывать дверь. Халат был махровый, банный, отцовский. Квартира была родительская, лето, они на даче. За дверью, отступя так, как будто готова была, не дождавшись, уйти, стояла Софья. Вообще-то Зофья, но она велела звать себя по-русски. Я сказал зэ, от неожиданности. Я сказал: так, Зофья Осенка, гражданка Пээнэр, проходи. Она смеялась, может быть чуть-чуть нервно, но это если вслушиваться и всматриваться. Было светло, начало июля в Ленинграде. Она сказала: я в командировке, прилетела вчера, но в данную минутку хочу пипи. Я спросил: а Яцек… Янек… Яцек? Все время смеясь, она вышла. Халат был тяжелый, жаркий. Я его снял и накинул на себя простыню: на мне были только пижамные штаны. Сел на кровать. Услышал, что она спустила воду, и лег. На спину, аккуратно расправив на себе простыню.
Войдя, она придвинула к кровати стул и села. Как в больнице. Я сказал: нам по двадцать девять лет. Так или нье? Который сейчас час? Полтретьего ночи. В такую рань можно спутать, двадцать ли дьевячь или дьесячь. Я правильно говорю по-польски?.. На ней было платье уже парижское, для французов. Для француженок и их французов. Черное, такое как бы влажное… Ты была в Париже, ты писала. Ты была в Париже с экзистенциауом? В отеле на Монмартре? В дешевом отеле на Монмартре с экзистенциауом – только такую комбинацию могу я принять… Ты зачем лежишь в кровати, сказала она… А где ты предлагаешь? Только без пошлостей, без пошлостей, ты понимаешь, о чем я говорю, распутная полячка… Во ржи… Как во ржи, растерялся я… Вот так!.. Вставая со стула, она уже расстегивала какие-то пуговички на спине, и черное, как бы влажное съехало по ней на пол.
В двадцать девять, за пять лет до сотни Ульянова-Ленина! Но в девятнадцать – почему не тогда?! Ему было бы только восемьдесят пять. Сто лет с рождения – абсолютно бессмысленная дата. К какому он принадлежал поколению, к чьему? Старших символистов? Смотрел в рот Вячеславу Великолепному? Давал смотреть в свой Райнеру Марии? Делился с Прустом идеей романа «Мать»? Стрелял папироски у Шестова, оставлял бычки Бердяеву? Советовал Эйнштейну и Кафке записаться на прием к Фрейду? Что за черт, он не дает мне ни за что ухватиться. Ни за кого, чье имя хоть что-то сказало бы мне об армейском призыве тогдашних. Сваливших в самоволку. О тогдашних «нас».
В ванной шумела вода. Софья, Зофья, З. вернулась в халате моего отца. Я сказал: что еще?.. А что еще?.. Еще еще?.. Нет, кофе… Я пошел на кухню, она по пути зацепила меня мизинцем за резинку штанов. Середину скосило, расстегнулась предусмотренная пижамным фасоном пуговица. Я подхватил штаны, она дернула, халат свалился. Теперь уже она его ловила, а я стаскивал. Она перестала бороться, зато повторила строго: «Нет, кофе». Ах, я не то что не могу изобразить, как она произносила «кофе», – я не могу вспомнить. Не по-русски, не по-английски – по-европейски. Как произносить это по-европейски, было поручено обучить Европу полякам – вот как она выговаривала.
На мамином пластмассовом подносе я внес еще булькающую джазве, чашку, сахарницу, ложечку. Ничего не забыть, установить, не пролить потребовало от меня напряжения, я поставил поднос перед ней на письменный стол и опять лег и закрыл глаза. Она молчала, я молчал, ни двор, ни дом не производили ни звука. Кофе – пожалуйста кофе. Ростом с нее кофейник, полный горячего кофе, расхлябанно, но следя, чтобы не споткнуться, шел к ней, прокладывая тропинку во ржи. Или пшенице. Треугольничек слива сбоку выглядел вздернутым мужским носом. Он напевал. Я разобрал два слова: «делегаты» и «телепаты». Одновременно я понял, что только они и были. «Делегаты» значило, что она приехала в командировку, «телепаты» были мировая знаменитость, Дрыган, Вадим, Либергауз, Илья и ЮНЕСКО, бывший КГБ. Меня сдвинули к стене: рука З., я догадался во сне и, открыв глаза, увидел. В освободившееся пространство влегло ее тело. Спиной ко мне. Я вошел в теснейшую, теснее не бывает, близость с не своим поколением. По крайней мере, я не делил ее с ними.
У меня было пять лет это понять, в это поверить и вжиться. Я успел только поверить. Она содрала его с моей кожи, как приклеенный пять минут назад послеоперационный пластырь. Походя, не заметив. Пробилась в Кракове к набиравшему известность певцу-поэту из соцлагеря, дала ему право говорить о ней со мной и поставила точку, посылая отчет о том, как это было, в письме. Ко мне! Ее! Меня втянуло обратно, на территорию своих. Их. В обесцвеченную Индию, потеющую, рыгающую, испражняющуюся. Я влетел в нее с разгону и попал в самую ее гущу. Как в темноте. Как в разлагающуюся тушу. Мои внутренности поднялись к горлу, меня должно было вырвать ими. Печень приняла позыв на себя. Этим я загубил ее.
19.
Я так много времени на них в жизни потратил, что они теперь пожалуй что больше я, чем я сам. Определенно. Я о себе думал, воображал, давал оценку, любовался, каялся, но не вглядывался. Не смотрел столько на себя, не слушал, не узнавал про себя от других, не составлял мнения, не философствовал, да просто – не натыкался на себя постоянно. Я сейчас лежу, думаю: они. «Они» все показывают себя кому ни попадя по ящику. Хотя бы З. не «их». А они про меня – он. И они правы: я и есть «он». «Я», которое, теперь очевидно, я потратил на них, ушло в них. И для него то, что осталось со мной, – он.
Не я лежу, а он лежит. Почти того же роста и веса, как когда была Софья Осенка. Сперва по обмену учившаяся с ним в институте, потом приехавшая в командировку. И состава почти того же. Но тогда, что на пути где-то может быть спрятана западня, только предполагалось. Так же как и что ее может не быть. Теперь он в ней, давно в ней, таскает на себе, защелкнувшуюся на ноге, привык таскать. Он в приличной физической форме, делает зарядку, лежачую, но не легкую, и каждый день. У него крепкие мышцы живота, как подреберный корсет. Но если он не мог освободиться от западни в ту минуту, когда почувствовал, что попал в нее, годы назад, тем паче сейчас. Это угнетает. Не сильно, не всегда, не депрессия, но потеряна подвижность, степень свободы. Он в плену опыта, знаний, логики. Он в западне.
Западня была установлена между этим миром – который здесь, и другим – который мог бы здесь быть. Не лучшим этого, и не иным «тем светом», а миром не-этим. Можно бы сказать, желаемым, но не воплощенно в формы. Просто отказавшимся от форм этого. Он был против этого уже потому, что мир. Огромный, всепроникающий, всеохватывающий и неодолимый. А уже затем по частностям: потому-то, потому-то и потому-то.
Он был привязан к нему в лице того-то, того-то и того-то. Испытывал к этим тем-то теплоту. Минутами и умиление. Даже к мировой знаменитости из Заистровой Долинки. Уай нот? Между оперой и кино тот успел издать роман – и что напихал в него банального, ожидаемого, десятилетия прошли, пропиталось говоримым, обсуждаемым по другому поводу, наворачиваемым интеллектуалами, усвояемым заграницей и сделалось, по общему признанию, знаковым названием, о котором доставляло искреннее удовольствие сказать: помню, как эта книга только появилась. Вызывая, честное слово, чувство признательности к автору. И просто сочувствие вызывал, элементарное, как любой-каждый, бытово. Рогнеда с сестрицей его по-соседски сошлись, по сути формально, но ведь бабы. Та оказалась та еще жертва. Ушла с потрохами в набожность, с вытекающим из нее смирением, до которого недотягивая остановилась на смиренности. На практике – унижение, сознательно принимаемое. Благочестие вроде удушающего мух цветка непентес. Знакомый священник-диссидент благословил. Потом проклял. Теперь опять всячески восхваляет. Наравне с Муссолини, который для него образец. Ну такая обязательная для всякого поколения мутация, исключение из общей нормы. Не то чтобы великий брат в Заистровой Долинке дневал и ночевал, но когда дневал, весь этот букет ему каждодневно преподносился. Надо отдать ему должное – говорил: чего вы хотите – Расея! Картофельная грядка: вся враз цветет, отцветает, уходит в клубни, а из одной, другой картофелины – еще отпрыск цветочков, еще соцветие. Орхидеи, цель заделаться клумбой.
Но и сестра теплом не теплом, однако же теплецом отзывалась, легоньким, как от прикосновения подушечкой пальца. Не в сердце, а этак поближе к плечу. Да даже и священничек. Да, представьте себе, и к Юнеске – как избавившейся от скошенности рта, кургузости и сморщенности, так и со всем этим – чувствовал он симпатию. Он хотел, чтобы они остались. Чтобы все – кого он знает и вавилон тех, кого не знает, – остались. Чтобы остался Сашка в квартире под ним. Который до своих сорока лет говорил ему «дядя Толя». С детского сада. Последний раз сказал весной, когда сидел на автобусной остановке с двумя партнерами по пьянству. Здрасте, дядя Толя. И те: здрасте, дядя Толя. Ой, ой, издеваясь произнес Сашка и передразнил: здрасте, дядя Толя. Да я его вот с таких знаю… И в середине лета умер.
Чтобы не умер, остался. И те двое. И длинноволосая седая из седьмого подъезда. Шарлатанка. Которая разговорилась с ним во дворе. Потом преподнесла журнальчик с пересказом того, что из разговора запомнила и как поняла. Начинавшимся «такой-то ответил на мои вопросы, когда я проводила с ним психоаналитический сеанс». И надо было перестать с ней здороваться. Пусть бы осталась и она.
И вместе с тем – чтобы мир, в котором он и они живут, был другим. Смешной человек. И самую малость неприятный. Мечтатель? Пусть будет мечтатель, он согласен. Что еще делать, как не мечтать о другом мире, если в этом нет правых и нет виноватых? Нет виноватых, значит, правы все – нет правых, значит, не на кого положиться. Не ему винить и оправдывать – и никому. Но такой мир находится в нескончаемом Нюрнбергском процессе. Если бы не победа тех, кто назначил Джексона обвинителем, а Геринга виноватым, Геринг должен был выйти из суда абсолютно правым. Несколько дней к этому и шло. Все решала победа союзников – и «кольт», который Джексон в любое время мог принести в суд и по-ковбойски разрядить в Геринга. Тогда как у Геринга его «маузер» конфисковали в первые же секунды после победы. Он отнюдь не выглядел – а не выглядел потому, что не чувствовал себя – виноватым. А потому и проигравшим – тоже нет. Он не победил, пусть так, но кто такой этот собранный из детского конструктора янки, чтобы его, громадного Геринга, поучать, как ему следовало себя вести, чтобы быть правым? Особенно в присутствии советских гиен, без году неделя прикрепивших к плечам картонные погоны, а до этого, после своей хамской, доморощенной, не стоившей и того гроша, которым разыгрывалось, орел или решка, коридорной, кулуарной, подковерной победы оравшим на тех, кого объявили виноватыми: «Расстрелять как бешеных собак!» Гиен, преданно постукивающих хвостом и зарывающих голову в вытянутые по кремлевскому паркету передние лапы, чтобы не встретиться взглядом с турком или кто он там, который держит на ногте большого пальца черную монетку перед тем, как подкинуть орел-решка.
«Суд». Встать, суд идет!.. Будь Нюрнбергское представление судом, все представшие перед публикой должны были подать друг другу руки – а так как это представление, театр, то театрально не подать руки́ – и с достоинством разойтись. Разъехаться – по своим охотничьим домикам, ранчо, шале и правительственным дачам и оттуда восстанавливать старые связи, входить в новые, скрывать, интриговать, заручаться поддержкой. Готовить другую победу. Но миллионы-то убитых-то задешево – что, не в счет? А если в счет, то жить в этом мире – не выходит. И потустороннее воздаяние – ни при чем. И мир лучший – всего лишь насколько-то лучший, чем этот. Нет! нет! без другого не обойтись! Даешь другой! В котором нет неправых, но и невиноватых тоже нет. Или хотя бы: даешь мечтать о нем!
Вот этим он, сейчас лежащий неподвижно, беззвучно, благодарно в гостеприимном доме близких друзей, давних, дорогих, и мог быть самую малость неприятным. Возможно, в частности и им. Потому что если жить в этом мире выходит – хотя бы так, чтобы не думать, выходит или не выходит, или так, что плевать на него, – это значит, ты состоишь в сообществе. В любящих родину, в развернутых на Запад, в клубе шестидесятников, в гей-параде, в одноклассниках – в поколении. В единомышленников. И состой, и состои́ – тоже не беря это в голову. Или беря и наплевать: давай привозить себя в студийной машине на ток-шоу, говори по-честному, не говори по-нечестному – но огради себя от близкого дружка, дающего понять, что а он так не будет. Будет жить вне его и мечтать о другом мире. Даже симпатизирующий, даже любящий, и никак не враждебный, но безупречно один. Что один – Бог с ним, а что безупречно – раздражает, самую малость.
Вроде как укоряет: состоящий ведь приложися, это синонимы, согласны? Приложися, а я нет. Но слушатели небось просвещенные. Приложися скотом несмысленным – это же вот куда метит. Дескать, кто хоть к чему позволил себе приложиться, тот скот несмысленный, так? Надеющиеся на (общую) силу свою и о множестве (общего) богатства своего хвалящиися, брат (вас) не избавит, избавит ли (вообще) человек? И (что же, по-вашему,) жив буде до конца, (и) не узрит пагубы? И человек в чести сый не разумé, приложися скотом несмысленным и уподобися (ему). «Скот» здесь не обида, просто живое с дыханием в ноздрях. «Несмысленный» пообиднее, но что вы хотите: разве чем кучней, тем каждый отдельный не безмозглей? «Приложися» перешибает обоих, и животину и пустосмысла.
Вот о чем «приложися»-то. Вот о чем и все всех и первого его, лежащего, мечты о другом мире. Не станет же он объяснять, что другой мир это то, где Софья, о которой десять лет мечтал с утра до ночи, пусть придет и не уходит, а она никогда не приходила и всегда уходила, а когда уже перестал мечтать, звонит в дверь и остается. Где она не должна быть другой, это мир должен. Ей же позволяется на следующий день сказать, чтобы он купил стиральную машину и отправил карго в Краков по ее билету, а деньги она отдаст, когда он приедет в Польшу. Он покупает, везет в Шереметьево-грузовое, подмазывает таможенника, приемщика, карщика, она стоит рядом, прислоняясь к стенам, и говорит, что больше не может и сейчас расшибет эту штуку о цементный пол. Он хватает машину, в опалубке, лихо, ловко поднимает над головой и, показывая, что готов бросить, спрашивает: так? так? первое «так» по-русски, второе по-польски. Она тянется помочь ему удержать, и теперь на нем пра-Эрика-полуавтомат, З., ее живот, две груди, лицо, рот.
Он бы посылал ей по такой машине в квартал, это пожалуйста. Улучшенные модификации, он бы следил. Хоть что-нибудь, хоть в какое-нибудь доказательство. Хотя бы и зная наперед, что больше им не видеться. Только бы оставаться в мире, где нет неправых, но нет и невиноватых. Где невиноватые гибнут – не протестуя, а неправые их губят – беспомощные. Но она вышвырнула его оттуда. В год, когда надежде человечества, не придуши ее дурная болезнь, исполнилось бы сто. Перешла границу и его с собой перевела. Обратно – как деньги, невозврат которых он поставил себе единственным условием тратиться на уродские машины каменного века.
Сюда – где он покорно подписывает акт о капитуляции.
Лежа неподвижно, беззвучно, благодарно.
Почему Достоевский не написал «Невиноватые и неправые»?
А еще лучше Толстой.
20.
Если б я был султан…
Я уже не помню, что я писал и чего не писал, и если писал, то где, – например, историю с моим письмом султану Брунея. Но как писал письмо, помню с ясностью нетускнеющей. Я просил у него денег, они требовались на университет некоему выпускнику средней школы. В утренней газете я прочитал, что султан остановился в самом дорогом лондонском отеле, и его визирь (?) прибавил к заплаченному по счету чемоданчик чаевых. Но главное в моей затее были вовсе не деньги. Главное было подписаться – «Вашего Величества покорнейший раб». Все происходило в Вашингтоне, меня туда пригласили – в весьма серьезное место, где занимались политическими исследованиями. Не я, я занимался, как обычно, сочинительством – в каковом всегда можно обнаружить отсвет или тень политического исследования, даже если это любовная история. Я написал султану начерно и отнес приятелю в соседний кабинет на просмотр. Американцу. В моем английском не могло не быть неловкостей, в принципе и это годилось бы – аутентично, инглиш русского. Но, взвесив, решил снять все шероховатости и заусеницы: где султан, там безукоризненность – вполне могла быть такая брунейская мудрость. Через пять минут над моим письмом нависало полтора десятка голов – научных сотрудников важных институтов, референтов правительства, директоров. Как и мне, писать султану им хотелось больше, чем политически исследовать. Остановились на подписи Ё Мэджести’с зе мост хамбл сёрвант. Узнать адрес я позвонил в посольство султаната Брунея. Возник переполох, мной, признаюсь, непредвиденный. Не меньше пяти минут меня просили не класть трубку, после чего молодой женский голос – еще более покорной рабыни Его Величества? фрейлины султанши? заведующей отделом безопасности? – продиктовал мне адрес посольства, «а мы уже перешлем». На письмо султан не ответил, и я бы поступил так же. Мне показалось, он, ради чего я ему на листе с американским орлом и шикарной шапкой накатал про неимущего абитурьента, расчухал. Мне подпись была в кайф, он ее оценил, ciao. Если получил.
Но если бы я был султан, я бы поручил управление страной визирю, гарем чувихе из посольства, а сам по-лев-толстовски и гарун-аль-рашидски смылся и стал писать книгу «Между Анненским и Блоком». Только не в городском кабинете осенними утрами, зимними сумерками, машинально поглядывая за окно, анализируя, ассоциируя, абстрагируя. Умно. Невесело. А в деревенском доме, и только летом. Должна стоять несусветная жара, чтобы я не мог опомниться. Должен со всех сторон бить в глаза ослепительный свет, чтобы нельзя было сосредоточиться. Как в Пакистане, как в Перу, как в Эфиопии, но не в Пакистане, Перу и Эфиопии, а в средней полосе России. Без пробковых шлемов. Со всеми, какие есть, открытыми окнами, чтобы был сквозняк. Чтобы из одного в другое могла пролететь палимая солнцем птица. На мне одни шорты. Но шорты, не в трусах. И каждый день я бреюсь, тщательно, чисто-чисто. Английско-французско-американским с тремя лезвиями съемным прямоугольничком «жиллет» на тяжеловатом с изящными скорпионьими челюстями станке «Мэйд ин Спэйн». Ни для кого, для самого себя.
Тогда можно писать сумасшедше, так же вольно, властно и дико, как действуют зной и блеск. Без задних мыслей и вторых смыслов. Все, что попадается в памяти, и кое-что из шало промелькивающего в мозгу, о том, каково мне было прожить жизнь между стихотворениями Иннокентия Анненского и стихотворениями Александра Блока. Между улочкой, которую, проходя, согревал и леденил один, и улочкой, которую, проходя, согревал и леденил другой. Между воздухом, который тот и другой вдыхали одним, и воздухом, который тот и другой выдыхали иным. Между ними самими, двумя одиноко шагающими, еще более одиноко застывшими в ожидании – на перроне, в саду, в большой комнате, на той стороне реки – фигурами, в которых только угадывается, что та Анненского, а эта Блока. О том, как мне хотелось прожить жизнь между их всем, только этого и хотелось, ничего другого.
Да! а чтобы внизу, в ста метрах, текла река, и, написав страницу, можно было к ней аккуратно, медленно по такой жаре и сверканию, на крутых участках и ковыляя, спуститься, раздеться, войти и поплыть. И выйти не очухавшимся и собранным, не протрезвевшим, а еще иррациональнее вразумленным и наставленным ровной силой воды, ее завихрениями и остановками. Вразумленным, каково это – течь между Анненским и Блоком. Наставленным, как об этом вернее написать. Короче, окаченным еще одной очумелой стихией. Между яростью муки, изгрызающей душу, как лисица внутренности мальчика, – и терпеливым перенесением ее.
Да! и чтобы поднимаясь к дому, мгновенно просохший, снова уже прокаленный жаром, в шортах, в резиновых шлепанцах, я подумал, как в конце концов это лето прекратится. Приеду в город, надену костюм, плащ, башмаки (итальянские, как и шлепанцы). Почувствую себя на редкость подтянутым, на редкость строго одетым. Таким, каким должно приступать к перечитыванию написанного в беспамятстве жгучего лета. Выйду на широкую улицу – и там, на подметенном одной и политом другой машинами асфальте, среди частых прохожих, обнаружу, что все они такие. А то, как я себя почувствовал, требует другого костюма, которого у меня нет, и плаща, которого у меня нет, на башмаки разве что надежда.
Деньги, которые я заработал за свою жизнь, и время, которое получил при рождении, подходят к концу, но сколько-то еще позвякивает за пазухой. У меня нет опыта приключенческой жизни, а и был бы, я к нему не обратился. Приключения. Чудовища, которые завелись в Тибре и утаскивают с берега собак и зевак. Домохозяйка, отрезавшая мужу и выбросившая в мусорный бак пенис. Севшая рация и два патрона на двух преследующих кенийских львов… Ноу треспассинг, собственность телеканала №. Бородатой женщины и петрушки за ширмой на рыночной площади вживую не увидишь. Все доставшиеся нам авантюристы – гости за столом. С вываленной на него потребительской корзиной из «Азбуки вкуса», в секционной квартире, под крышей дцатиэтажки с башенкой…
Даже если бы были – предприятия крайнего риска, безоглядность, дерзновение. Не так давно еще были, еще деды рассказывали. Оптовый поставщик приключений – море: ураганы, мыс Доброй Надежды. Идол приключенчества – корабль. Капитан Грант. Только смелым покоряются моря. А кто тише воды ниже травы, есть и для них шанс: советская власть. Любишь фланировать, а советская любит сзади тащиться, а власть с той же скоростью параллельно за рулем. Антиидол – острог. Архипелаг ГУЛАГ, море приключений – или бунт, на бортунт, обнарунт. Да, да – только не для меня. Другие склонности. Все мои склонности – пучок стеблей, нервных волокон, вьющихся строк между Анненским и Блоком.
…И чтобы ножка яблока засыхала быстрее, чем созревал этим нездешним летом плод. Нехарактерным для здешнего неумеренно континентального, как говорила учительница начальных классов в городе Свердловске, бывший Екатеринбург, климата. Чтобы если я выходил посидеть в сомнительной тени, нагретой на градус или два меньше, чем соседние с ней на солнцепеке кубометры сада, и яблоко, сорвавшись, ударяло меня так больно, что приходилось охнуть, я мог сказать сквозь зубы: «Если кто-нибудь сейчас произнесет имя Ньютона, я влеплю ему этим недоноском в лоб». Хотя в радиусе ста пятидесяти километров не было никого, кто мог бы ко мне обратиться.
Потому что в этом, и большем, и самом большом радиусе нет сплота людей, body, к которому хочется приложиться. Потому что нет человеческого материала для такого корпуса. Потому что не осталось возможностей, не поглощенных или хотя бы не адаптированных властью к своим намерениям. В выгодах власти – если нет способа у ее представителей самим присвоить их, или в собственных – если есть. Или уголовными – отнимающими такие возможности ради мгновенного захвата, без раздумий, подготовки и предупреждения нежелательных последствий. Потому и нет вольных стрелков, следопытов, охотников за пушным зверем, проводников по труднодоступной местности, ремесленников золотые руки, землепашцев один на один с землей, лошадников, строителей домов и кораблей, начинающих с живого леса, рассчитывающих на одни топор и пилу, смолокуров, рудознатцев, бортников. Работников в охотку. Не стало. Нет народа – в стране.
Мне остается представлять его себе, с чужих слов, по кинохроникам, из книг. Удается и вспоминать, хотя с этим дело нечисто. Что-то выносит на поверхность память, что-то фотографии в семейных альбомах. Свою путаницу вносит ужонок. Он ждет меня каждый день на одном и том же месте примерно на середине нижней, травянистой части дороги, поднимающейся от реки. На круглой песчаной площадке. Лежит и прикидывает, как отдаются мои шаги, не слишком ли близко к нему. За несколько метров до части каменистой – выпуклая плешка. На ней он лежит. Черный как антрацит, с двумя желтыми топазиками, приколотыми к вискам. К замку головки-брошечки. Не длиннее – когда извивается уползая – карандаша. Иначе говоря, всегда – потому что уползать не любит, а только делает вид, как все женские украшения.
21.
С украшений и начинается. Тянет говорить торжественно, звучит выспренне: украшения создают народ. То, что множится и густеет в моем воображении и воспоминании. Сперва женщины. Контуры фигур, на чьих шеях, груди, руках что-то висит. Зрение само собой наводится на резкость, фигуры оказываются женщинами, висящее – украшениями.
Травянистая половина обрывается, дальше глинистая (в такую жару окаменелая). По ней разбросан щебень, битый кирпич, доломитовый лом, голыши, годами вымываемые дождем, по сантиметру сносимые вниз ливневыми ручьями. Но между ними – окошки убитой глины, твердой, матовой, костяно поблескивающей на стертых колесами и подошвами гребнях. Как будто выброшенной из печи для обжига керамики. В этих местах на ней оттиснуты стопы, лапы, каблуки, шины, но кажется, что когда-то это могло быть лицами. Des hommes – людей. Но прежде des hommes – мужчин.
Это культурные ассоциации школьного пошиба, отдаю себе отчет. Глина, Месопотамия, близость райского сада – потерянного, змейка. Но всё вместе выказывает сродство, эти мужчины признают этих женщин за своих. Теперь уже мужчины не пол, а человечество, люди. Среди них половина женщин, других, пыльных, нищих, простолюдинок. Но они сестры тех, в украшениях. Не как крепостные – и танцующие на балу, а как толпа, растекающаяся с вокзала, – и развозимые на извозчике по ресторанам. Любая из обмотанных платками, в кацавейках и войлочной обувке и любая в перелицованном платье от Ламановой и бусах из речного жемчуга готовы поменяться одеждой, манерами, социальным положением. Румянами на обветренность, изнеженностью на труды, грубостью кожи и работящестью на кремы и прелесть. Они одно. Как в кадре уходящей в сорок первом на фронт шеренге мобилизованных и добровольцев – чернявый Пушкин с бакенбардами, добородый Толстой, мужик Марей и, для порядка, Павлов, сталинградский лейтенант… Недолгий период веры в то, что другой, мечтаемый мир – вот он.
Подберите похожий кадр из хроники моего поколения, а?
Я хочу устроить телефонную конференцию. В том серьезном месте в Вашингтоне, где все кроме меня исследовали политику, их проводили десятками на дню. Нужно какое-то простенькое устройство, чтобы сколько угодно людей, держа в руках телефонные трубки, разговаривали между собой. Илья бы это объяснил, как семью семь сорок семь. Кстати: я включаю его в конференцию. Его, Вадима, Рогнеду, Дрыгана, именитого современника, Либергауза. Юнеску, все-таки старая знакомая, и для нашего разговора подходящая. Годится и структуралистка – если обещает молчать.
Илья. Рогнеда. Вадик. Дрыган. Современник. Либергауз. Юнеска, псевдоним Вивиана. Структуралистка, прозвище бывшая жена. Не помню, говорил ли я вам… Мы с Вадиком не слышим, прозванивается Рогнеда… Минутку, присоединяю, откликается Илья… А остальных?.. Да есть у нас у всех эта копеечная многоканальность, тоже мне синхрофазо, нам она – как семью семь сорок семь… Ах, так я реально с вами разговариваю?! Так это я не с голосами?! Ну, моими. Во мне. Со мной постоянно на связи. Прекрасно.
Не помню, говорил я вам или нет, что у меня была возлюбленная. Некто З., европеянка. Между нами возникла тесная близость, теснее не бывает. Не потому, что мы испытывали друг к другу немыслимую нежность и вступили в интимный контакт. А потому, что это случилось как нечто такое, чего не могло случиться, но нам удалось пробиться в другой мир и поэтому оно случилось. Вы мне тоже близки. По давности – больше, чем она. По совокупности прожитого общего – вы одни мне и близки. Но это близость по этому миру. А она была – по другому. Она вашей компании чуралась. Нашей. Все-таки вашей. Собственно, важно, не чья, а что компания. А потом ее возжелала. И другой мир покинула, перешагнула в этот. Не как, скажем, крещеный еврей обратно в иудаизм, а как в обморок или, пусть в сознание из обморока. А так как мы были неразрывны, то и меня оттуда сюда возвратила.
При таком переходе меняется физика вещей. У нее была великолепная фигура. Я на это внимание не обращал. Она вся была великолепная, замечательная, изумительная, потому и фигура. Но, возвратившись сюда, я фигуру вспомнил – я ее никогда не забывал. Я ее увидел отсюда – я всегда ее видел. И оказалось, что она образцовая фигура этого мира. Как в кино. Как у комсомолок. Как у канканных герлс. Сейчас бы это было несравненное, рекордное, непревосходимое девяносто-шестьдесят-девяносто. Но испытывать немыслимую нежность и вступать в теснейший контакт с 90х60х90 – это как ухаживать за теоремой Пифагора, вожделеть ее, спать с ней. С частным случаем теоремы Пифагора – каковых, на глаз округляя, миллион.
Обещание всегда больше исполнения. Так мне хочется сказать – афористично. Афоризм оборачивается тривиальностью, барабанно трещит. Проще назвать качества. Была хрупкость, дразнящая, вызывающая на резкий жест – разбить. Разбить не давала гибкость, гнучесть. Была слабость, нехватка силы. Однако одна и та же, не зависящая от нагрузки. Я нехватки не чувствовал – груз меж тем увеличивался, сил недоставало, я с трудом держался. И она с трудом держалась – ровно как вначале. Так было там. Мне попадались здесь – в гостях, на улице, в театре – посланницы оттуда. Нам всем попадались – раз в жизни, несколько раз. В них было несовершенство, даже неправильность. Длинные руки. Тень под глазами. Мелкий шаг. Но в этом было обещание: наступят обстоятельства, и ничего драгоценнее не понадобится, ничего прекраснее нельзя будет представить.
В девятнадцать лет она обещала, что все ждет там. То, как она вдруг смеялась – ничему особенному, обещало избавление от здешней – ни с чего – печали. Верхняя линия грудей от оснований к соскам едва заметно, но прогибалась книзу, обещая нежную пленительность. Преграду соревновательности – вырождающейся в спорт. Она обещала представить неопровержимые доказательства того, что Джузеппе Верди написал арию Герцога на русскую подтекстовку. Фактически рыбу.
Каноническая версия: он и директор «Ла Скалы» накануне премьеры «Риголетто» садятся в гондолу. (Первая нелепость – гондолы в Венеции, «Ла Скала» в Милане. Вторая – никакой не директор, а журналюга, закадычный Джузеппин друг.) С собой предусмотрительно прихвачен воск. Верди – Одиссей, он же сирены. Гондольер – команда соратников между Сциллой и Харибдой. Уши гондольера залеплены: крупным планом – пальцы композитора разминают воск, вдавливают затычки в ушные раковины. И вот тут! Верди поет, по-русски: «Сердце красавицы – склонно к измене. И перемене. Как ветер мая». Для гондольера – абракадабра. Но – невероятно! – и выяснилось это при захвате секретного архива в ходе разгрома союзниками гитлеровско-муссолиниевской коалиции! – гондольер – русский! Для русского сжатием-расслаблением височных и челюстных желваков выдавить беруши – как сто пятьдесят и кружка пива. Наутро вся Италия распевает Serdse krasavisy. Через неделю юный Кардуччи за бешеный гонорар переводит, и только тогда мир затянул Ла донна э мобиле.
Там все подтвердилось. Но при обратном переходе сюда груди стали двумя идеальными конусами, горизонтально, по ватерпасу проверяй, торчащими. Смех вызывало хорошее настроение. Аутотренинг изгнал печаль. Черчилль заявил: победители в войнах непременно скатывались ниже побежденных, и ни одна страна, ни один народ не терпел такого поражения, как Россия и русский народ. А если так, никакой секретный архив не был захвачен, и «Сердце красавицы» – самодеятельный перевод администрации большого театра всея культуры с толстой Джильдой в сером балахоне и орденоносцем Герцогом из блока коммунистов и беспартийных.
Да что говорить: юное, утраченное было девятнадцатилетие, возвращенное звонком в дверь белесой, отключенной от астрономического времени ночью, сдалось при обратном переходе на милость сумрачных двадцати девяти. Они объявили его контрабандой, подлежащей мгновенному изъятию. Под голой лампочкой пониженного накала в комнате для досмотра при таможне с табличкой «Россия» (с проглядывающим под «и» чем-то вроде «i») в краю, на континенте, на планете, где, как сказал Черчилль, ее, России, попросту не стало. Ах, милый Вадик, Илюша, Юнеска Ивановна и вы, безымянная слава России, ваши-то вагоны вон еще когда поддомкраченные перегружались на о́си поуже, вы-то вон когда пересекали границу. Вы-то знаете, как разительна перемена, когда наступает неслышная прежде тишина и чужие буквы складываются в названия. И как на пути обратно. А всего-то – Польска да Ческа.
Чересчур литературно, надуманно, экзальтированно, решаете вы. Вы думаете, хош. Грубо, но так эти дела называются. Вы думаете, наслаждение. Вы думаете, любовь. Вы думаете, ни к чему другому свестись не могло. Правильно. Было, было, и то, и это, и се. Вторым планом. По-здешнему. А первым, по-тамошнему, то есть единственным, было – не может быть, а вот же.
22.
Через… не помню – через квартал, через сезон… звонит структуралистка. Вечером, поздно. Просили вам передать, что один из вас умер. Имя вылетело из головы. Отпевание завтра, в Илье Обыденном, сразу после службы, не раньше одиннадцати – сказали: он в курсе.
Точность – мать выразительности: один из вас. Никому не звоню: сил нет суетиться, сил нет нарваться и что-то говорить. Утром вхожу в церковь, сердце сжато, человек двадцать – стоит, бродит, сидит на скамьях. Наш на все времена номер один, так мной и не поименованный (чуть сейчас не проговорился). Дрыган как миленький. Илья – слава Богу! Из-за храма на него думал. Вадим с Рогнедой. Либер. Эти вроде все. Структуралка, Юнеска, обе в наличии. Не то чтобы «один из вас», а приятно удостовериться. Кто-то, стало быть, из подальше. Все равно жальнет – как иначе? Гляжу в гроб, женщина. Нашего возраста. Лицо не незнакомое. Значительное, приятное. Опознать не могу. Где? Когда? Может, по телику. Я же говорю, сейчас все лица что-то говорят, не стоит вникать. Подходит Рогнеда: не вспомнил? Ты с ней танцевал. «В таверне полной вина». Когда я вон с тем специальным гостем. Ты показывал, что ко мне не клеишься, есть такой способ клеежа.
Нет. Не она. Ту вспомнил – не она. Даже огляделся вокруг: вдруг ту сейчас увижу, и как ты, Рогнеда, выкрутишься? У той отличительное – ум и невзрачность, иди теперь проверь. Ладно, встал со свечкой. За упокой рабы Божией.
И пока отпевают, понимаю, что правильно пришел. Ну она, ну не она – что еще нам всем сегодня и се-летошне делать, как не с этих мест сниматься и куда назначено прибывать? Триумф поколения: тогда-то вдвинулось, полный срок оттрубило и в свое доказательство сошло. Эта уже взяла это на себя и, в общем, часть забот с нас тем сняла. Из вас, из ваших? Из нас, из наших. Причем как всякий предыдущий – часть, побольшую тех, что остаются следующим. Поскольку и двадцать миллионов – поколение, и первые десять отбывших – уже поколение.
Смотрю на отбывающую. Очень надеюсь, что в место свéтло, злачно и покойно. Злачно значит изобильное, а не то, что мы думали молодыми. Смотрю на свечной огонек, энергичный и мягкий. Отражающий от нас ужасные мысли об том свете. Милосердие Творца – против устройства и неотвратимости ада. Смотрю на окружающих.
Дрыган тогда, в пятом классе, отказался носить носки. До пятого – чулки с лифчиком, детство. Носки – отрочество. После уроков приходим к нему, дома никого. Сбрасывает ботинки, рвет подколенные резинки с пряжками, сдирает с ног носки. Ненавииижу! Ууу! Уаа! Уии! Скачет, вертится, дергает себя за волосы. Я смеюсь. Мало! Мало мне, мало ему. Валится на кровать, задирает ногу, двумя руками натягивает на нее носок, тот соскальзывает: спички! ножницы! неси! изрежу! сожгу! Задушу отца! Это он: без носков ходить не будешь! мы Европа! здесь не табор! Вскакивает, хватает отцово вечное перо, мажет снизу ноги, что-то узорное подрисовывает. Нате вам носки! Назавтра приходит так в класс, ботинки на босу ногу.
Мы с Ильей заходим в кафе. Смотрит на часы, говорит девушке за соседним столиком: у вас нет чего-нибудь от головы? У меня через десять минут начнется страшная мигрень. Это после полета в космос. Меня посылали вернуть Белку и Стрелку, секретно. Международный скандал. Президент Линдон Джонсон поднял за уши двух своих спаниелей. Хотели объявить импичмент. Заодно: призвать русских к суду, отправили на верную смерть Белку и Стрелку. Десять лет назад. Вызывают меня. Эм-цэ-квадрат? Эм-цэ-квадрат. Плазмой станешь? Могём. Привез Белку, привез Стрелку, трансформировался обратно в телесность. Дали Героя плюс щенка от Стрелки. Хочу передать в хорошие руки. Пишите на салфетке свой телефон. Ле мигрэн мэ турмант катастрофикальман.
Вадим позвал – новая кассета Высоцкого. Открывает дверь и без промедления шпарит историю: как он вчера встретил Алика, или Гарика, и тот ему сказал, что послезавтра он, Алик, пан или пропал. Или да, и он женится, или нет, и улетает на прииски. Это Агаша, говорит Вадим, нет сомнений. Назвал имя? Ха, разумеется, нет, но это ее почерк. (Пик женихания, тронулся умом.) Ладно, ставь Высоцкого. Пятая или седьмая песня – «сегодня Нинка соглашается, сегодня жизнь моя решается». Вадик, белый: ну, что я говорил?
Певчие начинают «Со святыми». Такая мелодия красивая. И трогательность в ней. А «Сам един» еще красивее. Мощнее. Без просьб, свидетельство о вероучении, довольно мужественное. И когда «в землю туюжде по́йдем», вдруг я эту землю увидел. Картинку. Я иду по деревне. Дома редкие, в садах, в лесу, в зарослях, и с одной только стороны. С другой заглохший яблоневый сад. Давно заглох, яблок мало, большие муравейники. Иду медленно: дорога забирает вверх. Похоже на ту, где я хотел писать про Анненского и Блока, только не та. Но явно я ее видел натуральную, вся картинка из памяти. А где, не могу вспомнить. Справа забор, палисад из реек, хилый, проницаемый. Старая женщина выходит на крыльцо. Даже, пожалуй, старая дама. Говорит кому-то в доме: «Жизнь попросту мала». Поворачивается и зовет: «Ва-ря! Ва-ренька!» Детский голос: «Ау», – и она уходит в дом. Метров через двадцать – девочка лет пяти, сидит под сосной, бьет палочкой по перевернутому ведру и приговаривает-напевает: «Варенька, Варенька, жизнь такая маленька». И пока я прохожу, все время меняет имя: «Марьинька, Марьинька, жизнь такая маленька». Дарьинька-Дарьинька. Ларинька. То случайно попадает в имя: Гаринька, Саринька, – то чепуху: паренька, жаринька. Тут уже «аллилуия», и видение пропадает. Только вслед кто-то как будто говорит: «Твоего здесь нет ничего».
Легкое волнение. Румяненькая Юнеска в бантах и буфах. Это надо рассказать. Кому? Большому человеку Имяреку, он же отчасти в курсе. Политическое танго сорокалетней давности, другие совпадения. Ну да, лицо, которое знают во всем мире, многие – лучше своего, например, я. Я не против. В данную минуту – точно, а может, и вообще. Однажды позвонил: вы мне нужны на роль. Пленный немец. Город на Урале, только что кончилась война. Коротенький эпизод: расконвоированный, в одеяле поверх шинели и шапки смотрит на детей, съезжающих с высокого берега на лед реки. Знакомится с русским инвалидом войны, одноногим: попытка объясниться на двух языках. Съемки под Москвой, мосфильмовская «Волга»… Я любопытный, еду. Оказывается, дети-то дети, но главное – инвалид, выпивший, должен скатиться вниз. На ногах. И конечно, на середине упасть. Дублер, пьяный как следует, едет, падает всамделишно и ломает ногу. Большой человек в ярости напяливает его тряпки, едет и уже на первых метрах начинает валиться – вбок, вперед, назад, как это обычно бывает. Как это обычно бывает и вызывает у зрителей хохот, сдерживаемый и потому неудержимый. Но тут падение ужасающее: его что-то подбрасывает, ноги отрываются от земли, он ударяется об ледяную дорожку, как тряпичная кукла, весь. Я слышу стук его костяка и каждой кости, и все слышат. Потому что за секунды судорожных стараний устоять пропал всякий звук, полная тишина, и никто не двигается. Кажется, что это длится долго, наконец бросаются к нему. Но оператор так поставил кадр, чтобы те, на фоне кого он катится, были крошечными черными фигурками, для чего массовку отогнали подальше. Поэтому к нему бегут, бегут, и им еще бежать и бежать. Он начинает шевелиться, двигаться, сперва проверяя, может ли, сломано ли то, это, – и, узнав, что цел, встает.
И так далее. Встречам не было конца, случаям не было конца. Воспоминаниям нет конца. Конец наступает только сейчас. Странная наша общность кончается, и ее в виде старой благообразной женщины хоронят. Прости ей господи все согрешения, по желанию и против воли, словами и делом, сознательные и по небрежности, в уме и в мечтаниях, днем и ночью. Богу слава.
Похоронный пафос. Смерть во‑первых, во‑вторых и во‑всяких. Прощание во‑всяких-плюс-один. «Навеки» во‑всяких-плюс-один-и-еще-один. Богу слава.
Камень преткновения: слава, не любовь. Не любящий человека, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Именно. Вседержителя трудно любить. Невообразимо невместимого. И всю на свете любовь, включая никем, и особенно мной, не освоенную, в Себе уже содержащего. А Христа трудно не любить. И вообще: не любить – трудно. Вадима – в шею мне сейчас дышит – как его не любить? И Колю Дрыгана – как? Когда столько лет уже любишь. Либера. Специально дома пишет, кто что скажет, и прячет в карман.
Церковная старушка произнесла беззвучно, но все услышали – гасите свечи. Пф, пф, пф. Служба продолжается, и даже концентрируется, и крепчает. Накопленным разгоном и исходящим от конечной цели призывным излучением с силой движется к «вечная память». Но пф и ниточки дымков переменили тональность настроения на «дело сделано». И чего хорошего? Ведь не покойницу хоронят, нас всех при этом освобождая от обязанности присутствовать. Она просто чуть-чуть впереди, а так-то еще немного – и не для кого вечной памяти просить и некому.
Даже большого Имярека – вон стоит – больше хочется не любить, а скорее люблю, чем нет.
Возможно, потому что похороны. На похоронах тоже трудно не любить. Может, это и правда та в гробу, с которой я кривляясь танцевал. Ничего не стоило любить ее побольше. Вот и возмещай сейчас, как умеешь, в последние отпущенные двадцать минут.
Возможно, из-за Иоанна Дамаскийца – такие слова подбирал, такие слова… Погибшее овча. Не захочешь, полюбишь.
Само собой, из-за Христа. Vade mecum. Ид (ты) и мной-со. Вадемекум. Как пастух барашкам и козам. Впереди них, позади. По их тропам, не останавливаясь.
А если нет, не им, то vade mecum туда, где «куда» можно разыскать по прекрасным книгам. По оставленным в них в роды и роды описаниям маршрутов. По высохшим руслам, поросшим горчащей, безуханной, вонзающей терны латынью. Между Вергилием и Овидием Назоном. «Буколиками» и «Тристиями».
Василий Аксенов
[К 70-летию]
Василий Аксенов из тех писателей, у которых есть талант опережать время на день, на месяц, на год. Угадать ближайшее будущее ему интереснее, нежели оценить прошлое. Этим во многом объясняется успех, которым были встречены первые его сочинения и который сопровождает его книги до сих пор. Читателям не хватает – или кажется, что не хватает – какой-то малости, чтобы понять, что тип завтрашнего дня – вот этот, мысль завтрашнего дня – вот эта, стиль завтрашнего дня – вот такой. А не тот, не та, не этакий, модные сегодня. Наткнувшись на них в книге, читатель принимает их без обсуждения, как будто всегда знал, что так оно устроено замыслом, который не нашему чета, учреждено не по нашему желанию, а свыше, и назавтра без сомнений утверждает их. Сам. Таким образом, писатель вроде Аксенова наполовину опознает имеющее быть и предлагает его для опознания другим – наполовину научает других, что́ именно следует им выбрать и установить.
Я написал «вроде Аксенова» не потому, что знаю в России последних десятилетий еще кого-то, наделенного даром такого качества, а лишь для того, чтобы определить ряд писателей, в который он входит. Время от времени они появляются и пользуются особым спросом. Потом заменяются следующими – подобной же отмеченности. Аксенов уже пятое десятилетие остается на месте, которое занял от начала. «Ожог» значил для 1970-х то же, что «Звездный билет» для 60-х. Книги, написанные в эмиграции и дошедшие до России в 90-х, то же, что его радиопрограммы, доносившиеся из эфира в 80-х. Сейчас, в 2000-х, он и как писатель, и как общественная фигура оказался в новом амплуа: на фоне широковещательных, безостановочных и тем самым стирающих друг друга предсказаний он стал выразителем здравого смысла, основательности и взвешенности суждений, порождаемых проницательностью и проверенных жизненным опытом.
Аксенов – писатель такого уровня наблюдательности и различаемости происходящего, зрительных, а еще больше слуховых, который сравним с чуткостью приборов. Тепло, проявляемое людьми, давление, оказываемое ими друг на друга, фиксируется им с достоверностью термометра-манометра. Но он этим не ограничивается. Мы никогда не можем сказать с уверенностью, только ли записал он чью-то конкретную реакцию, которой оказался свидетелем, чью-то фразу, которую услышал, или, что называется, «придумал», смоделировав по реально бывшей, обострив, укрупнив, отшелушив ядро. Поэтому мы и принимаем реплики его персонажей одновременно за уличную речь и за афоризм, а их жест и непосредственный поступок одновременно за физиологию и за фигуру танца.
Часто он добивается этого, помещая героев в эксцентричную обстановку парадокса и абсурда. Не в качестве приема, то есть не создавая карнавальное, временное, исключительное, искусственное пространство, а опять-таки проявляя ровно то, в каком сплошь и рядом пребывают их реальные прототипы-двойники. Во времена советского режима это впрямую демонстрировало фантасмагорию, официально выдававшуюся за социализм, сейчас – мелочность того, что объявляется крупным, полицейскость того, что свободным, вымысел того, что действительным.
Аксенов – писатель хорошего настроения. Его герои переживают выпадающие им скорбь, конфликты, беды всерьез, не отводя глаз, не уклоняясь в утешительные подмены. Но они никогда не упускают шанса обнаружить в положении, куда их завела судьба, забавную черту, окраску, поворот. На это они опираются, в этом получают ободрение. Из его книг следует, что не только не отчаянием движется жизнь, но даже и не преодолением его, а желанием радоваться. Хотя они и видят, что мир не праздник, они ищут и находят в нем праздничность, которая присуща ему от сотворения наравне с унынием и безразличием.
В этом, возможно, причина привязанности писателя к джазу и спорту. Целый ряд ранних его вещей развивается как джазовая пьеса, для которой исполнение значит столько же, что и композиция, тема, ноты. Точнее, исполнение и есть она сама. В более поздних такая манера используется внутри отдельных фрагментов, иногда достаточно крупных. Задана тема, идет импровизация, игра с гармонией, любопытство толкает пробовать то и это, подбирать нужное «слово», приходит, если повезло, наконец что-то верное, закрепляется, задача разрешается… В спорте предпочтение Аксенов отдает баскетболистам. Я знаю его с конца 1950-х годов и свидетельствую, что к нынешнему времени он может с центра площадки забросить из-за головы от трех до семи мячей из десяти.
[К 75-летию]
Что Аксенову 75, не производит на меня сильного впечатления. Не вижу, чтобы он очень изменился с 25-ти. Разве что сделался немыслимо публичной фигурой и во множестве интервью столько рассказал о себе, что не представляю, что бы я мог прибавить еще нерассказанного. И все-таки…
Из того, что не знал в молодости, за полвека близких отношений я узнал:
– благородство его натуры (которое в молодости не замечаешь – спроса нет);
– величину творческого заряда, разнообразие направлений его действия;
– вообще витальность и жизнестойкость;
– неснижаемый интерес к происходящему вокруг;
– отвращение к любым производным тоталитарной власти, к любой авторитарности, к любым ограничениям личной свободы (это и в молодости, но тогда отвращение к советскому режиму было у нас на уровне физиологии).
Главные перемены:
– что тогда бесконечно шлялись и пройти от Аничкова моста до Крестовского острова не представляло труда, а сейчас с Пушкинской до Охотного едем на машине;
– что тогда знание иностранных языков ограничивалось более или менее ай-эм-э-бой, а сейчас он шпарит на английском «не хуже Бориса Шекспира» (по выражению Зощенко), да и французский подтягивается;
– что тогда броски по баскетбольному кольцу производились с большей грацией, сейчас зато процент попадания повыше.
После его перемещения в 1980-м в Америку мы увиделись через восемь лет. Меня впервые выпустили за границу: приглашение было от Велсли-колледжа, но сразу по приезде пришла еще дюжина. В Вашингтоне он встречал меня на вокзале в белом «Мерседесе» размеров, я бы сказал, скромных, демонстрирующем не просперити, а элегантность. Я выступил в его семинаре в университете Джорджа Мейсона. Представляя меня, он упомянул, в частности, что через меня познакомился с Ахматовой: «Мы приехали в Комарово, перед ее домом горел костер, вокруг него танцевали цыгане». Я сказал, что это он от щедрости и чтобы чужеземцы (студенты были со всего мира) по цыганам опознали Россию. Но через несколько лет, уже в Москве, на совместном нашем литературном вечере он повторил слово в слово, и я при всех перевел это в шутку, объяснив, что не было при Ахматовой цыган. Он с удивлением на меня посмотрел и серьезно спросил: «Позволь, а жена Баталова?» Я был посрамлен: а) я не помнил, что она в тот день там находилась; б) я прекрасно знал, что она цыганка, но это все равно, что сказать, что поскольку Ахматова на четверть татарка, там были турки в шальварах с бубнами; в) я преклонился перед его уменьем превратить европеянку Гитану, неподвижно глядящую на пламя дачного костра, в пляшущий табор.
Что касается литературы, то все 50 лет открываю его книги с неубывающим хорошо темперированным желанием – от «Затоваренной бочкотары» до «Редких земель». В молодости еще с примесью акмеистического высокомерия и снобизма, а потом – зная, что прочту что-то, чего не прочту ни у кого другого, и так, как ни у кого другого, выраженное. Некоторые молодые рассказы люблю трепетно и пылко. В целом же исхожу из того, что он прирожденный писатель, весьма замечательный, и, если наталкиваюсь на что-нибудь не вполне удачное, то принимаю это как не вполне удачное у прирожденного писателя, весьма замечательного.
Короче говоря, о 25-летнем храню память нежную, признательную и драгоценнную. Но заместить 75-летнего хотя бы и тремя теми «в цвету» 25-летними не согласен.
[Вместо некролога]
Меня просили написать о нем к его 70-летию и к 75-летию. Сейчас – in memoriam. Я предлагаю написанное тогда. Это естественно – повторить то, что сказал прежде. Единственное, что хочу прибавить, это то, как ведет себя чувство утраты.
Когда позвонили и сказали, что у Аксенова инсульт, во мне отозвалось рефлекторно: проклятье!. Потом растерянно: что же это такое! Наконец более членораздельно: он бывал в переделках, подождем. Первое и второе понятно, третье – потому что на моей памяти ему не однажды удавалось одолевать трудности, неприятности и испытания.
Несколько раз мы хотели вспомнить, когда познакомились. К согласию не пришли, положили вести отсчет от 1960-го, просто как ровной даты. Потому что совпадающе в деталях рассказывали что-то из конца 50-х: события, в которых оба участвовали, антураж конкретных встреч, присутствие на них таких-то и таких-то людей и кто что говорил, хотя припомнить во всем этом один другого не могли.
Тогда в Ленинграде, где мы оба учились, он в Медицинском, я в Технологическом, появились так называемые лито, литературные объединения пишущей молодежи. Одно из получивших общегородскую известность и представительных – Промкооперации, куда мы оба ходили. Название взялось от Дома культуры, с Промкооперацией к тому времени уже никак не связанного. Приходивших было когда двадцать, когда тридцать. Из медиков самым заметным был, да и вообще, пожалуй, самым авторитетным, Илья Авербах, ставший потом кинорежиссером, а тогда писавший стихи. Сочинял и песни, напевал, простенько подыгрывая на гитаре: «Ты скажешь спасибо – за чай, за сахар, а я заплачу – за стол и белье». Не то в Биаррице, не то в Фэрфаксе, помню, что за границей, мы с Аксеновым этот куплет вспомнили, а он еще: «Нужно так попрощаться, чтоб больше не сметь – ждать письма, чтоб ни слуха ни духа; разве я не сказал вам: для двоих называется смерть – то, что все остальные для них называют разлука». Я сказал – подчеркнуто сдержанно, – что автор песенки я… Как это ты? Я от него слышал… Слышал, может, от него, а песенка моя… Может, и твоя, но я буду продолжать считать, что его.
Из Медицинского ходил еще прозаик, он написал рассказ про сенбернара, полюбившего болонку, трогательный, но самое замечательное было, что сочинитель был уверен, что порода называется «сеРбернар», так на протяжении всего повествования и произносил, а поправленный – долго спорил, что правильно у него, а не у критиков. Аксенов на этих собраниях держался незаметно, потом просто взял и напечатал «Коллеги». Никто ему не завидовал, публикация в то время в нашем ленинградском кругу расценивалась скорее как что-то бросающее и на произведение, и на автора тень.
Немного позднее, в начале 60-х, на меня напала хворь под названием вегетодистония, что-то с сосудами. Один приступ случился на улице, я доплелся до скверика, прилег на скамейку. Старушка с соседней вызвала «Скорую». Молодой врач, услышав мою фамилию, сказал, что знает ее от своего сослуживца Сени Ласкина. Ласкин учился на одном курсе с Аксеновым и тоже писал прозу. Я знакомство подтвердил. Врач мое состояние определил как «ничего страшного» и предложил отвезти меня не в больницу, а ко мне домой – «отлежитесь». Недели через две мы с Аксеновым были в одной компании, и он рассказал историю, как я не мог поймать такси, остановил «Скорую» и велел доставить себя по домашнему адресу.
Этих эпизодов, фрагментов наших разговоров, обстоятельств встреч в моей памяти десятки. Месяц вдвоем в Клога-ранд, авантюрные полмесяца на Саареме, десять месяцев в Вашингтоне, из них первый – в его доме, и потом по месяцу, по пол, когда, приезжая, останавливался у него, и его наезды ко мне, когда одно лето мы жили в соседних рыбацких деревнях в Латвии, – даже календарно это порядочный кусок жизни. Вася – имя, в России подталкивающее к запанибратству. В юности, молодости, сходя в корешении к «Ваське», мы показываем этим такую его простецкость, по сравнению с которой любое имя наше будет пожалуй что и повыше. Предшествуемое союзом «и», оно значит: всё, конец, привет, пока – и вася. Падчерица обращалась к нему Василий Петропавлович. Брат моей подруги-англичанки, к которой я его направил, называл Вазелин Аксолотль.
Но я пишу сейчас не воспоминания о нем. Не показания даю, не свидетельство оставляю, не признания делаю. Тоска, желание дать знать ему, отсутствующему, о своей привязанности, надежда, что еще одна всплывшая в памяти сцена растормошит его, замкнувшегося в смерти, приблизит к нему, не подающему о себе вести, – вынуждают оборачиваться к общему прошлому. Считается, что боль любой потери со временем притупляется, утихает. Но есть и такие, когда, наоборот, только обостряется. Промежуток между парализовавшим его инсультом и смертью стал буфером между им живым и мертвым, приучил к тому, что его все меньше, что утекает, уходит. Смерть, похороны были – уже полуумершего, полупохороненного. И вот, идет третий год, а его отсутствие я чувствую все более реально, более лично, более вызывающе, жгуче. Хочется произносить беспомощно: он был добрый, умный, веселый, широкий. Родственный. Ни разу не давший возможности себя поблагодарить.
Сергей Довлатов
[Персонажи в поисках автора]
Никто не знал, кто чего стоит. И в первую очередь, чего ты сам стоишь. Заклинанием звучали слова «гамбургский счет». Даже те, кто не читал книгу Шкловского, твердили к месту и не к месту: «По гамбургскому счету…» Как правило, по гамбургскому, то есть по независимому от лежащих вне искусства обстоятельств и мотивов, по чистому счету выходило, что ты – гений и что ближайшие твои друзья гениальны, потому что вы, ваша компания – это компания гениев. Минутами, правда, налетал ледяной ветерок отчаяния, зарождавшийся от сомнения: а вдруг твой талант не оценен не потому, что публике недоступна гениальность, а потому что ты – бездарность? Другого выбора не было. Гений или бездарность.
Никто не знал, кто чего стоит, потому что не было открытого рынка. Была видимость литературы, музыки, живописи, которые появлялись в виде книг, симфоний, картин, выполнявших ряд условий, никак с искусством не связанных. Так что какая-то точка отсчета была: что признано, то не искусство. А за этим, естественно, следовал нелогичный вывод: что не признано, то и гениально. Так было в середине 50-х; в середине 80-х, несмотря на коррективы, вносимые опытом новой эмиграции, все еще было так.
Я старше Довлатова на шесть лет, для молодых это, как известно, огромная разница в возрасте. Кроме того, в кругу непечатающихся, непризнанных то есть, своя иерархия, свои авторитеты, и в первые годы нашего знакомства Довлатов вел себя со мной так, как если бы я был одним из них. Вероятно, так же, как авторитет, держал себя я. Помню, меня пригласили читать стихи в университет. Вечер вел профессор и литературный критик Наумов, он несколько раз произнес мою фамилию через «е» – Нейман, и тогда я стал называть его Неумов, и сидевший на задней скамье студент Довлатов, и до и после того жалимый перевиранием собственной фамилии, радостно фыркал и лыбился. Но настоящее знакомство началось, если не ошибаюсь, с переписки: он тогда попал в армию, общие приятели передали, что он нуждается в поддержке, я написал что-то, что казалось мне тогда ободрительным, он ответил, сюжетик отношений завязался. Когда он вернулся, нам уже было с чего начать, хотя за границы приятельства мы никогда не вышли: было взаимное расположение, но не близость.
Тогда он был женат на красавице – настоящей, а не из тех, которых большее или меньшее число знакомых называют так по негласной договоренности. Когда они шли по Невскому, оглядывались все, даже старики и старухи с затрудненными двигательными функциями. Он производил впечатление человека, которому доступно все, чего он ни пожелает: любая дружба, любая ответная влюбленность, свобода, деньги, элегантный костюм, беспредельная сила, любой талант. В действительности, однако, дела обстояли не так роскошно. Денег практически не было, влюблялись не только в него, друзьями становились, пусть на несколько дней, люди, которых он не знал по имени. Даже сила оказывалась достаточной лишь для перемещения в пространстве одного его могучего тела, и когда он помогал переезжать на новую квартиру моему брату, в ход пошли валидол и система длительных перекуров.
И талант. Он был наглядно талантлив, бесспорно талантлив, талантливо талантлив. Из всех своих возможностей проявить талант он выбрал литературу. Потому что это занятие ему в общем нравилось, потому что он литературу обожал, и еще потому, что талантливый человек, не привязавший себя ни к одному из предлагаемых ему стойл, считается «погубившим свой талант». Он был много одаренней писателя Довлатова, хотя он мог предъявить свои достижения «по гамбургскому счету» и в литературе. Подозреваю, что писательство было для него еще и средством отгородиться от порядков и людей, так или иначе терзающих каждого. Он был ранимый человек и своими книгами защищался, как ширмой. В конце концов всякая ширма берет на себя функции стены, как всякая маска – лица. Он ее украшению и укреплению отдавал почти все силы, публика таким его и воспринимала, таким и судила. Но жить ему было настолько же неуютно, как тем из нас, кто пользуется любой возможностью эту неуютность подчеркнуть и свою позицию отчужденности, то есть другую ширму, продемонстрировать.
Главный его талант был – гармоничность натуры. Каждый живой человек делает что-то привлекательное, что-то, что принято называть хорошим, – и что-то безусловно худое и дрянное. Свое худое и дрянное Довлатов не списывал на счет худости и дрянности мира, не сравнивал, как множество людей, в выгодном для себя свете с худостью и дрянностью других, а признавал, как-то весело сокрушался – и не извинял себя. Не называл это борьбой добра со злом, или еще более броско, борьбой плохого с худшим, а называл это своей жизнью. Его числитель, то есть представление о себе, был почти равен знаменателю, то есть его способностям. В этой целостности тоже была гармония. В молодости он повторял с восторгом и надеждой: «Если бы я мог написать хоть один рассказ, как Куприн!» В другой раз он говорил о своем сверстнике, поэте, моем тогдашнем друге: «Мне позвонил Н. Представляете себе? Это как если бы вам позвонил Николай Угодник». Или: «Вы не знаете всех степеней низости ленинградской литературы. Вообразите, есть люди, которые уважают меня, как я уважаю вас».
В этом «я уважаю вас», искренне обращенном ко многим незнакомым, была основа и мера его самоуважения. Он выбрал быть своим среди уважаемых, а не лучшим среди неуважаемых. Из-за отсутствия рынка, о котором я упоминал вначале, были перевернуты не только цены, а и оценки. Хорошего журналиста начинали величать беллетристом, хорошего беллетриста – прозаиком. Мы разговаривали редко в последние годы, но в те, когда разговаривали, и судя по последним письмам и интервью, Довлатов предпочитал называться журналистом, а не литератором, литератором, не писателем.
В Ленинграде мы жили в пяти минутах ходьбы друг от друга, иногда сговаривались по телефону и гуляли. Но чаще наталкивались друг на друга на Загородном, на Разъезжей или Рубинштейна, на которую он выходил в шлепанцах, чтобы купить хлеб или поднять в квартиру коляску с грудной дочкой. Последний раз мы гуляли как следует уже после моего переезда в Москву. Я приехал на несколько дней в Ленинград, мы встретились на углу Невского и Литейного, дошли до Адмиралтейства, перешли по мостам Неву, Невку, на Большом проспекте Петроградской зашли в комиссионный магазин, погреться и прицениться. Хорошенькая продавщица, не спуская с Довлатова нежных глаз, проговорила почти умоляюще: «Есть пиджак на вас». Он примерил, отказался, и тогда она, как голубка, прогулила: «Вас зовут Сергей, да?» Когда мы приблизились к дому моих родителей на Карла Маркса, он сказал: «Я бы хотел, чтобы вы прочли одну вещь, там есть про вас, а я собираюсь отправить это за границу…» – и достал из висевшей через плечо сумки картонную папку. Это было «Соло на ундервуде». Назавтра мы увиделись ненадолго, я вернул рукопись и сказал, что такое-то, такое-то и такое-то место необходимо изъять, потому что там есть слова, хотя и действительно мною произнесенные, но в частной беседе, а будучи опубликованы, они обидят живых людей. Он как-то дернул глазами вбок и ответил: «Конечно. Непременно… Хотя, вообще говоря, мне на днях сказали, что книга на Западе уже вышла».
Когда человек уезжает так далеко и так навсегда, как он, его смерть воспринимается не вполне реально. Я не мог пережить его смерть болезненно и остро: тот давний отъезд присвоил часть боли себе, долгая разлука притупила остроту. Я, в самом деле, один из персонажей этой и не только этой книги. И как персонажу мне говорить об авторе неуместно. И неуютно. И тем более неуместно, что он теперь не может ни принять, ни опровергнуть того, что я говорю. И тем более неуютно, что без него вообще стало неуютнее, чем когда он был где-то за горизонтом, где-то в Нью-Йорке, где-то в эфире.
1992
[К 75-летию]
Последние 25 лет напрашиваются быть сроком публичного взлета Довлатова, признания, читательской и гражданской преданности ему, как время, отсчитываемое, во‑первых, с его смерти в 1990 году, во‑вторых, от начала массовой публикации. Но нынешние торжества проходят в период менее восторженный по отношению к его имени и памяти о нем, чем любой из предыдущих в продолжение этого 25-летия. Менее восторженный, а в переводе на язык докладной, менее благоприятный. Потихоньку-полегоньку сложилась, или складывается, антидовлатовская клака. Под сурдинку, фейсбучно и в голос на него наезжают за то, что он не Набоков и не Саша Соколов. Что пишет без необходимой, по мнению клакеров, пропитанности текста изощренностью, изысканностью, а хоть и манерностью. Компания хулителей подбирается по тому же принципу, что всегда: архивны юноши толпою / на Таню чопорно глядят / и про нее между собою / неблагосклонно говорят.
Другое дело, что Таня в этом случае не беззащитна, и ничего всерьез угрожающего писательской репутации Довлатова в их неблагосклонности нет. Наоборот, такие поправки к похвалам бывают кстати, возвращают положению дел уместную трезвость. Трезвость, по требованиям жанра, также и унылую, но для истории литературы – вспомним, как нам ее преподносили в 5-м, 8-м и 10-м классах, – неоспариваемую, необсуждаемую. Чтобы, к примеру, «Отцы и дети», не говорю уже «Тихий Дон», сопровождались низкой ленинградской облачностью и блуждающей мигренью, а не самозабвенным оцепенением над «Островом сокровищ» и хохотом над эпизодами из «Голубой книги». А что тем, кто не благоговеет перед Набоковым, надо руки не подавать, я проходил еще в 70-х. Я сказал вначале, что нынешний период менее благоприятный. Но Довлатов рассказал о себе – на бумаге и в живом разговоре – столько неблагоприятного, что сегодняшнее фырканье вряд ли ему повредит. Я, кстати сказать, никогда не был уверен, не ловит ли он меня, рассказывая эти саморазоблачительные истории, не ждет ли, чтобы я сказал ай-яй-яй, как нехорошо.
Да он и не скрывал, что его удовлетворяет идти в фарватере Куприна. Или, как напомнил мне недавно Бобышев, Уильяма Сарояна. Так что никакие претензии к нему не отнимут у нас удовольствия, полученного от изданных и массово прочитанных в последние 25 лет его книг. От выклевывания из них особенно смачных и прелестных его фраз, цитирования их в компаниях. Непосредственно меня – от встречи на лесной дороге по пути с Волги, когда из группы молодых людей, разминувшихся со мной, бегом вернулся парень и спросил: «Вы Найман?» (я тогда еще появлялся на ТВ). Я подтвердил, он, не до конца веря, сказал: «Вы знали Сергея Довлатова?»
А больше всего удовольствия от того, что он, на наше счастье, не гений – в которые его неустанно подпихивают фаны, приводя неприятелей во все большее негодование. Просто у него был ястребиный глаз, следящий, не подползает ли к здравому смыслу какая красивая змейка. Как-то раз в Америке я сказал нашему общему приятелю, что здесь в небе, когда ни посмотри, всегда висит около дюжины летательных аппаратов. Он ответил, что и на него это производило в первое время впечатление, и он даже написал об этом Довлатову. Тот ответил открыткой: это очень интересно, но где кожаная куртка, которую ты должен был мне прислать?.. Или в приписке к письму мне: «брат Борис, не застав меня дома, оставлял извещение “Буду в 16. 00”» (это о человеке, которого по пьяному делу постоянно забирали в милицию и регулярно в тюрьму).
Теми же любомудрами одновременно обличается и в вину всякому, кто хранит Довлатову верность, ставится приверженность понятию «поколения», по их убеждениям, реально не существующего, выдуманного заинтересованными лицами ради своих выгод. Ситуация, согласимся, нелепая. Может, оно и так, но отрицатели спорят с кем-то, кому их доводы безразличны, кто им не отвечает. Ощущение принадлежности к поколению – того же рода, что к семье, к землячеству, к крови. Я чужд тому, что поколение это что-то, что меня крышует, но от того, что я ему принадлежу, могу ли отказаться? Как многие до меня – как лицеисты, как попавшие в Серебряный век, как американцы из «потерянного». Какой-нибудь бестактный представитель того или другого может этим бахвалиться, но раздражаться на это – примерно то же, как на то, что человек кончил, скажем, как я, 10-б класс 222-й школы. Ну, так вышло. Ну, вышло так, что некие «мы» оказались ровесниками, жили поблизости друг от друга, так ли этак ли сошлись. Жили в одних и тех же условиях советского режима, который учил не какой-то правде, а тому, что́ выдавать за правду – и, соответственно, за неправду. Об этой неадекватности, на которую человеческая натура вообще падка, от века, думали, говорили, писали. Довлатов ярче других: «“Ах так?” – сказал я, развернулся и ушел. (Абзац.) Точнее, остался». Сошлись, потом разошлись, но оставшееся от сближения никуда не делось. Кто-то стал более известен, кто-то менее. Мне нравится, как он обо всем этом судил. Нравится много больше того, как судил и сужу я. Поэтому скажу под конец не о литературе. Пишется и о написанном говорится много. А вот как он двигался по ленинградским тротуарам, почти ничего. А это, на мой вкус, было отнюдь не менее внушительно, чем то, что он писатель.
Он шел довольно быстро, крупными шагами. Шаг был грузный, ступня ставилась с наглядным упором. Потом на эту ногу переносил вес тела, с какой-то грацией, легкость которой подчеркивала никуда не уходящую тяжесть. Он как бы и утверждался, и продолжал пробовать утвердиться – вереница сдвигов, в которой проглядывало словно бы нечто конькобежное. А я был легкий от природы, идти рядом с ним мне было одно удовольствие. Или наблюдать, как он приближается. Или даже просто смотреть с другой стороны улицы. Создавалось впечатление, что улица – и люди, и здания – волочится за ним. И, в общем, весь Ленинград. Что он такой бурлак на Фонтанке. Это было классно. Это уже не повторится. Такого пешехода, в которого всматривались и на которого оглядывались, нет больше в городе. Я еду в Петербург на фестиваль по случаю его 75-летия и загодя знаю, что наше собрание в лучшем случае будет согласно французской поговорке всего лишь той тысячей наполеондоров, из которой никогда не выплавить одного Наполеона.
2016
Виктор Голявкин
Голявкин (в разговоре о нем да и с ним самим обычно без имени, одна фамилия; как знак компанейской близости – Витя Голявкин) в Ленинграде появился, а можно сказать и: был замечен, во второй половине 1950-х годов. В эти несколько лет и самом начале 60-х и сложилась новая волна ленинградской поэзии и прозы, которые привлекают публичное внимание по сю пору; затем наступил некоторый перерыв, и следующая за ней подкатила уже другая, иная и числом, и влиянием, и химическим составом. Последовательность событий, приведших к возникновению на панорамной фотографии фигуры Голявкина, и сразу в том виде, что не изменился до конца его дней, была такова: сперва слухи о «потрясающих» рассказах, которые пишет некий малый, приехавший с дикого Запада, в его случае – Юга: из Баку после заезда в Самарканд. Авангардист, абсурдист, законченный стилист, несокрушимый иронист с уклоном в заумь. Следом сами тексты, в машинописи и по чуть-чуть в журналах. Наконец книжка «Тетрадки под дождем».
Потом неизвестно откуда реализовался он сам собственной персоной. Физически мощный – и тут же выяснилось, что был чемпионом Баку по боксу. Не проверяли, сразу поверили. Говорящий короткими, неожиданными, вроде бы нескладными, хотя досконально понятными фразами. Прибавлявший – как бы для логичности, а послушаешь, для ритма – «вашэ`». То есть «вообще». Вскоре очень многие стали повторять за ним «вашэ», без ссылки на первоисточник. Дальше оказалось, что он студент Академии художеств, живописец. Что участвует в небольших локальных выставках. Что на экзамене по анатомии на вопрос преподавателя «сколько костей в черепе?» ответил «две», а на «ну скажите хоть, сколько у человека зубов» – «сто». (Эпизод впоследствии попал в один из рассказов.) Что проз у него две – детская: печатаемая, смешная, пронзительная, невероятно талантливая и т. д., в общем, замечательная; и взрослая – о публикации речи быть не может, та самая «потрясающая», великолепная, великая и пр. И в ней есть рассказ «Флажки, кругом флажки», три строчки, но в них всё, и в дополнение к «вашэ» знатоки через две-три недели стали читать его в компаниях наизусть. Я и сейчас помню вторую половину: на холме сидит мальчик с флажком и ест флажок. И другой, про гвоздь, наполовину вбитый в середину стола и ни туда ни сюда, с абзацем про братьев Дариков: пришли в гости, всё опрокинули, разбили стекло в уборной, повыдирали цветы из горшков и в два счета вытащили гвоздь.
Лицом, при небольших глазах, он был благообразен, улыбчив (привычка подхохатывать в разговоре), голова крепкой лепки, но в нескольких ракурсах нет-нет и обнаруживалось сходство с плакатно безликими типажами с картин Целкова. То ли из-за короткой шеи, то ли потому, что они приятельствовали в молодости и тот что-то такое ухватил в его физиономии. Особый период его внешности пришелся на солдатскую шинель венгерской армии, купленную им на барахолке, грязно-зеленого цвета, тонкого по сравнению с нашим сукна, размера на два у́же его корпуленции. Ходил поэтому не застегиваясь, и в сочетании с непривычным европейским покроем это выглядело элегантно. Женился на Люде Бубновой, яркой, одаренной и под стать ему воплощавшей безоглядную решительность. Однажды они условились встретиться у Университета, он порядочно опаздывал, она в конце концов бросила ждать, двинулась в сторону Академии, издали увидела его изумрудный клифт, ускорила шаги, подошла и отвесила оплеуху – и немедленно получила сдачи.
К другой, учиненной уже им одним расправе – уклончиво говоря, неприятной – непосредственно причастен оказался я. Мы с ним были совсем разные, и жизненный опыт, и воспитание, и интересы, а сошлись. Странное такое приятельство. Созванивались, хотя не часто, заворачивали в случайное заведение общепита, у него дома сидели, водку пили, помалкивали, вдруг быстро заговаривали, минут на десять, насыщенно. Опять молчали, вдруг произносили что-то смешное, без ответа, вдруг междометие. Чего-то он у меня узнавал, книжное. А он говорил, к примеру, такое: «не, я ему [нашему общему дружку] сочувствую, но так; мужик волю жене давать не должен». Прогуливались по его Купчину, квартал туда, квартал обратно.
И вот однажды звонит мне немыслимо знаменитый поэт, тогдашняя звезда московской и всесоюзной словесности. Познакомились в ранней молодости, поверхностно. Я, говорит, в Ленинграде – сведи меня с Голявкиным. Звоню Голявкину, говорит: что ж, можно. Поэт заезжает за мной на такси, мы с ним вдвоем за Голявкиным. Втроем едем в Академию художеств. Первого встречаем там знакомого скульптора, он в затею охотно и чем охотней, тем собранней это проявляя, включается, ведет нас в ваятельную мастерскую. Минут через десять в ней уже дюжина других охотников, ящик армянского коньяка и множество плавленых сырков «Дружба». Месяц, должно быть, декабрь, потому что чуть свет побрезжил и сразу в больших окнах новая темнота. Вскоре всё приходит в нужный градус, горят лампочки под экономными жестяными абажурами. Долго ли, коротко ли это продолжается, помню нетвердо, но один момент врезается в память: поэт поднимает, держа под коленки, Голявкина и переносит через мастерскую, выкрикивая в возбуждении: «Я несу Голявкина! Я несу Голявкина!» Потом все небольшой толпой вываливаются на улицу, сырой холод, чудом подкатывает такси, мы трое садимся, остальные, в рубахах, в рабочих халатах с нами шумно прощаются. Едем – поэт рядом с шофером, я с Голявкиным на заднем сиденье. Переезжаем через мост Лейтенанта Шмидта, Английская набережная, Адмиралтейская набережная. Поблизости от Адмиралтейства Голявкин говорит: стоп, мне здесь выходить. Потом к поэту, по фамилии его знаменитой: «Абвгде!» Тот оборачивается, Голявкин хлесть его по лицу кожаной перчаткой. Поэт утыкается лицом в ладони. Я ору: ты что, опупел? Голявкин: «А не будет носить Голявкина на руках». Затем демонстративно вежливо: «До свиданья, Найман», – и церемонное рукопожатие. Метров через сто и я выхожу и сворачиваю к Невскому, не оглядываясь.
Проигрываю сцену в такси раз за разом. Назавтра и в ближайшие дни ищу объяснения. Что он зверь. Но этому противоречит манера его поведения в компаниях что привычных, что случайных, тону обыденной речи, дружелюбию, с которым он пишет о персонажах нелепых, эгоистичных, недобрых. Или: что на унижении звезды предполагает набрать очки. Но в пишущих и читающих кругах он сам звезда, его расположения ищут, ни в зависти, ни в пренебрежении он не замечен. Или: что допускает, что история пойдет по Ленинграду и хочет выглядеть в ней победителем. Но ему уже за 30, детские игры в конкуренцию его не занимают. Недели через три он звонит как ни в чем не бывало, спрашивает, чего я поделываю и не встретиться ли нам – «только не обсуждать». Не в этот день, но через один-два мы куда-то вместе идем, в гости или на чье-то выступление, не помню. И он мельком упоминает про отца. Или про свою книжку «Мой добрый папа». Или, мерещится сейчас, не про книжку, а только название ее в какой-то связи произнес. И вдруг такая мысль в сознании у меня мелькает: жизнь потерла его, помяла и жестокости научила, но ведь когда-то он сидел на руках своего реального отца, любимого, которому он эту книжку посвятил. И драгоценную память об этом смешивать с балаганом, принятым в Доме литераторов, он категорически не позволит.
Может быть, эти эпизоды первыми приходят мне на ум потому, что они ярче, необычнее, увлекательнее устоявшихся, давно заведенных, апробированных встреч, бесед, споров? Может быть, я на них сосредоточен потому, что тогда уже готов был ждать от него чего-то подобного? Потому что вот еще: мы едем жарким летним днем в электричке из Комарова или Зеленогорска в Ленинград – Василий Аксенов, Голявкин и я. Мы с Аксеновым сидим лицом по ходу поезда, Голявкин напротив. Душно, солнце в окно слепит, все трое умеренно выпивши. Голявкин говорит: «Я название новой повести придумал, вашэ шикарное – “Арфа и бокс”». Я это уже знаю, сообщает, стало быть, для Аксенова. Тот с минуту молчит, потом говорит: «Не, так сейчас не называют». Голявкин наклоняется вперед, говорит: «Арфа, – принимает боксерскую стойку, – и бокс!» – с ударением. «Не, – повторяет Аксенов, – не проходит». Я его понимаю так, что, мол, слишком прямолинейно, тонкая интеллигентная арфа и грубый членовредительный бокс. Я этого не нахожу. Голявкин мне подмигивает, я ему, мы лыбимся. Аксенов: «Не, не канает». И всё, никакого продолжения.
Это, стало быть, конец 60-х. В середине 60-х Аксенов мне рассказывал, что пришел на процесс Синявского и Даниэля, им в Союзе писателей по списку давали пригласительные билеты. В антракте встретил Голявкина. Спросил: «Что скажешь?» Тот: «Чего ты говоришь? Не слышу ни слова, уши заложило». Прочищает напоказ уши. – «Я говорю: как тебе вся эта история?» – «Полная тишина, ни звука не доходит. Продуло где-то. Воспаление среднего уха, не иначе». И так с этого и не слез. И опять я был на его стороне. Ему исполнилось 12 лет, когда началась война, отца сразу отправили на фронт, и вернулся он, когда она кончилась. Виктор все это время был в семье за старшего и не только не обуза для матери, а что-то зарабатывал рисунками, тянул двух младших братьев. И раз навсегда усвоил, что рассчитывать ему, кроме как на себя, не на кого. Аксенов после ареста обоих родителей тоже узнал, почем фунт лиха, жил напряженно и мужественно, прекрасно отдавая себе отчет, в какой стране находится и какие в ней правила выживания. Но ко времени Синявского – Даниэля он был признанной в ССП фигурой, входил в группировку обладающих определенными привилегиями людей, а Голявкин – одиночкой. И принципиально, и по сложившимся обстоятельствам. Степени порядочности, не говоря уже благородства, Аксенова он не знал. И вашэ, если хотел разговаривать, разговаривал – если не хотел, глох и немел.
Когда меня сейчас попросили о нем написать, я ответил, что сделаю это с удовольствием, но предупредил, что без филологии. Я думаю, главный успех его прозе обеспечило то, что и всем лучшим писателям и поэтам: он ставил слова в и на свежие для них позиции. В определенном смысле как Мандельштам. Как это получается, ни читатель не понимает, ни часто сам сочинитель. Обсуждать, чье литературное влияние Голявкин испытал и в какой степени, не кажется мне продуктивным. Тем более что в период вхождения в литературу и становления тогдашние авторы чаще норовили задвинуться в «глухую несознанку». Большинство предпочитало выглядеть самородками: никого не читал, пишу из себя, ни на кого не похоже, а если где-то с кем-то пересекаюсь, то абсолютно случайно. У Голявкина это получалось предельно органично: «Хемингуэй? Не попадался». После этого и про Твена спросить рот не открывался.
Голявкин видел, что род человеческий ограничен, глуп, самонадеян, хвастлив, претенциозен и так далее. Но Голявкин в роли автора ничем своих персонажей не шире, не умнее, не самокритичнее, не скромнее, не подлиннее и пр. и пр. Разве что свободнее. И когда ему с ними утомительно или невмоготу, не стесняется сказать, что про них думает. Хотя сплошь и рядом это такая же или еще хуже, чем у них, чушь, галиматья, дикость. Люди – существа смешные, это, если не ошибаюсь, Тургенев, рассказывая Толстому про каких-то конкретных, сказал, и раз, и два, а на третий Толстой ему ответил: да; все; и мы с вами тоже. Персонажи Голявкина плетут свою смешную чушь, он к ним прибавляет свою, и становится еще смешнее. Дети из пионерлагеря, играя в войну, кричат про мальчика, приехавшего в деревню на дачу: «Хватай его, ребята!» – а один: «Да это не наш!» А мальчик, от чьего лица рассказ: «не хватает, думаю, еще вашим быть». В другом рассказе, взрослом, рассказчик приходит в гости к соседу по лестничной площадке, а тот перегородил свои четыре комнаты на шестнадцать. Жена соседа спрашивает, продолжать ли перегораживать дальше. Гость, успевший опиться у них пивом, говорит: «Перегораживайте, все перегораживайте!» – «Вы серьезно?» – «Абсолютно серьезно! Продолжайте перегораживать и перегораживать!» – «Вы думаете, из тридцати двух можно сделать шестьдесят четыре?» – «Можно».
Виктор Голявкин не шутник. Он серьезный человек. Один из самых серьезных из встреченных мной. Жесткая натура. Никому не дает спуску. Готов к отпору любым умникам, кто нарушает границы его частной жизни. Агрессии не потерпит, даже поползновения на агрессию. Но обращается к людям и с людьми предупредительно и доброжелательно. Он подарил мне свою картину, букет в стеклянной банке. Она висит у меня на стене, веселая, очаровательная. Надписал несколько своих книг, симпатично, ласково. Он больше похож на дерево, а не на человека. Большое дерево с густой листвой, что-то постоянно шелестящее. Мимо идут люди, они кажутся дереву смешными: коротышки, на двух тонких ножках, своего места у них нет, все время куда-то торопятся, взад-вперед шастают. Листья с них раз навсегда облетели, прошелестеть ничего не могут. Ни тащиться по земле, как опавшие, ни взлететь, как воробьи, не умеют. Какие-то звуки издают, но что эти звуки значат, непонятно. Ну что им скажешь? Привет вам, птицы. Это в лучшем случае.
2016
Вадим Борисов
Известный эпизод у Гомера: циклоп Полифем спрашивает Одиссея, как его имя. Тот отвечает, что его зовут Никто. Бродский обыгрывает это в своем духе: «И если кто-нибудь спросит: «Кто ты?» – ответь: «Кто я? / я – никто», как Улисс некогда Полифему». В последние годы это «никто», уже в моем собственном осмыслении, сделалось для меня главным, если не единственным, подходом к пониманию и критерием в понимании всякого человека, которого я узнал. В жизни, в книге, с чьих-то слов. Что он собой представляет не как лицо, что-то значащее в области своей деятельности, знаний, профессии, общественного статуса, а как никто. Как «голый человек на голой земле», как «человек перед Богом», как член компании, пассажир автобуса, частица толпы, одиночка. Понятно, что уникальная личность проявляется прежде всего в том, в чем получила признание, – в том же может сказаться и большинство ее качеств. Но уникальные уникальны, а постигнуть или хотя бы понять пусть даже значительного, но не уникального индивидуума через описание его достижений означает дать достижениям первенство над индивидуальностью, в той или иной степени лишить его исключительности.
Когда меня пригласили написать о Вадиме Борисове, я подумал, что оценить его как очевидно одаренного историка и проницательного филолога, каким он был, я могу, только показав как одного из немалого числа таких, а не именно его. Точно так же попробовать изобразить его редкое благородство или редкое обаяние способен в лучшем случае как пример благородства и обаяния вообще. Как и то, какой он был любящий отец и верный друг. Я же хотел вспоминать его в ипостаси этого самого «никто», но наделенного качествами, дававшими ему шанс стать хорошим историком и тонким филологом, вести себя благородно, очаровывать, быть преданным своим детям и друзьям, и насколько он им воспользовался. Это трудная задача, еще лет десять назад у меня были силы взяться за такой труд, сейчас я предпочту отговориться усталостью.
Мы познакомились в начале 70-х через общих друзей. Я старше его на 10 лет и имел к тому времени репутацию, привлекательную для него. Он же с первого раза произвел впечатление открытости, прямоты, честности, готовности что-то сделать в помощь (это было в Риге, мы с маленькой дочкой и многочисленным багажом уезжали в Москву после трех месяцев в деревне). В Москве знакомство как-то быстро перешло в дружбу, опять-таки быстро ставшую крепкой и наполнившуюся мгновенной теплотой, чтобы не сказать жаром, словно бы в счет тех лет, когда мы друг друга не знали. У нас были схожие воспитание, принципы, если угодно, идеалы, и по дочке одного возраста. Впоследствии я наблюдал, как он дружит с другими людьми, и хотя, естественно, с кем-то ближе, с кем-то отдаленнее, но ко всем выказывая равное внимание и заинтересованность.
В подтверждение того, что я написал в самом начале, предыдущий абзац не желал формулироваться так, как я его заставлял – как формулируются абзацы о любой дружбе, без разницы. Вместо этого под руку лезла история, рассказанная им через несколько лет. Он учился в одном классе с Виктором Живовым, человеком замечательным, наделенным редкой душевной чистотой и не стеснявшимся выглядеть наивным (он вырос в выдающегося лингвиста). 1 сентября 1962 года они пришли в 10-й, тогда последний, и на перемене Витя сказал Диме: «Я написал летом мемуары и хотел бы тебе прочесть». Условились задержаться после уроков. В опустевшем помещении сели за парту, Живов раскрыл ученическую тетрадь, всю исписанную, и торжественно прочел: «Как сейчас, помню начало 1962 года»… Ни убавить, ни прибавить, сама эта сцена, характеры, отношения живы, ясны до подробностей и не имеют ни малейшей нужды в сведéнии к каким бы то ни было формулам.
В следующие несколько лет (от слова «лето») после нашего знакомства Борисовы стали ездить в ту же латышскую рыбацкую деревню, из которой возвращаясь мы впервые увиделись. И Тименчики, в чьей квартире это случилось и которые в те времена презирали всё, что расположено от Риги дальше Дубулт, стали ездить. И Живовы. И еще несколько вошедших на всю жизнь в круг очень близких друзей. Но тогда это были первые годы, а в первые годы, как известно, всё обладает первой свежестью, и неожиданностью, и яркостью, и жаром, и нежностью, и творческим зарядом, не поддающимися разложению на составляющие, анализу и даже поименованию, как завязи и бутоны цветов луговых и садовых. И это Дима в застолье, которое не то чтобы переходило из вечера в вечер, а казалось, что всегда ровно посверкивало, покачивалось и пошумливало, совсем как море под окнами, однажды предложил выпить «за наше дружество» – серьезным тоном и голосом настаивая на пафосе этого слова и беглой улыбкой снижая его. И мне все равно, поверят мне или не поверят, он сам в эту минуту был как этот домашний залив и повседневное пиршество. Тритон купальных волн и начальник дачного стола.
За десятилетия, прошедшие с тех пор, память о встречах с ним сильно поистерлась и просы́палась. Оставшиеся воспоминания распределились по двум темам: этой самой застольной (семейных праздников, просто «давно не виделись» или, наоборот, «вчера недосидели, надо срочно повторить») и так называемой диссидентской. Борисов генерировал настроение сборищ, в которых принимал участие. Он задавал ритм, натяг струны. В нем была щедрость натуры, определявшая поведение и отношение к каждому присутствующему, измеряемые не общепринятым выражением симпатии к соседу, а знанием того, какого душевного подъема, радости, радушия, торжественности, праздничности требует сама по себе заединость такого рода. Одно лето мы снимали дома, разделяемые дюной. У Борисовых был чей-то день рождения, намечалось пышное празднование, но моя жена заболела, с высокой температурой. Дима пришел забрать меня на десять минут, и когда я от них уже уходил, сказал, что непременно надо послать жене сочувственный привет, например чарку водки, стал собираться, а один из гостей налил стопку. Он посмотрел на него с негодованием, пробормотал: «Ты что, с ума сошел?», взял поднос, поставил на него непочатую бутылку, три пустых тяжелых граненых рюмки, что-то из свежих овощей, и мы – он впереди, я чуть отставая – стали взбираться на дюну, затем большими шагами волхвов (я ему подражая) спускаться в наш двор.
Интонационно близко, но содержательно – гораздо серьезней, он поставил на место Волконского на своем дне рождения, который праздновался у Маши Слоним. Этот вечер с самого начала взял курс на свободный, не причиняющий никому ни вреда, ни обид, но разгул, и когда Чалидзе, уже будучи тогда одной из самых известных фигур в среде инакомыслящей публики, позволил себе реплику, показавшуюся хозяйке пренебрежительной, он был тотчас осыпан содержимым блюда с печенкой, оказавшегося под рукой. К концу же, во втором часу ночи, был допит коньяк (водка и вино оставались), и стали собирать деньги на обычную экспедицию к предлагавшим широкий выбор напитков таксистам, и уже вызвался желающий осуществить ее. Богатством все располагали исключительно скромным, рублевками, максимум трешками, рожденник высыпал сбор на диван, стал считать, и сидевший рядом Волконский сказал тем тоном, каким говорят князья в советской пьесе, мол, с этакими грошами и начинаться нечего. Дима посмотрел на него более продолжительным, чем обычно, взглядом и произнес: «Ты что, обалдел? Люди не тебе чета скинулись».
И еще сценка. Длившаяся несколько минут, но по итоговым стремительности и разрушительности сравнимая с короткой воздушной тревогой, когда цель бомбометания – твой квартал и конкретно дом. На этот раз за большим столом в комнате, кажущейся тесной для него. Многолюдно. Тост, другой. Потом встает Дима, поднимает рюмку и запевает: «Как цветок душистый. Аромат разносит. Так бокал игристый. Тост заздравный просит. Выпьем мы за Таню. Таню дорогую. А пока не выпьем. Не нальем другую. Тара-рара-рамтам, тара-рара-рамтам…» В полный голос – какой там Юрий Морфесси. «Таня выпивает, Толе предлагает, Толю выпить просит, рюмочку подносит». И пока отпущено время на «тара-рара» и «Толе предлагает…», выпивается – всеми – уже налитая порция и с поспешностью наливается следующая. Встает названная Таня, но поет опять он. «… выпьем мы за Толю, Толю дорогого…» Тара-рара-рамтам. Следует процедура выпивания за Толю. Дима не простаивает впустую: «Как цветок душистый…» Толя, еще кто-то за столом, как умеют, подпевают. За десять этих мини-сеансов ручаюсь. Не выдерживают, пропускают, выходят из игры, самые малодушные, возможно, вообще дают обет воздержания. Но ядро, пока он поет – а он поет, наливает, выпивает и снова поет, – ядро продолжает. И так минут, как я утверждаю, семь-восемь, а может, и до двенадцати дотягивало – и стол пьян. И впереди вечер пьяных, пьяной в полном составе компании, всеобщего пьяного идиотизма, пьяной самоуглубленности, в частности мрачной, и периодов выпадения из действительности. А такие вечера, когда в одном, абсолютно равном состоянии непринадлежности к сиюминутности и к сиюлокальности, ни к отвлеченным локалу, идеалу, астралу, оказываются все без исключения, но главное, что все одинаково, ведь не столь уж часты.
Ну, и конечно, удерживаться от рассказа, как он пел, не стану. Написав «в полный голос», я обозначил его манеру, а не громкость. Не помню, чтобы он пел вполголоса или напевал под нос. Но «в полный», в его случае, это как «в полный рост» применительно к сидящему на корточках или в кресле, которому, чтобы дать адекватное впечатление о своей внешности, необходимо встать и распрямиться. Или как полнота красоты у женщины, не обнаруживающая себя, пока не сняты вуаль и шуба. Только звук, набравший силу, не регулируемую искусностью певца, мог передать нечто, ради чего он запевал. Ради ностальгического чувства по той единственной, зато великой отрасли производства, в которой преуспела, как никакая другая, родина – его, его отцов, преуспеет родина его детей: производства утрат. С этим смешивались надрыв, отчаяние и решимость принять главный ее, укорененный в ней девиз: раз так, то нечего беречь. Ее историей он начал заниматься в совсем ранней молодости, почти юности, его выгнали оттуда и заперли перед ним дверь. С ним осталась беспрепятственно ее поэзия с традицией особого воплощения в песне. В его репертуаре сошлись романсы, известные и не очень, песни старинные и еще недавно новые. И все они требовали полного звука, до которого его баритон добирался сразу, без подготовки, на первом выдохе – так же сразу и без подготовки заливая сердца слушающих горькой сладостью, сладкой горечью, все равно, того, что миновало или предстоит, или самих мгновений пения. На одной мы тогда помешались. «Четвертые сутки полыхают станицы. Четвертые сутки бушует весна. Не падайте духом, поручик Голицын. Корнет Оболенский, налейте вина». Она осточертела нам, а ему отысячечертела. Но он начинал ее по первому знаку, да и без знака, по себе зная, почему ее ждут. Как она мотает душу, как выбивает из нее вину за собственное бессилие, как утешает нотой, которую хочется принять за выкрик победной трубы.
Тут напрашивается воспоминание о пиршестве отнюдь не разгульном, но соединяющем две названные мной вначале основные линии, выстраивавшие наше тех лет общение: дружеские встречи по домам, беседы с возлияниями и без – и его деятельность и положение как правозащитника. Еще один его день рождения, и опять что-то (очередной грипп детей или не нашлось никого с ними посидеть, не помню), из-за чего нам с женой невозможно отправиться на него вместе. На этот раз собирались в квартире Светова и Крахмальниковой – жилье Борисовых было тогда тесноватым. Я запомнил, что вечер был рекламно роскошным, легкий морозец, медленные хлопья снега, пустые улицы. Я шел бульваром к Никитским воротам и обогнал группку людей, которая после того, как я ее миновал, чем-то привлекла мое внимание. Обернувшись, я различил идущих гуськом закутанных в черное невысоких женщин и сопровождавшего их сбоку от тротуара крупного мужчину. Шагов через тридцать я прочел на доме, мимо которого проходил, «Посольство Иордании» и разом несомнительно понял, что это прогулка гарема под наблюдением евнуха. Картинка была настолько убедительной, что спустя несколько минут я уже был неуверен, в самом ли деле видел ее, и если да, то не кино ли это снимали.
У Световых было чинно и серьезно. Гости – мужчины средних лет в костюмах, в галстуках, переговаривавшиеся негромко, размеренно, не перебивая друг друга. Через некоторое время после того, как сели за стол, гость, сидевший напротив, спросил, имел ли я в виду что-то конкретное, приделав к бутылке водки, принесенной в подарок, такую надпись. Надпись гласила: «Сим поздравляю я Диму Борисова, ныне кудрявого, в будущем лысого» – что-то вроде этого. Выглядела как аптечная бутылка лекарства с прижатым к горлышку резинкой рецептом – из тех, что были приняты в моем детстве. Я спросил, что его смущает, он ответил вопросом, какие у меня основания это заявлять: что Борисов полысеет. Я сказал: никаких… Тогда почему же я это утверждаю?.. Ну, рифма такая в голову пришла… Его «позвольте» столкнулось с моим «простите»: простите, сказал я, меня зовут так-то; а вас? Он представился Шафаревичем. Я быстро огляделся и с той же убежденностью, что получасом раньше опознал гарем, понял, что нахожусь в компании авторов сборника «Из-под глыб» за вычетом главного. Борисов участвовал в нем статьей «Личность и национальное самосознание».
Выход в свет неподцензурного, обреченного с момента появления на запрет и преследования сборника вызывал, как всякое сопротивление советскому режиму, во мне большое сочувствие и глубокое уважение. Но предмет обсуждения, связи с «Вехами», исторические аналогии не вызывали интереса. Я следил за тем, что говорилось за столом, но предпочитал молчать. Блюда были разнообразны и вкусны. Какое-то время обсуждалось начало Великого поста под тем углом рассмотрения, что вот с масленицы да и с до-масленицы неизбежно остается скоромная пища и как же с ней быть: доедать, нарушая постное воздержание, или выбрасывать, тем лишая еды голодных или подголадывающих? Вопрос ставился тем острее, чем очевиднее было, что это светский смолл-ток. Кто-то обратился ко мне: что я думаю? Я сказал: отдать татарам – и был исключен из общения до конца вечера.
Этот вечер много позднее пришел мне на ум, когда между Борисовым и Солженицыным произошел разрыв, отлучение от дома, публичные обвинения Димы в недобросовестности. У меня не было впечатления, что у Световых он чувствовал себя неловко, но если бы от кого-то услышал, что он ведет себя не вполне органично, не стал бы спорить. Мне показалось, там давала о себе знать дисциплина. Это был круг людей, выбранных Солженицыным, а Солженицын исходил из того, что на него возложена историческая миссия и на тех, кого он рукополагает в свои единомышленники, на каждого, пусть с уменьшительным относительно него коэффициентом, тоже. На нем она действительно лежала, больше того, он исполнил ее, почти в одиночку свалив советскую власть. Он написал «Ивана Денисовича», который вошел и, пока есть отечественная литература, будет входить во все антологии русских рассказов. Он написал «Архипелаг ГУЛАГ», уровня мировых шедевров, книгу, которая толком еще не прочитана и едва ли будет прочитана толком, с такой силой документальность отодвигает в ней художественность на второй план. Я преклоняюсь перед подвигом этой фигуры и ею самой. Но от выбранных и утвержденных им он требовал дисциплины армейской, чтобы не сказать лагерной. А принять такую – поступок на любителя. В определенном смысле Борисов был свободнее и его, и набранного им круга.
Он был преданный мандельштамист, досконально знавший поэзию и прозу поэта. Пришедшие на посвященный Мандельштаму вечер, в московском предании считающийся первым, все, включая вдову, Шаламова, Эренбурга, отметили выступление совсем молодого Борисова, прекрасно прочитавшего несколько стихотворений поэта. Вскоре после этого он и Морозов приготовили к печати и опубликовали отрывки из его записных книжек. От него я в первый раз услышал «Чарли Чаплина» с упоминанием о том, что строчка «А твоя жена – слепая тень» обидно задела Надежду Яковлевну. Из встреченных мной в жизни людей редкие умели говорить о поэзии, как он. У меня не было сомнений, что его уровень постижения стихов близок к «Разговору о Данте». Я никогда не слышал от него ничего банального, когда мы говорили о литературе, но разговор о поэзии он поднимал на высоты неожиданные, и Мандельштаму на них принадлежало место непревосходимое и неподменяемое.
Он был лишен права работать в филологии так же, как в истории. От той категории людей, что предпочитают слышать о других отдаленный звон, чтобы чем невнятней звук, тем к более решительным склоняться умозаключениям, до меня пару раз доходили о нем слова копеечной пренебрежительности: а что он такого сделал? всё ссылается на гэбэ, перекрывшее ему воздух? На это можно, даже нужно, не отвечать. Но неоднократно было – он звонит, что недалеко от нашего дома, забрал дочку из детсада, хотел бы зайти. Я смотрю в окно: они идут через двор, за ними трое мужиков, один останавливается у овощного ларька, другой в нашем подъезде, за третьим не услеживаю. Я одеваю свою дочку. Мы вчетвером выходим гулять в ближайший парк, они сзади и сбоку и в автомобиле. Ничего страшного, но ненормально и угнетающе. Борисов жил так годами, постоянно на краю ареста, и малых детей прибавлялось. Когда вышла книга Прохорова «Повесть о Митяе», он увидел ее у меня и с улыбкой, больше всего похожей на извиняющуюся за то, что не окорачивает себя, как бы должен был по кодексу крутого или просто безукоризненно воспитанного джентльмена, каким подлинно был, проговорил: «Это была моя аспирантская тема».
При его темпераменте, вписанности в литературу, сродности с ней, с одной стороны, и обостренном чувстве справедливости, с другой, понятно, что он не мог не влюбиться, а потом не пристать к Солженицыну. Он рассказал однажды, как прочел первые фразы «Денисыча» – про побудку в пять утра ударами молотка об рельс, наледь на стекле в два пальца, сугубую тьму за окном и три желтые фонаря. Звук рельса прошел через него физически, он поднял голову от страницы и ощутил, что стал совершенно другой, а того, что был только что, больше нет. Сейчас трудно передать адекватно, как переживалось тогда появление Солженицына людьми, истерзанными большевистским режимом, уже не верившими, что их участь, неразрывная с участью страны, может перемениться. Первые слухи о нем, зарождающаяся легенда, выдумки вперемежку с правдой. Молодежью, как всякая молодежь еще не раздавленной, – на свой лад, вызывая в ком оторопь, в ком недоверие, в ком энтузиазм, переходящий в преданность. Одновременно, после выхода рассказа в журнале, еще и уверенность, что пришел писатель талантливости, установок и градуса великой русской литературы, попросту шагнувший мимо даже лучших достижений ее советского периода. Больше того, не сказать, что и на нее самое-то так уж ориентировавшийся. Это, между прочим, раз навсегда разделило его с Пастернаком, Гроссманом и Набоковым, не оторвавшими себя от русской классики ни внутренне, ни формально. То есть, кто искал литературы «большого стиля», теперь не обязательно должен был держаться за Серебряный век. При этом, кто искал противостояния строю, не обязательно должен был уходить в «Хронику текущих событий».
Феномен Солженицына созрел как будто нарочно для Борисова. Тогда еще надо было бороться – за «Исаича» и рядом с ним; помогать растущей семье – с его новой женой он был знаком раньше. Тогда еще не проявилась советская компонента антисоветскости писателя, определенная плосковатость (школьно-учительская) его подхода к искусству и литературе, приоритет политики над эстетикой. Претензии на отмеченность пророческим даром. Безапелляционность суждений о предметах, мало ему знакомых. Что-то уже проскакивало, но застревать на том не хотелось: главное, что он делал и писал, было несравнимо масштабней, можно сказать, грандиозней. Тем не менее наш разговор нет-нет и касался этого, но Дима отвергал какие бы то ни было упреки со страстью, с неприсущей ему резкостью. Тема становилась чуть ли не запретной, при встречах с ним мы с женой стали избегать ее. А что за дружба, когда инвалидная, не договаривающая чего-то, чего-то становящегося от этого преувеличенно важным? Возможно, и связи его с солженицынским семейством, не выставляемые напоказ, усиливались – после шумной высылки А. И. До этого мы с Димой виделись часто – довиделись до того, к примеру, что однажды за чаем у нас над головой закачалась лампа, потом кто-то позвонил, объяснил, что это было дошедшее до Москвы тремя баллами кишиневское пятибалльное землетрясение – редкое событие для наших широт. К встречам спонтанным прибавился еще повод квазиделовой. Он добыл для двух-трех десятков людей, включая меня, переводческую работу – религиозную энциклопедию по-английски: раз в две недели я должен был сдавать и получать очередные порции. После первых и, мне до сих пор кажется, несущественных расхождений в оценках его кумира наши отношения натянулись, мы почти перестали встречаться – по его, как нам запомнилось, инициативе.
В конце лета 1988-го меня в первый раз выпустили за границу и сразу в Штаты, лекции читать. Общая наша с Солженицыными добрая знакомая попросила отправить им там по местной почте конверт, большой, толстый. У встретивших меня друзей я спросил, где ближайшее отделение, но они сказали, что дружат с человеком, связанным с Солженицыными, и не лучше ли посоветоваться с ним. Позвонили, через несколько минут мне перезвонила Наталья Дмитриевна. Получасовой примерно разговор был почти весь о Москве, я больше слушал, чем говорил. В частности, она упомянула о том, что есть немалое число людей, предлагающих помочь в надвигающемся на родине опубликовании всего написанного А. И., готовых отдать этому свое время и уменье. Я же, когда забирал конверт, узнал от передававшей, которая была исчерпывающе осведомлена о ситуации, складывающейся вокруг этого сюжета, прямо противоположное: положиться по той или иной причине не на кого. Впрочем, передать это Солженицыным она не поручала, я промямлил Н. Д., что слышал краем уха, будто есть и трудности, но говорил уклончиво и звучал неубедительно.
С Димой я столкнулся, наверно, через год, около «Нового мира», он сказал, что через несколько дней улетает в Вермонт. Если я не путаю, он уже работал в журнале и занимал там какой-то пост. Мы поболтали ни о чем, не коснулись ничего сколько-нибудь значимого, ни чьего имени не упомянули. Он говорил со мной дружелюбно, но я улавливал незнакомую суховатость, а то и строговатость в тоне. Так ведут разговор по делу, которое один знает досконально, а другой понаслышке. Между прочим, так оно и было – с той поправкой, что и ему, как выяснилось, узнать его досконально еще предстояло.
О крахе их отношений и нанесенном ими Борисову оскорблении я узнал с чужих слов – несколько семестров преподавал тогда за границей, в Москву наезжал на короткое время. Так что писать об этом не имею права, мое мнение в значительной степени – стороннего. Другое дело, что негодования, охватившего меня, когда мне рассказали, я не забыл. К тому времени уже было доведено до сведения города и мира, что Солженицын – несокрушим; сокрушителен; необсуждаемо прав во всем. Я не вдавался в существо происшедшего, мне не важны были детали. Дима любил его, он это знал и знал, как сильно. Он как-то там, как умел, любил Диму. Но в его системе ценностей превыше всего была цель, которую он наметил, а любовь – тьфу – сантименты. Капитан артиллерии интересуется только попаданием, а не тем, что или кого разворотил его снаряд.
Вспоминаю, и сердце сжимается. Увы, сжимается от многого случившегося за жизнь, даже с более далекими людьми – даже с совсем незнакомыми. Сейчас, в 2016 году, когда то время ушло безвозвратно, восстановить обстоятельства тем более трудно. Подумать тогда, что человек, написавший «Архипелаг ГУЛАГ» и в нем главу «Голубые канты», будет принимать в своем доме человека, воплотившего собой Госбезопасность, сделавшего ее моделью нынешней повседневности, конструирующего по ее духу и букве нашу действительность, воспринималось бы как симптом психического сдвига. Правда, после возвращения в Россию слова и поступки прежнего властителя умов как будто стали мельчать и давали повод ожидать каких-то поворотов курса: у этого он орден не брал (с громким объяснением), от того госпремию принимал (тоже с громким). После недавнего вручения ордена его вдове парабола, которую описала его судьба от начала 1960-х, дает повод к аналогиям из всемирной истории морали.
Время ушло, а действующие лица в виде теней, сгустков памяти, в виде тех, кто составляет живую часть доживших до сегодня, остались. Да и мертвые продолжают каким-то образом участвовать в нашей жизни. Вадим Борисов был личностью необычной, человеком в себе. Я бы осмелился сказать, из разряда не одиссеев, но кого-то из его команды. Июльским утром 97-го года он вошел в мелкую воду северного моря, известного ему с незапамятных лет. В том краю посередине сезона бывают такие дни, когда стоит жара, а вода ледяная. Ее укус мгновенно проник в мозг, артерия разорвалась, и море унесло Диму.
2016
Роман Каплан
Возможно, начиналось все с Хемингуэя. Этот Байрон нашего времени написал книгу «Фиеста», а к ней эпиграф – «Все вы потерянное поколение. Гертруда Стайн (в разговоре)». Мы затвердили его наизусть в ранней юности. У нас даже было довольно адекватное, хотя все-таки чуть-чуть фантастическое, представление о том, кто такая Гертруда Стайн. Что она, в общем, та, которая «в разговоре», и сводится он исключительно к этой мудрой, горькой, пронзительной реплике. Одно время нам казалось, что, выбрав такой эпиграф, можно и не писать романа. Мы бы удивились, если бы кто-нибудь сказал нам, что Гертруда Стайн проговорила эти слова не по-русски – тем более если бы их произнесли нам по-английски. Они стали нашим символом веры, любимой присказкой, паролем в немыслимо манящий и недостижимый мир, победным призывом не в пример дохлому «пролетарии всех стран, соединяйтесь». Так что и захоти мы не ощутить чувства поколения, ничего бы у нас не вышло.
Герои книги, немногим старше нас, но на опыт Мировой войны и последующего цинизма взрослее, занимались постоянно одним: сидели по ресторанам, барам и кафе, которых было множество и они их все знали. Там, строго говоря, и происходил роман – его завязка, по крайней мере. Несколько раз, как резкий передерг струн, предвестник главной музыкальной темы, надвигающейся на действие, раздавалась сокрушительная фраза: «И с ними была Брет». Передать, что такое это было тогда для нас, можно, только написав другую книгу, что-то вроде «Жизнь как чтение Фиесты». Мы знали названия всех этих парижских заведений, знали, как к ним пройти, что в каком заказать, кого где увидеть. Мы находились в угаре почти таком же, что и персонажи, мы могли в любую минуту поменяться с ними местами. И мы ни на минуту не забывали, что с ними была Брет.
Мочь мы могли – но исключительно в воображении. Потому и угар был сильнее, чем просто от книги, пусть талантливой, пусть драматической, пусть о потерянном – растерянном – поколении. На передний план выходила наша участь. Чья «наша», кто «мы»? Ну, мы – точнее сказать трудно… Появившиеся на свет между 30-м и 40-м годом. 1930-м и 1940-м – если кому-то приспичит отыскать наше место в мировой истории. Родившиеся в Москве, Ленинграде, Киеве, Таллине – более метафизических, нежели географических. Наша молодость пришлась на пору запретов и полузапретов. Париж, Латинский квартал, «Селект» были топонимами Атлантиды. Мы слушали по радио в прямом включении песни оттуда, видели фильмы, только что там снятые, людей, час назад прилетевших. Мы встречали стариков и старух – соседа по двору, приятельницу родителей, – которые еще успели там побывать. Время там продолжалось, сохранялось, но наше время и наше пространство с тамошними не сочетались.
Однажды рижский дядюшка пригласил меня в ресторан просто пообедать – я был сбит с толку, был в замешательстве. Метрдотель сказал ему: «Доктор, есть свежая форель», – я не верил своим ушам. Дело происходило в Латвии, на несколько сот километров ближе к Западу, улицы сообщали о себе вывесками, как ни в чем не бывало написанными латиницей, – но ведь в СССР! В СССР ходить в рестораны не возбранялось, однако каждый раз это был поход-в-ресторан, специальное событие – и оно отдавало фрондой. Были «Астория», «Европейский» в Ленинграде, «Метрополь», «Арагви» в Москве – официанты, куверты, хрусталь, шеф-повара. И на всем лежала печать этой самой невозбраненности – как серый штамп прачечной на исподе крахмальной скатерти. Они как будто сообщали: если мы такие, то какие были настоящие! Не нэповские – чьи мы и есть прямое, несмотря на весь наш роскошный XIX век, потомство, – а какой-нибудь толстовский «Яр» или, того чище, пушкинский «Донон». От которых уже рукой подать до «Максима» – до «Клозери-де-Лила», на худой конец. Где сидели в запутанных коллизиях и платили кровью и болью за то, чтобы выйти из них, те, с кем была Брет.
Потом открылся «Восточный». В аккурат посередине между Большим и Малым залами Филармонии – так что дружки, звонившие домой и не застававшие тебя, водили маму за нос: «Передайте, что мы пошли в Средний зал Филармонии». На углу Невского и бывшей Малой Итальянской. Напротив бывшей Городской Думы. В нем самом, однако, ничего «бывшего» не было. Была приличная, без изысков, кухня; официантки между тридцатью и сорока, которых знали по имени и у которых оставляли, когда не хватало денег, в залог часы; малого росточку и широкой кости скрипач Степа-цыган – и компания, которую в самый раз было называть «теплой». Наша компания. В нее входили друзья близкие, просто друзья-приятели, кореша, просто знакомые, малознакомые – и такие незнакомые, про кого все равно было известно, кто они. «Стариком Хэмом» там не пахло, пахло коньяком и цыпленком-табака – но ведь и та компания собиралась не чтобы попасть ему на карандаш, а как раз ради цыплят и бутылок. Я думаю, мы волей-неволей переносили на «Восточный» что-то, что усвоили из рассказанной им истории. Способ жить, не замечая, что живешь. Не сосредоточиваясь на себе. Ценя близость. Выпивая с единственной целью быть выпившим.
* * *
Так какое же было поколение наше? Хотелось бы, оглядываясь назад, понять…
Если в одном слове, неловком, но лучшего в голову не приходит, – исчерпанное. В том смысле, что исчерпывало себя в ту самую минуту, как чем-то новым, свежим, творчески несомненным наполнялось. Начать с того, что у нас не было непосредственных предшественников. Тех, кто, во‑первых, мог бы если не ввести, то показать мир, сложившийся к нашему появлению таким, каким он сложился. С традициями, которые можно развивать, а можно и забыть, прервать, но во всяком случае полезно знать. С табу, которым можно подчиниться, а можно попробовать и не исполнять. С источниками притяжения, которым можно отдаться, а можно и сопротивляться. Тех предшественников, кому, во‑вторых, хочется следовать или, наоборот, отталкиваться, но, главное, перед кем за то-то и то-то в принципе может быть стыдно. В реальности может и не быть, но в принципе, если станет совестно, есть перед кем. Таких после четырех десятилетий террора и сервильности не нашлось.
Мы были серединка на половинку образованы, не имели систематических знаний, всего лишь прошли, по слову Ахматовой, «ликбез». Но так как, по нашему убеждению, равняться нам было не на кого, мы хотели думать, что с нас начат новый счет. Чтобы получить этому доказательство, требовалось только самоутвердиться. Быть признанными сейчас же, любыми способами и, в общем, на любых условиях. Все равно, есть ли для этого достаточные основания уже, или пока только авансы. Или вообще ничего, кроме желания, но которое можно за них выдать. Такой свой настрой и прицел мы объясняли, чтобы не сказать, оправдывали, причиной лишь во вторую очередь личной. В первую же – надличной, а именно: поколением. С этим словом носились, поколение было особенное. Одни говорили: я такой потому, что оно такое. Другие – реже: оно такое потому, что я такой. Принадлежность к поколению словно бы умножала величину каждого. Эту иллюзию тянуло поддерживать: поколение не может быть не право. Быть признанным значило также придавать больше веса и ему в целом. А внутри – разберемся, это уж как-нибудь.
Признание не терпит перерывов. Сэлинджер, уйдя из-под прожекторов, единственный оставался на глазной сетчатке публики еще десятилетие-полтора. Всем остальным, чтобы сохранить имя, необходимо было напоминать о себе. Работавший в Москве итальянский газетчик сказал мне после эмиграции Бродского: «Теперь ему надо зарезать маму, чтобы про него вспомнили». Речь не о том, что он в конкретном случае ошибался, а о том, что он формулировал общее место. Когда напоминать о себе было нечем, оставалось вести себя так, как будто все в порядке, признание никуда не ушло, ты тот самый, что́ значило твое имя тогда, когда оно что-то значило. Человек становился функцией имени, местом, манекеном, позой, позицией, статуей. Выражением лица – обязательным при выходе на публику. Иногда от него было не отделаться уже и перед домашними, и наедине с собой.
Это лицо выражало озабоченность, горечь, знание чего-то, что скрыто от остальных, важность, оптимизм. Отношение к нему остальных требовалось постоянно проверять. Российский человек шел в такое место, где это проще сделать: в Нью-Йорке – в «Русский самовар», там всегда были остальные. Но, оказывается, они не интересовались тем, чье лицо что выражает. Некоторые сами полчаса назад входили сюда такими же. Человек выпивал стопку водки – клюквенной, потом хреновой, потом чистой. Озабоченность, горечь, знание чего-то, что скрыто от остальных, важность, оптимизм сходили с его лица.
Не нравится мне это писать. Не потому что это не так – всё так. Но я люблю «Самовар», а про то, что любишь, не надо писать «умно». Не надо искать логику и делать умозаключения. Ресторан – это обаяние, его создают взятый стиль, обслуживание, пища, интерьер и те, кто в него приходят. Особенно в такой, как «Самовар». Это место притягательное не только из-за хозяйского шарма, шашлыка по-карски и висящих почти вплотную картин, подаренных талантливыми художниками, а из-за всех «гуляющих» в заведении именно сегодня вечером, включая этих самых художников, и актеров бродвейского мюзикла, завернувших после спектакля, и всех, кто бесконтрольно и беспричинно приходит здесь на память.
Потому что да, всё так – но и не так тоже.
Может быть, это главная миссия «Русского самовара»: дать человеку быть самим собой, – но не единственная. Человеку из России, из эмиграции, из бизнеса, который не то процветает, не то идет ко дну, из своего языка и чужого, из Америки, которая никогда не откроет ему себя до конца. Но сто́ящему и знающему, чего он стоит, и чего хочет, и что́ он может предложить, и что́ предлагают ему. Тертому калачу, уже проверившему и подтвердившему цену своего самого крупного таланта – выживать, и имеющему в запасе еще кой-какие таланты, профессиональные и душевные.
Терапия, предлагаемая в этом продолговатом зале на 52-й улице между 8-й авеню и Бродвеем, две ступеньки вниз, с элегантной cigar-room наверху, является не лечебной, а освобождающей, очистительной. Такой, в которой нуждается любое чем угодно связанное сообщество людей – и все общество в целом. Никаких показаний для лечения не имеется, лечиться нечему – в том плане, как мы говорим об этом применительно к условиям земного существования вообще. О, конечно, мир – падший, человечество – больно́, но не больше, чем в тот первый день, когда его изгнали из рая. Поколение, исчерпанное или не исчерпанное, с самого начала заявило о себе как о полноценном, здоровом, одаренном, творческом, продуктивном и таковым и оказалось. Почти все пошло ему на пользу, включая даже его относительное невежество, которое обеспечивало больший маневр для самостоятельности. Это оно открыто насмеялось над картонной речью и фанерной демагогией, которые режим выдавал за язык и поэзию. Оно назвало – пусть чаще обиняками, но иногда и впрямую – официальную идеологию человеконенавистнической. И, наконец, оно объявило 10-е годы, равно как и 20—30-е в той их части, которая продолжала сохранять жизнь, предшествующими своим, 60-м, – переступив через 40—50-е.
Поколение и время – функции друг друга. Надо было очередному проценту населения стать юношами, а Сталину умереть, чтобы эти юноши предстали поколением нового срока и срок – временем нового поколения. Чтобы «Женщина в кресле» Пикассо и малевичевские «Квадраты», «Послеполуденный отдых фавна», «Леди Макбет Мценского уезда» и «Тейк-зе-Эй-трейн», «Дар» и «Деревушка» превратились в предметы насущного разглядыванья, слушанья, чтенья – и горячих толковищ. Чтобы строчка «мне на плечи кидается век-волкодав» повторялась не только ценителями стихов, но людьми никак не литературными. Чтобы «Фиеста» – точнее даже, первая часть ее – сделалась книгой цитат и ссылок, почти сакральных. Чтобы все это не только было по достоинству оценено, но и стало модой. Тем самым знаком, который история признает логотипом поколения и времени.
Если уж говорить об их особенности, то это как раз довольно уникальное усвоение вести и энергии, посланных поколением и временем дедов. Через добрую четверть века их созидательный заряд догнал и прибавился к тому, что достался внукам от рождения. Возникший в итоге потенциал тратился на творчество – самоотверженно и безоглядно. Но вместиться в рамки достижений, воплощающихся только в русле творчества, весь не мог и искал выхода также на стороне. «Самовар», на этот раз уже в качестве клуба, оказался тут как нельзя более кстати.
* * *
Поколение, околение. Так и буду до конца дней раскачиваться на качелях: обожаю – видеть не могу. Вроде «малой родины», которую ты любить – обязан! От любви к большой еще можно отвертеться: идиосинкразия, мол, на большевистскую пропаганду. А кто с малой не сошелся – совсем плох. «В Петербурге жить – словно спать в гробу». «Ленинград – такой крупный населенный пункт». Это до какого же, как говорили в доброе советское время, надо дойти цинизма. Вот этого, Осип Эмильевич, мы, петербуржцы, вам не забудем, мы, ленинградцы, вам, Анна Андреевна, не простим. Довлатов рассказывал, как, когда сидел на гауптвахте, у них политчас проводился, и полковник умиленно к солдатику из крестьян обратился: «Расскажи нам про свою деревню, про околицу, про луга-просторы», – а тот спокойно, без вызова: «Да я б ее своими руками сожо́г, злобы́ не хватает». Так и с поколением: прекрасное у нас поколение, луга-просторы, но ведь иногда и сожечь охота.
Как написал в письме другу Пастернак: я понимаю, правы вы, прав (перечисляет) такой-то, такой-то, такой-то – но с каким удовольствием я бы всех вас повесил! Короче: за что можно это самое наше замечательное поколение действительно не любить? Не как в пору гласности и перестройки: вы, шестидесятники, все места похватали, а нам тоже хоцца. Но, так сказать, объективно… А очень просто: за фальшь. Не бо́льшую, чем у иных-прочих, в тысячу раз меньшую, чем у той же советской власти, да и нынешней. В общем, вровень со среднечеловеческой. Но фальшь, хоть ее щепотка, хоть крупинка, она – как щепотка, как крупинка табака: обязательно отзовется чьим-то рявкающим чихом. Если бы мы сказали: подведем итоги. Успехи наши по линии электроники, атомного дела и какого-нибудь там ракетостроения – пусть будет на четверочку. По искусству, на круг – трояк. Честно: балеруны, музыканты, художники, кинишко, театр – здорово, талантливо, шикарно, но не Карузо. По литературе – сами ставьте. Как говорили в школе – по литературе и русскому письменному. Историков, философов – не особо заметно. То есть по сравнению с вот этим предшествующим и вот тем последующим, может, и получше. Но по сравнению с пушкинским и серебряновеким – швах. В целом неплохо, признайте.
Такое впечатление, что признали бы, – если бы мы признали вот то, как здесь написано. Но ведь никогда! «Поколения, как наше, рождаются раз в столетие!» Кто посдержаннее, спускают до пятидесяти лет, это край. Самодовольство уже привычное, необсуждаемое, вторая натура. И на это естественная раздраженная реакция: когда вы с этой провинциальной самоуверенностью площадку-то наконец очистите?
Эмиграция была, казалось, сокрушительная. Самые энергичные, самые яркие, самые живые уезжали. Самые талантливые. Сомнения, понятно, в душу закрадывались: как бы не укатали нашего сивку заграничные крутые горки. «Да я лучше буду дворником в Чикаго, чем членом Союза писателей в Москве». Бац: в Чикаго дворников нет, а в мусорщики попасть можно только по большому блату. И все-таки на ногах удерживались, ориентировались, место находили. Но сразу же: у меня зарплата в год… у меня квартира десять минут от Бродвея… обо мне в «Канзас трибюн» статья была… Предполагалось, что всё, что коммунисты зажимали, давили, сгнаивали, там, высвободившись, расцветет. На то, что в Совке что-то получится, махнули рукой. Русскую культуру отправили на Запад выжить. Как раньше туберкулезных на курорт. Ждали отдачи. И она постоянно поступала. От Бродского. От журнала «Континент», воздвигнутого Максимовым. От парижских и нью-йоркских живописцев. От, как доносилось, балетных. Про все остальное никак нельзя было сказать, что это что-то новое относительно сделанного до отъезда. Или что более качественное. Но те, кто это производил, подавали произведенное тоже как отдачу. Как сделанное вдохнувшими воздух свободы. В масть пришлось и было подхвачено словцо первой, послереволюционной эмиграции: «Мы не в изгнании, мы в послании».
К такому своему положению, чуть ли не миссионерскому, во всяком случае исторически значимому, эта наша не то третья, не то четвертая волна привыкла. Всякое бывало, и среди этого всякого минуты ледяного ужаса, месяцы черной тоски. Надо было выковывать образ места и времени, в которые попал. Натаскивать себя на – если не удавалось выискивать в себе, а по большей части не удавалось – сродство с этим хренотопом. Смастыренным вроде бы из элементов того же «Лего», что и на родине, однако играющих в конструкции какую-то другую роль. Научиться системе вопросов и ответов, системе взаимодействия с людьми, конторами, бумагами, которым местные научаются в приготовительном классе. При нужде работать уборщиком в плавательном бассейне, протирая кафель раствором, от которого сходит кожа на руках. Не падать в обморок от счета из больницы за вырезанный аппендицит. И продолжать верить, что сделал правильно, уехав. Что это было необходимо. Потому что вы читали, что у них продолжает твориться?
И вдруг советская власть возьми и крякни, нет советской власти, как будто никогда не было. То, что пришло на смену, оказалось тоже кошмариком, хотя и другого рода, безобразием и свинством, все равно подтверждавшими, что решение уехать было безошибочным, считай, метафизически мудрым. Когда же в России жизнь пошла так ли, сяк ли налаживаться, эмиграция инстинктивно стала обращать внимание на худшее – благо его было вдоволь. На то, про что почти автоматически выговаривалось: какое счастье, что мы уехали. Некто написал торжественно в «Новом русском слове»: я уже собирался было съездить в Москву, посмотреть на все это в натуре, но теперь, после разгона НТВ (или что-то другое случилось, не помню), мой визит откладывается еще минимум на два года… И это не единичный случай, не просто глупота, о которой нечего говорить, а усвоенный подавляющим большинством взгляд свысока.
В том же, представьте себе, «Самоваре» меня ждала бывшая однокурсница. Хозяин сказал ей, что я должен зайти, и она задержалась. Миловидная, ухоженная, что называется, в порядке. Стала расспрашивать. Есть ли успех? Да скорее нет. Деньги? Этого определенно нет. Квартира? Та же, что всегда, стандартная трехкомнатная. Машина? «Нива». А как здоровье? Как у всех… Интервью уложилось меньше чем в минуту, и пока шло, она меня внимательно осматривала, плащ, башмаки, физиономию. И, в общем, осталась довольна. Ну, я пошла. «В общем, ничего такого?» Это она сказала уже в дверях. Я ответил: совершенно ничего такого. А ждала, хозяин сказал, полчаса. Вероятнее всего, чтобы убедиться, что не прогадала, эмигрировав. А то услышала бы, что я там нарасхват, за каждую книжку получаю по сто косых, да еще на ТВ гривенник в месяц, да живу в особнячке на бульварах, не считая хоро́м на Николиной, ну и езжу на лимо с шофером в фуражке, и сказала бы, вернувшись домой, мужу: да, промахнулись мы с тобой, вот уж точно. Найман – гляди как…
Допускаю, что это и есть причина, почему не учитывается русская община ни кандидатами в конгрессмены, ни в сенаторы, ни в президенты. Все учитываются, а наша нет. Потому что все – общины, а наша – нет. У всех есть согласия, разногласия, союзничество, противостояние, есть идея о́бщинности, есть связь с бывшей родиной, пристальное внимание к происходящему в ней, готовность немедленно отозваться. Есть, наконец, единство – царящее над всем составом общины и отраженно проникающее в сердце каждого. У нашей – разобщенность, идея разобщенности, удовлетворение от разобщенности. И недовольство – царящее над всем составом общины и отраженно проникающее в сердце каждого. И ведь два миллиона человек! Не говоря об еще ста сорока между Калининградом и Сахалином.
Есть гипотеза. Возможно, торжество эмиграционных раздоров – непосредственный результат неопределенности «идеи» отъезда: не было четко разделено, хотели уезжавшие жить лучше – или жить свободнее. Вроде зощенковского героя: по политической сидел – или слямзил чего? «По политической. Слямзил малость».
* * *
Почему и выглядит «Русский самовар» на фоне что внутриобщинного разброда, что верности роду человеческому чуть ли не единственным нормальным шагом третьей-четвертой русской эмиграции. Предприятием, в котором числитель – реализация – равен знаменателю – замыслу. Котлета по-киевски, шашлык по-карски, борщ, пельмени, водки на кориандре и кинзе, торт «Анна Павлова». Ничего победительного, ничего, что нужно доказывать, оспаривать, внушать. Садись, ешь, пей, вспоминай, забывай. Благо есть с кем.
С самого начала обаяние места олицетворялось в обаянии хозяина. «Друзья звали его Рома». Так начинался газетный фельетон про него в газете «Вечерний Ленинград» в 1963 году. И почти так же в газете «Смена». Так начинались тогда все фельетоны. Фельетон назывался «Тля». Или «Ржавчина». Или «Трутень», «Паразит», «Навозная муха», или «Слякоть». Так назывались все фельетоны – что-нибудь из мира насекомых или деградирующей материи. На нас, держащих в уме державинскую строчку «Я раб, я царь, я червь, я Бог», «тля» не звучало оскорблением. Другое дело, что это было начало акции, имеющей закончиться теми или другими репрессиями.
В недавно вышедшем в Москве романе есть персонаж, которого автор, у меня нет сомнений, сориентировал на этого самого Рому. Ни в коем случае не портрет, а что-то соотносящееся с натурой как «Женщина с картами» Брака или один из «Влюбленных» Шагала. В книге его зовут Феликс. Героиня говорит о нем: «Феликс был великолепный экземпляр гедониста, уже в молодости. Не тот вульгарный охотник за удовольствиями, кого без понятия сейчас так называют, а восхищенный слуга доктрины. Удовольствие – благо, единственное и потому высшее на земле. Женщины – высшее благо. Но не выше мужской дружбы, тоже высшего блага. Наслаждение от красоты. Он собирал картины, современные и двадцатых-тридцатых годов, рисунки, гравюры, лубок, не старше середины девятнадцатого века, первые издания книжек стихов, от «Сумерек» Баратынского до «Форели» Кузмина. Наслаждение от еды, неважно, в одиночестве или в застолье; но и застолье, неважно, что именно естся и пьется, лишь бы брало пример с грузинского; да и одиночество как освобождение от суеты – всё высшие блага. Нравственность – абсолютная условность, но может приносить удовольствие. Поэтому он и нешуточно соблазнял меня, и нешуточно хранил верность моему мужу, своему другу. Под бархатное твиши ел со мной шашлык по-карски и цыпленка-табака, и платил оркестру, чтоб играли из «Касабланки», и, затягивая молнию на сапоге, соскальзывал рукой туда, где сапога уже не было, и обнимал в такси, и доводил до двери квартиры, и там целовал, не братски, однако и не похотливо, в губы и в мочку уха, и сбегал вниз по лестнице в расстегнутом плаще с развевающимися полами».
В 1970-е он решает эмигрировать и так объясняет это главному герою, своему другу. «Старик, – сказал он, едва тот переступил порог его комнаты, уставленной коробками и ящиками, – сваливаю. Полная лажа, сил больше нет. Че-то трахеями рычат, носом и ротом хлюпают. А ты знаешь, что такое речь? Это не элоквенции адвокатов здешней старой школы. Они просто уничтожали язык, заменяли его словами. Я уже не понимаю, кто пробивается речью, как шпагой, а кто качается на ней, как на волнах. Лажа какая-то, ухо не воспринимает разницы. А я тебе скажу, где мое ухо – как кот перед прыжком. И весь говорильный аппарат – как золотая рыбка перед тем, как произнести слово. Это инглиш! Я на нем говорю, как белый человек Киплинга, у меня самые последние конджакшн и партикл ангельчиками на губах пляшут. Прочесть тебе наизусть шесть первых строф из «Кораблекрушения “Германии”» Джерарда Мэнли Хопкинса? Я хочу туда, где только на нем и можно понять, как жить. Потому что мне нравится, как там живут: разнообразно. Во всяком случае, как про это говорят. В общем, сил нет, а выход появился. Как всегда, евреи. По старой тропке через Красное море».
Герой думает об его отъезде: «К ощущению перемены, обострившему наблюдательность и сопровождаемому легкой взволнованностью, прибавилась печаль. Феликс – пол-Ленинграда знакомых, пол-Москвы и пол-Тбилиси, и теперь, куда ни приедешь, в Ленинград, в Москву, в Тбилиси, нет его. В весенний вечер, когда еще прохладно, как после зимы, но уже светло, как перед летом, стать на Невском у Пассажа, посмотреть на поток проходящих мимо в сторону Адмиралтейства и такой же к Фонтанке, к Литейному. А потом повернуть голову направо, налево, несколько раз, всмотреться, как в лесу под елочки и березы, в перепутанную траву и мох, вызывая гриб усилием зрения, и – да вот же он… Нет, не он, не Феликс. Похож: и глаза черные сверкают, и твердые губы приоткрыты, готовые говорить привет каждому второму, и подплывает ко рту его длиннопалая рука с курящейся синим облачком пенковой трубкой – а не он».
Назавтра после его проводов герой называет своими именами (для себя) то, от чего и к чему уезжает Феликс – «который живет и в Ленинграде, и в Москве – и ни там, и ни там ему негде жить, а все у друзей. Которым он нужен только такой, гуляка, крепкий питок, шикарный, фирменный, с потрясающим английским. И у женщин, которых он каждую одинаково образцово любит: в постели, в ресторане, на курортах Черного моря, рассказывая увлекательные истории, говоря смешные вещи, читая – без тени пошлости – наизусть русские и английские стихи. Блестящие глаза, улыбающиеся губы, всегда, при любой случайной встрече, праздничный, и чем этого с годами больше и чем это неизменней, тем чаще хочется застать его врасплох. Не чтобы он, не дай бог, разнюнился и стал показывать и, того хуже, распространяться про белые шрамы на обоих запястьях, замечаемые особо наблюдательными под крахмальным манжетом рубашки, а не особо – когда вместе валялись на пляже или парились. А чтобы хоть однажды сказал «херово», как в ста случаях из ста говорит «нехерово» в ответ на «как дела?». Пенковая трубка, лишь на секунду, на одну короткую затяжку прикусываемая зубами, а в остальное время выписывающая плавные параболы вместе с рукой, дирижирующей словами, – не баланс ли она в кулаке канатоходца, отбрось он который, и сорвется? А и не сама трубка – дым. Сине-серая акварель с ароматом, погружающим тебя в куда более сложный, пряный, дурманящий, духов, масел, притираний, в комнате, где никогда не открывают окон, где-то в Батавии – маленький дом, на окраине в поле пустом, где китаец-слуга в двенадцать часов снимает с дверей засов. В початой пластиковой упаковке в форме кисета этот табак можно случайно добыть у какого-нибудь шалого норвежца, чудом затесавшегося в туристский автобус, нанятый жителями городка, а иногда и села, в финской глуши. Фарцуя самому или покупая у фарцовщиков – которые называли его, кто как хотел, «кептейн», «кепстейн» и «кейптаун». В остальное время – «Золотое руно», табачок хороший, но на экзотику замахивающийся не далее субтропической. С запахом, проложенным холодноватыми деловыми флюидами кулуаров партсобрания в Сухуми.
«Американы, они такие чистенькие, – сказала однажды в компании девушка Роза по кличке Розка-стрекозка. – Утром, днем и ночью – всегда из-под душа». «Вода другая», – отозвался вдруг Феликс. Она продожила: «И румяные». – «И воздух другой»… Как у Хэмфри Богарта в фильме «Касабланка»: элегантный костюм тонкого сукна, гладко выбритые щеки, табачный дым вокруг головы – все у него было такое же, только воздух и вода другие. И «Касабланка» называлась в прокате «В сетях шпионажа». Нет, это «Танжер» так назвался, а «Касабланка»… А может, и не в прокате, а он смотрел ее – знакомые провели – на спецсеансе в Доме кино… И ради того чтобы увидеть на экране ее настоящее название, а может быть, если сложится, и походить по ней. И по Танжеру, если сложится. Ради табачных лавок, благоухающих турецким и вирджинским. Или – что то же самое – чтобы читать стихи Серебряного века не как мальчик, которого ставят перед гостями на стул, а погрузившись в любимое кресло, себе единственному. Зато Теннисона или Эмили Дикинсон гостям, соседям, бармену за стойкой. В общем, ради другой воды и другого воздуха он устраивал отвальную в Москве и отвальную в Ленинграде, дважды прощаясь с одной и той же землей, – при этом в глубине души готовый к тому, что меняет шило на мыло».
Повторяю: это не Рома, это Феликс – персонаж художественного произведения. Но чтобы получить представление о Роме, о реальном, о Романе Каплане, хозяине «Русского самовара», имеет смысл приглядеться к Феликсу. Имеет, имеет, знаю, о чем говорю.
* * *
Что можно про уезжавших в эмиграцию сказать определенно, это что они были люди более решительные, чем остававшиеся. Более готовые к переменам, даже нацеленные на них, более бесстрашные, более склонные к приключению. Некоторых ждало достаточно привлекательное место, некоторых – призрак его, некоторые выстреливали собой в белый свет, как в копеечку. Роман эмигрировал в 1972 году, в Израиль. Главное, что он хотел там сделать, это на деньги, выданные в качестве подъемных на родине в обмен на рубли, пригласить немедленно по прибытии в ресторан нескольких близких друзей, уехавших туда раньше его. Все удалось за исключением завершающей формальности: денег заплатить по счету не хватило. Не потому, что кутили, а потому, что таковы были подъемные.
Его взяли преподавать в Беер-Шевский университет. Курс американской литературы. На английском. «Американский военный роман» – начиная с «Алого знака доблести» Стивена Крейна. Параллельно, что-то в этом роде – в университете Иерусалима. Через год – «Английский и американский роман в советской критике». Плюс – обзорные курсы русской литературы XIX–XX веков. Он отпреподавал четыре полных учебных года и уехал в Нью-Йорк. Из Израиля так просто не уехать, но с юности, а то и с детства он и не рассчитывал жить «так просто». Другое дело, сколько сердца тратить на подножки, которые ставит жизнь, и сколько на то, чтобы ей радоваться. Короче, уехал.
В Нью-Йорке его ждало пригретое место ночного швейцара в большом квартирном доме на углу Мэдисон и 55-й. Напоминает школьный анекдот: – Ты где работаешь? – В Кремле. – Уу! А кем? – Дворником. – Аа… В Израиле его показывали как некий уникум разным приезжающим из Америки евреям: малый из России читает лекции об американской литературе на английском языке. Один из визитеров оказался особенно впечатлен: если будешь в Штатах, звони. У него и был этот дом на Мэдисон. И еще один на Парк – в котором Каплан позднее тоже послужил, в той же должности, но уже набравшись ночно-швейцарова опыта. Жильцы и там, и там были образцовые, спать ложились вовремя, а кто и не вовремя, хлопот не причиняли. Всю ночь можно было читать, множество книг перечитал. На Рождество несли конверты с денежкой или чеком – спасибо, спасибо, нет-нет, не привыкли.
Одновременно его пригласил в свою галерею Нахамкин, консультантом. Помимо Иняза, Роман кончил еще искусствоведческий, это дело любил, знал, как следует, какие-то области досконально и в придачу имел нюх. Мог, листая содержимое папок на антикварном развале, между заурядных литографий найти, например, Синьяка – что однажды и сделал. Для Нахамкина, впрочем, это не имело большого значения – на него сильное впечатление произвело, что в это время они, идя по улице, случайно наткнулись на Ахмадулину и Мессерера, и те обняли Каплана и жарко с ним расцеловались. Работа у Нахамкина не без скандала – о котором где-нибудь в другом месте – кончилась через несколько лет. И почти сразу оказался выставлен на продажу русский ресторан «Руслан» – который по закону невероятных совпадений находился на углу все той же Мэдисон и 81-й Ист: в доме, где снимали квартиру Роман с женой Ларисой. К этому времени у него уже была кой-какая сумма денег, заработанных в галерее, и на паях все с тем же Нахамкиным он купил «Руслан», переименовав его в «Калинку».
Тут надо более или менее эффектно осведомить публику, что это был уже не первый его ресторан. Первый он открыл в городе Герцлия Питуах, в Израиле, на спор с приятелями. Звали их Толя Якобсон, поэт, правозащитник, человек темпераментный до ярости, вскоре покончивший с собой, и Дима, фамилию которого история, как говорится, не сохранила. Поспорили на ящик пива, и Роман его выиграл. Правда, через год заведение разворовали: повар, обслуга. Потому что, преподавая в университете, он мог приезжать туда только два раза в неделю, тогда как за предприятиями общественного питания нужен, как известно, глаз да глаз. Что же касается «Калинки», то через два года появилось помещение в доме 256 на 52-й Вест, между Бродвеем и 8-й, и он, забрав свою долю, его купил, рекрутировав, упросив войти в долю Бродского и Барышникова. Новое заведение было названо – «Самовар». «Русский самовар». «Russian Samovar». C возникшим через несколько лет зазывным рекламным слоганом – «Аll roads lead to Roma»: все дороги ведут в Рим. Рим по-итальянски Рома.
2005
Архимандрит Софроний
Год с осени 1991-го по осень 1992-го я провел в Оксфорде, Приглашенным Членом (Visiting Fellow) Олл Соулс Колледжа. Время от времени ездил по Англии – в частности, в монастырь Иоанна Предтечи в Молдоне. Несколько раз живя там по несколько дней, познакомился с его основателем и духовником архимандритом Софронием (Сахаровым).
Я вышел из дома, в который накануне меня определили на ночлег, а Софроний шел по дорожке, опираясь на руку молодого келейника. Я поклонился ему, он остановился и спросил: «А вы из Москвы? И чем там занимаетесь?» – таким тоном, как будто шутил и шуткой поддразнивал меня. Я сказал: «Пишу». – «О чем же вы пишете?» – «О разнице между кажимостью и действительностью». Я не придумывал так отвечать, само сошло с языка. Он сделал губами, как если бы попробовал мой ответ на вкус, и сказал: «“Кажимость” – хорошее слово. – Предложил: – Пойдемте погуляем вместе», – и отпустил сопровождавшего.
Потом эти прогулки повторялись, в один из моих приездов он присылал за мной кого-нибудь ежедневно, по большей части ближе к ночи. Он говорил весело и действительно любил шутить. Ему было, наверно, 92 года тогда. Я к тому времени уже читал его знаменитую книгу «Старец Силуан», о недавнем святом из русских, чьим келейником он был на Афоне. Софроний начинал как художник, в 10-е годы выставлялся в Париже, потом, в продолжение жизни, сделал несколько церковных росписей и написал несколько икон. Рокового вопроса о природе искусства я ему уже не задавал: несколько последних лет ко мне приходило новое понимание смысла творчества, новая свобода – он же цитировал Пушкина, Тютчева, Баратынского, уходил в Достоевского и вообще русскую литературу с такой естественностью, которая, собственно говоря, и отвечала недвусмысленно на вопрос.
Его собственная свобода в понимании Бога была, как мне кажется, неограниченной и в то же время не соблазняла. Он говорил о Нем, как всецело Его любящий, которому возлюбленный непосредственно дает о себе знать. Даже я, хотя моего сердца любовь к Богу касалась лишь мгновенным дуновеньем, узнавал о Нем за этот миг то, что не давалось мне годами чтений и размышлений. Это узнавание, в свою очередь, делало раствор веры на сколько-то градусов крепче, вводя в нее дополнительное знание о ней, о моей вере. Софроний был не только совершенно уверен в том, чему учит христианское вероучение, он знал это, как знает свое дело врач, проверивший усвоенное в университете долголетней практикой. Одно время я обдумывал возможность стать монастырским библиотекарем, наконец написал туда письмо. Меня пригласили для разговора. Мы собрались в канцелярии: Софроний, Кирилл – игумен, и архимандрит Симеон, который немного знал меня по прежним встречам. Отец Софроний стал читать «Царю небесный». Он говорил молитву медленно, делая долгую паузу между словами, словно давал им время наполниться содержанием до краев. Не помню, сокращал ли двадцативековой недотрагиваемый текст, но помню, что прибавлял чуть-чуть то в одном месте, то в другом, что́ делало каждый звук ощутимо живым, каждый буквально. Молитва стала физически, как облако, хотя и прозрачное, отрываться от земли, от пола, на котором мы стояли, и двигаться куда-то, где и был Тот, кого она звала Царем небесным. Слова «Царю небесный» равнялись Ему самому. Потом сели, и Софроний сказал, что не надо мне идти в библиотекари.
Монахи были выходцами из дюжины разных стран, служба шла на 5–6 языках, и Софроний говорил: «Я основывал монастырь не английский, не греческий, не русский, не румынский, а православный». Они служили по новому календарю, и когда я спросил его, как быть с разницей в тринадцать дней, он ответил: «Пирамиды в Египте построены с таким расчетом, что Полярная звезда всегда смотрит внутрь через вершину пирамиды. Такие масштабы и такая точность. А вы «тринадцать дней»!» В одну из последних встреч мы шли по дорожке, он поднял голову на ночное небо, набитое звездами, показал палкой на одну, спросил, не знаю ли, что за созвездие. Знать я не знал, но заметил, что звездочка маленькая, а он, жалующийся на зрение, ее разглядел. «Да, да, – сразу, как бы заранее готовый на вопрос и ответ, сказал он, – я симулянт. Я не такой дряхлый и больной, как моя видимость. Я симулянт – но из тех, которые умирают».
Иосиф Бродский
28 января 1996 года умер Бродский, и сразу обнаружила себя напористая тенденция максимального упрощения его судьбы, сведе́ния ее к схематичной легенде. Многие, и я в их числе, сказали в тот день: «Солнце нашей поэзии закатилось», – но тогда в этом многократном повторении фразы, произнесенной когда-то на смерть Пушкина, звучала, прежде всего, тоска по тому, что «солнце закатилось», а не утверждение того, что умер второй Пушкин. Хотя, как выяснилось вскоре, и оно тоже.
Собственно говоря, его сопоставление, сравнение и логически вытекавшее уравнение с Пушкиным осуществлялось именно через упомянутое упрощение. Ведь Пушкин тоже был не реальный, тоже примитивизированный: лицей, где он чему-то как-то учился, а больше грыз гусиное перо; Державин, передавший лиру; донжуанский список; ссылка; травля; молоденькая далекая от его интересов красотка-жена; и толкуемая аллегорически дуэль: с обществом, с миропорядком. Близкая до неприличия схема составлялась и из биографии Бродского, и обкатывалась, обнашивалась, подавалась еще при его жизни, хотя и не в лоб – из опасения получить в лоб от него реального. Так что не Пушкин как таковой был целью проведения параллелей, а чертеж того, что в представлении людей есть великий поэт, – чертеж, на который в России раз навсегда перенесены грубо контуры Пушкина.
Сейчас в сознании широкой публики Бродский – это тот, кого арестовали, сослали на Север, выперли за границу, и там он получил Нобелевскую премию. У более осведомленных круг связанных с ним обстоятельств пошире, но за перечисленные пушкинские не выходит. И что любопытно и что забавно, расходится весь этот круг обстоятельств, только этот круг и ничего, кроме этого круга, от людей хорошо осведомленных, в той или иной степени близких Бродскому и формирующих мнение о нем. Еще и еще раз публикуются, в газетах и по телевидению, факты или прежде известные, или смущающе похожие на них, так что нам уже непонятно, к кому́ выходил из коношской тюрьмы Бродский с белыми ведрами: к тому, к кому выходил, или к тому, кто был в это время за 30 километров от Коноши, или ко всем, кто навещал его в Архангельской области.
Место Державина, естественно и логично, отдано Ахматовой. Журнал «Звезда» напечатал четверостишие «О своем я уже не запла́чу» – с посвящением Бродскому, взятым в угловые скобки. В обиходе житейском это, согласно той же Ахматовой, называется «народные чаяния», в литературном – это, скажем так, подмена и вольность. У Ахматовой нет стихов, посвященных Бродскому. «Последней розе» предпослана строчка из его стихотворения, но эпиграф, как известно, не посвящение. Единственное основание считать посвященным четверостишие «О своем…» добыто, насколько я понимаю, из вот уже тридцать лет заново открываемой мемуаристами ассоциации «золотого клейма неудачи» с рыжеволосостью Бродского – о чем следовало бы говорить осторожнее.
У Ахматовой было индивидуальное отношение к каждому из нас. Например, к Бобышеву, Бродскому и мне, удостоенным «Роз» – «Пятой», «Последней» и «Запретной» (с вариацией в «Небывшей»), – более личное, чем к Рейну. И к Бродскому более высокое, чем к остальным. В 1964 году она знала, какой он поэт, какого ранга, а мы нет. И никто, кроме нее, тогда не знал. Через четверть века биограф Бродского Валентина Полухина интервьюировала меня на пути из Ноттингема в Стратфорд-на-Эвоне. Дело было в автобусе, я сидел у окна, с моей стороны пекло солнце, деваться было некуда, поэтому вопрос «когда вы поняли, что он великий поэт?» (или даже «гений») я отнес к общему комплексу неприятностей этой поездки и огрызнулся, что и сейчас не понимаю. Охладившись, подумал, что все-таки вопрос поставлен некорректно, некорректность в слове «когда»: когда, начав с его 19, моих 22 лет и потом годами видясь чуть не каждый день, и ни сначала, ни потом ничего подобного себе про него не говоря, можно вдруг сказать: «Это не он; это великий поэт Иосиф Бродский»? Ахматова же поняла это сразу.
Что такое великий человек, в чем его величие, трудно определить. Я в своей жизни с «великими людьми» не встречался, и тех, не знакомых мне лично, о ком говорили как о таковых, таковыми не сознавал. Мне и в величие Наполеона приходится верить только потому, что о нем так думал Раскольников. Я близко знал несколько человек значительных, очень значительных, однако линии рисунка, которые оставляет печать величия, обнаружил разве что на Ахматовой – в том виде, как мы это себе представляем по художественной литературе. Но даже от нее сильнее, от остальных же – исключительно, было ощущение не величия, а некоей великости, проявляющейся наглядно, метрически – гео-, стерео-, в четвертом измерении. Как сама она однажды, рассказывая что-то о своем превышающем обычные размеры коте Глюке по кличке «полтора кота», неожиданно прибавила про Бродского: «Вы не находите, что Иосиф – типичные полтора кота?»
Это, пожалуй, я чувствовал сначала. Он говорил насыщенно, насыщенней, чем другие. Правда, неорганизованно, сплошь и рядом это сводило насыщенность на нет, но все равно, с самых первых встреч он во время разговора не давал лениться, отдыхать на посторонней мысли, обдумывать собственную тему, если вел свою, заставлял за словами, которые произносил, следить, ни одного не пропуская. Когда читал стихи, успевал еще на них сам же реагировать: дескать, не совсем то, не так, не получилось, совсем не то – иронически хмыкал, морщился, самоиздевательской улыбкой извинялся.
Так было в период от «Мимо ристалищ, кладбищ» и «Играй, играй, Диззи Гиллеспи», поэтики тогда общепринятой, то есть подражательной – «геологической», «подгитарной», «компанейской», – до «Шествия» включительно, вещи еще бесформенной, довольно монотонной и, в общем, банальной, однако производившей уже впечатление своими габаритами, превышающими все мыслимые. Году к 62-му все стало на свои места, он заговорил своим голосом, который потом менялся только качествами – леденел, горчел, дистиллировался. Три, максимум четыре, года на прохождение пути от поэзии вообще, пусть и талантливой, до своей, личной – эта стремительность развития тоже впечатляла, тоже мерой обходившей, опережавшей привычные, на сей раз временно́й.
То, что он бросил школу после седьмого класса и дальше образовывал себя вне систем, по-своему поработало на его уникальность, закрепило его неповторимость, отдельность от других. С пятнадцати лет он стал усваивать знание свободно, сам выбирал (разумеется, через кого-то из тех, с кем разговаривал, через прочитанную книгу, которая ссылалась на другую), сам решал, когда сказать «а, понятно». Это могло привести, и зачастую приводило, к тому, что мысль и интуиция опережали знание, его мысль и интуиция – предлагаемое ему знание, он произносил «а, понятно» на середине страницы, тогда как главное, иногда опровергающее, заключалось в ее конце. И Византия не такая, как он ее проглотил, а потом переварил в своем эссе, и Рим не сходится с фактическим, и стоицизм не выводится из поздних стоиков вроде Марка Аврелия, и даже английские метафизики не вполне такие, и даже его возлюбленный Джон Донн. Но как воспетый им пернатый хищник, он знал, куда смотреть, чтобы найти добычу, и, в отличие от крыловского петуха, знал, что делать с выклеванным из кучи жемчужным зерном, а выклевывал его почти всегда.
Правда, к хорошо, систематически, в особенности к европейски образованным людям в нем до конца дней сохранялся некоторый пиетет: присыпанный обязательной насмешливостью, но пиетет. Уже в Нью-Йорке я описывал ему свою недавнюю встречу с нашим общим другом, голландцем Кейсом Верхейлем, и по ходу рассказа произнес: «На это я решил промолчать». – «Забоялись западного интеллектуала?» – немедленно поддел он. Я даже не понял сперва: мне в голову не приходило, что Кейс для меня западный интеллектуал – хотя, вероятно, для третьих лиц именно такая его характеристика и сгодилась бы. Промолчать я тогда решил, просто не желая ни соглашаться, ни не соглашаться с ним, ибо согласием сколько-то предал бы человека, которым он был невольно обижен, а несогласием эту обиду усугубил бы… Но я жил в России, где прежде чем проникнуться уважением к европейскому интеллектуалу, надо еще примерить его на тогдашнюю российскую действительность, на втискивание в переполненный автобус, клубящиеся очереди, покупку того, что есть, а не того, что хочешь, недоброкачественную пищу, полгода зимней темноты и холода, на государственные газеты и книги, и наконец, на государственное «зайдите-ка к нам», раздающееся по частному телефону. Или самому прорвать все это, выйти в пространство, где такой интеллектуализм имеет реальное содержание, – что Бродский и сделал.
В 88-м, когда мы встретились в Нью-Йорке после шестнадцатилетнего перерыва, я увидел его полутора-котовость в расцвете, в полноте, в зените. Он откликался на всякий предмет, иногда такой, который до той минуты не мог быть ему известен, стартовал сразу энергично, случалось, и невпопад, и вокруг да около, но даже и в этом рысканье, подыскивании нужного слова и нужного решения не давал тебе роздыху и спуску и в конце концов выговаривал что-то существенное, неожиданное. О вещах же прежде обдуманных начинал говорить, как будто объясняя тебе еще не, а другим уже известное, как будто повторяя однажды прочитанную лекцию, цитируя из когда-то написанной книги, но и тут после первых фраз зажигался, увлекался поворотами мысли, которые выражались у него в поворотах речи, опять-таки превосходивших обыкновенные степенью точности и концентрированности.
У Ахматовой и еще двух (может быть, трех) крупного ранга людей, с которыми я за жизнь был близок, это проявлялось иначе, но во всех случаях как нежданный плюс к тому, чего от них ждал. То есть и плюса этого тоже ждал, но никогда не знал, какого именно. Определяющая разница между ними и Бродским заключалась в том, что они видели и слышали собеседника и в большей или меньшей мере взаимодействовали с ним, тогда как для Бродского он был повод для еще одного доказательства, но, прежде всего, раструб громкоговорителя, поглощавший произносимые Бродским слова. Не то чтобы он не прислушивался, но, и слыша, исходил из того, что знает и может сказать на всплывшую тему больше и лучше собеседника, если только тема не узкоспециальная, а на узкоспециальную вообще нечего тратить время. Я имею в виду, главным образом, последний период, когда понимание мира и знание жизни достигли у него уровня неопровергаемости, присущее же ему с юности качество с о о б щ а т ь, а не общаться – завершенности.
Году в 90-м у меня обнаружились в Англии троюродные кузены, все врачи. (За сто лет до того их дед эмигрировал из Риги, а его сестра, моя бабка, осталась и в декабре 1941 года была расстреляна немцами.) Неожиданный родственник из России, вообще говоря, нежелательный дар судьбы, тем более и родство дальнее, но я держался независимо, да и пташка был для их стаи редкая, рашн по́эт, так что мы подружились. В конце моего оксфордского года они придумали съехаться к нам на прощальный ланч. Накануне условленного дня вдруг позвонил из Лондона Бродский и сказал, что хочет завтра нас навестить, приедет часов в пять, с ночевкой. Я прикинул, что ланч в час, досидят кузены по местным обычаям до полтретьего, ну до трех, и сказал, что ждем. Потому что знакомство чужих людей, один из которых Бродский, агрессивно неприязненный уже потому, что надо знакомиться, а потом и потому, что такие чужие и не за тем я к вам, А.Г., в Оксфорд тащился, – не хотелось и в воображении разыгрывать.
Кузены с женами, шесть докторов, от ортопеда до психиатра, и всё «европейские величи́ны», лучше консилиума не собрать, в русском доме по-русски разнежились, про время забыли и досидели до четырех. В четыре приехал Бродский, увидел, ощетинился, напрягся, закрылся, те и вовсе перестали торопиться, и как хозяин потянул я этот воз со скрипом. Уже, сказав по ходу дела и́зэр, был он поправлен кузеном-офтальмологом на а́йзэр и рявкнул, что это здесь, у них, которые манерничать любят, айзэр, а нормальные люди, как в Америке, говорят изэр; уже спросил меня по-русски, где я набрал таких монстров, слово, замечу, международное, – и тогда инстинктивно выдернул я тему, которая должна была, по моим понятиям, всех объединить, а именно: что мне предстоит операция грыжи. Их она должна была взволновать как врачей, его – как друга.
«Это не грыжа, – немедленно сказал он, – это рефлюкс эзофагит, – и с вызовом посмотрел на врачей. – Это такой клапан между пищеводом и желудком. Края с годами стираются, его начинает мотать в обе стороны, – он показал ладонью, – пища забрасывается наверх, становится не различить, изжога это, язва или сердце». Кузен-уролог перегнулся ко мне за спиной жены и прошептал: «О чем он? Где он это вы́читал?» Странная речь, однако, имела странный успех – по той простой причине, что от его речи, любой, исходило сильнейшее обаяние, – по докторским лицам прошла волна умиления, его лицо тоже потеплело. Наконец, они ушли. Через день он позвонил из Лондона: «Слушайте, а у вас не паховая грыжа?» Я ответил, что паховая. А выпирает? А тянет? А в ноге отдает? А когда что-то поднимаете, то вздувается? Все разузнав, он сказал, что и у него так же, и ему, стало быть, надо ложиться на операцию, – и после секундной паузы сделал обобщающее заключение: «Вот так мы и лечимся – друг у друга».
Конечно, в последние годы его авторитарность бросалась в глаза, но должен сказать, что в молодости желание настоять на своем, сломить чье-то несогласие было ничуть не меньше. Может, и больше, но тогда еще требовалось доказывать, что то, что́ он говорит, истина только потому, что он это говорит. Тому, кто в течение пяти, семи, десяти лет и, главное, только что был Осей, а то и Оськой, сделать это нелегко. При живой Ахматовой – вообще невозможно. Да и после ее смерти, даже на фоне мощной подпитки славой, слетевшей на него вслед за судом и ссылкой, передававшейся из уст в уста и по радио, необходим был новый стиль поведения на людях.
Компания братьев Виноградовых, Еремина, Герасимова, Уфлянда однажды позвала нас смотреть какой-то международный футбол по телевизору, с предполагавшейся по окончании выпивкой. За игрой следили постольку-поскольку, а больше насмешничали друг над другом, пронзительно шутили и требовали того же от нас. Тогда Бродский был в этом не силен, чувствовал себя, уступая другим, неуютно и, едва кончился матч, сказал, что уходит. Его уговаривали остаться, он был неумолим, Леня Виноградов проводил его до выхода на лестницу и, вернувшись, картинно встал в дверях и произнес, скандируя с нарочитой торжественностью: «От нас ушел большой поэт!» – (как принято было тогда говорить на официозных похоронах).
Новый стиль выработался быстро и органично. В гостях, не говоря уже о выступлении с эстрады, он с первых минут начинал порабощать аудиторию, ища любого повода, чтобы напасть и превозмочь всякого, кто казался способен на возражение или просто на собственное мнение, и всех вместе. И аудитории это, в общем, нравилось. И он это знал. Чтением стихов, ревом чтения, озабоченного тем, в первую очередь, чтобы подавить слушателей, подчинить своей власти, и лишь потом – донести содержание, он попросту сметал людей. Стихи были замечательные, но собравшаяся компания или зал, естественно, не могли этого вместить, что называется, с ходу, поэтому им следовало дать это понять адекватным звуком, напором, воем, пением, громом, лишить их воли – как это в недалеком будущем сделали с террористами голландские реактивные истребители, один за одним пропоровшие воздух в нескольких метрах над захваченным теми поездом. Прибавим к этому заключенную и в самих стихах, и в голосе, сгущенном в черепной коробке, как под виолончельной декой, напевность, пленительную, гипнотизирующую. Вскоре как-то уже не шутилось про «большого поэта» – все, включая шутников, поверили, что он большой, и, подшучивая, ты тем самым записывал себя в более мелкий разряд, и уж не из зависти ли ты это делал?
Сразу оговорюсь, что звук был первичнее какого бы то ни было намерения, звук был не орудием, а целью, и, вообще, в начале был Звук. Всякий стих и все стихотворение непременно проходят этап чисто звуковой, дописьменный, и, уже будучи записаны, продолжают в этом звуке существовать, и донесением до публики именно этого звука он и занимался. Вы не усваивали содержания, но вы воспринимали имманентный ему звук. О том, как Бродский его достигал и с ним справлялся, существует почти канонизированный фольклор. В давней молодости он позвонил моей нынешней жене, сказал, что написал новые стихи, хочет прочесть. Стихотворение было длинное, на середине чтения их разъединили. Он узнал об этом, только дочитав до конца и не услышав ее ответа. Перезвонил, выяснил, с какого места пропал звук, сказал, что прочтет снова и будет после каждой строфы просить подтверждения слышимости. Звук набирал силу от строфы к строфе, между ними он успевал спрашивать в обычном тоне «да?», слышать «да» – и следующую начинал с высоты и громкости, на которых оборвал предыдущую.
Много лет спустя я преподавал в Америке, в Брин Море, и он приехал туда на семидесятилетие Джорджа Клайна. С Джорджем мы оба познакомились за четверть века до того, он первый перевел стихи Бродского на английский. В войну он был военным летчиком, это повышало температуру наших чувств к нему. Я поинтересовался тогда у него, нет ли нечестности в таком бою, когда ты не видишь, кого убиваешь, когда летишь в синем небе, а бомбочки упархивают куда-то вбок и вниз – что-то вроде не оскверняющего твою чистоту иудейско-мусульманского побивания камнями с дистанции. Он сказал, что, возможно, и так, но что точно не так, когда на металлическом полу в луже крови плавают один-двое из твоего экипажа, а вокруг что-то все время взрывается и все время попадает в самолет. Бриноморское чествование состояло из конференции, посвященной Клайну-философу, и из – гвоздь программы – чтения стихов, сперва Клайном своего английского перевода, потом Бродским по-русски. Посередине, уже разошедшись, он начал «Второе Рождество на берегу незамерзающего Понта» – с полного звука, взревел, вдруг уперся в меня глазами – и расхохотался, даже отвернулся, чтобы дохохотать. Стихи посвящены Э.Р. – нашей английской подруге, прелестной и умнице, с которой я ездил на Острова кататься на коньках и которая подарила мне тогда словарь Webster’а, надписав «Учи и торчи! (Бродский)». Отхохотавшись и посерьезнев, он начал снова – но ровно с той же мощью, с того же взрёва, подготовленного всем предыдущим чтением, словно бы вырезав случайный эпизод смеха и смонтировав кадры главного сюжета встык.
В таком чтении, еще когда он был юношей, таился соблазн подчинять зал своей воле, властвовать над ним, все это так, но все это можно и следует отнести за счет издержек молодой, еще неуправляемой страсти к превосходству, безудержному желанию заставить всех с собой соглашаться. Я про себя посмеивался, что ему дали имя Иосиф, в 1940 году, когда «Иосиф» и «Адольф» были в моде, а значили как раз это самое. Его и в стихах потягивало тогда говорить за других, вместо других, от их имени. Стихотворение «Остановка в пустыне» было первым, которое при всех своих очевидных достоинствах меня разочаровало трибунным голосом, которым поэт обращался к предположительно внимающим массам, но вокруг все были от него в восторге, и я помалкивал.
Однажды Иосиф позвонил, сказал: «Приезжайте, у меня симпатичный итальянец». Итальянец был ужасно симпатичный, Джанни. Мы пошли гулять, по Литейному к Невскому, было тесновато, нас с ним вынесло вперед, Иосиф с еще одним встреченным по пути приятелем шли сзади. Я спросил у итальянца, собирается ли он переводить Бродского, – он, до тех пор немногословный, с живостью откликнулся, что как раз хотел спросить у меня, какие стихи я бы посоветовал. Я сказал, что принято, да и поэту приятно, когда начинают с последних, тем более что последнее, «Остановка в пустыне», написано белым стихом, легче переводить. Он мгновенно ответил: «Скорее красным», – и я уставился на него, а он, улыбаясь, на меня. До этого мгновения я разговаривал с милым иностранцем, а тут увидел, с кем. «Меня зовут Анатолий Найман», – сказал я и протянул руку. «А меня Джованни Бутафава», – весело ответил он и пожал ее. (О нем отдельно, отдельно!)
Ахматова, похоже, это – и как свойство натуры Бродского, и как тенденцию – видела; или предвидела. Его преданность ей была безызъянной, так же как ее нежность к нему. Но, сознавая, или предполагая, или допуская, что при его даре и его амбициях ему предстоит – чтобы не сказать: предначертана – судьба поэта с мировой славой, она была сосредоточена исключительно на судьбе поэта, на ее подлинности, которую могут исказить, продешевить, обессилить самые разнообразные соблазны, и из первых – слава. Ей самой слава далась без затрат, никаких специальных действий и поведения от нее не требовала, но она с близкого расстояния наблюдала Гумилева с его литературной политикой и видела, чего это стоило.
Она прощала Бродскому и никому больше житейскую необязательность – проявлявшуюся, кстати сказать, очень редко, как, например, когда он должен был встретить на вокзале приезжавшую из Риги пожилую ее невестку Ханну Вульфовну Горенко с вещами и то ли забыл, то ли проспал. Когда часа через два мы все съехались, наконец, к Ахматовой, кипел и пыхтел я один, а ни та, ни другая, ни, главное, он виду не подавали, что что-то произошло, о чем стоит говорить, ни Ханну жалеть, ни Иосифу пенять. «Бывает», – как мне сказала потом, улыбнувшись, Ахматова, и эту улыбку, как и необсуждение проступка, я впоследствии наполнил неизвестно откуда и мгновенно пришедшим в голову сюжетом, как будто кто-то мне продиктовал: то ли, что он ночью писал очередную «Элегию Джону Донну» и под утро заснул, то ли, что, наоборот, проснулся вовремя, но стал писать и забылся – бывает. Тем более, что ведь обошлось же все.
Зато, когда после «Исаака и Авраама», всеми высоко оцененных, он вскоре начал еще одну вещь на библейский сюжет, она высказалась резко в том смысле, что Библия не сборник тем для сочинения стихов и хотя каждый поэт может натолкнуться в ней на что-то свое, собственное, но тогда это должно быть исключительно личным, и что, вообще, нечего эксплуатировать однажды добытый успех. Также и когда его любовный роман, о развитии которого мы знали не только по пронзительным стихам, но и по наблюдаемым с близкого расстояния обстоятельствам, а то и по вынужденно принимаемому участию в них, переместился почти целиком из поэзии в быт, она сказала: «В конце концов, поэту хорошо бы разбираться, где муза и где блядь». (Прозвучало оглушительно – вроде «пли!» и одновременного выстрела; это слово она произнесла еще однажды, но в цитате, а вообще, никогда ни прежде, ни после таких слов не употребляла. Прибавлю, что к реальной даме это отношения не имело, сказано было абсолютно несправедливо, исключительно из сочувствия и злости, в том же духе, что под горячую руку о бедной Наталье Николаевне, – но отсчет велся от поэта, к нему и выставлялись неснижаемые требования.)
Что касается ее оценки стихотворения, написанного им в ссылке в ответ на призыв властей сочинить что-нибудь патриотическое и напечатанного в местной газете («Мой народ, не склонивший та-та головы», с момента написания так и не могу вспомнить слово; рифмуется «ниже травы»), то тут требуется разъяснение. Оценка: «Или это гениально, или я ничего не понимаю в поэзии», – высказанная вслух, когда я привез ей эти стихи, и занесенная в дневник, относится, вероятнее всего, к тому, что Бродский без большого труда блестяще сделал то, чего власть в свое время ждала от нее и что у нее не только совершенно не получилось, а и вышло чуть ли не издевкой – так вымученно и беспомощно выглядел ее цикл «Слава миру». Недаром дальше в дневнике идет упоминание о сыне, ради которого всё и предпринималось. Другими словами, ее фразу можно интерпретировать так: «Я, как вам известно, в поэзии понимаю – так вот, я утверждаю, что поэт должен уметь делать в стихах всё, в том числе и на заказ, и Бродский сделал это гениально». Думаю, и замечание о его песне «Лили Марлен», в особенности о куплете «Лупят ураганным, боже помоги, я отдам иванам шлем и сапоги, лишь бы разрешили мне взамен под фонарем с тобой вдвоем стоять, Лили Марлен»: «Ничего столь циничного в жизни не слыхала», – не без восхищения произнесенное, стоит с этим в прямой связи: то есть, если поэт в стихах циничен, то опять-таки цинизм должен быть крайний, высшего класса.
Справедливости ради надо сказать, что и Бродский стихи, которые она тогда писала, принимал не (подобно большинству) как последние добавления к уже готовому корпусу поэзии Ахматовой, а как живые стихотворения поэта-современника, не просто оценивая их, по большей части восторженно, но отмечая и приемы, технику, движение. Про
Или забыты, забиты, за… Кто там Так научился стучать? Вот и идти мне обратно к воротам Новое горе встречать, —он, между прочим, сказал: «“за… Кто там” – это она у нас научилась, да? У молодых». (Я не ответил «да», во‑первых, потому что надо было вперед самому это почувствовать, а во‑вторых, оказывается, правильно сделал, потому что вскоре выяснилось, что стихи были написаны тремя годами раньше, до ее знакомства с нами, то есть, возможно, он был прав про «молодых», но не про «нас».)
Он вообще умел смотреть и всегда смотрел на вещи непосредственно – даже когда научился видеть второй план и третий. «Русским русских показывают», – сказал он (выразительно прокартавив), когда мы проходили мимо Манежа, в котором открылась выставка резьбы, вышивки и пр. и на ступенях публику встречали экскурсоводши в кокошниках. Думаю, в те годы, когда мы по-настоящему дружили и друг друга любили, шесть-семь с начала 60-х, нас сближало, помимо прочего, и то, что он подчеркнуто ценил это качество и во мне. Одним из наших паролей тогда была максима Акутагавы – для Бродского оставшаяся насущной и животрепещущей на всю жизнь: «У меня нет мировоззрения, у меня есть нервы». (Другим были фолкнеровские «несчастные сукины дети» – о людях, всех, о человечестве.) Потому он так и доверял своей первой реакции, и ориентировался на нее. Часто говорил: «Вы же видели его физиономию», или: «При такой роже едва ли», – в ответ на допущение, что обладатель физиономии или рожи способен на что-то доброе или путное.
В феврале 90-го года я читал лекцию в его семинаре в Маунт Холиок – «Уроки Ахматовой», – лекцию апробированную, американским студентам уже читанную, и всякий раз имевшую успех. Кончив с чувством, что, вот, одарил еще одну группу алкавших, теперь вопросы, аплодисменты и по домам, я вдруг услышал его вопрос: «Значит, сколько и какие конкретно уроки, давайте коротко сформулируем». Я мог ответить в духе Толстого: «Если бы возможно было сформулировать короче, я не писал бы “Войну и мир”», – но дело происходило в Америке, где дайджест – ядро культуры и искусству сжатых формулировок учатся со школы, так что пришлось попотеть.
Всю вторую половину дня до самой ночи мы проговорили, причем ему это напоминало какие-то наши вечера в Комарове: сосны, сырой снег, огонь в печи (ну, в камине), спешить некуда, – а мне в Норинской: спешить некуда, огонь в печи, тьма за окном, и неизвестно где, в какой дали от места, называемого домом, находимся. Комарово или Норинская, все равно четверть века назад, и оттуда бесконечно выскакивали темы для разговора, четверть века назад устремленные к кульминациям, захватывающие, сейчас в виде эпилогов. Всплыл и Элиот, которым и он, и я были увлечены, а потом я понемногу, поняв рецепт, разочаровался. А он? «Тут особенно нечего обсуждать, – сказал он. – Поэт для университетов. И сознавал это, и хотел таким быть». Мы разговаривали как будто на могиле былого: пришли навестить и отдаем дань, не настолько, однако, скорбную, чтобы не говорить свободно. Я сказал, что вот уж кто университетский поэт, так это Паунд: при каждом стихотворении список прочитанной литературы. «Да оба они хороши», – поддал он. Я почувствовал, что хвачено лишку, и решил поправить дело: «Конечно, на фоне Джойса и тот, и другой лего́ньки…». «И Джойс такой же!» – прикончил он, как будто запер калитку ограды и, не оглядываясь, зашагал с кладбищенского холма на дорогу.
Еще одним объединяющим нас – но тут «мы» уже не двое, а десять, а может, сто, трудно сосчитать аккуратно – качеством было сохранение независимости во что бы то ни стало, до некоторой даже оголтелости. Ни ломтика из рук, которые угадывались как «чужие», причем угадывались по большей части инстинктивно; ни микроскопической уступки, пусть с перехлестом в сторону отрицания того очевидного, с чем согласен; ни малейшего изгиба позвоночника: прямая шея, прямые плечи, юнкерский взгляд, устремленный в навсегда далекую цель. С годами позиция всех независимых, кого я знаю, включая мою собственную, так или иначе смягчилась, а точнее, размягчилась. Как восклицал Хрущев – «на компро́мисы мы не пойдем!», следующей же фразой диалектически объясняя смысл этой клятвы: «Карибский кризис был разрешен с помощью компро́миса». Бродский остался рыцарем Независимости на всю жизнь. И, как следствие, заложником.
Почти каждую свою реплику в живом диалоге он начинал с «нет». «Нет, не совсем так», – что на нашем языке значило: «Совсем не так». И дальше развивал свои соображения, собственную точку зрения, которая могла дословно совпасть с опровергаемой в начале ответа. Мы ехали в нью-йоркском метро, в вагон вошел молодой, крепкий на вид негр, стал просить милостыню. Я порылся в мелочи, нашел гривенник. Бродский сказал: «Не вздумайте подавать». Его единственным аргументом могла быть только излишне агрессивная назойливость попрошайки. Я пробормотал что-то вроде обычного, что плевать кто и как просит, главное, что просит, и подал. Он фыркнул. Нам было выходить. В дверях он сунул ему три доллара.
В последние годы это выходило почти автоматически и даже, вопреки очевидной абсурдности, было понятно: разделять ни чье мнение из тех, кто ему хоть чем-то не нравился, – а ему хоть чем-то не нравился, за редчайшим исключением, каждый, – он, как, в принципе, любой из живущих, не мог по той причине, что само это «не нравился» было показателем внутреннего расхождения и несогласия; тот же, кто ему нравился, потому, в частности, и нравился, что не лез со своим мнением. Как-то он упомянул, что приглашен в Амстердам прочесть лекцию на столетие Хейзинги. Я спросил, что́ ему Хейзинга. «Что он мне, я еще не думал, но вы же знаете наш метод: если он утверждает, что «так», я, естественно, утверждаю, что «не так», – потому что ведь, действительно, не так».
Точь-в-точь по этой логике и схеме он вел себя с Жирмунским году в 63-м, минуты через три после того, как с ним познакомился: стал объяснять старику, что говорить о поэтах «преодолевшие символизм» – значит ни уха, ни рыла не понимать в поэзии, которая ничего не преодолевает, а все усваивает; что это немецкий, а точнее, филистерский подход к литературе и идет он от пристрастия Жирмунского к немецким романтикам, которые как поэты тоже еще надо посмотреть, достойны ли, чтобы ими занимались. Правда, в тот момент все, исключая только что вошедшего академика, но включая говорившего, были сильно выпивши: дело происходило за обедом у Ахматовой в Комарове. Она мигнула Нине Антоновне Ольшевской, и та немедленно уволокла его из-за стола, «искать грибы».
(Стоит сказать, что смерть Жирмунского – через несколько лет после ахматовской – мы ощутили тоже как перелом – в культуре академической, более далекой от нас. Бродский высказался в том смысле, что он был последний настоящий академик, теперь пойдет мусор. Жирмунский был преданный поклонник, в широком смысле этого слова, Ахматовой, с его юных, приват-доцентских лет. И он был то, что называется, чистый: это он в 1916 году, едучи с компанией из Крыма в Петербург, вышел из купе Саломеи Андронниковой, в котором молодые люди вольно острили в вольтерьянском духе, вышел со словами: «Я не могу находиться в одном помещении с людьми, которые в таком тоне говорят о непорочном зачатии». Однажды зимой мы с Бродским поехали на могилу Ахматовой, еще достаточно свежую. Мы увидели над ней новый крест, махину, огромный, металлический, той фактуры и того художественного исполнения, которые царили тогда во вкусах, насаждаемых журналом «Юность» и молодежными кафе. К одной из поперечин был привинчен грубый муляж голубки из дешевого блестящего свинца или цинка. Рядом валялся деревянный крест, простой, соразмерный, стоявший на могиле со дня похорон. Потом выяснилось, что новый сделали по заказу Льва Николаевича Гумилева в псковских мастерских народного промысла, но в ту минуту для нас, помнящих ее живую неизмеримо острее, чем мертвую, и все еще принадлежащую нам, а не смерти, родству и чьим бы то ни было эстетически-религиозным принципам, это было оскорбительно и невозможно, как ослепляющая зрение пощечина. И мы принялись выдирать новый, чтобы поставить старый. Земля была промерзшая, крест вкопан глубоко, ничего у нас не получилось. С кладбища мы отправились на дачу к Жирмунскому. Рассказали. Он встал с кресла, широко перекрестился и сказал торжественно: «Какое счастье! Два еврея вырывают православный крест из могилы – вы понимаете, что это значит?»)
В другой раз Ахматова, уже на улице Ленина, попросила нас не то отнести, не то забрать книгу у Евгеньева-Максимова, он жил в соседнем подъезде. Нас пригласили к столу – на арбуз. Жена внесла арбуз, но почему-то не осталась, мы стали поедать его и благостно разговаривать. То есть хозяин – благостно, а мы согласно помыкивали. К середине второго ломтя Бродского это, по-видимому, стало раздражать, он угрожающе сказал, что Блок поэт никудышный, а вот Баратынский гениальный и как поэт гениальней Пушкина – его с юности идея фикс, которую сейчас он решил запустить, поскольку хозяин – известный блоковед и, вообще, филолог. Филолог, миролюбиво улыбаясь, заметил, что недавно была выдвинута такая концепция, что Баратынский в определенном смысле Сальери Моцарта-Пушкина. Бродский пальнул, когда тот еще договаривал последнее слово: «Полный кретин – кто до такого мог додуматься!» – и тотчас в коридоре у самой двери раздался легкий вскрик и что-то упало: то ли второй арбуз из рук стоявшей начеку жены, то ли она сама. Не исключено, что концепция была выдвинута в этом самом доме.
Его постоянная и беспощадная демонстрация своей независимости создавала неуютную, всегда чреватую, а сплошь и рядом разражавшуюся скандалом обстановку. Незнакомому человеку находиться с ним в одном помещении больше пяти минут было сильнейшим испытанием: он изматывал своими «нет», «стоп-стоп», «конец света», а то и рыком, средним между Тарзаном и, скажем, быком (если бы быки рычали), с остановившимися как бы в идиотическом восторге глазами. Но сама независимость, в столь полном, целенаправленном, без малейших скидок виде, выдавая не просто незаурядную, а уникальную натуру, почти всем импонировала. Бессознательно, а кто и сознательно, люди соглашались, что выдающийся человек и должен – ну, если не должен, то может – быть таким, так что это никак не мешало его всеобщему признанию. Так или иначе, но, начав с тотального протеста, он пришел к тотальному – чуть не сказал: нигилизму – отрицанию, впрочем, продолжавшему включать в себя и протест, и, в конце концов, выглядел как бы попавшим в зависимость от независимости.
* * *
Когда он умер, я позвонил Исайе Берлину, сказал, что в эти дни хочется с ним об Иосифе говорить, в частности, расспрашивать, каков он был, когда приехал и в первые годы за границей. Он ответил, что тоже хочет сейчас со мной говорить, но не об этом, а о том, какой он был «тогда, в ахматовские годы, потому что все засевалось и, стало быть, совершилось тогда, а за границей был только сбор урожая». Но чтобы собрать такой урожай – я имею в виду не «Часть речи», «Уранию», эссе и так далее, которые, допустим, так и так взошли бы и были сжаты, а Нобелевскую премию, оксфордскую мантию, Почетный легион и прочее – надо было полоть, поливать, унавоживать, наблюдать, причем как следует. Когда Ахматова говорила: «Какую биографию делают нашему рыжему!», – она говорила о тех уникальных поворотах судьбы, за которые он платил болью и рисковал жизнью, а не сусальную историю про еврейского мальчика со скрипкой, которого пинали и приглашали за черствую корку играть на свадьбах, а потом он стал звездой и выступал исключительно в Карнеги-холл и Ковент-Гарден. А именно так истолковывают ее слова все повторяющие их сейчас с запевом «Ахматова любила говорить…». Это легенда – что она «любила» так говорить; я помню, как она говорила это – мне, на веранде в Комарове, за столом в пятнах солнца, пробившегося сквозь кроны сосен. Я не против легенд, и мое воспоминание не требует ссылок на себя, но легендам противопоказаны дачный стол под клеенкой и солнечные пятна, и по легенде результатом уникальных поворотов судьбы должны быть не страдание и минуты крайнего риска как таковые, а Нобелевская премия. За премию, однако, надо платить особо, вот этими самыми прополкой, поливкой, молотьбой.
Не ловите меня на слове, я не говорю, что он этим занимался ради занесения в Книгу рекордов. То, как он был предан поэзии и что делал для нее, заслуживало всех на свете премий, каждые два-три года. Он однажды сказал мне: «У нас сейчас уникально привилегированное положение, мы пишем не холсты, за которые платят кучу денег, не симфонии, которые надо исполнять и записывать на пластинку, – стихи не нужны никому, кроме нас самих. То есть мы можем писать их только ради поэзии». Так что он этим занимался не ради признания его урожая наивысшим – но он этим занимался, не так ли? Вынужден был. Дело заключалось совсем не в том, чтобы выбить самые главные призы в глобальном тире и вообще не в честолюбии, а в сознании а) ничтожества, пошлости, самодовольной дисгармонии мира и б) способности своим талантом, энергией и направлением изменить его к лучшему. Парад же регалий, как наклеек лучших отелей на саквояже знатного путешественника, естественным образом сопровождал этот путь, одновременно помогая его совершать. Когда я спросил, с чего он так шумно вышел из Американской академии искусств, когда в нее приняли Евтушенко, а не раньше, когда того же Вознесенского, он дал довольно сбивчивые, малоубедительные объяснения и прибавил без видимой логической связи, но с внутренней кристальной: «АГ, вы представляете себе, что было бы, если бы нобелевку дали кому-нибудь из них?»
Это был ответ на куда более главный вопрос, может быть, главнейший. Не в этой паре конкретно было дело, а в том, что́ в нашем мире они воплощали и что́ навязывали миру. Разумеется, и конкретно в них тоже, и это надо себе ясно представлять: на круг, лет двадцать пять, то есть два, если не больше, поколения они обучали, как и о чем говорить, а значит, как и о чем думать. Они диктовали не просто моду, убогую, для бедных, применительно к политически-эстетическим возможностям перерисовываемую из недоступных публике журналов спецхрана, западных и старых наших, – а таковую же просодию речи общества и через нее строй мыслей: диктовали тем, кто зачинал детей в 60-м году, и этим выросшим детям в 80-м. И Бродский разбил эти гипсовые маски ужимок и подмигиваний и переучил людей их родному языку. Партийно-интеллигентская феня этаким поэтически-стёбовым мутантом окончательно ушла к журналистам, речь стала поестественней, поточней, поответственней. Грамматическая и лингвистическая «модель Бродского», обе требующие от ординарного мозга усилий, возобладали. Неслабо, а! Ради этого можно было и постращать аудиторию, подавить на барабанные перепонки, затекшие серой «Бабьего Яра» и «Гойи».
В Нью-Йорке после заупокойной службы на сороковой день его подруга, знаменитая американская писательница, пригласила меня поужинать в ресторане. Мы выбрали «Русский самовар»: хозяин, Роман Каплан, усадил нас за столик в углу, за которым Бродский любил сидеть и над которым теперь висела его фотография. Мы говорили о нем, и я узнавал в ее рассказах его ленинградского, а она в моих его нью-йоркского. У нее были к нему претензии – в общем, те же, что и я мог бы наскрести. Вдруг в ресторан вошел один из них, из пары. Поздоровался с хозяином, увидел нас, подошел. Начался бессодержательный разговор втроем, в котором она на несколько минут неожиданно объединилась с ним против меня (речь повернулась на Чечню, он был борец за мир со стажем, она – борец за справедливость, «янки вон из Вьетнама», они и познакомились когда-то на провьетнамском антиамериканском конгрессе, где он, представьте себе, защищал ту же идею). Наконец он ушел, мы заговорили по-человечески, и она сказала: «В Джозефе то одно было не по мне, то другое, но мы сейчас разговаривали, и ваш соотечественник – мой единомышленник находился прямо под его портретом, я смотрела на них и только думала горько: какая разница уровней!»
Существует, как говорит мой хороший знакомый, ад поэзии. Ты рождаешься с инструментом в душе, реагирующим на звук и ритм слова, и оказывается, что главный поэт в это время – Константин Симонов. Или Надсон. Или Бенедиктов. Может быть, даже Вячеслав Иванов. Тусклые отсветы, тяжелый воздух. Ты еще не догадываешься, что может быть по-другому, что где-то на подходе Тютчев; или Анненский; или Мандельштам. Тусклые отсветы на стенах твоей пещеры все-таки будоражат мрак, тяжелый воздух извне шевелит спрессованную сырость. Вдруг Симонова-Суркова сменяет Евтушенко-Вознесенский: луч света, глоток свежести! Теперь можно подождать и Тютчева, и Мандельштама. Можно подождать, но можно и не ждать, а самому выйти на дело. И вот, получается. Что́ получается, еще непонятно, не сразу, не до конца, потом будет видно. Но что́ вместо чего, тут сомнений нет, принято.
Конечно, твоим близким друзьям-cоратникам то одно не так, то другое, но ты это сделал. Ты, а ни кто из них; всё, а не одно или другое. Чтобы такое выгорело, должно было сойтись множество факторов и фактов, точно вовремя, точно по месту. И, в частности, цельность, пренебрежение одним и другим – тоже необходимое условие. А когда дело сделано, тем паче нечего заниматься пересмотром и допускать, что могло быть не так, как было, или как ты думал и утверждал, что было. Например, насчет лиры, переданной Ахматовой.
Бродский, нельзя сказать, чтобы сопротивлялся навязываемой ему роли и статусу любимого ученика Ахматовой, но, во всяком случае, отнюдь не приветствовал. Довольно определенно он ставил на первое место Цветаеву – и как «поэта без рая», то есть доходящего до края отчаяния, дальше Ахматовой, и как оказавшую на него большее влияние. При этом часто он так говорил о Цветаевой именно в противовес Ахматовой. Он так считал, но тут был еще и замысел. Он не хотел быть не любимым учеником, а учеником. Во-первых, это была бы неправда, потому что ни он, ни кто из нас четверых, сентиментально объявленных «ахматовскими сиротами», не был ее учеником, а она нашим учителем, в общепринятом, литературном содержании этого слова. Она нас учила, и мы у нее учились, но не писанию стихов, вернее, в последнюю очередь писанию стихов. И во‑вторых, с титулом «ученик Ахматовой» не станешь полномерным «Бродским». Это как должность, и чуть ли не пожизненная, по собственному опыту знаю. («Такой-то, ну секретарь Ахматовой», – представлял меня недавно один издатель своим друзьям, желая, видимо, сделать мне – и им? – приятное. Впрочем, времена все-таки меняются, и я не без мрачного удовлетворения прочел в газете, что к похоронному заведению, где в гробу лежал Бродский, «подъехали в такси ахматовские сироты Рейн и Кушнер».) Бродский предпочел объявить себя учеником Рейна, что и правда, и перекладывает ответственность на учителя. (И немного от «мой первый тренер» – из уст чемпиона мира.)
Но что любимый, он помнил всегда, и ценил как мало что на свете, и хранил эту память бережно и целомудренно. В сочетании с сознанием значительности, какой он обладал в последние годы, это породило апломб непререкаемого, единственно верного суждения об Ахматовой; в сочетании с весом, приобретенным в литературном мире, – некоторый, на мой взгляд, перекос в формировании публичного представления о ней. Здесь я решаюсь сказать то, что намеренно опустил в «Рассказах о Анне Ахматовой». Тогда, после 20 лет утверждения официального ее образа, сконструированного из нескольких простых, грубо пригнанных узлов, пусть и расшатанного герценовски непримиримыми, опровергавшими каноническую ложь «Записками» Лидии Чуковской, невозможно было рассказать о личном характере отношений с Ахматовой так, чтобы это хоть в малой степени не отдавало личной выгодой. Автор «Рассказов» взялся почти ниоткуда: какой-то переводчик романской поэзии, когда-то по случаю сотрудничавший с Ахматовой над переводом лирики Леопарди, вот и всё.
Между тем наши отношения складывались необычно и остро. Го́да с 62-го-63-го она стала вполне доверять мне, и в наших разговорах, или, как тогда не по-людски, казенно стали говорить, в общении, появилась конфиденциальность. В то время она интенсивно вспоминала свое начало, возвращалась к обстоятельствам и событиям пятидесятилетней давности, к атмосфере ранней молодости. Дух нашего поэтического поколения, конкретно нашей четверки, творческий, жизнерадостный и энергичный, скажу аккуратно и основываясь на несомнительных наблюдениях, напоминал ей об ее 10-х годах прямыми и непрямыми соответствиями. По некоторым признакам, в частности по неоднократным сравнениям того, как, например, одевался, или вел себя, или реагировал я, с теми или другими друзьями молодости, считаю, что во мне она находила еще и внешнее сходство с ними. Это подтвердилось, между прочим, через несколько лет, когда Аманда Хэйт, начиная курс лекций о поэзии Ахматовой, выставила перед английскими студентами фотографии людей, так или иначе близких поэтессе, начиная с гумилевской и кончая моей: ткнув в меня, они запротестовали: «Этот уже был», – и показали на известного персонажа 10-х годов.
Все это (и, разумеется, то, никакими наблюдениями и анализом не учитываемое, что приводит к творчеству) вдохновило ее на стихи, в которых она разыгрывала любовный роман, воспроизводивший в обращенной назад перспективе и отражавший в старых зеркалах ряд реалий нашего с ней единого многомесячного, хотя и разорванного на отдельные фрагменты, разговора, конкретного, всегда немного таинственного, мерцающего, исполненного искренности, чувства, лукавства, напрягаемого внезапным конфликтом, согреваемого быстрым примирением. Некоторые стихи из тех, что я тогда писал, она приводила к знаменателю своих собственных: например, на мои, начинавшиеся «После последней ссоры больше уже не мучь», адресованные третьему лицу, откликнулась ответом «Кто тебя мучит такого», включив их тем самым в «наш», слышимый ею, диалог. Уже тогда до меня доходили слухи, объясняющие наши с ней отношения по схеме, рисуемой желанием мерить всех по своей мерке, как правило, увы, пошло-подлой и, само собой, раскрашенной грязным воображением. Впоследствии я видел что-то в этом роде даже напечатанное, правда, в сочинениях мерзейших насквозь, а не именно на этот счет.
Естественным свойством таких отношений была своеобразная их короткость, бо́льшая интимность, взаимное понимание каких-то вещей с полуслова. Намеки, понятные обоим, шутки, ссылавшиеся на какие-то прежние. Возможно, Иосиф, при его установке всегда быть первым, немножко к этому ревновал: пару раз был застигнут на наивном коварстве. Однажды мы втроем подходили к лифту, и вдруг он сказал с невинным выражением лица и интонацией: «Ой, Толя, а покажите, как Анна Андреевна входит в кабину». А входила она, сперва сосредоточенно глядя перед собой в пол, потом делала грузный шаг внутрь и сразу поднимала глаза на зеркало, уже успев чуть вытянуть вперед губы и приподнять подбородок. И я это как-то раз перед ним изобразил. Она обиделась ужасно, несколько дней едва со мной разговаривала.
А еще до этого я среди лета заболел жестокой ангиной, я тогда снимал квартиру в Москве. Она была в Ленинграде, что-то срочное надо было обсудить по телефону, и то ли мой голос, то ли ни из чего не вытекавший поворот на Гамлета в нашем разговоре ее встревожил. Часа через три-четыре раздался звонок в дверь, оказалось, прилетел Иосиф, он у нее в тот момент находился, и она дала ему деньги на билет. Он привез с собой записку от нее и ее новое стихотворение «Тринадцать строчек», переписанное его рукой и ею подписанное. Строчек оказалось двенадцать, одну он пропустил – уникальный сейчас автограф, если только сохранился. Убедившись, что я не умираю, и что-то принеся из магазина, он умчался по своим делам. Вскоре я вернулся в Ленинград, Ахматова встретила меня «вселенским холодом». Через несколько минут выяснилось, что Иосиф по приезде сказал ей: «Ничего страшного, у него адюльтер, и он страдает». У меня, в самом деле, была тогда какая-то тягостная история, в которую, впрочем, я ни ее не собирался посвящать, ни с ним не делился. «Адюльтер» был не из нашего словаря и подобран специально – чтобы перевести дело в серьезный ранг: вот вы за него беспокоитесь, а он там безумствует, как Вронский с Карениной, и ему не до вас. Признаюсь, и меня это слово настроило на искусственность и некоторую выспренность, почему-то я даже перешел на французский, сказал: «Je avec une femme…» («я с одной женщиной…»). «… une dame», – поправила Ахматова устало и с презрением.
Повторю, что и ревность, и коварство, если это вообще можно так называть, были незловредными, наоборот, в них было обаяние, присущее почти всем его проявлениям. Ничего не знаю о периоде его нью-йоркского, в частности преднобелевского штурм-унд-дранга, но когда мы встретились в 88-м году, я обнаружил, что его «министерские» обязанности: отзываться на множество просьб и предложений, устраивать чьи-то дела, участвовать в проектах и так далее, – и связанная с ними деловитость, волей-неволей будившие в сознании призрак Гете, ни на йоту не убавили чистоты и детскости его реакций, пленительного азарта, готовности изумляться. Что еще сохранилось с той поры неизменным и что меня в особенности тронуло, это верность «классовому чувству»: те, кого тогда печатали, так и остались – какие бы доброжелательные и милые отношения с ними с той поры ни сложились – «теми, кого тогда печатали» и в этом смысле не нами. Тяжеловатость умудренности опытом и знания тайных пружин не мешала голубым глазам выкатываться с той же наивностью, что и в 58-м. Словом, определяющими качествами были нежность и щедрость того же размаха, что в юности, только с несоизмеримо расширившимися возможностями.
И вот, от него такого я услышал (он знал, что я написал «Рассказы о А.А.»): «Оставьте мне вашу рукопись, и мы ее здесь немедленно тиснем». Однако книга ему – не скажу, что не понравилась: он дельно хвалил мне ее, – книга его не устроила. Он об этом сказал уклончиво, как-то мямлил, но другим не упускал случая сообщить, что не одобряет. Компактнее всего он выразил это по поводу следующей моей книги, «Поэзия и неправда»: один критик из эмиграции, прежде чем составить собственное мнение, спросил у него – он ответил в том смысле, что, ну, Толяй под себя пишет. Мне он тоже сказал, что не согласен, что пусть и то окей и это, и на свой счет он не имеет возражений, но было не так, и вообще, «у вас фразы длинные, а мы же с молодости учились выражаться короткими».
Он написал предисловие к английскому и американскому изданию «Рассказов», по настойчивой просьбе издателей, немножко из-под палки. В одном месте он противопоставил «Рассказы» «Запискам» Лидии Чуковской, которые тогда должны были выйти в «его» издательстве, «Фаррар, Страус и Жиру», – в пользу «Записок». Это редкий поворот в жанре предисловий: сообщить читателю, что он читает книгу худшую, чем мог бы прочесть. Впоследствии он сильно хвалил мне мемуары Михаила Ардова: вот где всё так, как было. Эти мемуары («я сострил, она чуть не упала со стула»), насколько я могу судить, по самому своему существу противоречат «Запискам» Чуковской, да и тому, что́ опубликовал со слов Бродского на эту тему, об Ахматовой и тогдашней обстановке, Соломон Волков.
Как автору, мне иметь мнение о «Рассказах» не полагается, но дать аннотацию право есть. Эта книга – комментарий к полутора десяткам ахматовских писем ко мне. Не строгий академический, не исследовательский исторический, не концептуальный литературный, а академический, исторический, литературный, психологический, импрессионистский и какой вы хотите, в той органической связанности этих качеств, которую принято называть человеческой, и в том содержании, которое в них предполагает человек с улицы. Я готов принять, что Бродский смотрел на Ахматову более остраненно, что ему было открыто в ней что-то иное, нежели мне, возможно, более крупное или более таинственное. Вполне естественно, если он иначе, чем я, может быть, более проникновенно, читал ее «слова прощенья и любви», про которые написал так пронзительно:
Великая душа, поклон через моря, за то, что их нашла, – тебе и части тленной, что спит в земле <сырой>, тебе благодаря обретшей речи дар в глухонемой вселенной.Во всяком случае, с заменой «родной земли» на «сырую» – ибо и в Комарове сыро, и в Манхэттене, и тем более, в Венеции – это теперь навсегда обратилось на него самого. Но в историях, которые Бродский наговорил Волкову на магнитофон, тоже много «не так», фактически. Ахматова, однако, – та. В «Рассказах» не мне судить, та ли Ахматова, но письма – те, и так вышло, что что́ стоит за тем или иным словом, знаю я и больше никто, и эта коллизия, возможно, его и не устраивала. Если так, то это все равно что его не устраивали сами письма. Так что да, да, я под себя пишу, под свое знание вещей, мне доверенных, писем, ко мне обращенных, справляясь у собственной жизни.
Когда Бродский пообещал напечатать книгу, я еще не понимал, каким могущественным влиянием он обладает. Его рекомендация не обсуждалась, тебе давали грант, место в университете, в журнале, заключали контракт на публикацию, и наоборот, его неодобрение закрывало возможности – как это на время случилось, например, с аксеновским «Ожогом». Мою книгу он не рекомендовал, но и никак не препятствовал, когда ее захотели напечатать. Историю про то, как он дал убийственную оценку «Ожогу» в издательстве, где книгу намеревались выпустить, мне рассказывали по отдельности Бродский, Аксенов и Ефимов, тогда работавший в «Ардисе», куда пришла рукопись книги из России, и у всех троих она совпадала в деталях. Единственное, что прибавлял к ней в конце Бродский, был комментарий: «А по-вашему тоже, мне уже навсегда запрещено говорить, что́ я думаю, если что-то не нравится?» И я посочувствовал ему.
При таком авторитете он должен был прежде, чем высказать мнение, обдумывать, кому какие слова можно или нельзя говорить. И вообще – он должен был. Должен был помогать, рекомендовать, устраивать, писать предисловия. Он делал это безотказно, часто через силу, он помог тысяче людей, но иногда казалось, что у него не было выбора. Если бы он стал отказываться, это значило бы только, что должен был, а не сделал – плохой человек. При всей своей знаменитой независимости, он попал в зависимость еще и от положения, которое занял. Он был хороший человек и потому делал.
В 89-м, кажется, году мы провели вместе два дня в Венеции. За полгода до того я сказал, что в декабре приглашен на симпозиум в Турин; оказалось, что он в эти же числа собирается в Венецию, предложил встретиться, мы условились о дне и конкретном месте. Его туда пригласили на презентацию эссе «Набережная неисцелимых», вышедшего отдельной книжкой. В декабре Венеция безлюдна, то есть представляет собой другой город по сравнению с летней: много пространства, пустые площади, улицы, можно идти в любом направлении, а не исключительно куда все. Он повел меня прежде всего во «Флориан». Еще в первый приезд итальянские друзья предупреждали: окажешься на Сан-Марко, следи, чтоб не попасть во «Флориан», там за одно то, что проходишь мимо двери, плати сто тысяч. Бродский заказал кофе, я, стараясь не глядеть в лист меню, чай. Мне принесли стеклянный цилиндр, наполненный ледяным желтым напитком, – оказывается, надо было сказать официанту: горячего чаю. Официант, который в свое время обслуживал Байрона, всех дожей Венеции, а возможно, и апостола Марка, посмотрел на меня как на удивительно бесполезную вещь, которую нельзя употребить даже применительно к чаю. В это время вошли трое англичан, мужчина и две женщины, все в возрасте от тридцати до сорока, каждый красоты необычайной. На мужчине был жилет в цветочках, вышитый, судя по всему, рукой самого Боттичелли, на женщинах – черные шляпы с огромными полями, одна была сильно беременна. Все расцеловались с Бродским, одна из женщин – и со мной. Бродский спросил, что они будут пить. На секунду вопрос как будто поставил их в тупик, но потом мужчина нашелся и сказал, что виски, и беременная, оказавшаяся его женой, виски, и небеременная виски. Бродский заплатил (возможно, миллион, если мои друзья говорили правду), сказал «увидимся», опять расцеловались, на этот раз со мной тоже, все трое, и мы вышли на улицу.
День был холодный, воздух жемчужный, время от времени мы выпивали чашечку кофе или рюмку граппы с грубой острой на вкус колбасой. Бродский заводил меня в улицы мне знакомые и в проулки, куда бы я никогда не заглянул по своей воле. В церкви Святого Захарии он опустил монету, чтобы осветить Беллини. Группа святых и много тяжелой красной ткани в плавных складках. На меня это действует с юности, мой друг-художник – наш общий с Иосифом друг – любил и умел писать занавеси, портьеры, шторы. Я подумал, что нет, жаль, но нет, не вытягивают его ткани на беллиниевские. «Не вытягивает … – произнеся его имя, раздался в ту же секунду голос Бродского, – на Беллини, да?» – и, бросив еще монету в щель, он позвал меня посмотреть на живопись от другой стены, с расстояния.
Регулярно в дальнем конце улиц, которые мы пересекали, возникала английская тройка, они кричали нам «о-о!» всё больше не в лад и приветствовали всё более свободным взмахом рук. Всё вместе всё больше напоминало Ивлина Во. К семи, сказал Бродский, мы приглашены на ужин в один дом, он еще из Нью-Йорка дал знать хозяевам, что нас будет двое.
Стало смеркаться, мы вышли к лагуне, полицейский катер выскочил из канала и медленно поплыл вдоль берега, включив сирену, – по-моему, исключительно ради собственного развлечения. От надрывного звука мы свернули вбок, сделали небольшой крюк, и по боковому каналу снова пошли к пристаням. Сзади опять послышалась сирена, на этот раз катера «Скорой помощи». Он был освещен изнутри, и, когда проезжал мимо, мы увидели того, кого везли, лежащего на высоких носилках и покрытого одеялами, не то пальто. Катер свернул во двор больницы, под мостик, через который мы как раз переходили. В больших низких, на уровне пешеходов, окнах больницы тоже горел электрический свет, еще тусклый на фоне уличных сумерек, и приемный покой демонстрировал нам угрюмо свое содержимое: многочисленные топчаны, на которых под такими же попонами лежали такие же больные, и кто-то стоял возле них, склонялся, сновал. Мы подходили к набережной, когда на крутой мостик, стуча на низких округлых ступенях, въехала тележка: ее толкал высокий мужчина в черном переднике, глядевший на мир неприязненно и нагло, и на ней лежал черный лакированный, как гондола, пустой гроб. Тележка миновала горб моста и загрохотала вниз. Бродский помотал головой, как от наваждения, повернул ко мне лицо с широко открытыми глазами и проговорил: «Это еще что бы такое значило?» И сразу спросил, был ли я на «острове мертвых», на кладбище Сан-Микеле.
Ужин оказался на двадцать пять персон, дом оказался палаццо, выходившим сразу на несколько каналов. Мы прошли несколько внутренних дворов с садами и без, в одном стоял «Давид» Микеланджело, возможно, подлинный. Ужин, узнал я уже внутри, давался в честь Бродского, написавшего так замечательно о Венеции. Со мной все были необыкновенно ласковы, не то как с его «давним советским» другом, не то как с его другом-поэтом, которому к тому же повезло попасть, наконец, в общество, где поэзию ценят. От одной группы ко мне бросились старые друзья-англичане: в жилете, беременная и небеременная. Прекрасная хозяйка отвела меня в комнату, где – сколько? – лет сто семьдесят пять назад останавливался Байрон (и оттуда, стало быть, шастал во «Флориан»). Я спросил, где уборная, она открыла мне дверь в небольшую залу с картинами на стенах, двумя мраморными столами, букетами сухих цветов на них и потерявшимся в этом великолепии, к роскошной цветной умывальной раковине притулившимся унитазом.
Ужинали за тремя столами, с дворецким в белых перчатках и слугами, возле приборов стояли таблички с именами. Меня подвели к тому, где значилось «Леонардо». Я полюбопытствовал, почему именно так, хозяин спросил, а как, и, услышав anatolynaiman, сказал, что он что-то такое подозревал, когда Джозеф по телефону назвал мое имя, но через океан было неважно слышно, и он подумал, что lynaiman ближе всего к leonardo. За моим столом сидели еще две итальянские пары, из театрального мира, как они мимоходом бросили: они принялись расспрашивать меня о московских театрах. Мои ответы были неприлично скудными, я решил перехватить инициативу и спросил, играют они или ставят спектакли. Скромный ответ был, что, скорее, финансируют. После ужина перешли в залу, где там и сям, например, на рояле, но также и на скамеечке для игры в четыре руки, стояли разнообразные напитки в бутылках, мне хотелось думать, венецианского стекла. Вечер покатился по рельсам, одна из которых была условно феллиниевской, то есть у дам в треугольниках декольте, а у мужчин в овалах лысин стала густеть краснота и сквозь нее просвечивать возраст; другая же – условно русской с элементами братания и приобнимания, в которых застрельщиками были, естественно, мы двое, а остальные присоединялись стремительно и с южной горячностью. Хозяева взяли с меня слово, что когда бы я ни появился в Венеции, я остановлюсь только у них. Я обещал при условии, что в Москве они будут жить только у меня. Бродский по-русски спросил, где, в какой из трех комнат моего панельного дома с экономной планировкой квартир; я ответил, что раскладушка решает любые проблемы. Мой друг-англичанин предлагал в любое время приезжать к нему в имение и в подтверждение дал визитную карточку, на которой его имя и титул занимали три строчки. Небеременная оказалась директором женского издательства и спросила, кого из русских писателей-женщин, кроме Татьяны Толстой, я могу ей рекомендовать. Мне показалось, что я отвечу очень остроумно, если скажу, что у меня на примете есть несколько писателей-гермафродитов, и сказал; а она сказала, что надо подумать, а сейчас за эту идею, во всяком случае, выпить.
Следующее утро, как говорится, в упор не узнавало предыдущего дня: сосредоточенность, деловитость, четкое расписание. Английские товарищи опять взялись за свое, но на фоне двух интервью, которые одно за другим дал Бродский, серии фотографий в журнал, для которых он, быстро переходя с места на место, позировал, делового письма, написанного на стойке бара под отхлебывание кофе, и нескольких телефонных звонков, они выглядели заурядными бомжами-распаденцами. В полдень ему надлежало представлять русскую поэтессу по случаю выхода книжки ее стихов в Италии. Много лет назад в Ленинграде другая поэтесса, рычавшая на мир, как дикая кошка, говорила, что стихотворение, будучи нарушением сущего, должно восприниматься сущим как преступление, а если нет, то нет и поэзии. Она была талантливая, но главное, она была максималистка, и это делало ее стихи бо́льшими, чем сделал бы один талант. Преступление не преступление – дело вкуса, но что-то в мире должно стать не так, как было, пока в нем не было стихотворения. У этой, переведенной на итальянский, стихотворение не значило н и ч е г о, ничего не происходило, пока слова стекали от первого к последнему, ничего не менялось, когда перелистывалась страница. На мостике перед входом в помещение, отведенное для действа, я сказал, что погуляю, встретимся после, а он, докуривая сигаретку, пробормотал: «Ничё-ничё, у нее можно вытащить строчку-другую», – уговаривая самого себя.
Нет, вчерашний день был повеселей, а если не валять дурака, то вчерашний день – был, а сегодняшнего – не было. Позднее я рассказывал об этом Тане Литвиновой, и она подхватила: «Он о чем-то говорит, о чем угодно, куда-то идет, курит, ест, и я испытываю наслаждение. А потом он вдруг произносит: «Во вторник день рождения у моего друга Октавио Паса», – и взгляд у него на минуту останавливается, и я не понимаю, почему это говорит он, а не кто-то другой». Мировая слава требовала исполнительности в жанре и регламенте, определяемых ведомством по культуре.
Насчет мировой не хочу преувеличивать – как, например, экзальтированная литературная дама, которая на вечере в ленинградском Доме кино рассказывала срывающимся голосом, как она в Америке должна была встретиться с Бродским, но заблудилась, языка не знала и показала заправщице на бензоколонке записку с его адресом, и та сказала: «Вы ищете мистера Бродски?», расцвела в улыбке и по телефону узнала, как к нему проехать. «На случайной, первой попавшейся колонке простая женщина знала его имя!» – интерпретировала дама заурядное «may I help you?». Я, напротив, наблюдал картину некоторой неосведомленности не совсем даже простого народа относительно их звезды. Вечером я вернулся домой к друзьям-американцам, у которых на время остановился в свой первый приезд в Штаты, и хозяин, гарвардский профессор-теолог, поддразнивая меня, сказал: «Я не знал, что у нас поселилась знаменитость: вам звонили…» – и перечислил несколько имен, среди них Бродского. Находившийся тут же его приятель, ориенталист, осведомился, кто такой Бродский. Хозяин объяснил, что прошлого года нобелевский лауреат. «По медицине?» – спросил тот.
Так что речь идет о славе внутри культуры прежде всего литературной и университетской филологической. Но никогда ни у одного из русских поэтов не было и отдаленной тени такой славы и, как следствие ее, такого влияния. Мандельштам и Лермонтов на одном полюсе, Пастернак и Державин на другом и приближенно несравнимы с Бродским по степени влиятельности и общественного значения. Едва ли кому-нибудь приходит в голову объяснять это мерой поэтического дара. Относить все на счет специфики времени также нет оснований: специфика есть, но расположения к стихам нет ни у какого времени. И совсем уже неловко и неприлично искать причины личные – в амбициозности, целенаправленной энергии, политиканстве, беря на роль Макиавелли человека, больше всего на свете любившего соскребать с маминой сковородки прилипшие к ней поджаристые корочки. Похоже, что объяснение кроется столько же внутри явления, сколько, если не больше, вовне.
Прошу прощения за банальность, но человечество разделяется по принципу объяснения миропорядка. Миропорядок нагляден: планеты двигаются по орбитам, зима сменяет лето, растения всходят, цветут и плодоносят, организм переваривает пищу, вдыхает, окисляет, выдыхает. С этим согласны все, но одни считают, что причина миропорядка – Бог, а другие – что люди. Если Бог, то надо постараться Ему хотя бы поклоняться, или, напротив, бунтовать, раз уж не получается любить; если люди, то надо постараться первенствовать в уме, знаниях, хитрости, силе.
Если Бог, то придется принять также и то, что́ от Него о Нем и обо всем известно, и главное, что́ есть не-Бог, противо-Бог, и, стало быть, отдать себе отчет в, если не готовиться к, борьбе сопутствующего тому плохого с сопутствующим Богу хорошим. Бродский же и начал с того, что в мире идет борьба не плохого с хорошим, а плохого с худшим, и до конца это утверждал. А это значит, что Бог есть, но отошедший от дел, отдавший вселенную Своему противнику, то есть, что Его как Такового, как Бога, если говорить честно, также и нет. Такая доктрина устраивает и поклонников Бога, потому что не отбирает у них, по их понятиям, главного, а также вызывает сочувствие к доктринеру, лишенному полноты Божества, открытой им, и от этого мучающегося; но куда больше вдохновляет и ставящих на человека, обогащая их Богом, пусть в редуцированном виде, – то есть еще и лучше, что в редуцированном. Конечно, не Бродский один это исповедовал, но мало кто так последовательно и никто с таким талантом.
(Эта позиция, кстати сказать, тоже сближала его с Рейном, не только прошлое. У Рейна выработалось проще, легкомысленнее и потому, в определенном смысле, привлекательнее: ладно, я плохой, низкий, но и ты такой же, и все – подлецы. Уже после смерти Иосифа он убеждал телезрителей, что покойник был чемпион эгоизма, не любил никого, включая самых близких, и, вообще, однажды сказал ему, что «недостаток эгоизма свидетельствует о недостатке одаренности». Может, и сказал, но в каком контексте? Что это неправда – доказательств уйма. Что это жизненная и творческая позиция Рейна – это да, это правда: допускаю, что что-то похожее запустил он в очередной раз в какую-то их встречу, а Бродский в излюбленной своей манере довел до максимы. Так или иначе, между ними действительно было кое-что специфически общее, больше, чем, скажем, со мной: и в психологической закалке, и в неотделимом от эгоизма нежалении себя, в способности, даже готовности, переступить через самую дорогую привязанность, и в отсутствии жалостливости к другим. И судьба – когда невеста Бродского ушла к Бобышеву, а через несколько лет я, после развода Рейна, женился на бывшей его жене – распределила нас четверых попарно: меня и Бобышева – в «предатели», их – в тех, кого «предали». Этого никто из нас не забывал.)
Формула «не плохое с хорошим, а плохое с худшим» и сама по себе, в отрыве от корней – хлесткая, легко усваиваемая, отвечающая наблюдаемой картине мира и потому импонирует большинству: «божественный цинизм». Но действенна она все-таки, только если борьбы плохого с хорошим действительно не существует, закончилась на нас, а для кого не закончилась, те – старые галоши, выморочное племя. И тут был камень преткновения в наших отношениях все последние семь лет, а заочно началось раньше. Он встретил в Лондоне нашего общего друга, стал узнавать, переписывается ли тот со мной и чем я дышу; спросил c подначкой: «Кто у него теперь главный?» Тот тона не поддержал, ответил с ударением: «Серафим Саровский». Разговор происходил через несколько дней после смерти Элвиса Пресли, который когда-то и нас побудоражил, Элвис-пелвис, биг бэм бум, тутти-фрутти. И Иосиф тут же купил большую открытку с его портретом и на ней написал мне, используя две строчки знаменитого элвисовского хита (что-то вроде «рок-н-ролл вразнос, ты лишь гончий пес»), стихи, не то чтобы примерно благочестивые, начинающиеся: «Дорогой Анатолий Генрихович, посмотрите, кто умер!» – про то, как Пресли встречается с Серафимом Саровским и что́ они друг другу говорят. (Официальных «Анатолия Генриховича» и «Иосифа Александровича» мы выдавали один другому с младых лет, исключительно чтобы оттенить эдакой куртуазностью окружающий ее лексикон – особенно солдатский или, наоборот, приподнятый.) Конец открытки был:
Just rockin’ all the while and roll, just rockin’ all the while and roll,
You ain’t nothing but a hound-dog, так что лай, как все!
Элвис говорит Серафиму – ну, я пошёл,
Саледующая сатанция Димитровское шоссе.
(И подпись: «Votre cильно СкуCharlie».) Дмитровское шоссе – улица, на которой я живу: не поручусь, однако, что «а» в «сатанции» вставлено только для ритма и стилизации, а не и с поддразнивающим смыслом. Стишки полушуточные, но с месседжем: вот так! а у вас как? И еще в нескольких случаях тему задевал.
Когда в Нью-Йорке в первый день мы вышли из дому, он сказал: «Сейчас покажу вам кое-что, про что вы только читали», – и по карточке получил деньги из уличного банкомата. Когда пачка долларов поползла из стены, прибавил, ухмыляясь: «Силой молитвы – если объяснять на понятном вам языке». И заговорил. Зачем я крестился? Зачем в церковь пошел? Бог, вера, религия – все это так, но «господи-исусе» зачем хором? И с кем хором-то: кто они мне, тутти-фрутти?
Я отвечал примитивно, как оно и было на самом деле: что, если бы обладал бесконечно бо́льшим, чем мой, умом и величайшей гениальностью и бесконечно бо́льшим сердцем и изобретал бы этим умом и гением и желал бы этим сердцем своего бога, то в самом лучшем случае, в пределе моих мыслей и желаний это оказался бы в аккурат Иисус. И когда оказалось, что именно Он является богом и других, многих, «всех», Он не стал от этого менее моим личным, «собственным».
Но дает ли это что-нибудь поэзии? А точнее, дает ли это мне силу сделать метафизический рывок, тот метафизический прорыв, который поэзия отмечает как новое достижение? Я не знал, что отвечать. Уже после моего отъезда общие друзья попросили его написать послесловие к книжке моих стихов. Первая книжка через 33 года после написания первого стихотворения, и смех и грех! Сто страниц, по одному-два стихотворения за каждый год: по замыслу – для лучшего представительства. Ты двадцатилетний и тут же ты пятидесятилетний, противоестественное соитие. И отцежено-то – пятидесятилетним, sub specie moralitatis… Голос Бродского в послесловии как будто немножко сдавлен. Он написал, что стихи раскачиваются, как маятник, между импульсом поэтическим и импульсом религиозным, тик-так, нервный тик вдохновения и убежденное «так!» веры. Еще он написал, что автор знает этикет разговора с Богом, – это ответ на мое предисловие к его книжке «Остановка в пустыне», написанное в 60-х: я там маханул что-то вроде, что с небесами он ведет себя безукоризненно.
В каждый мой приезд он снова и снова заговаривал об этом, почти теми же словами, что в первый раз, и я почти теми же, что в первый раз, ему отвечал. Он нападал, подтрунивал, иронизировал, кощунствовал, как будто хотел, чтобы я или признался, что и сам не до конца уверен, или сделал какое-то откровение, которое поколебало бы его уверенность. Дразнил: «Ну, всё по-прежнему, «помилуй-мя-боже»?» – или моей жене при мне: «Ты-то умная, ты-то чего в церковь ходишь?». Каждый год он писал Рождественские стихи, написал «Сретенье», то есть его Иисус родился, рождался каждый год с такой достоверностью и в облаке такой его любви, какие редко-редко встретишь у христиан, но из сорока первых дней, заключившихся принесением в Храм, никогда не вышел – из дней Ветхого Завета, иначе говоря. И всегда Он у него был – а правильнее сказать: и навсегда он Его оставлял – в пустыне, и всегда – молчал. Причем в пустыне не естественно равноправной со, скажем, морем, лесом или человеческим поселением, а такой, в которой когда-то могли существовать Египет, Палестина, верблюды, оазисы, бедуины, путешественники, ныне подчистую выметенные, как сор: человечество и все его вещи, – после каковой тотальной чистки землю присыпали песком, а ночное небо звездами. Здесь, похоже, и заключается великая разница между позицией христианства и позицией христианской культуры, как ее выразил пронзительно Бродский: оно говорит о том, что дадено, он – о том, что отнято. Напрасно, напрасно по этим стихам добросердечные батюшки выводят из него христианского поэта: его младенец – равно как и мать, и муж матери – отчужден от мира; окружающий их холод не зимний, а межпланетный, вселенский; его Христос – «Большой Человек», из самых великих, огромней всех, из пустыни перешедший в космос, и, возможно, даже в другую галактику. Сверх-сверхчеловек. Не Бог и не человек.
Года за два до смерти ему, по-моему, это наше бодание надоело. Понял, что ничего нового от меня не услышит и что при всей неуступчивости моей позиции я поступаю и сужу, как иные прочие, да и сама неуступчивость в большой мере дисциплинирована, рутинна, в общем, скучна. С какой стати тратить время на то, о чем сама мысль раздражает? Он по-прежнему был безотказен, когда от него что-то требовалось, по-прежнему готов был часами читать по телефону и слушать стихи, и при встречах его участие и теплота и предупредительность могли по-прежнему, как сквозняком, прохватить наш разговор, но именно что по-прежнему, по старой, так сказать, памяти. Того, что одно было для каждого существенно, нового – не разделяли и не касались.
Осенью 94-го года был день рождения Ларисы Каплан – нежной, прелестной, всеми любимой. Посередине «Русского самовара» ледяной лебедь, подарок Романа, истекал невидимой влагой; гостей собралось человек семьдесят, полный ресторан. Бродский сидел за соседним столом, обернулся, сказал: «А я написал опус про Марка Аврелия». Я сказал: «А я читал», – незадолго до того Роман дал мне журнальную верстку. – «И как?» – «Очень хорошо». Я не хотел обсуждать эссе: вокруг были люди, и они слушали. «Я читал» и «очень хорошо» в нашей, за сорок почти лет сложившейся системе языка значило «не будем сейчас об этом говорить». Но он публичности не боялся и на мои условия не согласился. Сказал: «Да знаю я, чем он не по вам: что он христиан это самое, да? И правильно делал!» Получалось, что надо отвечать. Я сказал: «Не он, а вы. Не по мне то, как вы про это написали». Все-таки это довольно существенно в Марке Аврелии, что он гнал христиан, – с чего бы при стоической-то всетерпимости? В тридцатистраничном же эссе об этом был один абзац. Да хоть бы и его не было, не возражаю, в конце концов получается у тебя Аврелий Аврелием без этого – и ладно. Но абзац был про то, что не он, а Адриан гонения начинал, не ему и кончать, что христиане отказывались служить в армии и это ее разлагало, а главное, что ему с его мужественной философией претила торговля христиан с Богом: мы будем себя хорошо вести, а уж нам за это, пожалуйста, райские кущи.
– Да, – сказал Бродский, и уже на повышенных тонах, – и меня тоже от этого тошнит. Жизнь не рынок, Бог не продавец, покорность не товар, и на смерти все равно никому ничего не выручить.
– Это из «Блокнота атеиста», только поярче, – сказал я. – К христианству это не имеет никакого отношения, не говоря уже к Христу.
– А что вы, кстати сказать, так Христом козыряете? Были люди и покрупней Христа.
– Не Марк ли Аврелий, первый из плейбоев, как вы его изобразили?
– Ого, старые коготки! Нет, не Аурелиус. А хотя бы Платон. А хотя бы Моцарт.
Дней за десять до его смерти мы говорили по телефону. Он совсем плохо себя чувствовал. Я улетал в Москву и в конце разговора, на прощанье, сказал: «Мы за вас молимся плохо, зато стараемся взять регулярностью». «Мы» в данном случае было шуточное «я» – как он сам любил про себя говорить, когда «я» было неловко. Он немедленно ответил: «В следующий раз передавайте привет».
Когда он умер, я долго не мог прочесть обычную молитву за упокой. Упокой, Господи, его душу? Но она не устала и до последнего момента была деятельна так интенсивно, как никакая другая, потому что деятельность была формой ее существования; сама созерцательность ее была деятельной. А без «упокой» лишалось смысла и «помяни». Прости ему всякое согрешение? Наверное, у него был страх смерти – очень похожий на страх ребенка, когда мимо провозят громыхающую тележку с пустым еще гробом. Наверное, он боялся смерти – а кто же ее не боится, кроме тех, кто не хочет или не может думать о ней так, как думают о ней те, кто боится? Но, думая о ней и страшась ее, он жил с ясным и непоколебимо мужественным сознанием ответственности за свою позицию касательно того света и воздаяния, с таким храбрым, какого я тоже не встречал ни у кого, – какое мне не снилось. Просить Бога простить его грехи почему-то значило для меня – в первый раз в жизни – прежде обвинить его в грехах, а я был абсолютно не способен на это, как не мог я, никогда не носивший оружия, обвинять того, кто в открытом бою рубился с противником, в убийстве. Я был меньше этого, не мне было вмешиваться, даже униженно, просительно, в его отношения с Богом. И о Царствии Небесном не смел я упоминать, потому что не знал, хотел ли он такого Царствия Небесного, – и допускаю, что не хотел.
Совсем незадолго до смерти он написал «Aere perennius», свой «Памятник», по Горацию. Про «твердую вещь» крепче меди, про «камень-кость, гвоздь моей красы», про то, что остается от дроби aere/perennius после сокращения числителя и знаменателя на общий множитель ere. Его тошнило от любой приблизительности, и он называл жизнью не то, когда человек не умер, а то, когда он живет. А что он живет, доказывается только тем, что у него работает голова и язык, и руки-ноги, и желудок с или без «рефлюкс эзофагит», и, главное, penis – жизнь, порождающая жизнь. И как жизнь ничего внушительнее не имеет, хотя публично и не кажет, так и словесность, во всяком случае русская, не содержит в своем лексиконе, хотя и не произносит, ничего внушительнее этого словца, этого нежного свиста и звериного рыка, во всех, какие сложились и складываются, сочетаниях с другими словами. И настоящим стихам не следует опасаться, или чураться сопоставления с ним, а следует даже время от времени проверять, выдерживают ли они такое сопоставление. Но приходит, очень быстро, время, когда жизнь уходит. Оно приходит, а она уходит: «твердая вещь» всё, не работает, бездействует, а дни продолжают идти – «лишние дни», «чужие ей». И ты это знаешь еще до их прихода, задолго до. Можно покориться, сказать привычно «что ж, все там будем». А можно со всей болью безнадежности, которую стоически прячешь, послать их на эту самую твердую вещь, пока и она, и, теперь уже главное, язык еще действуют.
Можно предложить ее им как «памятник» словесности – для сравнения с их собственной: «А тот камень-кость, гвоздь моей красы, он скучает по вам с мезозоя, псы». Я однажды спросил, не перенес ли он когда-нибудь стилистического влияния Генри Миллера и конкретно «Тропика Рака» – по близости, если не сходству, мировоззрений. Он стал отрицать само это предположение с жаром, родственным той ярости, с какой в молодости набросился на меня за достаточно невинное упоминание о внешнем сходстве с ним младенца, родившегося у нашей общей приятельницы. «… он скучает по вам с мезозоя, псы. От него в веках борозда длинней, чем у вас с вечной жизнью с кадилом в ней»… Так хотел он моего Царствия Небесного или нет?
Потом постепенно, как всегда бывает с умершим человеком, которого знаешь долго, начала подравниваться к огромности смерти его жизнь; в ряд с событием смерти – подстраиваться события жизни, сперва значительные, дальше более мелкие. Часто стала всплывать одна белая ночь, пасмурная, так что было все-таки темновато, мы шли во втором часу мимо Куйбышевской больницы, там решетка делает полукруг и внутри его стоят скамейки, и кто-то со скамейки сделал ему подножку, он споткнулся и повалился, до конца не упал, но пришлось несколько шагов внаклонку пробежать и зацепить рукой за асфальт, а со скамейки раздался хохот. Мы обернулись, и сразу смех перешел в угрожающее урчание – там сидела шпана, «фиксатая», пьяная, всё как полагается. Он отвернулся, я тоже, мы сделали вид, средний между «что ж, бывает» и «ничего не случилось», пошли дальше. Рука была ободрана, я дал ему носовой платок, а может, он вынул собственный, кто теперь разберет? И так мне его жалко было, и так я его любил, и не вспоминал потом про это, а вспомнил – и опять так жалко, так люблю: хоть бы мне тогда поставили подножку! И про него того я, рта не открывая, вдруг сказал: «Помяни, Господи», – и душа его легко встала между душами умерших. Опять было в их множестве величие, бесконечно превосходящее величину любой из них, и оно сомкнулось над ним.
Стась Красовицкий
В 20 лет и еще шесть лет после того К.С. был поэтом, и пора, наконец, признаться, что для меня его стихи всю жизнь были поэзией, лучшей, чем у кого бы то ни было из самых любимых и почитаемых мной современников, с которыми я был близок, включая Ахматову и Бродского. Любить я часто любил больше их поэзию, но знал, что его лучше. Бродский говорил, что за полтора часа разговора с К.С., последовавшего после предварительного чтения доброй сотни рукописей его стихотворений, которые тогда ходили по рукам, он «все понял», усвоил и превзошел. Думаю, что не всё. Бродский безусловно повысил уровень поэзии для читателей званых, но никак не для избранных. У него есть стихи первоклассные, и он поэт первоклассный, лучше хороших и не хуже лучших, и, как он постоянно настаивал, он, в самом деле, поэт языка – но К.С. поэт поэзии. Ахматовские стихи, погибни мировая поэзия, могли бы одни за нее представительствовать, но в них еще так важна судьба и история; у Бродского – еще язык как идея и, вообще, идея; у Бобышева – еще представление о поэзии, у Михаила Еремина – еще знания; а у К.С., кроме поэзии, ничего.
В его стихах хлебниковское пожирание словаря, направленное на быстрейшее достижение нужного слова, cошлось с пленительной неозабоченностью ничем Кузмина и оккультно-эзотерическим холодком обэриутов – это если очень приблизительно и неуклюже то, как он писал, характеризовать. Ахматова, помимо поэзии, это история литературы, одна из главных ее линий, тогда как Анненский – вне. Бродский – целый букет линий, почему о нем так легко и азартно пишут; К.С. – вне. Потому что у поэзии нет истории. В принципе и К.С. можно вставить внутрь, но отделив скорлупки от ядрышек и написав диссертацию о скорлупках.
В 26 лет он отказался от всех написанных им стихов, решительно попросил друзей, имевших списки, их уничтожить и исчез из поля зрения. Женился, переехал жить из Москвы в область. Родилось шестеро детей, он один зарабатывал на семью: с дипломом института иностранных языков – техническими переводами с английского. Но прежде всего того – крестился. Тут к нашим услугам автоматически подается клише о крестившейся молодежи тех лет: «Знаем: опрощение, многочадие, домострой, запой, разбитое корыто». Даже если так, то это корыто где-то под забором у Бога, а не Центрального дома литераторов. А тут к тому же и совсем не так, потому что если из дому уходит, чтобы не возвратиться, старичок и пропадает, то это скучное для других событие его личной жизни наполняется необыкновенным содержанием, когда старичка зовут Александр I или Лев Толстой. К.С. и умнее нас, и талантливее, но сам о том, что с ним случилось и как развивалось, молчит, так с какой стати нам, которые свели свою жизнь к корытам лакированным, сводить его к удобной себе схеме?
Друзья были обескуражены, но он пользовался у них не только огромной любовью, а и огромным авторитетом, и они, кто в самом деле, кто на словах, сожгли его стихи, и никогда на эту тему с ним не заговаривали. За глаза – постоянно. Леня Чертков, сам замечательный поэт, почему и его понимавший, как мало кто, еще лет через десять после аутодафе, с жаром и негодованием повествовал, как в одной компании он пересказывал фразу К.С. о Хемингуэе, острую и ироническую, на что один из присутствующих отозвался: «А кто такой этот К.С., чтобы судить о Хемингуэе?» «И абсолютно правильно! – восклицал Чертков. – Как пишут в энциклопедии, “свою последнюю вещь такой-то сочинил в таком-то году, после чего прожил еще тридцать лет, не представляющих специального интереса”». Когда ему исполнилось сорок, и друзья юности устроили день рождения, пригласив его, и то, как они на него смотрели и что говорили и как он на них смотрел и что отвечал, седеющий, с бородкой, в морщинках, бесконечно далекий от того читающего без нажима «отражаясь в собственном ботинке, я стою на грани тротуара, дождь, моя нога в суглинке, как царица черная Тамара» – пленительным гибким гобойным голосом молодого человека, которого они когда-то обожали, но для них тот же и своей тождественностью делающий и их, седеющих, лысеющих, потерявших половину зубов, теми же, – это было так щемяще, что даже после тоста самой несентиментальной гостьи: «Меняю одного сорокалетнего К.С. на двух двадцатилетних», – чара не исчезла.
Мы с ним ровесники, познакомились в возрасте 20 лет, мельком. С тех пор не виделись полтора десятилетия. Встретились как знавшие друг друга «тогда» – мы с ним поверхностно, а с моей женой он в те годы дружил. Забавно, что в таких случаях «ты куда пропал?» говорят люди, пропадающие в клубах, компаниях, симпозиумах, секциях «по интересам». Стали видеться – у общих знакомых. Наконец он пришел в гости. Как потом выяснилось, в середине Великого поста – обед же у нас был исключительно мясной. В какую-то минуту жена спохватилась: «А ты мясо ешь?» – «Ем, ем». Недавно некто, вспоминая такой же эпизод с отцом Александром Менем, объяснял эту вольность священника не снисходительностью к его, хозяина, серости или невнимательности, а исключительной свободой, по мнению хозяина, отвязывавшей того от мелочности общепринятых правил. К.С. постился очень строго, и тогда, и всегда, но все съел, сказал, что очень вкусно, только от добавки отказался. О христианстве не говорили, разве что попутно с другими темами, но когда я спросил не без вызова в интонации, нужна ли Богу такая формальность, как наше хождение в церковь, он ответил, как-то раздумчиво, словно бы между прочим, словно бы незаинтересованно во мне: «В церковь ходить… – надо», – и так же, с какой-то даже улыбочкой, ничего не доказывая и не объясняя, в ответ на мое не скрывавшее протеста вопрошание о сомнительной необходимости крещения – «Креститься… – надо». Мол, вот, размышляя – может, и не надо, а ничего не попишешь: надо.
Но до того мы уже побывали у него дома. Поселок вытянулся по улице, параллельной железной дороге: стандартные деревянные двухэтажные дома, построенные с расчетом на одну семью, но заселенные двумя-тремя. По ту сторону дороги лес, а сам поселок на плеши, участки тесные. Детей тогда было еще пятеро: белоголовые, живые, артистичные, воспитанные. Младший сидел на руках у мамы, остальные держались ближе к двери, стеснялись, выкатывались за дверь, где, судя по хохоту, не стеснялись. На столе лежала книжка о русском флоте, с картинками. К.С. сказал: «Вчера читали про Гангутское сражение», – как бы рекомендуя. Старший мальчик вдруг выпалил: «Абордирование было столь жестоко чинено…», – и все в восторге и ужасе выскочили из комнаты. Через минуту появилась девочка и, не доходя до середины комнаты, тоже оттараторила про абордирование, и опять все, чуть слышно повизгивая, скрылись. И следующая, и еще одна, и опять старший, и еще, всё ускоряя представление. И ни на миллиметр не укорачивая дистанции, отмеренной уважением к гостям.
Нищета была классическая, почти оперная. Дети ходили аккуратно одетые, в застиранном и заштопанном, куча таких же платьишек, рубашечек, чулочек громоздилась в углу, стоптанных сапожков – в коридоре. Мы сидели на ломаных стульях, их не хватало, между ними клали доски. Но это – на глаз нового человека: из семьи никто этого не замечал, поглощенный собственной и общей жизнерадостностью, неподдельной и соревновательной. Во всем, что делалось и говорилось, был растворен свет столь же вещественный, как тот, который превращает бумагу в фотографию. Ты ощущал физическое его воздействие, менявшее твой химический состав.
Мы подружились, близко сошлись. Мысль о крещении, сохраняя прежние свои враждебность и притягательность, приобретала конкретность, становилась более обычной. В самом акте вырисовывались какие-то черты, за которыми вставало содержание и понимаемое, и таинственное. Теперь предприятие стало выглядеть не только практически осуществимым, а и чуть ли не само собой разумеющимся. К.С. переговорил со священником церкви, в которую ходил, вернее ездил несколько остановок на поезде, в деревне Братовщина. Назначили день в конце марта. Я нервничал, решение креститься все еще соседствовало с глубинным нежеланием, с вытесняемым страхом. Все, что я видел, захаживая в храмы, было, нельзя сказать, что чужое, а когда-то, давным-давно, не то при князе Владимире, не то при Христе Иисусе, не то при Аврааме раз навсегда пропитанное чужим, онтологически чужим. Плюс я не знал, куда ступить, как повернуться: в 37 лет это неудобство угнетающее.
Когда мы шли от станции к деревне через беззащитное перед пронизывающим ветром снежное поле, К.С. проговорил: «Ты знать и не должен, тебе скажут, это не твое дело». Когда вошли в деревню, он показал на одну избу и сказал: «Единственная без телевизорной антенны. Почему я и понял, что священника». Храм был закрыт на висячий замок – старушка, высунувшаяся из дощатого домишки, сказала, что батюшку вызвали на требу и он велел приезжать через неделю. Кладбище вокруг церкви в покосившихся крестах могилок с остатками нищих похоронных декораций и низкое серое небо настроения не поднимали.
Священника звали отец Андрей, он был строг, немногословен, и когда, проделав через неделю тот же путь, мы стояли в пустой церкви в ожидании начала, мы и еще несколько бабок с младенцем, а та самая старушка из домика готовила купель, добавляя к холодной воде горячую из чайника, и сказала раз, два и три, что, вот, батюшка, вы говорили, что двое будут, а второго-то младенчика, видать, не принесли, он отрезал: «Делай, как сказано», – не объясняя. И я вспомнил, как в поэме Бродского Исаак спрашивает отца, а где же агнец, которого принести в жертву, и Авраам отвечает: «Господь, он сам усмотрит». Сперва вспомнил, как у Бродского, а потом – «вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?». «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой». Младенца окрестили во имя святого князя Олега, меня – во имя Анатолия, который осудил на смерть Георгия Победоносца, но, увидев, как он себя ведет, исповедал христианство и был замучен. День оказался Алексия, «человека Божия», который нищим прожил двадцать лет в шалаше у ворот своего отца, римского сенатора, неузнанный.
В официальном государственном придушивании церкви и тех, кто в ее дверь входит, сначала священников, а потом всех, всегда было личное желание, внутренний интерес исполнителей. Вроде бы: вызвал, застращал, прикрыл, навредил, но сверх инструкции еще унизил, «поучил», только что за бороду не потаскал. Без паспорта не крестить, не венчать, не отпевать. Через паспорт – сообщить по месту службы, дернуть в партком, устроить собрание, лишить того-то, сего-то, а то и работы самой. Почему дети не пионеры? Не даете нормально развиваться, держите во мраке церковного обскурантизма? У нас свобода вероисповедания, но свободы калечить детей у нас нет. Дети под защитой государства, и оно вправе лишить вас родительских прав!.. И любуются, как ты извиваешься. А что им стоит: возьмут и лишат, и отправят твоего ребенка в интернат. С сердечком, разрывающимся от ужаса, твоего сынка или доченьку.
Объясняться ходили обычно женщины, им по их темноте, житью инстинктом и, вообще, второразрядности допускалось больше поблажек, и даже на крестик на шее могли рукой махнуть: чего с бабы взять? «Вот это вот, по-вашему, кто?» – показывая на портрет Ленина на стене, грозно спрашивали у жены К. С. Она отвечала: «Но ведь не Бог», – и рукой, все еще указующей на вождя, на нее махали. «Что вы этому такое значение придаете? – спрашивали у моей жены доброжелательно и доверительно. – Пусть дети ходят в церковь, а галстук носят». Она говорила: «А вам все равно, что пионерский галстук они повесят на шею, на которой уже висит крестик? И салют отдадут той же рукой, которой крестят лоб?» И ей отвечали, уже сухо: «Ну, смотрите сами». И она, и они понимали, какая у чего степень важности: что невозможно ни салют отдать той же рукой, которой крестишься, ни перекреститься той, которой отдал салют.
Что еще делало из этой полуборьбы-полувозни больше борьбу, чем возню, это то, что все такие женщины, как сказал поэт, числа камен не превышали. Кроме семьи К.С., из близких была еще одна многодетная, скажем высокопарно, исповедавшая перед школьным начальством свою веру этим самым антипионерством. Остальные или честно признавались, что боятся – за детей, в первую очередь; или рассказывали, как ничтожна в своей мерзости эта нашейная «красная тряпка» для их детей, как исчезает она из их видимости в сиянии их изумительной веры. Вторых попадалось почаще, некоторые доходили до таких пируэтов, как то, что пионерами быть лучше, потому что из них можно выйти, и это дает детям больше свободы; или что кто отдал детей в пионеры, кто не отдал – главное ни тем, ни этим друг перед другом не гордиться. Чем было гордиться тому, кто отдал, оставим, как говорится, на сладкое, но что у неотдавших одиночество было настоящее и бросающееся в глаза, это надо было глотать каждый день по несколько раз, как хинин перед едой. Священники тут не помогали, потому что сами, чтобы «не дразнить собак», то есть избежать еще одной неприятности, меньшей, на их взгляд, чем многие прочие, их ожидающие, шли на пионерство, а некоторые и на комсомол. Мы их понимали и сочувствовали. Сочувствовать мы не могли митрополиту, который в центральной газете писал, что дети должны жить, как все советские дети, а когда вырастут, тогда сознательно и выберут, каким путем идти. Одиночество было настоящее, и оно замечательно, как по каким-то древним образцам, закаляло.
Так что в сопротивлении пионерству, самом на тот период вещественном, наглядном и существенном из сопротивлений, которые навязывало христианство члену противохристианского общества и это общество христианству, жизнь получала долгожданное оформление. Простое посещение церкви тоже было противостоянием, особенно в субботний вечер, когда общество расслабляется после рабочей недели, и в воскресное утро, когда отсыпается. Но, угрожающе на это урча, тяпнуть решались все-таки в особых случаях, слишком мозолящих глаза. А пионерство была неприятность живая, болезненная и серьезная: твой ребенок стоял на школьной линейке без пионерского галстука один в двухсотголовой стае, которой не только разрешалось, а и поощрялось его так-этак потравить. А в это время в издательстве тебе вдруг прекращали давать переводы – твой не сладкий, но все-таки хлеб, – и когда ты шел в другое, спрашивали: «А с тем вы почему перестали сотрудничать?» И вот это склубление туч над головой собирало разрозненные куски твоей жизни в какое-то подобие единого организма.
И еще. С самого начала занятие искусством, конкретно, неотвязной моей поэзией, вошло для меня в конфликт с верой и, шире, с христианством. Искусство взаимодействует с чувственной стороной натуры, забирая те же душевные силы, в которых нуждается вера. Демонская компонента искусства, одержимость им в момент вдохновения, сила его притяжения и во время пауз – не подлежат обсуждению, сколько бы мы ни кокетничали незнанием того, ангел или демон диктует нам слова и мелодию, сколько бы ни внушали себе и окружающим, что муза ни то и ни другое. К.С. сжег свои стихи, как и Гоголь свою «поэму», не из «религиозного фанатизма», которым умеренно и уравновешенно верующие объясняют неумеренность и неуравновешенность подлинной веры, а из самого трезвого понимания природы искусства. «Твои стихи не лучше моих, а от своих я отказался», – К.С. писал Бобышеву в ответ на настойчивое желание того обсуждать поэзию. Во мне не было такой последовательности и решимости, я от своих не отказался, но в продолжение лет десяти встречал приход каждого нового стихотворения, как, скажем, приход известия, на которое нельзя не отозваться письмом, требующим крайнего душевного напряжения. Я записывал его в тетрадь, тем дело и кончалось.
Думаю, что «изгойство» – наилучшее определение человеческого существования вообще. Изгойство – судьба человека. Как ни объединяйся в группы, как ни держись «своих», рано или поздно ты будешь изгнан из общества – потому что на миллиметр отклонился, потому что заболел, не приносишь прежней пользы, постарел, потому что умер. Не объединяясь и не держась – тем более. Поэт – изгой; это по определению, это общее место. К.С. стал священником, стал писать статьи о христианстве биологическом, корпоративном, патриотическом, о подобии контуров острова Валаама и Великобритании, против порнографии, против демократии, благословлял одних, анафемствовал других. Для меня иные его вещи так же головокружительны, как стихи, иные читать или слушать невыносимо: косные, агрессивные, скучные. Но слагаемые судьбы́, как сорок, и тридцать, и двадцать лет тому назад, полны неизменного очарования. Единственный, он ни от чего никогда не получил никакой прибыли, ни прихода – ни дохода, ни имени, ни авторитета, которым бы не обладал раньше, ни «паствы». Пенсия, тот же дом, та же комната, отдельно живущие дети. Та же безукоризненность вкуса в искусстве, та же легкая походка. Содержание его жизни после отказа от поэзии – христианство. Но метод жизни – она, поэзия.
Изгой – это поэт среди литературы, это не-член секции поэзии в компании ее председателей и секретарей. Это не еврей среди евреев, не русский среди русских – презренный «выкрест» для тех и других. Для него нет утешения, кроме единственного – что был уже до него один такой, и это был Бог, Он Самый.
середина 1990-х
Рассказы о Анне Ахматовой
…если попадется на глаза или на мысль знакомый человек и мы припоминаем его забытое имя, то всякое другое припоминаемое имя не вяжется, потому что нам непривычно мыслить его в сочетании с этим человеком, и дотоле отвергается, пока не представится настоящее имя, при появлении которого мы тотчас замечаем привычную связь представлений и успокаиваемся.
Блаженный Августин. Исповедь. Х, 19Мне приснился сон: белый, высокий, ленинградский потолок надо мной мгновенно набухает кровью, и алый ее поток обрушивается на меня. Через несколько часов я встретился с Ахматовой: память о сновидении была неотвязчива, я рассказал его.
– Нехудо, – отозвалась она. – Вообще, самое скучное на свете – чужие сны и чужой блуд. Но вы заслужили. Мой сон я видела в ночь на первое октября.
После мировой катастрофы я, одна-одинешенька, стою на земле, на слякоти, на грязи, скольжу, не могу удержаться на ногах, почву размывает. И откуда-то сверху, расширяясь по мере приближенья и поэтому все более мне угрожая, низвергается поток, в который соединились все великие реки мира: Нил, Ганг, Волга, Миссисипи… Только этого не хватало.
* * *
Я познакомился с Ахматовой осенью 1959-го, мне исполнилось 23 года. Были общие знакомые, повод нашелся. К тому времени я уже несколько лет писал стихи, мне хотелось, чтобы Ахматова услышала их. И мне хотелось, чтобы они ей понравились.
Она жила тогда в Ленинграде на улице Красной Конницы, прежде Кавалергардской, дом 3, квартира 4. Это район Смольного, бывшая Рождественская часть. «Если такие живут на Четвертой Рождественской люди, странник, ответствуй, молю, кто же живет на Восьмой!» – так дурачился Мандельштам, обращаясь к Шилейке, впоследствии мужу Ахматовой. Недалеко, на Таврической, «башня» Вячеслава Иванова, его квартира, где она бывала в молодости. Недалеко Таврический сад, во вьюжных аллеях прячущий призраков Тринадцатого года. Недалеко Шпалерная, ныне улица Воинова, с тюрьмой, знаменитой многими знаменитыми арестантами, в разное время заключавшей в себе первого ее мужа, ее сына, последнего ее мужа… В Ленинграде на всяком месте уже что-то было, кто-то жил, с кем-то встречался. «Помните наши разговоры в феврале 14 года на Кавалергардской?» – писал своей – и ахматовской – приятельнице Николай Владимирович Недоброво, человек, сыгравший исключительную роль в поэтической, и личной, судьбе Ахматовой. Когда мне случалось проезжать с ней по городу и Ахматова указывала на какой-нибудь дом, и на другой, и на следующий, она обрывала себя: «Велите мне замолчать, я превращаюсь в наемного гида». Она прожила долгую жизнь и видела ничем не связанные между собою события, происходившие в одном и том же месте, и видела одну и ту же пьесу, идущую в разных декорациях. К тому же она еще и притягивала к себе самые невероятные совпадения, самых неожиданных двойников. Повторение события, отражение его в новом зеркале проявляло его по-новому. Если не случалась встреча, случалась невстреча, обе были для нее одинаково реальны и заколдованны, вещественны и бесплотны. Дни ее жизни, помимо слов, дел, минут, из которых они состояли, были еще годовщинами, юбилеями – десятилетними, четвертьвековыми, полувековыми. Все было – «как тогда», когда-то. Время, в которое я ее узнал и до конца ее жизни, было время пятидесятилетних дат: начала публикации стихов, вступления в «Цех поэтов», венчания с Гумилевым, рождения сына, выхода в свет «Вечера», «Четок», «Белой стаи». Соответственно вело себя Пространство, прихотливо подбирая для нее дома, улицы. В раннем детстве она жила в Царском Селе, на Широкой; местом последней ее прописки была улица Ленина в Ленинграде, бывшая Широкая. Больше тридцати лет провела она в стенах Фонтанного дома, дворца графов Шереметевых; гроб с ее телом стоял в Москве в морге института Склифосовского, бывшего странноприимного шереметевского дома, с тем же гербом и тем же девизом «Deus conservat omnia». Бог сохраняет все.
Женщина, открывшая мне дверь, и гостья, в эту минуту уходившая от нее, и седой улыбающийся господин, встретившийся в коридоре, и девушка, промелькнувшая в глубине квартиры, показались мне необыкновенными, необыкновенной внешности, носящей печать и тайну причастности к ее жизни. А сама она была ошеломительно – скажу неловкое, но наиболее подходящее слово – грандиозна, неприступна, далека от всего, что рядом, от людей, от мира, безмолвна, неподвижна. Первое впечатление было, что она выше меня, потом оказалось, что одного со мной роста, может быть чуть пониже. Держалась очень прямо, голову как бы несла, шла медленно и, даже двигаясь, была похожа на скульптуру, массивную, точно вылепленную – мгновениями казалось, высеченную, – классическую и как будто уже виденную как образец скульптуры. И то, что было на ней надето, что-то ветхое и длинное, возможно, шаль или старое кимоно, напоминало легкие тряпки, накинутые в мастерской ваятеля на уже готовую вещь. Много лет спустя это впечатление отчетливо всплыло передо мной, соединившись с записью Ахматовой о Модильяни, считавшем, что женщины, которых стоит лепить и писать, кажутся неуклюжими в платьях.
Она спросила, пишу ли я стихи, и предложила прочесть. В одном стихотворении была строчка: «Как черной рыбой пляшет мой ботинок». Когда я кончил читать, она сказала: «Мы говорили – ботинка» (то есть женского рода). Через несколько лет я читал стихи о Павловске, и там было такое место: «И ходят листья колесом вкруг туфля». Она произнесла: «Мы бы сказали – туфли». Я напомнил про ботинку, что-то сострил насчет моих сапожных просчетов, ей не понравилось.
Женщина, впустившая меня в квартиру, внесла блюдечко, на котором лежала одинокая вареная морковка, неаккуратно очищенная и уже немного подсохлая. Может быть, такова была диета, может быть, просто желание Ахматовой или следствие запущенного хозяйства, но для меня в этой морковке выразилось в ту минуту ее бесконечное равнодушие – к еде, к быту, чуть ли не аскетичность и одновременно ее неухоженность и даже ее бедность.
Я застал ее в сравнительно благополучные годы. Литфонд выделил ей дачу в Комарове, дощатый домик, который она скорее добродушно, чем осуждающе, называла Будкой, как хатку под Одессой, где она родилась. Его и сейчас можно видеть, один из четырех на мысочке между улицами Осипенко и Озерной. Как-то раз она сказала, что нужно быть незаурядным архитектором, чтобы в таком доме устроить только одну жилую комнату. В самом деле: кухонька, комната средних размеров, притом довольно темная, а все остальное – коридоры, веранда, второе крыльцо. Один угол топчана, на котором она спала, был без ножки, туда подкладывались кирпичи. Когда в 1964 году она поехала в Италию получать литературную премию, некоторые носильные вещи пришлось брать взаймы; по возвращении я отнес шерстяной свалявшийся шарф вдове Алексея Толстого. Те, с кем она жила в Ленинграде в одной квартире, Ирина Николаевна Пунина (это она открыла мне дверь), дочь последнего мужа Ахматовой, и Аня Каминская, его внучка, не могли уделить ей достаточно внимания, у них были свои семьи, заботы, дела, а тут требовалась самоотверженность. Нина Антоновна Ольшевская, у которой она чаще всего останавливалась в Москве, Мария Сергеевна Петровых, Ника Николаевна Глен, в разное время дававшие ей пристанище, были самоотверженны, были по-настоящему добры к ней, предупредительны. Однако это были приюты, не свой дом.
Бездомность, неустроенность, скитальчество. Готовность к утратам, пренебрежение к утратам, память о них. Неблагополучие, как бы само собой разумеющееся, не напоказ, но бьющее в глаза. Не культивируемое, не – спутанные волосы, не – намеренное занашивание платья до дыр. Не поддельное – «три месяца уже не дают визу в Париж». Неблагополучие как норма жизни. И сиюминутный счастливый поворот какого-то дела, как вспышка, лишь освещал несчастную общую картину. «Выгодный» перевод, который ей предлагали, означал недели или месяцы утомительной работы, напоминал о семидесятирублевой пенсии. Переезд на лето в Комарово начинался с поисков дальней родственницы, знакомой, приятельницы, которая ухаживала бы за ней, помогала бы ей. Вручение итальянской премии или оксфордской мантии подчеркивало, как она больна, стара. Точно так же ее улыбка, смех, живой монолог, шутка подчеркивали, как скорбно ее лицо, глаза, рот.
В последние годы двое-трое из близких к ней людей очень осторожно, не впрямую, заводили с ней разговор о завещании. Дело заключалось в том, что, когда ее сын Л. Н. Гумилев был в лагере, Ахматова, чтобы после смерти, как она выражалась, «за барахлом не явилось домоуправление», составила завещание в пользу Пуниной. После освобождения сына она сделала запись (в одной из своих тетрадей и на отдельном листе бумаги) об отмене прежнего завещания, что автоматически означало, что ее единственным наследником становится сын. Эта запись, однако, не была заверена нотариусом. Она спросила меня, что я об этом думаю. Я ответил, что, по-моему, она не должна оставлять в каком бы то ни было виде завещания, направленного против сына. Она тотчас взорвалась, закричала о лжедрузьях, о нищей старухе. Через несколько дней опять заговорила на эту тему: сцена повторилась. И еще раз. 29 апреля 1965 года в конце дня она вдруг сказала: «Давайте вызовем такси, поедем в нотариальную контору». Тогда она жила уже на Ленина, контора находилась на Моисеенко, недалеко от Красной Конницы. Оказался очень высокий третий этаж, крутая лестница. Такие подъемы были противопоказаны ее послеинфарктному сердцу, я предложил вернуться и вызвать нотариуса домой на час, когда никого в квартире не будет. Она начала медленно подниматься. В конторе было пусто, кажется, еще один посетитель. Она грузно опустилась на стул. Я попросил нотариуса выйти из-за перегородки. У него оказались обожженные лицо и руки, блестящая натянутая кожа. Ахматова сказала: «Я разрушаю прежнее свое завещание». Он объяснил, что это надо сделать письменно. Она почти простонала: «У меня нет сил много писать». Договорились, что он продиктует, я напишу, а она подпишет. Так и сделали. На лестнице она или я что-то сказали про Диккенса. А когда вышли на улицу, она с тоской произнесла: «О каком наследстве можно говорить? Взять под мышку рисунок Моди и уйти». (Замечу в скобках, что после смерти те, кто не имели на архив Ахматовой никакого права, но в чьих руках он оказался, устроили позорную борьбу за него, состоялось позорное судебное разбирательство, в результате рукописи расползлись по трем разным хранилищам, и при этом неизвестно, сколько и каких разрозненных листков прилипло к чьим рукам.)
Неблагополучие – необходимая компонента судьбы поэта, во всяком случае поэта нового времени. Ахматова считала, что настоящему артисту, да и вообще стоящему человеку, не годится жить в роскоши. «Что это он фотографируется только рядом с дорогими вещами? – заметила она, рассматривая в журнале цветные фотографии Пикассо. – Как банкир». Вернувшись из Англии, она рассказала о встрече с человеком, занимавшим в ее жизни особенное место. Сейчас он жил, по ее словам, в прекрасном замке, окруженном цветниками, слуги, серебро. «Я подумала, что мужчине не следует забираться в золотую клетку». Когда Бродского судили и отправили в ссылку на север, она сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему! Как будто он кого-то нарочно нанял». А на мой вопрос о поэтической судьбе Мандельштама, не заслонена ли она гражданской, общей для миллионов, ответила: «Идеальная».
Она притягивала к себе не только своими стихами, не только умом, знаниями, памятью, но и подлинностью судьбы. В первую очередь подлинностью судьбы. Я кончил школу через три месяца после смерти Сталина, через два после освобождения еврейских врачей. Неизбежное для юности недовольство старшими, «отцами», попытки через бунт освободиться от их влияния получили пищу во внезапно открывшихся их трусости, слепоте, лицемерии, бессилии, не говоря уже о подлости, раболепии: в углубленное понимание причин прямолинейный ум не хотел вдаваться, эгоистичная душа была не готова к сочувствию. Одновременно неизбежные для юности поиски авторитета приводили к разочарованиям: при близком рассмотрении авторитет официальный оказывался дутым, подпольный – ущербным.
В московском «Дне поэзии» 56-го года была напечатана элегия Ахматовой «Есть три эпохи у воспоминаний…». Я не мог отдать себе отчет в том, чем это поразило меня больше: тем ли, что она еще жива, или содержанием и красотой. За десятилетия, что прошли с тех пор, эти белые стихи, тотчас запомненные, много раз всплывали в сознании, по поводу и без повода, наполняясь содержанием, прежде не прочитанным, упущенным, ахматовским, равно как и вчитанным, пережитым, своим. Это была новая Ахматова, и вместе с тем узнаваемая, выглядывающая из «Эпических мотивов». В следующий раз я увидел «Есть три эпохи» в сборнике 1961 года, так называемой «лягушке» – по зеленому цвету переплета, – в цикле с «Так вот он, тот осенний пейзаж…» (читается пеизаж, как привыкла произносить Ахматова) и четверостишием «И голос тот уже не отзовется». Впечатление от четверостишия было ослепительное, на время оно полностью затмило элегию. «Ликуя и скорбя». «Все кончено». Все было обязательно, интонация неотменима, власть каждого слова несомненна. Но главное – звук. Несколько поэтов, чьи стихи соседствовали с этими в альманахе, казалось, могли «договориться» между собой. Можно было представить себе, что вот Пастернак продекламировал «Свеча горела», затем Цветаева «Читателей газет», Заболоцкий «Прощание с друзьями» – и та же Ахматова «Есть три эпохи». Но что-то в женщине, которой принесли морковку, выходило за край и этого нового, и всех прежних известных мне стихотворений, присутствовал в словах, которые она изредка произносила, звук, вообще, как я тогда подумал, не вмещавшийся в стихи. Ни в каком поэтическом хоре не звучал, не мог звучать такой голос, словно выхваченный из хора плачущих над тем, кто сам уже безмолвен. «Где больше нет тебя». В то же время эти несколько прощальных слов не скрывали, что они составлены с искусством, в стихах был «эффект», строка обрывалась на «И песнь моя несется…», то есть все кончено, а песнь все-таки несется.
Школьный учитель литературы, он же директор школы, невысокий, физически сильный, с монгольским разрезом глаз и твердым подбородком сорокалетний орденоносец, не вел о своем предмете пустых разговоров, не занимался тонкостями. Про Ахматову, когда речь пошла о Постановлении ЦК 1946 года, он сказал: «С ней просто. Она сама была некрасивая, а всю жизнь любила очень красивого человека. Он на нее не обращал внимания, отсюда упадничество». Центром урока был план темы, сочинения на тему. Любую. Возможную на экзамене – мы писали только малую часть планируемых. Вступление. Содержание. Заключение. Римские цифры, арабские цифры. Строчные буквы: а), б), в)… Пункт четвертый: «Близость Онегина к декабристам: а) «Ярем он барщины старинной оброком легким заменил»; б) «Зато читал Адама Смита»; в) черновой вариант «Судьба царей, в свою чреду, все подвергалось их суду». Его подход к литературе был честным. Он требовал знания изучаемых произведений, задавая на лето конспектировать «Войну и мир», я с удовольствием делал это, по главам, получилась толстая тетрадь. Он не требовал любви к литературе, которая в России исторически считается более обязательной, чем любовь к химии. Не требовал, чтобы мы любили «Мать» Горького так же, как «Войну и мир». Он диктовал планы. «Образ Петра Безухова». Его значение в романе. Отношения с другими героями. Внешность, поступки, качества характера. «Образ Павла Власова». Его значение в романе. Отношения с другими героями. Внешность, поступки, качества характера. Он выводил литературу на уровень, на котором книги были равны друг другу. Собственно говоря, то же самое было на уроках физики: падающий человек имел такое же ускорение, что и падающий камень. И на биологии: у паука тоже было сердце, только система кровообращения незамкнутая. Нам преподавали не изящную словесность, не заставляли сопереживать положительным персонажам, зато и не говорили, как через тридцать лет моим детям: «Евгений Онегин был одет во все не наше». Нравилась тебе поэма «Двенадцать», не нравилась, ты должен был знать, что она обличает царизм и воспевает революцию. Мысль гнулась, но чувство оставалось нетронутым. Ты мог быть очарован «Сероглазым королем» и, разбуженный ночью, отрапортовать, что стихотворение упадочно и порочно.
Ахматова говорила, что, сколько она ни встречала людей, каждый запомнил 14 августа 1946 года, день Постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», так же отчетливо, как день объявления войны. Это был первый послевоенный год, и меня отправили к родственникам в маленький латвийский город Лудзу (Люцин), подкормиться. Дом тетушки стоял на площади, прямо против него, через тротуар, располагалась деревянная трибуна, мимо которой по праздникам проходила демонстрация. Мне было десять лет, я лежал на горячих от солнца крашеных досках трибуны и что-то читал, когда с газетой в руках появился двоюродный брат, рижанин, старшеклассник, и, изображая строгость, проговорил: «Что это у вас в Ленинграде за безобразие творится, распустились!» Я стал читать газету и даже в такой специфической подаче уловил пленительность и, как я сейчас бы сказал, драматизм, а потому и правду стихов, приведенных обрывками, почувствовал притягательность фигуры, в которую летели камни. И конечно же у меня не было никаких сомнений в том, что после Постановления Ахматова навеки сгинула.
Словом, идя на Красную Конницу, я ждал встречи с великой, несдавшейся, таинственной, легендарной женщиной, с Данте, с поэзией, с правдой и красотой – встречи, которой «не может быть», – и эта встреча случилась. Разочарования не было.
Неожиданной, но сразу же узнанной и словно бы само собой разумеющейся была обреченность во всем ее облике, словах, жестах, обреченность окончательная и признанная ею, так что уже излучавшая силу. Как и все, чьи первые визиты к ней я наблюдал потом, я, по позднейшему определению Марии Сергеевны Петровых, «вышел шатаясь», как герой раннего ахматовского стихотворения, плохо соображая, что к чему, что-то бормоча и мыча. Я уходил, ошеломленный тем, что провел час в присутствии человека, с которым не то чтобы у меня не было никаких общих тем (ведь о чем-то мы этот час говорили), но и ни у кого на свете не может быть ничего общего. Я поймал себя на том, что мне уже неважно, понравились ей мои стихи или нет, а важно, что они ею просто услышаны.
* * *
«Смиренная, одетая убого, но видом величавая жена». Стоя на троллейбусной остановке после очередного визита к ней, я поймал себя на том, что уже некоторое время машинально повторяю эти строчки, и тотчас усмехнулся тому, что слишком уж она похожа на эту пушкинскую «школьную надзирательницу», как будто нарочно похожа. Я тут же одернул себя, подумав, что своей усмешкой тоже толкую превратным образом «понятный смысл правдивых разговоров».
Однажды она обронила: «Мы вспоминаем не то, что было, а то, что однажды вспомнили». После ее смерти я стал вспоминать ее и с тех пор вспоминаю свои воспоминания. Но она оставляла о себе воспоминания с секретом. Например, как-то раз рассказывая про свой не-роман с Блоком, она с брезгливостью отозвалась о глубинах и изобретательности человеческой пошлости: некто, прочитав в «Поэме без героя»: «А теперь бы домой скорее Камероновой галереей», – стал делать намеки на возможные ее связи, чуть ли не адюльтер, с кем-то из обитателей царского дворца. Она сделала упор именно на изощренности безнравственного ума, и с расставленными таким образом ударениями это замечание много лет хранилось в моей памяти вместе с другими в этом духе. Но также и вместе с разрозненными, произнесенными в разное время упоминаниями конкретно о Царском Селе.
В другой раз она продекламировала шуточные царскосельские стихи, связанные с приездом в Россию французского министра Люббе: он не знал про недавний морганатический брак великого князя Павла Александровича и княгини Палей, бывшей прежде женой Пистолькорса, и обратился к императрице:
– Ou est Prince Paul, dites-moi, Madame? — спросил Люббе, согнувши торс. – II est parti avec ma femme![1] — из свиты брякнул Пистолькорс.Она рассказывала о княгине Палей как о царскоселке, хотя не помню наверное, говорила ли, что была с нею знакома. Сказала, что читала ее мемуары: «Малоинтересные – ненаблюдательной, неодаренной дамы». После революции ее мужа держали в Петропавловской крепости. «Она возила в санях ему передачи. Потом его расстреляли, ночью, во дворе крепости. Она уехала в Швецию: дочери, увидев ее, все поняли и заплакали. В книге две фотографии: молодой петербургской красавицы – и глубокой старухи, а разница несколько лет». Затем коротко передала подробности смерти ее двадцатилетнего сына Владимира, поэта, сброшенного в шахту в Алапаевске через полгода после расстрела мужа.
В подаренном мне экземпляре «Anno Domini» она сделала несколько помет и исправлений, над стихотворением «Зажженных рано фонарей» надписала название «Призрак» и исправила «ты глядишь» на «царь глядит» и «светлыми» на «темными»: «И странно царь глядит вокруг пустыми темными глазами».
В заметках к «Поэме без героя» она написала о подруге молодости, Глебовой-Судейкиной: «Ольга танцевала La danse russe rêvée par Debussy, как сказал о ней в 13 г. К.В.» (русский танец в грезах Дебюсси). И еще раз: «La danse russe в Царскосельском дворце». В воспоминаниях другой, еще более давней подруги, В.С. Срезневской, редактированных, если отчасти не продиктованных ей Ахматовой, описывается такой эпизод: «Отошли в область прошлого Версальские и английские кущи Ц. С. и Павловска, лунные ночи с тоненькой девочкой в белом платьице на крыше зеленого углового дома («Какой ужас! Она лунатик!») и все причуды этого вольнолюбивого ребенка, купанье в ручейке у Тярлева беленьких (негде было загореть!) стройных ножек, – и ласковый голос вел. кн. Владимира Александровича, совершавшего пешком с адъютантом утреннюю прогулку: «А если вы простудитесь, барышня?» – и ужас узнавшей о наших проказах все той же m-me Винтер, обещавшей рассказать «все» нашим родителям, и наше смущение перед красивым стариком, так мило сделавшим нам замечание». И на плане Царского Села, сделанном рукой Ахматовой, ею обозначен дворец великого князя Владимира Александровича (отца К.В., Кирилла Владимировича).
В списке «Даты и адреса» Ахматова после заметки «С 2-х до 16 лет Царское Село» перечисляет:
Царское Село
Так называемый «Холодный Дом» (1893?) Широкая ул., первый дом от вокзала. (Левая сторона. Сгорел в 1919 г. от «белой» бомбы).
Дом купца Сергеева, Малая ул. (четная сторона, второй этаж).
Дом Бернаскони, Безымянный пер. (1894 г.) Дом купчихи Евдокии Ивановны Шухардиной. (Не вдова ли лесковской Шухарды – на Литейной, см. восп. сына Лескова.) Сначала первый этаж, наверху Антоновские (Юрий Михайлович, переводчик Ницше и мировой судья).
Потом второй этаж, а внизу Тюльпановы. Там у брата Андрея бывал Н.С. Гумилев.
Широкая ул. – второй дом от вокзала, правая сторона, угол Безымянного пер.
Мое окно выходило на Безымянный пер. Жили до мая 1905.
Лето 1905. Бульварная, дом Соколовского. Оттуда в начале августа в Евпаторию (отставка отца и расхождение родителей).
«Безымянный переулок» первоначально стоял в подзаголовке «Царскосельской оды», написанной в конце жизни. За ним следовали два эпиграфа, гумилевский «А в переулке забор дощатый» и пунинский «Ты поэт местного, царскосельского значения».
Постепенно, с течением лет, сознание исподволь сопоставляло эти воспоминания, обрывочные сведения, случайные замечания, записи, пока они не образовали пусть ущербную, но общую картину. И тот давний выпад против чьих-то грязных – и доносительского характера – предположений о Камероновой галерее стал звучать по-другому. Не в том, разумеется, смысле, что «что-то» все-таки было, нет! и в ее словах об обладателях испорченного, злонамеренного ума, esprit mal tourné, поворачивающих стихи в любезную им сторону, я слышу то же негодование и брезгливость. Но в том, что не так все просто, как кажется по первому впечатлению; что место действия Царское Село, где находился Двор; что, дескать, хотя наш дом стоял на Малой улице, но Царское – городок игрушечный, там все рядом; что, помните, я когда-то рассказывала вам еще, как поэта Клюева прочили на место Распутина, так это тоже царскосельский слух; и что вот я вам говорю сейчас про Блока и про галерею, чтобы вы именно в такой связи запомнили, а потом когда-нибудь сопоставили с Палей, Ольгой и стихотворением «Призрак» и посмотрели, что выйдет.
И когда она делала в дневнике запись: «Все каменные циркули и лиры, – мне всю жизнь кажется, что П-н это про Царское сказал…», – думаю, она не сомнительнее других знала, что Пушкин это про Царское сказал. Но имела в виду напомнить про «величавую жену»; про рецензию Мандельштама на «Альманах муз», где он писал о «гиератической важности, религиозной простоте и торжественности» ее стихов: «… после женщины настал черед жены. Помните: «cмиренная, одетая убого, но видом величавая жена»»; наконец, про лиры, развешанные на ветках чужого сада.
Тонкий яд литературных реплик, произносимых между прочим.
* * *
И еще была причина, почему молодые люди вроде меня тянулись к ней. Она являла собой живой и в тогдашнем представлении безызъянный символ связи времен. Молодой человек по природе футурист, он недоволен устройством жизни, которое застал, и желает во всяком случае отменить, упразднить неуютные, мешающие ему запреты и снисходительные разрешения. В том случае, если его поприщем оказалось искусство, он еще и предлагает взамен их новые, единственно правильные, по его мнению, и необходимые. Но, получая одобрение единомышленников, которые в подавляющем большинстве сверстники, он интуитивно чувствует, что его позиция недостаточно основательна и непрочна, и ищет поддержки у «чужих», особенно у старших. Ему нужно, чтобы его позицию одобрил не только «текущий момент», но и «века». Так действует механизм преемственности.
Ахматова встретила революцию совершенно сложившимся человеком с устоями и критериями, которых впоследствии не меняла. Этим, а не только строгой и уверенной манерой поведения объясняется, в частности, то, что тридцатилетних ее и Мандельштама считали, называли и видели стариками. Ее воспитала петербургская, двухсотлетняя, и шире – русская, нескольковековая, культура. Усвоенные ею ценности были обеспечены содержанием огромного периода истории, нравственная оценка происходящего была та же, что, скажем, у княгини Анны Кашинской, или княгини Анны, жены Ярослава Мудрого, или у пророчицы Анны. Она рассказала про свою приятельницу: через несколько лет после революции та стирала в тазу белье на коммунальной кухне уплотненной квартиры. Прибежала дочка из школы и, проходя мимо, легко, хотя и не без вызова, произнесла: «Мам, а Бога нет». Мать, не прекращая стирать, устало ответила: «Куда ж Он девался?» Ахматова не соглашалась сбрасывать с «парохода современности» объявленный ненужным культурный балласт, не отказывалась от проверенного старого ради рекламируемого нового. Поэтому, когда она отзывалась на твое «ау», звук каждого ее слова будил эхо в уходящей неизвестно куда перспективе эпох, а не ударялся об недальнюю стенку нового времени.
Она была невысокого мнения об эстрадной поэзии конца 50-х – начала 60-х годов. При этом качество стихов, как я заметил, играло не главную роль, она могла простить ложную находку, если видела за ней честные поиски. Неприемлемым был в первую очередь душевный строй их авторов, моральные принципы, соотносимые лишь с сиюминутной реальностью, испорченный вкус.
Молодой московский поэт, мой знакомый, попросил договориться о встрече с ней. Я сказал ей об этом, рекомендовал его, она спросила, не помню ли я каких-то его стихов. Я прочел две строчки из юношеского стихотворения: «Ко всем по-разному приходит осень – стихами, женщинами, вином». – «Слишком много женщин», – произнесла она. Но принять не отказалась.
Или о входившем тогда в моду Роберте Рождественском: «Как может называть себя поэтом человек, выступающий под таким именем? Не слышащий, что русская поповская фамилия несовместима с заморским опереточным именем?» И когда я попытался защитить его, мол, спрос с родителей, последовало: «На то ты и поэт, чтобы придумать пристойный псевдоним».
Как-то раз принесли почту, она стала читать письмо от Ханны Горенко, ее невестки, я – просматривать «Новый мир». Через некоторое время она подняла голову и спросила, что я там обнаружил. «Евтушенко». Она попросила прочесть стихотворение на выбор: «А то я его ругаю, а почти не читала». Стихи были про то, что когда человеку изменит память и еще какая-то память, вторая (кажется, сердца), то с ним останется третья: «Пусть руки вспомнят то-то и то-то, пусть кожа вспомнит, пусть ноги вспомнят пыль дорог, пусть губы…» В стихотворении было строф десять, я заметил, что после третьей она стала слушать невнимательно и заглядывать в недочитанное письмо. Когда я кончил, она сказала: «В какой-то мере Ханнино письмо скрасило впечатление… Какие у него чувствительные ноги!»
В других стихах, которые я прочел в электричке по пути в Комарово, модный в то время ленинградский поэт вымученно и не очень изобретательно варьировал такую тему: дескать, в грядущем веке появится возможность искусственно воссоздавать людей, живших прежде. И тогда плохие, так сказать, реакционеры, будут воспроизведены во многих экземплярах, чтобы служить наглядным пособием в школах; а хороших, прогрессивных – более чем в одном вылепить не удастся. Я запомнил только, что Магометов будет чуть не полтора десятка, а вот Маяковский – один.
– Позвольте, – сказала Ахматова, – это не только пошло, это еще и выгодно.
Вскоре после революции у нее на глазах произошло то, что гордо и глубокомысленно стало называть себя переориентацией интересов поэзии. Однако внешняя убедительность формулы, апломб, с которым она произносилась, были призваны, в первую очередь, обмануть читателя, внушить ему законность измены тому, отказа от того, что делает стихи поэзией. Частное мнение, особый взгляд, словом, личное отношение поэта ко всему на свете одно гарантирует подлинность всякой его строчки. Когда поэт всечеловечен, как Пушкин, его личные стихи получают права представительствовать «за всех», говорить «от имени всех» – точнее: каждого. То есть: и я помню чудное мгновенье, и от меня вечор Лейла, и вообще он все это «про меня сказал». Но и когда поэт индивидуалистичен, даже эгоистичен, как Бальмонт или Игорь Северянин, у него нет выбора: он говорит только от себя и за себя, предлагая читателю любоваться его исключительностью или же пренебрегать ею.
Новая установка: говорить «от имени народа», «за всех людей» – разворачивала взгляд поэта, теперь он должен был направляться не внутрь, а вовне. Допускалось (и поощрялось) совпадение обоих направлений с непременным первенством нового. «Мы» вытесняло из поэзии «я», впрямую и прикровенно: скажем, «я разный, я натруженный и праздный», несмотря на индивидуальность опыта и переживания, годилось, потому что предполагается, что «как и многие», «вместе с другими»; а что-нибудь вроде «все мы бражники здесь, блудницы» – по понятным причинам, нет. Множество предметов и тем, так называемых изжитых или камерных и потому осмеянных, стали официально и, что несравненно существенней, по велению сердца – запретными. Не свое, по возможности, обобщалось, а общее, по замыслу, усваивалось. Автор в самом деле шел навстречу читателю, умело вербовал его, получал многотысячную аудиторию, но спекулируя на поэзии, давая читателю все, что тот хочет, а не то, что он, автор, имеет. Ахматова сказала о В-ском, в 60-е годы быстро набиравшем популярность: «Я говорю со всей ответственностью: ни одно слово своих стихов он не пропустил через сердце».
Между тем «мы» в лирической поэзии имеет вполне конкретное, и никакого другого, содержание: я и ты, он и она, группа близких или друзей, которых поэт может назвать поименно. Только так ограниченное «мы» становится большим, общим. Друзья мои, прекрасен наш союз, наш, лицеистов, Дельвига, Пущина и т. д., и потому всех, кто «лицеист», постольку, поскольку «лицеист». Мы живем торжественно и трудно, мы, петербуржцы, узнающие друг друга на улицах в лицо, и потому всех, кто отравлен и пленен этим, или таким же своим, городом, постольку, поскольку отравлен и пленен. В стихах военного времени «А вы, мои друзья последнего призыва…» Ахматова говорит о своем долге «крикнуть на весь мир все ваши имена», а в «Победителях» и называет их: Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки – внуки, братики, сыновья.
В 1961 году в больнице она написала стихотворение «Родная земля». Оно состоит в немалой степени из клишированных формул, разве что взятых с обратным знаком: «о ней стихи навзрыд не сочиняем», «о ней не вспоминаем» и т. д. В них нет присущей ее стихам остроты, многие строчки кажутся прежде читанными, и уж совсем не ахматовски звучит «мы» – неопределенно, без конкретного адреса. Если бы не две строчки, а точнее, два слова в них, которые ставят все на свое место. «Но мы мелем, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах». Месим и крошим – это посланный через четверть века отзыв на пароль Мандельштама: «Аравийское месиво, крошево» – в «Стихах о неизвестном солдате». Это их прах, может быть, товарищей по «Цеху поэтов», Гумилева, Мандельштама, «ни в чем не замешанных», может быть, шире: друзей молодости, которых «оплакивать мне жизнь сохранена». Еще отчетливее именно такая адресованность этого стихотворения проявляется в напрашивающемся сопоставлении с другим, написанным меньше чем через три года, «Земля хотя и не родная». Оно тоже содержит, особенно концентрированно в последнем четверостишии, штампы-образчики, представляющие, однако, «не родную, но памятную навсегда» поэтику символистов: «А сам закат в волнах эфира такой, что мне не разобрать, конец ли дня, конец ли мира, иль тайна тайн во мне опять». Здесь и ставшая общим местом критика символизма: «Когда символист говорит – закат, он имеет в виду – смерть», и насмешливое ахматовское воспоминание: «Если символисту говорили: “Вот это место в ваших стихах слабое”, он высокомерно отвечал: “Здесь тайна!”» Любопытно, что предыдущие две строчки призваны демонстрировать акмеистическую обработку символистских по преимуществу угодий – «закатных»: «И сосен розовое тело в закатный час обнажено».
(«Мы шли в гору. Мы были дерзкие, удачливые, беспастушные», – говорила она. Символизм, мэтров которого они и в начале пути, и в продолжение жизни, несмотря на все претензии к ним, почитали, переживал кризис. «Мы пошли в акмеизм, другие – в футуризм». Однажды, к слову, я сказал, что если оставить в стороне организационные мотивы и принципы объединения, то поэтическая платформа – и программа – символистов во всяком случае грандиозней акмеистической, утверждавшейся главным образом на противопоставлении символизму. Ахматова – глуше, чем до сих пор, и потому значительней – произнесла: «А вы думаете, я не знаю, что символизм, может быть, вообще последнее великое направление в поэзии». Возможно, она сказала даже «в искусстве».)
«Не должно быть забыто, – делает она ударение в “Листках из дневника”, вспоминая воронежский доклад Мандельштама об акмеизме, – что он сказал в 1937 году: “Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых”». Она дышала новым воздухом, но легкие ее полны были прежнего, который она вдохнула в юные и молодые годы. Она рассказывала, что в марте 1935 года оказалась на вокзале – кого-то провожала – в тот день, когда из Ленинграда выселяли дворян, они толпились на перроне и все здоровались с ней, пока она проходила: «Я никогда не думала, что у меня столько знакомых дворян». Через нее я познакомился с несколькими ее приятельницами, «младшими современницами». Тогда я считал, что эти шестидесяти-, семидесятилетние женщины – естественная константа любого общества, что такие пожилые дамы и такие старухи, измученные, но не ожесточенные, исстрадавшиеся, но не отчаявшиеся, с бескровными лицами, скорбными глазами, но самоотверженные, прощающие, идущие навстречу, были всегда и всегда будут. Оказалось же, что это последние экземпляры вымирающего племени. Нынешние семидесятилетние могут быть их воспитанницами, но они с самого рождения живут в атмосфере качественно иного состава, это не прошло бесследно не только для их психосоматики, как сказали бы современные врачи, но и для формулы крови. Любовь Давыдовна Стенич-Большинцова сказала мне, когда умер Чаплин: «Я была рядовой той армии, которой он был генералом». Какая сейчас старуха может сказать про какую армию и про себя подобное?
Ахматова наследовала царственное слово, Дантову музу, царскосельских лебедей, Россию Достоевского, доброту матери. Из этого она «сделала, пожалуй, все, что можно», перестроив по-своему дом поэзии из камней дома, доставшегося ей, и оставив его в наследство будущему. Эти камни вечны и, как всегда, как испокон веку, годны для следующего строительства. Годны, но пока не нужны, неупотребительны: новый быт, новые функции архитектуры, новые материалы, в ходу пластмасса – «бессмертная фанера», как называла ее Ахматова.
* * *
В декабре 1962 года я прочитал ей только что законченную мной поэму. Это было в Москве, стояла бесснежная стужа. Она жила тогда у Ники Николаевны Глен на Садово-Каретной и в теплоте и уюте этой семьи выглядела мягче, домашнее. «Тоже Матрена», – говорила она о матери Н.Н., имея в виду солженицынский рассказ «Матренин двор». К тому времени между ею и мною установились уже достаточно дружеские отношения, но еще без будущей доверительности, без той – «после некоторого сомнения я решаюсь написать» – сердечности, которая возникла через несколько месяцев. Она сказала, что поэма понравилась, что ей нравится «это хождение все время по краю, при том что – воздух, море, свет, земля». Произнесла еще: «Густота мыслей» – не как комплимент, не как неодобрение, а как бы констатируя. Она сказала: «Это безусловно поэма, хотя по-настоящему размер не найден», – и: «Я не люблю шестистопный ямб при пятистопном». Об определяющей, конструирующей роли размера для поэмы, о том, чуть ли не что «поэма – это размер», она говорила не однажды, и до, и после этого разговора, настаивая на том, что размер (и строфа), скажем, пушкинский ямб (и «Онегин» по преимуществу) – это не раскрытая дверь, а шлагбаум, об который разбились многие поэмы, начиная с «Пиров» Баратынского и кончая блоковским «Возмездием»: он «съел» русскую поэму, и, наоборот, только новый размер определил удачу «Мороза, Красного носа» и «Двенадцати». Что же до смешения пятистопника с шестистопником, то возражала она, насколько я понял, не против приема как такового, которым сама широко пользовалась, а против необязательности этого смешения, вызванного, возможно, не замыслом, а неаккуратностью или даже отсутствием слуха. Ей категорически не понравилась одна главка, и мне, когда она заговорила об этом, стало совестно, что я заставил ее эти неприятные ей стихи слушать; она сказала: «Вы эту главу переделаете или выбросите», – и после короткой, но четко обозначенной паузы: «Или оставите, как есть». Еще она сказала погодя: «Это вещь новая», – что я понял вовсе не как одобрение, а главным образом как: не наша. И наконец, как бы мимоходом бросив в придаточном предложении: «… эта единая сюита», – дала мне почувствовать разницу между ее пониманием того, что такое поэма, и моим тогдашним о поэме представлением.
Тогда, двадцать пять лет назад, я хотел слышать, и слышал, похвалу в ее отзыве об этой «юношеской» поэме, как и в других случаях о других стихах. Сейчас я на этот счет не обольщаюсь, я только отмечаю, что ее оценка была деловая, профессиональная и что в ней не было и тени «старика Державина». Но сейчас я знаю также, что это была не обычная ахматовская «пластинка».
«Пластинками» она называла особый жанр устного рассказа, обкатанного на многих слушателях, с раз навсегда выверенными деталями, поворотами и острыми местами, и вместе с тем хранящего, в интонации, в соотнесенности с сиюминутными обстоятельствами, свою импровизационную первооснову. «Я вам еще не ставила пластинку про Бальмонта?.. про Достоевского?.. про паровозные искры?» – дальше следовал блестящий короткий этюд, живой анекдот наподобие пушкинских Table-talk, с афоризмом, применимым и применявшимся впоследствии к сходным или обратным ситуациям. Будучи записанными ею – а большинство она записала, – они приобретали внушительность, непреложность, зато, как мне кажется, теряли непосредственность.
Так вот, иногда – кстати сказать, не так часто, как можно предположить, – люди, пишущие стихи, обращались к ней затем, чтобы услышать ее оценку. Она просила оставить стихи, начинала читать и, если они оставляли ее равнодушной – а редко так не бывало, – ограничивалась чтением нескольких строчек, реже – стихотворения целиком. При этом, когда автор приходил за ответом, она старалась не обидеть и говорила что-нибудь необязательное, что из ее уст могло быть воспринято как похвала. И тут тоже были «пластинки», две-три сентенции, которые успешно употреблялись в зависимости от обстоятельств.
Если в том, что она прочла, было описание пейзажа, Ахматова говорила: «В ваших стихах есть чувство природы». Если встречался диалог – «Мне нравится, когда в стихи вводят прямую речь». Если стихи без рифм – «Белые стихи писать труднее, чем в рифму». Тот, кто после этого просил посмотреть «несколько новых стихотворений», мог услышать: «Это очень ваше». И наконец, в запасе всегда было универсальное: «В ваших стихах слова стоят на своих местах».
В конце того вечера, когда я прочитал ей поэму, она рассказала, как Инна Эразмовна, ее мать, прочитав какие-то стихи Ахматовой (или даже выслушав их от нее?), неожиданно заплакала и проговорила: «Я не знаю, я вижу только, что моей дочке – плохо». «Вот и я сейчас вижу, что вам – плохо». Собственно говоря, с этого дня мы и стали видеться часто и разговаривать подолгу.
Вообще же она была в то время невысокого мнения даже о поэзии тех молодых, чьи стихи как-то выделяла. Это все было дикарство, в лучшем случае «пройденный ликбез», как однажды припечатала она. Как-то раз мы сидели на веранде, глядели на сосны, траву, вереск, и она с насмешливым выражением лица говорила: «Коля стоял высокий и прямой против высокого же, но сутулившегося Горького и менторским тоном назидал: «Вы стихов писать не умеете, и заниматься этим не должны. Вы не знаете основ стихосложения, не различаете размера, не чувствуете ритма, стиха. Словом, не ваше это дело». И тот слушал покорно. А я наблюдала эту сцену, и мне было скучно».
Тут уместно привести целиком ее письмо 1960 года. Я получил его из ее рук, хотя написано оно не мне, вернее – не именно мне. Это одно из «писем к NN», которые наиболее основательный исследователь ахматовской поэзии Тименчик назвал посланиями «на предъявителя». В последнее десятилетие жизни она написала их несколько, и несколько человек, один из них я, могли бы с достаточным основанием, ссылаясь на ту или иную конкретную фразу, считать себя их адресатами. То, о котором идет речь, лежало в старом итальянском сундуке, креденце, стоявшем в ее комнате и полном рукописями, папками, тетрадями, старыми корректурами и т. п. В один из зимних дней 1964 года, прервав беседу, коснувшуюся тогдашнего поэтического бума и поворота в ее судьбе (публикация на Западе «Реквиема», итальянская премия и т. д.), она сказала: «Откройте креденцу и найдите там-то такое-то письмо». Я нашел, в него был вложен еще один исписанный лист, о котором разговор дальше. «Это вам». Я прочел оба и положил листки на стол. «Это вам». Я поблагодарил и спрятал их в карман. Она заговорила на другую тему.
На целый ряд Ваших писем мне хочется ответить следующее.
Последнее время я замечаю решительный отход читателя от моих стихов. То, что я могу печатать, не удовлетворяет читателя. Мое имя не будет среди имен, которые сейчас молодежь (стихами всегда ведает молодежь) подымет на щит[2].
Хотя сотня хороших стихотворений существует, они ничего не спасут. Их забудут.
Останется книга посредственных, однообразных и уж конечно старомодных стихов. Люди будут удивляться, что когда-то в юности увлекались этими стихами, не замечая, что они увлекались совсем не этими стихами, а теми, которые в книгу не вошли.
Эта книга будет концом моего пути. В тот подъем и интерес к поэзии, который так бурно намечается сейчас, – я не войду, совершенно так же, как Сологуб не переступил порог 1917 года и навсегда остался замурованным в 1916. Я не знаю, в какой год замуруют меня, – но это не так уж важно. Я слишком долго была на авансцене, мне пора за кулисы.
Вчера я сама в первый раз прочла эту роковую книгу. Это хороший добротный третий сорт. Все сливается – много садов и парков, под конец чуточку лучше, но до конца никто не дочитает. Да и потом насколько приятнее самому констатировать «полное падение» (chute complète) поэта. Мы это знаем еще по Пушкину, от которого все отшатнулись (включая друзей, см. Карамз.).
Между прочим (хотя это уже другая тема) я уверена, что сейчас вообще нет читателей стихов. Есть переписчики, есть запоминатели наизусть. Бумажки со стихами прячут за пазуху, стихи шепчут на ухо, беря честное слово тут же все навсегда забыть, и т. д.
Напечатанные стихи одним своим видом возбуждают зевоту и тошноту – людей перекормили дурными стихами. Стихи превратились в свою противоположность. Вместо: Глаголом жги сердца людей – рифмованные строки вызывают скуку.
Но со мной дело обстоит несколько сложнее. Кроме всех трудностей и бед по официальной линии (два постановления ЦК’а), и по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие, и даже м. б. официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало то главное. Я оказалась довольно скоро на крайней правой (неполитич.). Левее, следственно новее, моднее были все: Маяковский, Пастернак, Цветаева. Я уже не говорю о Хлебникове, который до сих пор – новатор par excellence. Оттого идущие за нами «молодые» были всегда так остро и непримиримо враждебны ко мне, напр. Заболоцкий и, конечно, другие обереуты. Салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув слегка припахивающее доносом обвинение во внутренней эмиграции. Книга обо мне Эйхенбаума полна пуга и тревоги, как бы из-за меня не очутиться в лит. обозе. Через несколько десятилетий все это переехало за границу. Там, для удобства и чтобы иметь развязанные руки, начали с того, что объявили меня ничтожным поэтом (Харкинс), после чего стало очень легко со мною расправиться, что не без грации делает напр. в своей антологии Ripolino. Не зная, что я пишу, не понимая, в каком положении я очутилась, он просто кричит, что я исписалась, всем надоела, сама поняла это в 1922 и так далее.
Вот, примерно, все, что я хотела Вам сказать по этому поводу. Разумеется, у меня в запасе множество примеров, подтверждающих мои мысли. Впрочем, Вам они едва ли интересны.
1960. 22 янв. – 29 фев.
Ленингр. – Москва
* * *
Большинство ахматовских дневниковых записей последних лет посвящено «началу»: Серебряному веку, тогдашним отношениям, акмеизму. Она объясняла причины, разоблачала клеветы и ложь, исправляла ошибки и неточности и, по-моему, вообще немножко исправляла то ту, то другую черточку ушедшей действительности – не для того, чтобы приукрасить, не ради будущей выгоды, а скорее mutatis mutandis, применительно к изменяющимся обстоятельствам. Слишком многое стало звучать и выглядеть по-другому, иногда прямо противоположно тому, как звучало и выглядело в момент события. Она обращала на это внимание, говорила, что двадцатый век отменил некоторые слова вроде «тишины», придал другим новое значение, например «космосу» или «бесконечности», отнял у третьих их прежние качества: «Когда произносят слово «сосед», никто не воображает ничего приятного, все вспоминают коммунальную кухню». Из исправлений самых крайних, и самых наивных, было сделанное в моем экземпляре «Четок»: она зачеркнула в стихе «Все мы бражники здесь, блудницы» «бражников» и «блудниц» и вписала «вышли из небылицы» – «Все мы вышли из небылицы». Над этим можно было бы посмеяться, если бы не миллионные тиражи газет в августе 1946-го со словами Жданова о ней, «полумонахине, полублуднице», повторенными потом в тысячах докладов, на тысячах собраний.
В какой степени Ахматова оставалась «человеком своего времени», то есть что отличало ее от того, что было до 10-х годов, и от того, что стало после? Помимо социально-политического перелома и вызванных им сдвигов в самых разных плоскостях жизни, время претерпело, претерпевало у нее на глазах, и ряд эволюций, так сказать, естественных, меняющих не лицо, а выражение лица эпохи. Менялись вкусы, эстетика, моды. Во-первых, на Анненском кончились те поэты, слова которых обеспечивались простым фактом прежнего их употребления, а не биографией стихослагателя; и на Блоке те, которые преследовали цель служить поэзией красоте, а не культуре. Во-вторых, искусство – как ремесло, как священнодействие, как средство преображения мира – было сущностью, определяющей характеристикой круга, в который вошла, чтобы занять свое место, Ахматова.
Она рассказывала, что, когда Анненский увлекался какой-то дамой, жена продавала очередную березовую рощу и отправляла его в Швейцарию, откуда он возвращался «исцеленный». Она говорила и писала, что «ослепленные дети» в «Моей тоске» – это его стихи, выброшенные из 2-го номера журнала «Аполлон». Однако это сведения и объяснения, возможно, помогающие понять психологию его творчества, но более навязанные его поэзии, чем его поэзией. Судьба чиновника, судьба педагога ничего не прибавляет его стихам, не становится судьбой поэта в позднейшем, в ахматовском, смысле этого слова. «Считается, что в поэзии двадцатого века испанцы – боги, а русские – полубоги, слишком много у нас самоубийц», – сказала она в день, когда прочла «Дознание» Леона Фелипе. (Непосредственная реакция была: «Каков старик!» – и: «Завидую, что не я», и восхищение переводом Гелескула.) В таком случае Анненский, разрыв сердца у которого она связывала с переносом публикации стихов в следующий номер, «бог» или «полубог»?
Однажды, ослепительным летним ленинградским вечером 1963 года, вдруг решили ехать в Комарово. Анна Андреевна, Нина Антоновна Ольшевская, ее сын Борис и я. Пока бегали за коньяком, пока вызывали такси, пока выехали из города, выяснилось, что уже 11-й час, но солнце стояло высоко и всю дорогу било в глаза. Настроение было приподнятое, поездка отдавала авантюрностью, без подготовки, без обычных сборов, неизвестно, в Будке ли старики Аренсы, ухаживавшие в то лето за Ахматовой. Все по пути доставляло радость, последовательного разговора не было, случайные реплики произносились быстро и весело – в расчете на расположенных и веселых слушателей. Нина Антоновна прикинула, как нам в каком случае разместиться. Я сказал: «Вот приедем, выпьем, а там и разместимся». А.А. отозвалась: «Вы уверены, что то, что вы говорите, вполне прилично?.. Боря, разве так я воспитывала в детстве вас с братом?» Борис посмотрел на меня с сочувствием. Когда приехали, начало темнеть. Зажгли свечи, ночь была теплая, сосны стояли у самого открытого окна. Возникло странное ощущение, что мы сидим среди них, и одновременно свет, как на картинах де Ля Тура, выхватывал книжную полку, стол, икону. Мы попивали коньяк, переговаривались все реже. Неожиданно для себя – и с неожиданным волнением – я сказал: «Где-то есть стихи такие прекрасные, что все, что написаны здесь, на земле, – Анна Андреевна, простите меня, и ваши тоже, – в сравнении с ними страшная грубость, неблагозвучие, косноязычие. Единственное земное слово, в них возможное, хотя и самое уродливое, это «прекрасный»… Может быть, какими-то строчками дает о них представление, хотя и самое отдаленное, только Блок…» Прошло несколько мгновений тишины, для меня в ту минуту совершенно естественной. Нина Антоновна и Борис, видя, что А.А. молчит, стали подтрунивать надо мной в том же стиле, что установился в машине. Внезапно Ахматова очень серьезно произнесла: «Нет, он дело говорит».
В другой раз, когда разговор зашел о современной французской поэзии, она сказала: «Я знаю, что Аполлинер – последний поэт, не надо меня в этом убеждать». Возможно – «последний европейский», но в сознании осталось «последний вообще». А вспомнил я об этом здесь потому, что сразу вслед за именем Аполлинера в той беседе всплыло имя Блока, с тем же определением – «последний». Смысл был такой, что после него – или после них – началось что-то другое.
Началась поэзия, получившая сознательную установку на цитату. Главным образом чужой текст, поэтический, документальный, отсылка к мифу, но также и музыка, и живопись стали вводиться в поэзию нового времени на новых основаниях, демонстративно и обязательно. Знаки культуры размещались в стихах как ориентиры, очевидные и скрытые, – в последнем случае с заложенным в них требованием поисков ключа для дешифровки.
Наши разговоры не раз касались Т.С. Элиота: в 60-е годы оживился интерес к нему, его словно бы догнало эхо нобелевского лауреатства. Пришло его время, короткое, сфокусированным пучком света высветившее фигуру, стали актуальны идеи, переиздавались статьи. Он родился на год раньше ее и умер на год раньше. Она заговорила о нем, довольно подробно, и именно о нем, а не «по поводу», за несколько дней до его смерти. (Так же беспричинно, вдруг, завела она речь о Неру накануне его смерти, о Корбюзье, за неделю до разрыва сердца у него.) Говорила с нежностью, как о младшем брате, всю жизнь ждавшем и под конец дождавшемся удачи. «Бедный, годами служил в банке, как тяжело ему было. Ну хоть в старости – признание, слава». Позднее показывала гостям трогательную пронзительную фотографию: он стоит, чуть пригнувшись, за креслом жены – в номере журнала «Europa Letteraria», объявлявшем о присуждении ей премии «Этна-Таормина». Я переводил тогда главу из «Бесплодной земли», потом главу из «Четырех Квартетов». В «Четырех Квартетах» она отметила строчки:
The only wisdom we can hope to acquire Is the wisdom of humility: humility is endless.(Единственная мудрость, достижения которой мы можем чаять, это мудрость смирения: смирение – бесконечно.) Часто повторяла: «Humility is endless». И в это же время появился эпиграф к «Решке» – In my beginning is my end (В моем начале мой конец), тоже из «Четырех Квартетов».
Элиот вводил в стихотворный текст цитаты сплошь и рядом в открытую. У Ахматовой таких коллажей нет, она вживляла цитату, предварительно перерожденную так, чтобы чужая ткань совместилась с ее собственной. Но источники у обоих были те же: Данте, Шекспир, Бодлер, Нерваль, Лафорг… И кажется, именно с процитированной Элиотом строчки из «El Desdichado» Жерара де Нерваля она начала однажды разговор об этом стихотворении, прочла наизусть несколько строк, сняла с полки не то вынула из ящика стола тоненькую книжку «Les Chimères», открыла на «El Desdichado» и сказала как бы с усмешкой: «А вот что переведите». Вскоре полустишие из этого сонета стало эпиграфом к «Предвесенней элегии»: Toi qui m’a consolé, с переменой грамматического рода (Ты, который меня утешил).
Следует оговориться сразу, хотя из последующего это станет ясно само собой, что ахматовские ссылки на кого-то, переклички с кем-то через цитирование чужих (или отчужденно – своего собственного) текстов, и по существу, а не только по приему, в корне отличны от пересказа, пусть дословного, чьих-то сочинений или отдельных их мест, фарширующего произведение заемными ценностями. Когда я прочитал ей нравившееся любителям поэзии стихотворение моего сверстника «Ночной дозор», описывающее картину Рембрандта с точки зрения уличного патруля под окнами художника и кончающееся строчками, в которых подытожена идея всей вещи: «То ли мы ночная стража В этих стенах, то ли он», – она недовольно фыркнула: «Пусть он самый «Ночной дозор» напишет!» – то есть вещь, а не описание вещи.
Из своих ранних стихотворений она выделяла «Углем наметил на левом боку…» целиком и последнюю строфу особенно:
Углем наметил на левом боку Место, куда стрелять, Чтоб выпустить птицу – мою тоску В пустынную ночь опять. Милый! не дрогнет твоя рука, И мне недолго терпеть. Вылетит птица – моя тоска, Сядет на ветку и станет петь. Чтоб тот, кто спокоен в своем дому, Раскрывши окно, сказал: «Голос знакомый, а слов не пойму», — И опустил глаза.Она сравнивала с этими строчками корейское стихотворение XVII века, ею позднее переведенное:
Когда моя настанет смерть, Душа кукушкой обернется, В густой листве цветущих груш Я полночью глухою спрячусь. И так во мраке запою, Что милый – голос мой услышит.Повторяла две последние строки и прибавляла: «Какой удар со стороны корейской гейши!» Но не в курьезном сопоставлении и не в остро́те было дело.
Голос, выпевающий слова, которых слушатель не может опознать, однако явно им узнаваемый – или кажущийся ему знакомым, – это и был поэтический голос Ахматовой, который она начала ставить уже в первых своих стихах.
Как ты звучишь в ответ на все сердца, Ты душами, раскрывши губы, дышишь, Ты, в приближенье каждого лица, В своей крови свирелей пенье слышишь! —написал ей Недоброво, варьируя одну из главных тем своей статьи «Анна Ахматова». Статья эта появилась в 1915 году в «Русской мысли» и была первым серьезным разбором ахматовской поэзии и, следует прибавить, единственным разбором такого рода. Этот увлекательный научный анализ впечатляет не только остротой и основательностью наблюдений, бесспорностью выводов, свежестью открытий, но и словно бы указывает поэтессе, какое еще направление открыто для нее, что может оказаться плодотворным и какое из продолжений бесперспективно. Теперь, когда виден весь путь Ахматовой, ощущение новизны мыслей Недоброво в значительной степени приглушено ясностью, заметностью их источника в самих стихах. Но статья была написана об авторе двух первых книжек, «Вечера» и «Четок», и многое из того, к чему впоследствии пришла Ахматова, было лишь подтверждением их, было, если угодно, принятием того, что предлагал ей критик. Когда я сказал об этом моем впечатлении от статьи, которую, кстати сказать, она же мне и дала, Ахматова, и прежде в разговорах выделявшая Недоброво среди выдающихся людей своего времени, и прежде вспоминавшая о влиянии, которое он на нее имел, сказала просто: «А он, может быть, и сделал Ахматову».
В «Листках из дневника» Ахматова вспоминает, как прочла Мандельштаму кусок из «Божественной комедии», и он заплакал: «… эти слова – и вашим голосом». То же самое можно сказать о множестве мест в ее стихах, но если в 1922 году знаменитые дантовские слова:
Tu proverai si come sa di sale Lo pane altrui, e com’é duro calle Lo scendere el salir per altrui scale,(Ты по себе узнаешь, как горек хлеб чужой и как тяжело спускаться и всходить по чужим ступеням) – произнесены ее голосом как бы в вольном пересказе:
Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник, Полынью пахнет хлеб чужой, —то через сорок лет восклицание Данте:
Men che dramma Di sangue m’e rimaso che non tremi: Conosco i segni dell’antica fiamma!(Меньше чем на драхму осталось во мне крови, которая бы не трепетала: узнаю знаки древнего пламени!) – звучит куда более засекреченно:
Ты стихи мои требуешь прямо, Проживешь как-нибудь и без них, Пусть в крови не осталось ни грамма, Не впитавшего горечи их.Цитату выдает рифма: dramma – fiamma и прямо – грамма – но, выдав, втягивает в головокружительную воронку цитат. Последний стих дантовской терцины, обращенной к Вергилию, это слова вергилиевской Дидоны, точно переведенные Данте из «Энеиды», а предыдущее ахматовское стихотворение в цикле «Шиповник цветет» открывается стихом из «Энеиды» и первоначально называлось «Говорит Дидона».
Выявлению «чужих голосов» в поэзии Ахматовой посвящены многочисленные филологические труды последних трех десятилетий, упоминание об использовании ею чьих-то текстов стало общим местом. То, что открыли Т.В. Цивьян, Р.Д. Тименчик, В.Н. Топоров, проникнув за второе дно ее «роковой шкатулки», теперь уже всегда будет просвечивать сквозь прозрачность стихов «третьими, седьмыми и двадцать девятыми», если воспользоваться ее же фразой, планами. Одно время началась настоящая охота за цитатами в ее стихах, и дело выглядело беспроигрышным: всегда что-то обнаруживалось. Казалось, Ахматова читала – все, заимствовала – отовсюду. Результаты сопоставлений зависели в основном от мнемонических способностей сопоставителей. Перечитывая ее стихи 1921–1922 годов, я наткнулся, например, на батюшковский слой, особенно концентрированный в стихотворениях, написанных зимой в Бежецке. В частности, оказалось, что и упомянутый дантовский «хлеб чужой» введен Ахматовой в стихи не непосредственно, а через «Умирающего Тасса» Батюшкова:
Младенцем был уже изгнанник; Под небом сладостным Италии моей Скитаяся, как бедный странник, Каких не испытал превратностей судеб? Где мой челнок волнами не носился? Где успокоился? Где мой насущный хлеб Слезами скорби не кропился?Но о чем свидетельствовали эта и подобные находки? Только ли иллюстрировали они ахматовский афоризм:
Не повторяй – душа твоя богата — Того, что было сказано когда-то, Но, может быть, поэзия сама — Одна великолепная цитата?Или соблазняли предположить (а ни на чем мы не любим так настаивать, как на предположении, более, чем достаточно, но менее, чем необходимо, доказываемом), что Ахматова нашла в бежецком доме томик Батюшкова и читала его той зимой? Возможно, это было бы убедительно в отношении другого поэта. Но Ахматова не сочиняла стихов, чтобы что-то проиллюстрировать, и находила именно то, что искала. Иначе говоря: что цитируется? – это только первый вопрос, неплодотворный без второго: почему цитируется это? Круг каких культурных ассоциаций, какой сюжет, какой миф втягивается выбранной цитатой в стихи (и – зеркально: какое конкретно место культурной вселенной через приведенную цитату отныне обозначено новыми стихами)? «Пусть все сказал Шекспир, милее мне Гораций». Что «все» сказал Шекспир? Чем милее Гораций? Почему в связи с такой-то темой вспомнен Шекспир, а с такой-то – Гораций? Какой знак подают в ахматовских стихах тот и другой? И что означает – в системе ахматовской шифровки – их неожиданное соединение в одной строке?
* * *
Искать скрытые цитаты в живой речи Ахматовой было бы занятием бесполезным: всякий человек гораздо чаще бессознательно, чем сознательно, цитирует множество других. Зато то, что она вспоминала применительно к возникшей ситуации, всегда бывало неожиданно и, как правило, смешно.
Она ввела в обиход понятие «Ахматовка». Распределить желающих видеть ее оказывалось иногда нелегким делом, визиты наезжали один на другой, посетители входящий и выходящий сталкивались в дверях, в прихожей, кто-то с кем-то был несовместим, кто-то к кому-то ревновал. Словом, узловая станция с напряженным графиком и неизбежными авариями. В Ленинграде это случалось реже, в Москве чаще. Как-то раз я пришел к ней днем, она сказала, что назначила на вечер такого-то. «Как такого-то! Уже назначен сякой-то, вы все перепутали». Нисколько не расстроившись, она произнесла: «Все перепуталось, и сладко повторять: Россия, Лета. – И после паузы, по слогам: – Ло-ре-ле-я». В самый первый миг мне это показалось неуважительным по отношению к «классическим» стихам, к декабристам, к каторге, новой обидой Мандельштама от «европеянки». Но тотчас стало ясно, что это для нее, в первую очередь, стихи молодости – которых когда-то не существовало, которые при ней возникли, были на слуху и на языке, много раз повторялись и, вероятно, подвергались, как всё в молодости, подшучиванию друзей.
Когда прощались, она иногда, вместо обычных пожеланий и напутствий, проговаривала из Фета: «И лобзания, и слезы, и заря-заря». Однажды я ответил на это что-то вроде, что «не знаю сам, что буду петь, – но только песня зреет», и она сказала, что ее любимое фетовское стихотворение «Alter ego», и продекламировала:
Как лилея глядится в нагорный ручей, Ты стояла над первою песней моей… —а потом подарила оттиск статьи Недоброво «Времеборец (Фет)». Статья проникновенная и очаровательная, но, хотя она и направлена на то, чтобы снять с Фета клеймо «пошот, боркое хыданье», однако лишний раз привлекает внимание к этой пародии на знаменитое «Шепот, робкое дыханье». И, читая «Времеборца», я подумал, что А.А., снижая конец стихотворения, знала, конечно же, как досталось и началу.
Иногда, когда мы выходили на прогулку – этому предшествовало: «Дайте мне мои восемь солдатских минут на сборы» – и я протягивал руку для поддержки, то она, грузно на нее опершись, предваряла первый шаг стишком неизвестного мне происхождения: «Ну? Бобик Жучку взял под ручку?»
Апрельским вечером 1964 года мы сидели за столом у Ардовых, на Ордынке: Ахматова, Аманда Хэйт, молодая англичанка, тогда писавшая диссертацию об ее поэзии; другая англичанка, подруга Аманды; и я. Еще накануне я условился с девушками, что они заедут за мной и мы отправимся в чей-то дом, где я начитаю на магнитофон, особенно внимательно следя за произношением, хрестоматийные русские стихи, после чего мы на этом же магнитофоне послушаем записи Beatles, недавно вошедших в моду. Когда подошло время отъезда и об этом объявили Ахматовой, оказалось, что она рассчитывала провести с нами весь вечер. Девушки по-европейски любезно и так же категорично объяснили, что «нельзя не ехать, если нас ждут». Я колебался: нарушать договоренность, а главное, отказываться от задуманного развлечения не хотелось. Посидели еще некоторое время, потом поднялись. А.А. иронически на нас поглядела и жалобно сказала, показав им на меня: «Уво́зите? А еще просвещенные мореплавательницы!» Это побитый Расплюев в «Свадьбе Кречинского» сокрушается: «Бокс!.. английское изобретение!.. А?.. Англичане-то, образованный-то народ, просвещенные мореплаватели…»
Смешно было, потому что к месту, и еще смешнее, потому что, по логике происходящего, совсем не к месту. При чем тут, тут, где она только что сидела, величественная, безмолвная, неподвижная, да и сию минуту сходит, опираясь на мою руку, вниз по ступенькам – как будто двинулось изваяние; она, из чьих скорбно сомкнутых уст ожидаешь услышать разве что глухие и торжественные слова про шелест трав и восклицанья муз, – при чем тут Бобик? При чем тут, в тесной комнатке, куда вместе с посетителем, прочищающим оттаявший нос, врывается кухонный чад и где под топчан впихнуты два картонных чемодана: рукописи и одежа, – при чем тут Лорелея?
Это был, так сказать, патентованный ахматовский прием, почти правило: надеть перчатку с левой руки на правую, вывернуть ситуацию наизнанку, снизить высокий стиль, поднять низменное, столкнуть несопоставимые на первый взгляд вещи, расположить в стихах слова под новым углом друг относительно друга. «Тогда же возникла его теория знакомства слов», – пишет она о Мандельштаме. Она утверждала, что поэт всегда «неуместен», всегда «воплощенная бестактность», приводила в пример Пушкина, который в журнале «Библиотека для чтения» среди потока праздничных стихов разных поэтов, посвященных годовщине войны 1812 года и по случаю открытия Александрийской колонны на Дворцовой площади, поместил элегию «Безумных лет угасшее веселье». «Так неуместно, так бестактно».
«По мне, в стихах все быть должно некстати, не так, как у людей».
И однако, вспомненное не к месту, сопоставленное некстати производило впечатление естественного, чуть ли не само собой разумеющегося. Отсылка к Горацию и намек на Шекспира, окрик на улице и восклицания муз доходили до людей и пленяли людей интонацией самой обыденной, бытовой, сто раз слышанной и настолько распространенной, что если по Зощенке можно восстановить городской язык 20—30-х годов, то по Ахматовой – интонации русской речи первой половины XX века. Интонация Ахматовой действовала одинаково на не искушенную в поэзии домохозяйку и на изощренного в анализе текстов структуралиста, это видно из того, что и тот и другая прилеплялись к стихам Ахматовой, а не, к примеру, Вячеслава Иванова или, на худой конец, Волошина, не менее «культурным».
Ахматова была антитеатральна, она совсем не умела показать человека, изобразить, как он говорит, но у нее были идеальные, несравненные слух и память на то, как расставлены в реплике, во фразе, в периоде слова, или – если они были расставлены неточно – на то, как должны быть расставлены. Она говорила, что можно поручиться, что фраза, услышанная молодым Иваном Сергеевичем Тургеневым в прихожей у Плетнева, совершенно достоверна. Стоя уже в шинели и шляпе, Пушкин обращался к собеседнику: «Хороши наши министры! нечего сказать!» «Так и видишь арапа!»
Ее собственная речь, какой бы ни блистала живостью, всегда производила впечатление составленной из тщательно и долго отбиравшихся слов. Она умела записать интонацию с той же точностью, с какой делается нотная запись мелодии. «А, это снова ты», «Подумаешь, тоже работа» – только чисто взятые ноты, только тот звук, который дает клавиша, клавиша музыкального инструмента, настроенного «так, как у людей».
Что тебе на память оставить, Тень мою? на что тебе тень?Записи уже содержат в себе обозначения «минорно», «бодро, но не слишком», «торжественно». И уточняющие, уже почти театральные ремарки:
(с вызовом:) Я сама не из таких, Кто чужим подвластен чарам, Я сама… (решительно, но лукаво:) Но, впрочем, даром Тайн не выдаю своих.Иногда стихотворение прячет собеседника, звучит репликой в диалоге с кем-то, формально отсутствующим: это ответ на его реплику, в целях экономии поэтических средств включенную в самый ответ:
И вовсе я не пророчица, Жизнь моя светла, как ручей, А просто мне петь не хочется Под звон тюремных ключей.В других стихах возникает отчетливый, таким же образом «вписанный» жест:
Или забыты, забиты, за… (резко повернувшись, устало и обреченно:) кто там Так научился стучать? Вот и идти мне обратно к воротам Новое горе встречать.Вероятно, этим можно объяснить отсутствие письменных ремарок в пьесе «Пролог, или Сон во сне», которую она сочиняла-восстанавливала в последние годы и постановку которой на сцене реально себе представляла (во всяком случае, телеграфную просьбу дюссельдорфского театра о такой постановке рассматривала серьезно). И вообще, чувство сценичности происходящего было свойственно ей в высшей степени. Есть очень живая фотография ее и пианиста Генриха Нейгауза, сидящих на диване и беседующих, – сделанная незадолго до смерти и его и ее. А.А. комментировала снимок: «Эта сцена из драмы какого-то скандинава. Она ему признается: «Теперь, когда прошло столько лет, я должна тебе сказать, что сын – не твой». Он хватается за голову… А сын тем временем уже профессор в Стокгольме».
В жизни ей была присуща выразительная мимика, особенно гнева, скорби, сострадания; жестикуляция почти совсем отсутствовала. Зимой 64-го года мы «солидарно», как было обозначено в договоре, переводили Леопарди. Ближе к весне взяли путевки в комаровский Дом творчества, на «срок», то есть на 12 дней: нам объяснили, что легче продлить на месте, чем получить сразу на месяц. Ее определили в номер в главном корпусе, меня во флигель. Отправляясь на прогулку, брали финские сани: сперва шли пешком, потом она, устав, усаживалась, я толкал санки по утоптанным аллеям. В солнечные дни снег становился рыхлым, но лыжники катались вовсю. На просьбу о продлении ответили под самый конец: ей разрешили остаться еще на полсрока, мне отказали. Особенно огорчаться не стоило, работать можно было и в городе. Что-то в этом роде я и говорил, когда остановил санки на открытой поляне: она сидела лицом к солнцу, внешне совершенно спокойная, даже безучастная. Вдруг ее лицо исказилось гримасой неподдельной ярости, стремительным и каким-то нелепым движением она выбросила вперед руку, сжатую в кулак, и выкрикнула: «Ну да! Им нужны путевки для лыжниц!» Почему именно для лыжниц, а не для лыжников, было непонятно, но все вместе – страшно убедительно.
Возможно, это прорывалась усвоенная ею в детстве и юности несдержанность и даже демонстративность реакции на происходящее, свойственные той южнорусской, особенно одесской, среде, в которой она жила. Семнадцатилетней девушкой она жалуется в письме: «… я вечная скиталица по чужим, грубым и грязным городам…» В других ее письмах этого же времени – образчики тогдашнего разговорного стиля: «Не бойтесь, я не зажилю, как говорят на юге»; «Тоника советую сунуть в…»; «Вам может показаться, что я пускаюсь на аферу»; «Вы бы, наверно, сказали: “Фуй, какой морд”». Она находила вкус в анекдотах, новых и «бородатых», которых был большой выбор в доме писателя-юмориста Ардова, где она подолгу, приезжая в Москву, жила. «Мама, маз?!» – мог вдруг крикнуть ей, садясь за карты, хозяин, изображавший простеца-зятя. То есть: примазываете, прибавляете свою долю к ставке? «Маз, маз», – отвечала она снисходительно. «Сначала уроки, випить потом» – эту присказку в ситуации приготовления к застолью могла произнести и она. Единственный раз, когда по ходу разыгрываемой Раневской и ею сценки (о которой рассказ дальше) должно было прозвучать нецензурное слово, она предупредила его замечанием: «Для нас как филологов не существует запретных слов», – но про уличное сквернословие могла сказать poésie maternelle (maternel – материнский, langue maternelle – родной язык). И строчки:
Ты уюта захотела, Знаешь, где он – твой уют? —недвусмысленно отзываются интонацией «крепкого выражения».
* * *
«Чехов противопоказан поэзии (как, впрочем, и она ему). Я не верю людям, которые говорят, что любят и Чехова, и поэзию. В любой его вещи есть «колониальные товары», духота лавки, с поэзией несовместимая. Герои у него скучные, пошлые, провинциальные. Даже их одежда, мода, которую он выбрал для них, крайне непривлекательна: уродливые платья, шляпки, тальмы. Скажут, такова была жизнь, но у Толстого почему-то та же жизнь – другая, и даже третья». Эта античеховская не столько критика, сколько позиция, настойчиво Ахматовой декларируемая, кого-то глубоко огорчала, многих повергала в недоумение или же развлекала парадоксальностью. Из объяснений внелитературных – потому что трудно согласиться с литературными и перестать слышать гармонический ритм чеховских рассказов, или струну, в прямом и переносном смысле, «Вишневого сада», трудно понять, почему Зощенко с его «товарами» и модами не противопоказан поэзии, а Чехов противопоказан, – напрашивается раньше других психологическое.
Быт, изображенный Чеховым, это реальный быт «чужих, грубых и грязных городов», большую часть детства и юности окружавший и угнетавший Аню Горенко, который Анна Ахматова вытеснила не только из биографии, но и из сознания херсонесским черноморским привольем и царскосельским великолепием. В письмах 1906–1907 годов, адресованных конфиденту, отчетливо проступает слой чеховской стилистики: «Хорошие минуты бывают только тогда, когда все уходят ужинать в кабак…»; «Летом Федоров опять целовал меня, клялся, что любит, и от него пахло обедом»; «… разговоры о политике и рыбный стол»; «Кричал же он [дядя] два раза в день: за обедом и после вечернего чая»; «Уж, конечно, мне на курсах никогда не бывать, разве на кулинарных»; «Денег нет. Тетя пилит. Кузен Демьяновский объясняется в любви каждые 5 минут (узнаёте слог Диккенса?)». Не правда ли, хочется продолжить: слог Диккенса в слоге Чехова? «Мне вдруг захотелось в Петербург, к жизни, к книгам»; «Где ваши сестры? Верно, на курсах, о, как я им завидую». – В Москву, в университет. Покончить все здесь – и в Москву! – откликаются «Три сестры».
Это письма чеховской провинциальной девушки, не удовлетворенной безрадостным существованием где-то, все равно где: в Таганроге или в Евпатории. Даже сюжет их: влюбленность в «элегантного и такого равнодушно-холодного» студента из столицы – типично чеховский. Как и конкретное проявление этой влюбленности: «Хотите сделать меня счастливой? Если да, то пришлите мне его карточку»; «Умереть легко»; «Я кончила жить, еще не начиная. Это грустно, но это так». Ситуация для Ахматовой – если видеть уже в девушке Горенко Ахматову – исключительная: это мир, стиль и голос чеховских героинь, но включенный в систему ее выразительных средств не «сложностью и богатством русского романа 19-го века», не «с оглядкой на психологическую прозу», как писал о ней позднее Мандельштам, а повседневностью. Не Ахматова цитировала Чехова, а Чехов – некую девицу Горенко. И в последующем, пусть самом незначительном, усвоении Чехова, если бы такое случилось, было бы «что-то от кровосмешения», как высказалась она однажды по сходному поводу.
Но, думаю, главной причиной ее нелюбви к Чехову была диаметральная противоположность их установок по отношению к искусству. Меня не оставляло ощущение, что претензии, которые высказывала Ахматова, говоря о Чехове, высказывались, чтобы ими заслонить эту неназываемую. В самом деле: она говорила, что пьесы Чехова – это распад театра. И она же в другой раз говорила, что МХАТ своим взлетом обязан тому, что Станиславский, после провала в Александринском театре «Чайки», открыл, как надо ставить чеховские пьесы, «и они имели бешеный успех». У Лидии Чуковской записана негодующая речь Ахматовой, обвинявшей Чехова чуть ли не во лжи: «Чехов всегда всю жизнь изображал художников бездельниками. … А ведь в действительности художник – это страшный труд, духовный и физический… Мне Замятины, уезжая, оставили альбомы Бориса Григорьева – там тысячи набросков для одного портрета. Тысячи – для одного… Чехов невольно шел навстречу вкусам своих читателей – фельдшериц, учительниц, – а им хотелось непременно видеть в художниках бездельников». Почти то же самое говорила она мне об Ильфе и Петрове: «Они оболгали писателей… В поезде, набитом писателями, жулик оказывается талантливее и умнее их всех». Однако монологом в защиту художников Ахматова уводит разговор в сторону от первой, более непосредственной реплики: Лидия Чуковская по ходу беседы об экранизации Чехова иронически заметила, что в рассказе «Попрыгунья» «все есть, что требуется: и отрицательная героиня, и положительный герой…» – «И высмеяны люди искусства, – сейчас же сердито подхватила Анна Андреевна, – художники. Действительно, все, что требуется!» И лишь спустя некоторое время она сосредоточила упреки на искажении образа художника-труженика.
Почему читателями Чехова были одни только фельдшерицы и учительницы, а если и так, то почему и сейчас, когда читательский состав существенно переменился, все равно требуется высмеивание людей искусства? Слов нет, Ахматова не упускала ни одной возможности поднять достоинство «человека искусства» в глазах общества. Она не простила ни волошинской пощечины Гумилеву, ни алексей-толстовского глумления над Мандельштамом: пусть оскорбители были того же цеха, что и оскорбленные, – унижая поэтов, они стали заодно с чернью. Когда ей позвонили из «Литературной газеты», чтобы объяснить, что ради опубликования стихов Берггольц, которые оказались более актуальными, они вынуждены перенести стихи Ахматовой в другой номер, она, не дав договорить, отрубила: «Я никому не собираюсь перебегать дорогу, я знаю, что такое добрые нравы литературы», – и повесила трубку. И так далее, и так далее. Однако почти пятьдесят лет ее жизни, вплоть до самого конца, люди искусства были в неизменном почете и большой цене – за исключением тех, кого официально объявляли вне искусства, ничтожествами, тунеядцами и т. п., что было в глазах обывателя такой же данностью, как «талант и трудолюбие» признанных. И Рябовский в «Попрыгунье» не подрывал доверия современных фельдшериц и учительниц к «страшному труду, духовному и физическому» Иогансона, не изобличал «бездельника» Фалька, которого для фельдшериц и учительниц просто не существовало.
Не «высмеяны люди искусства», а высказана была об искусстве разрушительная для искусства, по крайней мере в том виде, в каком оно сформировалось Cеребряным веком, правда. Лев Толстой говорил в 1909 году об Андрее Белом и вообще «декадентизме», что это бред сумасшедших: «Я никакого общения не имею с этими людьми. Я хотел бы спросить, что они хотят сделать». И еще: «Сказать, что «Некто в черном» страшен, – это все поймут и каждый может. А рассказать, как люди живут, как работают, чувства, столкновения – не каждый может». С точки зрения XX века Толстой выглядит old hat, дедушкиной шляпой, стариком, не понимающим нового искусства. Но у него был другой счет времени. И он, и декаденты предчувствовали потрясения, которые несет новое время: Революцию, Войну, разврат, террор и главное – Бога-нет; только он смотрел на это мужественно, ища и находя объяснения в извечных свойствах человеческой натуры, – как Сервантес, как Шекспир, а они, как будто оробев, объяснили это особыми свойствами XX века и стали создавать и описывать мир, параллельный реальному, где действовал «Некто в черном» и «пахло серой». Понятие Серебряный век, изобретенное впоследствии его представителями, подтягивало новое искусство к «золотому веку» и некорректно, и чисто формально: все, что было между Пушкиным и Блоком, как бы не замечалось Серебряным веком. Ахматова и – менее определенно – Мандельштам назвали вещи своими именами лишь через двадцать лет, и это было сделано скорее вопреки «новому искусству», искусству «XX века».
Искусство для Ахматовой – и шире: для людей искусства 900-х – 10-х годов – было служением не только в общепринятом, но и в религиозном смысле слова. В те годы так много говорилось о Боге в философских кружках и в театрах, в стихах, фельетонах, в ресторанах и гостиных, что само слово «Бог» сделалось равным всякому другому, и близкий друг Ахматовой Борис Анреп нашел для своей поэмы эпиграф в духе времени:
Да будет свет.
БогБогословие, всегда бывшее итогом духовного подвига, направленного к постижению Истины, широко заменялось религиозно-философскими, или этико-эстетическими, или построенными на чутье истонченных душ спекуляциями. Гумилев мог написать: «И в Евангельи от Иоанна сказано, что слово это Бог», – подставляя на место Бога-Слова Христа – слово профанное. Акмеизм назывался также адамизмом, поскольку акмеисты считали себя последователями праотца Адама, который как называл какую тварь, «так и было имя ей».
При таком смешении тайн и иллюзий, знаний и догадок, истины и мнений стало возможно сказать все, что угодно, и оправдать все, что угодно. Языческие мифы удовлетворяли принятому уровню достоверности так же – если не лучше, – как Священное Писание. Как записал в дневнике Блок: «Нет, все-таки Христос», – про предводителя красногвардейцев. Лишь искусство бралось соединить эти несоединимые вещи, лишь магией искусства заново связывались в единую картину мира идолы, сброшенные сотни лет назад, и образа́, снятые вольтерьянцами или ницшеанцами. «Как известно, христианство в России еще не проповедано», – любила шутить Ахматова.
Искусство, говоря ее стихами, «вклинялось в запретнейшие зоны естества» и отнюдь не чуралось контактов с мелкими и совсем не мелкими бесами. О черных мессах на дому у тех или других «людей искусства» говорилось хотя и приглушенно, но уже не очень и по секрету: не то искусство прибирало к рукам дьявола, не то дьявол искусство. И революция, придав руинам духа материальные формы, как бы развеяла последние сомнения в том, что спасение только в искусстве и искусство выше всего. Искусство, оно одно, оправдывало ахматовские строки:
Чудотворной иконой клянусь И ночей наших пламенным чадом.Оно одно разрешало назвать Блока «Демон сам с улыбкой Тамары», не утруждаясь опровержением того, что
И Пресвятая охраняла Дева Прекрасного поэта своего.Оно набрасывало прелестную пелену на страшные намеки, на безумное прикосновение к тому, что неприкосновенно, в «Тринадцати строчках»:
И мир на миг один преобразился, И странно изменился вкус вина. И даже я, кому убийцей быть Божественного слова предстояло, Почти благоговейно замолчала, Чтоб жизнь благословенную продлить.В ее оценках людей, притом что в суждениях она была воплощенный здравый смысл, на первый план выдвигалась принадлежность их к искусству или отношение к нему. «И ни в чем не повинен: ни в этом, ни в другом и ни в третьем… Поэтам вообще не пристали грехи», – заканчивает она гимн Поэту в «Поэме без героя». Зная, что мне этот на практике узаконивающий безнаказанность и даже провоцирующий совершение любого поступка по прихоти подход, особенно распространенный в среде артистической молодежи, чужд (я доказывал Бродскому, что поэт не смеет подвергать в стихах поруганью оставившую его подругу уже потому, что он одарен способностью сделать это наилучшим образом, а та не может ему ответить), она не касалась этой темы, разве что в разговоре при мне с третьим человеком. Но вот ее слова, записанные Лидией Чуковской: «… модернисты великое дело сделали для России… Они сдали страну совсем в другом виде, чем приняли. Они снова научили людей любить стихи…» Или о Маяковском: «Он ответил: «А к чему сейчас Хлебникова издавать?» Так он отозвался о своем товарище, о своем учителе… В чем же тогда разница между ним и Бриками? Они равнодушны к изданию его стихов, он – к изданию стихов Хлебникова. Разница есть, и большая, но она в другом: в его великом таланте. Он так же, как и они, бывал и темен, и двуязычен, и неискренен… Но это не помешало ему стать крупнейшим поэтом XX века в России». О Станиславском: «Но вот чем он мне привлекателен: настоящей одержимостью искусством. Ему, конечно, на все и всегда было наплевать: только бы ставить и ставить спектакли, только бы торжествовал театр. «Жизнь» помимо театра его просто не занимала…» И то же о Маршаке: «Впервые я поняла, в чем сила этого человека: в неистовой одержимости искусством». Прочитав, я подумал было, что Ахматова употребила другое слово, для православного человека, каким она была по воспитанию, одержимость – это одержимость бесом; но вот же, о себе, о том, как накатывала на нее Поэма, она свидетельствует, что была «бесовскою черной жаждой одержима»: в любом случае направленность ее пафоса ясна. И Анненского, который «весь яд впитал, всю эту одурь выпил, и славы ждал, и славы не дождался… – и задохнулся», и упал с разорвавшимся сердцем на ступени Царскосельского вокзала, убили, как можно понять из ее слов, недруги искусства, не напечатавшие вовремя его стихов.
И вот Чехов, писавший только то, что знал наверное, а то, что было сомнительно: «подсказанное чутьем», сны, догадки, – называвший сомнительным, говорит устами Нины Заречной о «святом» искусстве: «… в нашем деле – все равно, играем мы на сцене или пишем – главное не слава, не блеск, не то, о чем я мечтала, а уменье терпеть». А до нее исповедуется Тригорин: «День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен… Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю?.. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль… И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший?.. Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение – все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина, в сумасшедший дом… Едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно…»
Заречная – почти ровесница боготворимой Серебряным веком Комиссаржевской; «декадент» Треплев, о творчестве которого Аркадина говорит: «никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер», над которым смеются, которого печатают, но не читают, – это так называемый старший символист, один из тех, кто были предшественниками Ахматовой, авторитетами и учителями. И это в «Чайке», пьесе, где интрига между матерью и сыном, разыгрывающими эпизод Гертруды и Гамлета, все время, имеет в виду, вполне «по-ахматовски», шекспировскую ситуацию; так же как и ссылка на пушкинскую «Русалку»: «В «Русалке» мельник говорит, что он ворон, так она в письмах все повторяла, что она чайка». Тут уж и облако, похожее на рояль, начинает выглядеть пародией на ахматовское знаменитое «Высоко в небе облачко серело, как беличья расстеленная шкурка».
Новое искусство-священнодействие могло «сговориться» с искусством-анализом, искусством-идеей, искусством-проповедью XIX века – уже хотя бы потому, что и то, и эти «больше, чем искусство». Но сговориться с Чеховым, который трактовал искусство только как ремесло, было невозможно. Язык был один – тональность разная. Разных регистров: то, что Чехов выставлял в смешном виде, почти водевильно, стало подаваться совершенно всерьез и драматически. Реплики ранних ахматовских стихов и чеховских героинь взаимозаменяемы, сплошь и рядом дословно:
душа тосковала, задыхалась в предсмертном бреду; вы не стали бы мучить меня — много муки и так, много пыток; я не плачу, я не жалуюсь, мне счастливой не бывать; счастье стучится ко мне в окно, стоит только впустить его; милый, милый! и я тоже; умру с тобой… пусть тень его видит, как я люблю; о, как ты красив, проклятый! я умею любить и прощать…Куда, к чьему тексту отнести ту или иную строку, зависит от фокусировки, как в рисунке с секретом, на который если смотреть перпендикулярно, видишь крону дерева, цветы и птиц, а если по касательной к плоскости – скорченного в ветвях охотника. Затяни винт наводки на резкость – Анна Ахматова, цикл «Смятение»; ослабь – шутка «Медведь», Чехонте.
Лидия Яковлевна Гинзбург, много лет регулярно с Ахматовой встречавшаяся, после ее смерти сказала: «Почему я не задала ей главного вопроса: «Как вы так стали писать, то есть в самом начале?» Может быть, какой-то ответ дает Чехов: так тогда говорили – барышни, молодые женщины. В «Чайке» мудрец Дорн, доктор, считающий, что жаловаться на жизнь в старости невеликодушно, всем лекарствам предпочитающий валерьянку и верящий в мировую душу, только тогда, когда попадает в толпу, говорит о Треплеве: «Он мыслит образами, рассказы его красочны, ярки, и я их сильно чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Производит впечатление, и больше ничего, а ведь на одном впечатлении далеко не уедешь». Этот ли приговор новому искусству; или – поскольку искусство священно («наше священное ремесло») – последовательная «профанация таинства» («Серой пахнет. Это так нужно?»); или целенаправленное и неукоснительное снижение стиля, рассчитанное, как оказалось, на будущее, в частности на столь же целенаправленную ахматовскую высокость, и тем самым обнаруживающее общие корни; или лакей, от которого пахнет курицей, во всех мхатовских и немхатовских постановках «Вишневого сада» напоминавший о духоте и пошлости обстановки ее отрочества и юности; или все в совокупности было причиной ее неприязни к Чехову, но неприязнь, даже враждебность, была устойчивая. И когда я сказал ей, что на «Ленфильме» ставят картину по рассказу «Ионыч» и в нее как действующее лицо введен сам Чехов, она не пропустила случая: «Ага! Значит, там будет уже два врача».
* * *
Анна Сергеевна, «дама с собачкой», во время первого тайного свидания с соблазнителем произносит, не пряча слез: «Пусть бог меня простит! Это ужасно… Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый». В сходной ситуации лирическая героиня Ахматовой слышит сквозь пение скрипок: «Благослови же небеса – ты первый раз одна с любимым». Раскаяние молодой женщины выглядело, по Чехову, «странно и некстати», но такое ее отношение к происшедшему обусловливалось нормой христианского сознания. В этом смысле отношение ахматовской «счастливой» возлюбленной – прямое и подчеркнутое пренебрежение нормой, отказ от нее.
И вместе с тем столь откровенное и любующееся собой нарушение христианского закона – совсем уже «странно и некстати» – включалось поэтом без колебаний и сомнений в систему координат православного быта и образа поведения: молитвы дома, в храме, исповеди, причащения. «Протертый коврик под иконой»; «так молюсь за Твоей литургией»; «и темная епитрахиль накрыла голову и плечи». Более того, убежденность и естественность, с какой это включение делалось, словно бы узаконивают радость от нарушения нормы, поскольку она оказывается таким образом совместимой со скорбью раскаяния, которую предполагает исполнение других норм. Иначе говоря, нормой объявлялось именно это одновременное нарушение-соблюдение. Практика такого смешения была уже достаточно широко распространена; философия эпохи нашла ей обоснование, а значит, оправдание. Для поэзии в ней вообще не было противоречия.
Ахматова была человеком верующим и церковным. Когда-то посещение храма было для нее непременным и обычным делом:
А юность была – как молитва воскресная… Мне ли забыть ее? Напев Херувимской У закрытых дверей дрожит; Поднимались, как к обедне ранней.Церковные установления оставались для нее непреложными, и она рассказала мне после поездки в 1965 году в Англию, как ее спросили в Лондоне, не хочет ли она встретиться с тамошним православным архиереем. «Я отказалась. Потому что говорить ему всю правду я не могла, а не говорить правды в таких случаях нельзя».
Но в последние годы она в церковь не ходила. Зайти, перекреститься, постоять помолиться могла, церковный календарь всегда держала в голове, знала его хорошо, хорошо знала службу. В Прощеное воскресенье 1963 года сказала: «В этот день мама выходила на кухню, низко кланялась прислуге и сурово говорила: “Простите меня, грешную”. Прислуга так же кланялась и так же сурово отвечала: “Господь простит. Вы меня простите”. Вот и я теперь у вас прошу: “Простите меня, грешную”».
Но если воспользоваться ее собственными словами, она скорее была «вне церковной ограды», во всяком случае, в конце жизни. То говорила, что с общей исповедью согласиться не может, что введение общей исповеди вбило клин между нею и церковью; то – «я хочу верить, как простая бабка». И то и другое звучало, на мой слух, отговоркой. При этом писала: «Как я завидую Вам в Вашем волшебном Подмосковии, с какой тяжелой горечью вспоминаю Коломенское, без которого почти невозможно жить, и Лавру…» Тут уместно вспомнить ее мнение о том, что доступность искусства в виде множества переводов, репродукций и граммофонных пластинок – никак не прогресс: доступность эта предполагает случайное, легкое и поверхностное знакомство с проявлениями глубин человеческого духа и в этом смысле способствует духовному разврату. «Раньше на богомолье в Сергиев Посад отправлялись за двое суток – на ночь останавливались в Мытищах. Теперь электричка до Загорска идет полтора часа, но в такой поездке слишком много развлекательного». С другой стороны, когда я впервые надолго приехал в Москву из Ленинграда и стал ее осваивать и спросил у Ахматовой, с чего начинать, она ответила: «Смотря что вам интересно: если камни, то с Коломенского, если барахло – с Останкина». И когда, придя к ней после Коломенского, я рассказал, как уговорил сторожиху открыть мне Вознесенскую церковь и какая там была невыносимая пустота и невыносимая стужа, она спросила: «А вы заметили, какая она внутри крохотная? Какой, стало быть, маленький был у Грозного двор!» О Казанской, действующей, не было сказано ни слова, как будто ее вообще не существовало.
На Пасху 1964 года я получил от нее письмо, там были такие фразы: «По новому Мишиному радио слышала конец русской обедни из Лондона. Ангельский хор. От первых звуков – заплакала. Это случается со мной так редко».
Заплакала она и еще раз – когда я ей рассказывал о фильме Пазолини «Евангелие от Матфея», его привезли на фестиваль итальянского кино. Она тогда недавно вышла из больницы после тяжелого инфаркта и еще чувствовала слабость. Я рассказал, что в зале передо мной сидел юноша-грузин, и когда началась сцена распинания и из середины толпы, заслонявшей ее, донесся первый удар молотка и вскрик, он вдруг уронил голову на ладони и затрясся в рыданиях. Слезы наполнили ее глаза и покатились по щекам. Потом она спросила, был ли в фильме эпизод с самаритянкой: «Впрочем, это от Иоанна». (Вот как описан этот эпизод в IV главе Евангелия от Иоанна, стихи 6–8, 27:
«Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа.
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить.
Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
………………………………………
… пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: «чего Ты требуешь?» или «о чем говоришь с нею?»
………………………………………
– Замечательно, – сказала Ахматова, – то, что Евангелист обращает на это вниманье: застав Его наедине с женщиной, никто не подумал дурного.)
Подобные места Нового и Ветхого Заветов привлекали ее особый интерес, под таким, или сходным, углом зрения они были прочитаны ею, о чем свидетельствуют в первую очередь «Библейские стихи». Со скрытым торжеством рассказывала она, как поймала на ошибке Достоевского – или Подростка, если у Достоевского эта ошибка была задумана. Подросток говорит Ламберту: «Если бы она вышла за него, он бы наутро, после первой ночи, прогнал бы ее пинками… Потому что этакая насильственная, дикая любовь действует как припадок… и, чуть достиг удовлетворения – тотчас же упадает пелена и является противоположное чувство: отвращение и ненависть, желание истребить, раздавить. Знаешь ты историю Ависаги?..» История Ависаги из III Книги Царств (стихи 1–4) тут ни при чем:
«Когда царь Давид состарелся, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться.
И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтоб она предстояла царю, и ходила за ним, и лежала с ним, – и будет тепло господину нашему царю.
И искали красивой девицы во всех пределах Израильских, и нашли Ависагу Сунамитянку, и привели ее к царю.
Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему; но царь не познал ее».
Ахматова считала, что Достоевский, конечно же, имел в виду историю, рассказанную в 13-й главе II Книги Царств: о темной страсти Давидова сына Амнона к Авессаломовой сестре Фамари, которую, обесчестив, «потом возненавидел <… > величайшею ненавистию, так, что ненависть, какою он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей Амнон: встань, уйди… И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: прогони эту от меня вон, и запри дверь за нею» (Стихи 15, 17).
Выбор Ахматовой сюжетов из Священного Писания (Рахиль – Лия – Иаков; жена Лота; Мелхола – Давид; дочь Иродиады), их трактовка, ударения, в них расставленные, обнаруживают отчетливую тенденцию: все они так или иначе посвящены любовным отношениям мужчины и женщины – точнее, женщины и мужчины. И не прообразы любви небесной, видимые, согласно христианскому вероучению, «как бы сквозь тусклое стекло», проясняет поэт через образцы любви в этом мире, а как раз психологические, чувственные, «всем понятные» стороны любви плотской, пусть и самой возвышенной.
Читаю посланья Апостолов я, Слова Псалмопевца читаю. Но звезды синеют, но иней пушист, И каждая встреча чудесней, — А в Библии красный кленовый лист Заложен на Песни Песней.Читаются Апостольские послания, Псалтирь – и вообще, Ахматова знала Библию превосходно, ориентировалась в ней свободно, нужное место находила сразу – но распахнуться книга сама готова на Песни Песней, лирико-драматической поэме, описывающей любовь пастушки и царя и внешне не отличающейся от светской. И когда Ахматова обращается к Богу:
Ты, росой окропляющий травы, Вестью душу мою оживи, — Не для страсти, не для забавы, Для великой земной любви, —то если начало четверостишия очевидным образом повторяет молитву Иоанна Златоуста на 11-й час дня: «Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоея», – то конец столь же очевидно противопоставляется его молитве на 10-й час ночи: «Господи, сподоби мя любити Тя от всея души моея и помышления…» В контексте стихотворения эта «великая земная любовь» сродни карамазовскому толкованию евангельских слов о грешнице, которая «возлюбила много»: «… она «возлюбила много < – кричит Федор Павлович, – >, а возлюбившую много и Христос простил…» – «Христос не за такую любовь простил…» – вырвалось в нетерпении у кроткого отца Иосифа».
День ангела Ахматовой был 16 февраля (по новому стилю), именины справлялись скромно, она принимала поздравления по телефону, вечером за стол садилось несколько гостей. «Я Анна сретенская», – говорила она, ее покровительницей была пророчица Анна, встретившая в иерусалимском храме младенца Христа. Стих «И вовсе я не пророчица» отталкивается, конечно, от образа этой святой. Что же касается дня рождения, то тут была известная путаница. Начать с того, что она писала в автобиографии «Я родилась 11 (23) июня», а праздновала, как правило, 23-го и 24-го, прибавляя к дате рождения по старому стилю то 12 дней, поскольку оно случилось в прошлом веке, то 13 – поскольку отмечалось в тот же день уже в новом. Во-вторых, она любила заметить мимоходом, что родилась в праздник Владимирской иконы Божьей Матери, установленный в память избавления Руси от ордынского хана Ахмата, ее легендарного предка, на котором кончилось татарское иго. Но этот день – 23 июня по старому стилю, 6 июля по новому.
Хан Ахмат, однако, был скорее декоративным украшением, антуражем, придававшим фигуре и имени поэта пикантную яркость, не лишнюю, но и ничего не менявшую. Существенным же было ее утверждение, письменно и устно повторяемое, что она родилась в ночь на Ивана Купалу, то есть опять-таки на 24 июня по старому, 7 июля по новому стилю. Она давала понять, растворяя, правда, серьезность своих утверждений и намеков благодушно-иронической литературностью, что магия, приписываемая этой ночи, ее обряды, поиски папоротника, цветущего огненным цветом, и с его помощью – кладов, прыганье через костры, скатывание с горы зажженного колеса, купание и т. д., так же, как и весь круг мифов, связанных с Купалой, скрывающимся в воде, в огне и в травах, подающим силу воды и теплоту солнца растениям, – были усвоены ею как бы вследствие уже самого факта рождения в этот день. Самый же день упоминается в стихах не как праздник чудотворной иконы, или мученицы Агриппины, или как канун Рождества Предтечи, а как день Аграфены-купальщицы, канун Ивановой ночи. (Притом опять-таки одновременно с упоминанием о чтимом церковью пророке Давиде.)
Это усвоение, как сейчас принято говорить, народных традиций, сложившихся вокруг культа Ивана Купалы, а по сути языческой, то есть демонической, реальности его культа, было отнюдь не безобидным. Тем более что оно переплеталось проникновением или намерением проникнуть в области действия тех таинственных сил, проявление которых описывают главным образом мифы, объединенные культами луны и воды. «И вот я, лунатически ступая, вступила в жизнь» – не поэтическая фигура, если вернуться к воспоминанию В.С. Срезневской о «лунных ночах с тоненькой девочкой в белом платьице на крыше зеленого углового дома («Какой ужас! она лунатик!»)». Столь же биографична и ее внутренняя связь со стихией воды: родившаяся у моря, жившая на море каждое лето, она, по ее словам, «подружилась с морем», «плавала, как щука», по оценке брата-моряка; и еще «знали соседи – я чую воду, и если рыли новый колодец, звали меня, чтоб нашла я место», как повествует поэма «У самого моря». Отсюда в ее стихах – русалка, морская царевна и, наконец, китежанка; из лунатизма – сомнамбула в «Прологе», одном из самых, как кажется, чернокнижных произведений Ахматовой.
Тут была игра – и не игра. Шутка – и питательная среда ее поэзии. Стилизованные под сказку древние руины – и склубление невымышленной энергии, из которой черпала силы ее невымышленная муза. В этой тяге к «запретнейшим зонам естества», в культивировании сверхобычных свойств натуры, «шестых чувств», а они у нее были: вещие сновидения, чтение мыслей, разгадка примет, «выдразнивание» встреч, вестей и т. д., – тоже сказывалась ее принадлежность «своему времени», началу века с его повышенным интересом к теософии, антропософии, оккультным знаниям. «Это нам известно, – сказала она однажды, соединив большие пальцы рук и широко раздвинув остальные: положение кистей на спиритическом сеансе. – Недавно давали пять лет – за один такой жест». Дело было в Комарове, зимой, мы с Бродским и Мариной Басмановой, его подругой, зашли к Ахматовой в гости. Заговорили о спиритизме, я рассказал, что двое моих приятелей клянутся, что вызвали духов Гете и Лебедева-Кумача, те явились одновременно и застряли в дверях. Она сказала, что относится к столоверчению враждебно, считая его занятием безнравственным, и сослалась еще на довод Модильяни: «Разве мне было бы приятно узнать, что кто-то может вызвать тень моей покойной матери?» – «А впрочем, – закончила она, – возьмите словарь Брокгауза на букву С и прочтите статью Владимира Соловьева «Спиритизм», очень толковую». (Потом она дала нам десятку и послала в магазин за водкой и закуской. Стоял мороз, ночное небо было безоблачно, все в ярких звездах. Бродский узнавал, или делал вид, что узнает, созвездия, потом спросил меня: «А-Гэ, а почему, объясните по науке, в северном полушарии не виден Южный Крест?» Я сказал: «Возьмите словарь Брокгауза на букву А и прочтите статью “Астрономия”.– «А вы, – сказал он тотчас, очень довольный вовремя пришедшим в голову каламбуром, – возьмите словарь Брокгауза на букву А и прочтите статью «Астроумие».)
Мир, не замечающий contradictio in adjecto, внутреннего противоречия, в безгрешной радости от греха, в освященной небом земной страсти, в примирении Христа с Велиаром, – это иллюзия, создание которой подвластно одной поэзии. Создание, создавание которой, собственно, и значит «поэзия», в исходном, греческом ее применении.
Подвластно – и необходимо ей: «протертый коврик под иконой» обостряет впечатление от «веселой грешницы» до предела, одно без другого не работает, поэзия в их непременной совместности и одновременности.
Через печальную благодарность, пусть и не без кощунства выраженную, за избавление от страсти:
Исцелил мне душу Царь Небесный Ледяным покоем нелюбви;через сознание искушения, пусть и кончающегося выбором греха:
«То дьявольские сети, Нечистая тоска». – «Белей всего на свете Была ее рука», —поэт приходит к овладению пространством вседозволенности, пусть иллюзорным, в котором другие измерения, расплывчатые грани, в котором свет похож на тьму и тьма на свет:
Я за нашу веселую дружбу Всех святителей нынче молю.В 1922 году Ахматова пишет стихотворение, исключительное по откровенности, которой ссылки на «Фауста» не только не вуалируют, а, наоборот, обнажают корни:
Дьявол не выдал. Мне все удалось. Вот и могущества явные знаки. Вынь из груди мое сердце и брось Самой голодной собаке. Больше уже ни на что не гожусь, Ни одного я не вымолвлю слова. Нет настоящего – прошлым горжусь И задохнулась от срама такого.После этого признания уже не неожиданным кажется другое:
И только раз мне видеть удалось У озера, в густой тени чинары, В тот предвечерний и жестокий час — Сияние неутоленных глаз Бессмертного любовника Тамары.Незадолго до ее смерти у нас случился разговор о тогдашнем ее положении: о новой славе, пришедшей к ней, и о пошлости, сопровождавшей эту славу; о высоком авторитете и о зависимости от газетной статьи, чьих-то мемуаров, Нобелевского комитета, иностранной комиссии СП; о бездомности и о зависимости от чужих людей; о старости, болезнях и о десятках телефонных звонков, писем. Сперва она держалась гордо, повторяла: «Поэт – это тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя отнять», – но вдруг сникла и, подавшись вперед, со страданием в глазах и в упавшем голосе, почти шепотом, выговорила: «Поверьте, я бы ушла в монастырь, это единственное, что мне сейчас нужно. Если бы это было возможно».
* * *
Надежда Яковлевна Мандельштам в мемуарах, в главе «Два полюса», упрекает Ахматову в том, что она утверждает образ «поэта на сцене». Имеется в виду стихотворение «Читатель». В самом деле, мнение Осипа Мандельштама об актере как «профессии, противоположной» поэту, полностью разделялось Ахматовой. «Эстрадничество» 50—60-х годов было в ее устах почти бранным словом. И тем не менее в «Читателе», датированном 1959 годом, изображен именно поэт-актер:
Не должен быть очень несчастным И, главное, скрытным. О нет! Чтоб быть современнику ясным, Весь настежь распахнут поэт. И рампа торчит под ногами, Все мертвенно, пусто, светло, Лайм-лайта холодное пламя Его заклеймило чело. А каждый читатель как тайна, Как в землю закопанный клад, Пусть самый последний, случайный, Всю жизнь промолчавший подряд. Там все, что природа запрячет, Когда ей угодно, от нас. Там кто-то беспомощно плачет В какой-то назначенный час. И сколько там сумрака ночи, И тени, и сколько прохлад, Там те незнакомые очи До света со мной говорят, За что-то меня упрекают И в чем-то согласны со мной… Так исповедь льется немая, Беседы блаженнейший зной. Наш век на земле быстротечен, И тесен назначенный круг, А он неизменен и вечен — Поэта неведомый друг.Этот образ как будто противоречит и самим основам ее поэтического кредо, таким, как: «Без тайны нет стихов»; «Поэт – это тот, кому ничего нельзя дать и у кого ничего нельзя отнять», – и вообще тому трагическому автопортрету поэта, который возникает из ее стихов. В «Читателе» декларируется сначала, что для того, чтобы быть понятным (понравиться) современникам: все равно, «черни» или «элите» – просто «современникам», поэт чего-то не должен.
О цикле «Тайны ремесла» у нас был разговор, о первых шести стихотворениях: «Творчество», «Мне ни к чему одические рати…», «Муза», «Поэт», «Читатель», «Последнее стихотворение», – остальные были присоединены по соображениям публикационной политики. Я сказал, что стихи описательные и как раз лишенные тайн и я воспринимаю цикл как второстепенный. Она ответила: «Я и сама их не люблю. Но должна же была я написать что-нибудь, кроме «Реквиема», и при этом не про запуски спутников». Я заметил, что «Поэт» и «Читатель» выделяются, что они не только «сделаны в мастерской Ахматовой», но и «рукой самого мастера». Это было и ее мнение, она ответила сразу и с ударением: «Кажется, да».
В августе 1959 года Ахматова и Пастернак были гостями у Вяч. Вс. Иванова. Хозяева обратились к ним с просьбой прочесть стихи, Ахматова прочла «Летний сад». Пастернак весь вечер был мрачен и агрессивен, о стихотворении высказался недружелюбно. Словно не обратив на это внимания, Ахматова после короткого вступления прочла еще «Читателя». (Пастернак как будто отозвался одобрительно, но по-прежнему угрюмо. Сам читал мало, через силу, отказывался категорически. Создалось впечатление, что Ахматова, несмотря ни на что, хотела прочесть ему «Читателя».)
К тому времени было уже широко известно распространявшееся в списках стихотворение Пастернака «За поворотом». (Когда в 62-м году оно было напечатано в «Дне поэзии», я, рассказывая Ахматовой об альманахе, которого она еще не видела, сообщил об этом, и она сказала: «Замечательные стихи».) Сюжет его – тот же, что в «Читателе»: природа, что-то прячущая от посторонних. Как и «Читатель», «За поворотом» изобилует недосказанностями, намеками: «пряча что-то», «не пускает на порог кого не надо». У Ахматовой «кто-то беспомощно плачет», у Пастернака «просьбы о защите». Наконец, «будущее» Пастернака и «поэт» Ахматовой – оба «распахнуты настежь».
Не менее явная обнаруживается перекличка стихотворений «Читатель» и «Поэт» с «Посвящением» и «Театральным вступлением» к «Фаусту» в пастернаковском переводе, который он кусками, по мере завершения, читал Ахматовой. Одинаковый подход к теме и сходное ее разрешение подчеркивается текстуальными совпадениями:
Распался круг, который был И тесен назначенный круг;
так тесен;
Немножко жизни, выдумки Немного у жизни лукавой
немножко; И все – у ночной тишины
и т. д. (в «Поэте»);
Ахматова составила список своих публичных выступлений, последние из которых помечены 1946 годом. Из 31, упомянутого в списке, на этот год приходится, по крайней мере, 6, и почти наверное к тому же времени относится несколько выступлений, перечисленных, но недатированных. Эту насыщенность она ставила в связь с последовавшим в августе Постановлением ЦК. (Последнее выступление этой серии, вместе с Зощенко, перед парт– и комсомольским активом, было предпринято, по ее убеждению, для предварительного непосредственного знакомства persécuteur’a с persécuté, гонителя с гонимым.) Не этим ли, в частности, объясняются тон и лексика первой строфы «Читателя», словно бы пародирующие декларативность и терминологию официальных документов: постановлений, докладов, передовых статей о литературе и искусстве?
В апреле 1946 года Ахматова и Пастернак один или два раза выступали вместе. Стихотворение Пастернака «Гамлет», с одной стороны, уже очень популярное, а с другой – недавно написанное, вполне вероятно, было прочитано поэтом с эстрады. «Читатель» повторяет ситуацию «Гамлета», так же как конкретную характеристику ситуации – «сумрак ночи»: «На меня наставлен сумрак ночи тысячью биноклей на оси».
Таким образом, противоречие поэт/актер снимается, если согласиться, что этот поэт и одновременно актер – Шекспир, или другое воплощение этого образа – например, Пастернак-Гамлет. В пользу такого заключения свидетельствует не только «двойная профессия» Шекспира, но и англизированный (и обращенный к той театральной эпохе) стих «Лайм-лайта холодное пламя» ([laimlait… fleim]), с немедленным эхом «заклеймило» в следующем стихе – игра, вполне допустимая при вообще наличествующей в стихотворении игре: «И тени, и столько прохлад. Там те незнакомые очи (знакомые очи чьей-то тени); Наш век на земле быстротечен, И тесен назначенный круг». По-видимому, строчка «И рампа торчит под ногами» учитывает и английское значение глагола to torch – освещать факелами. Подтверждением того, что стихи «прячут» Шекспира, служит также цитирование слов Белинского по поводу «Сна в летнюю ночь», в котором образы героев – как «тени в прозрачном сумраке ночи». Эта реплика Белинского приводится в комментарии к переводу «Сна в летнюю ночь» («A Midsummer-Night’s Dream»), опубликованному в III томе Собрания сочинений Шекспира в 1958 году.
Midsummer Night, Ночь на Ивана Купалу, ее прелестно-жуткое колдовство – это и есть пейзаж, воздух, поэтическое пространство «Читателя», его содержание. «Сама не из таких, кто чужим подвластен чарам», Ахматова хорошо знала своих – пленников обаяния этой ночи – Шекспира и Гоголя в первую очередь. У Белинского упоминание о «Сне в летнюю ночь» встречается именно по поводу «Майской ночи» Гоголя: «Это впечатление (от чтения «Майской ночи») очень похоже на то, которое производит на воображение «Сон в летнюю ночь» Шекспира» (статья «О русской повести и повестях г. Гоголя»). И выше: «… вам будет чудиться эта светлая прозрачная ночь… полная чудес и тайн… это пустынное озеро, на тихих водах которого играют лучи месяца, на зеленых берегах которого пляшут вереницы бесплотных красавиц…»
«Читатель» говорит о тех же предметах, что «Вечер накануне Ивана Купалы» и «Майская ночь»: клад, уходящий в землю по мере приближения к нему; «все, что ни было под землею, сделалось видимо как на ладони»; плач жалобных верб и ручьи слез по лицу панночки, просящей о помощи. Читатель сравнивается со всем этим как бы формально: он – «тайна», и это – таинственно.
Описания, подобные приведенному, у Белинского нередки. Он пишет о «Тамани» Лермонтова: «… Все в ней таинственно, лица – какие-то фантастические тени, мелькающие в вечернем сумраке, при свете зари или месяца. Особенно очаровательна девушка… обольстительная, как сирена, неуловимая, как ундина, страшная, как русалка, быстрая, как прелестная тень или волна…»
Лермонтов был свой по преимуществу: певец «русалочьей» темы, к тому же еще и царскосел. Но, как это ни неожиданно, среди своих возникает фигура Белинского, с его постоянной в ранних сочинениях тягой к призрачному, лунному, подводному.
В книге «Судьба Лермонтова» Э.Г. Герштейн – которая была приятельницей Анны Андреевны и чьи многолетние исследования были в сфере внимания Ахматовой, – в главе «Журналист, Читатель и Писатель» приводятся существенные доводы в пользу отождествления образа лермонтовского Читателя с Вяземским. И тут же в качестве, так сказать, запасного варианта присутствует Белинский. Наконец, упоминается об уже сделанном прежде сопоставлении стихотворения Лермонтова «Журналист, Читатель и Писатель» с «одновременными статьями Белинского, в которых он… говорит о задачах «Отечественных записок» в воспитании демократического читателя».
Поэтическая мысль Ахматовой, войдя в исполненный тайны мир, манивший и впускавший в себя ее предшественников, вернулась обогащенной столько же своим, сколь и их опытом. Стихотворение «Читатель» – это ее, разработанная вне всех прежних традиций, версия традиционного поэтического сюжета «Диалог Поэта с He-поэтом» («Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Журналист, Читатель и Писатель» и т. д.). Бег времени, дефицит его в новом веке, ускорившийся темп восприятия мира вынуждали искусство к экономии: «Наш век на земле быстротечен, и тесен назначенный круг». Двоящийся, троящийся Поэт – это Шекспир (Пастернак) – Гоголь – Лермонтов; двоящийся, троящийся Читатель – это: Поэты, читающие (или цитирующие) друг друга, и Белинский (уже как имя нарицательное), читающий Поэтов.
В конце 50-х годов Ахматова прочла несколько эссе Цветаевой, ходивших тогда по рукам. «В «Герое труда» Цветаева пишет: «Бальмонт: открытость – настежь, распахнутость, Брюсов – сжатость… скупость, самость себе». «Читатель» откровенно полемизирует с брюсовским «Поэту»: «Ты должен быть гордым, как знамя. Ты должен быть острым, как меч. Как Данту, подземное пламя Должно тебе щеки обжечь». Отношение же Цветаевой к Бальмонту находится в прямом противоречии с оценкой Мандельштама: «Отказ от «собеседника» красной чертой проходит через всю поэзию Бальмонта и сильно обесценивает ее. Бальмонт в своих стихах постоянно третирует кого-то, относится к кому-то без уважения, небрежно, свысока. Этот «некто» и есть таинственный собеседник» (статья «О собеседнике», появившаяся в 1913 году в «Аполлоне»)».
Эти сопоставления и сравнения напрашиваются, конечно же, не затем, чтобы доказать, что Ахматова, принимаясь за «Читателя», ставила целью «ответить» всем. Просто в стихах, которые удались, так и бывает: всё и все, относящиеся к их предмету, оказываются вовлеченными в них – знак и свидетельство того, что они удались.
* * *
При общении с ней возникало отчетливое ощущение трех временны́х потоков, самостоятельно, но и во взаимодействии включавших в себя каждую протекающую минуту. Во-первых, реальное время – суток, года, состояния здоровья, домашней атмосферы, политической обстановки и т. д. Во-вторых, как это бывает у старых людей, время возраста, время жизни, в котором ничего из прожитого не пропадает, в котором сиюминутный собеседник, или снегопад, или смена правительства оказываются среди других, когда-то реальных собеседников, снегопадов, смен правительств. Тут появлялись тени, множество теней, почти материализующихся из ее памяти, своим призрачным присутствием вмешивающихся в беседу, корректирующих твою речь и поведение. «Очень переменилась одежда, – сказала она. – Неожиданно и быстро: я не могу представить себе Колю одетым, как вы, в куртку и свитер». И в тот же миг «Коля», в черном сюртуке и белой рубашке со стоячим воротником, оглядывал меня скептически. В-третьих, сама осознавая свою жизнь составной частью исторического времени, она обыденным замечанием вовлекала в эту тысячелетия текущую реку тех, кто оказывался близ нее. В детстве я услышал от друга моих родителей, ориенталиста, фразу, произнесенную к случаю, которая во многом сформировала мое последующее отношение к истории: «У нас в Ассирии за это на кол сажали». «У нас в Египте», «у нас в Риме», «у нас – гибеллинов, елизаветинцев, ордынцев» – было не столько острым словцом в устах Ахматовой, сколько непосредственным ощущением.
В реальном времени действовали реальные люди. Московским домом Ахматовой была квартира Ардовых на Ордынке, «легендарная Ордынка», как иронически называла ее сама А.А. и, вслед за ней, близкие к ней люди. Хозяйка, Нина Антоновна Ольшевская, предоставляла гостье малюсенькую, но уютную комнату, прежде принадлежавшую ее старшему сыну Алексею Баталову, и окружала почтительно-нежной заботой. Ее полная внутреннего достоинства самоотверженность и преданность Ахматовой оплачивались доверительностью и любовью старшей подруги. Прежде актриса МХАТа, потом Театра Советской Армии, прожившая, как большинство женщин ее поколения и круга, далеко не безоблачную жизнь, Ольшевская обладала тонким чутьем и горьким опытом, позволявшими ей одинаково хорошо разбираться в людях и в стихах. Она умела делать добро. Ахматова повторяла: «Добро делать очень трудно; зло делать просто, а добро очень трудно». Я спросил Нину Антоновну, почему она так антипедагогично балует внучку. «А хочу, чтобы, когда я умру, она вспоминала, какая у нее была добрая бабушка», – ответ был совершенно серьезный. Высокая, стройная, несуетливая, немногословная, она задавала тон этому дому, в котором за столом могли одновременно оказаться ее претенциозная свекровь и Ахматова, Пастернак и пошляк-эстрадник, академически корректно строящий фразы Жирмунский и пьяные студенты. Ее судьбе Ахматова собиралась посвятить в своей прозаической книге главу «И все-таки победительница».
Ее муж, Виктор Ефимович Ардов, знавший все существовавшие в мире шутки, анекдоты и остроты и с переменным успехом изобретавший новые, зарабатывал на свою немалую семью и сменявших один другого гостей и постояльцев продажей во все газеты и журналы, от «Вестника ЦСУ» до «Крокодила», юморесок, юмористических рассказов и других видов юмора. Он был знаком со всей Москвой, и около него всегда кружился какой-нибудь сатирик из провинции или конферансье. Речь его была яркой даже в тех случаях, когда яркости не требовалось, на всякий поворот беседы у него оказывалась запасена история, более или менее к месту, как правило, экстравагантная и смешная. И собеседника он провоцировал на рассказ таких же историй. Это довольно распространенная манера общения, без обострений, без взлетов и провалов, в разговоре участвуют не сами люди, а вспоминаемые ими по поводу, а можно и без повода, истории, помесь деградировавшего «Декамерона» с увядшей «Тысячью и одной ночью», что-то вроде шлепанья через томительные пяти– или десятиминутные промежутки картами в игре «свои козыри». И если партнер на соответствующий лад настроиться не мог и пускался в обыкновенное повествование, Ардов демонстративно отвлекался от разговора, начинал рисовать на обрывке бумаги, заваривать чай, искать в справочнике телефонный номер, при этом с лицемерно-сочувственной интонацией приговаривая невпопад: «Ай-яй-яй. Да, да, вообще, знаете ли…» Когда Ахматова спросила у Нины Антоновны, как ее внучка обращается к отчиму, и, узнав, что по имени, одобрила: «Так и нужно. Папой надо называть папу, мамой маму…» – он, проходивший мимо, тут же подхватил: «… дядей дядю, снохой сноху, шурином шурина. Я, Анна Андреевна, подработаю список, подам вам, ладно?»
Кроме Баталова, к тому времени жившего уже отдельно, у них было еще два сына, Михаил и Борис, родившиеся незадолго до войны. Оба выросли на глазах у Ахматовой, оба в какой-то мере были воспитаны ею, фактом ее присутствия в их доме. Михаил, литературно одаренный, усвоивший отцовскую живость, насмешливость и остроумие, был прозван ею Шибановым в честь воспетого А.К. Толстым стремянного, верного своему князю до смерти. «Но слово его все едино», – декламировал он, усаживая ее в такси, и она без выражения продолжала: «Он славит сваво господина». Борис, служивший актером в театре «Современник», назывался «артист драмы», как герой известного рассказа Зощенко. Он обладал безошибочным чутьем на фальшь и ложь и даром лицедейства, мгновенно преображавшим его в премьер-министра на трибуне ООН, в поэтессу, рассказывающую Ахматовой о своем успехе, в мерзнущего на лестнице шпика. Принесенная им частушка
Дура, дура, дура я, Дура я проклятая, У него четыре дуры, А я дура пятая, —была ею тотчас оценена и пополнила арсенал: «Это я. И это мои стихи». В домашнем употреблении была и другая, сочиненная Михаилом еще в бытность студентом-филологом по поводу визита к Ахматовой академика Виноградова и одобренная ею, «узкоцеховая» частушка:
К нам приехал Виноградов, Виноградова не надо, Выйду в поле, закричу: Мещанинова хочу!«Миша-беспощадник», – улыбалась она.
У обоих мальчиков Ардовых был хороший вкус, проявлявшийся, правда, наиболее выразительно в отталкивании от вещей дурного вкуса. Многое в литературе и в искусстве они получали из первых рук, например, им, еще детям, позволили сидеть в гостиной, где Пастернак – для Ахматовой и для хозяев – читал только что переведенные куски «Фауста», и, слушая сцену в кабачке, они засмеялись, на них зашикали, но Пастернак сказал, что и должно быть смешно. Как большинство людей, приученных смотреть на литературу как на живое дело, а не как на стоящие на полке книги, они не благоговели перед ней, не говорили о ней с придыханием и вообще больше были гуляки, выпивохи и любители приключений, чем книгочеи. Особенно Борис, с середины дня до позднего вечера пропадавший в театре. И поэтому, когда он ослепительным зимним полднем, щурясь на свет, вышел из ванной с «Карамазовыми» под мышкой и скрылся в своей комнате, Ахматова показала мне на него глазами и с деланым ужасом прошептала: «Вы видели? Достоевский!» – «И что?» – «Как что? Маяковский за всю жизнь не взял в руки ни одной книги, потом вдруг прочел «Преступление и наказание»: чем это кончилось, вы знаете…»
Жизни они и их друзья, такие же удальцы, как они, носившие прозвища Слон, Ландыш (Ландыш был, разумеется, еще крупнее Слона) и тому подобные, учились у жизни, а не у литературы. Жизнь, которой они были прежде всего участниками и лишь за счет обостренного зрения еще и наблюдателями, почти независимо от них становилась литературой, наилучшим образом удававшейся в жанре устного рассказа. Герои возникали из мимолетных встреч, однодневных дружб, из среды «не дорогих, но любимых девушек», как весело заметил Слон, и из числа гостей, чье регулярное появление в доме объяснялось авантюрной жилкой, присущей хозяину. Виталий Войтенко был одной из самых колоритных фигур, его буйную и артистическую натуру пыталось обуздать уголовное законодательство, унизить газетные фельетоны, без малейшего успеха. Эстрадный импресарио, летчик-штурмовик, аккордеонист-профессионал, врач-гипнотизер (в последнем качестве развенчанный «Правдой», отметившей, впрочем, его «безукоризненные манеры») – главные сферы деятельности, в которых, как можно было заключить из его слов, он достиг вершин. «Реже мечи́те, малолетки!» – рявкнул он на молодежь, слишком несдержанно, по его мнению, потянувшуюся после первой рюмки к холодцу. И вечером того же дня, стремительно выходя из кабинета хозяина и увидев Ахматову, сидевшую на ее обычном месте посредине дивана под зеркалом, закричал, упав на колени и на коленях к ней заскользив: «Ручку, матушка, ручку! Позвольте к ручке!» – а по пути и уже целуя руку, восторженно комментировал трепещущим от удовольствия зрителям, как бы только для них, как бы неслышно для нее: «Императрица! Чисто императрица!»
Матери хозяина было под девяносто, она переехала на Ордынку, чтобы не жить одной – и чтобы передать свою комнату внуку. «Вы замечали, – сказала Ахматова, – что старики в этом случае становятся бессмертными». В голове у нее нередко что-то путалось, она могла поставить на газ телефонный аппарат, чтобы согреть воду. Провинциальная благовоспитанная старушечка, раз в неделю она приглашала к себе столь же почтенных дам и господ играть в карты, и однажды Нина Антоновна, внеся в ее комнату поднос с чаем, обнаружила их всех замершими, сосредоточенно глядящими на одинокую карту, лежащую посреди стола, и спросила, в чем дело. «Видишь ли, Ниночка, – объяснила свекровь, – кто-то зашел с туза, но мы не помним кто». И вот в очередное утро выйдя к завтраку и сев напротив Ахматовой, она уставилась на нее, глядя снизу вверх, и после долгого рассматривания в полной тишине произнесла: «Как все-таки, Анна Андреевна, все мы деградируем!» – и опять воцарилась тишина. По реакции окружающих почувствовав, что сказала что-то не то, через минуту она объявила светским тоном: «Вчера мы играли в преферанс…» – «Вы играли в préférance? – не пощадила ее, мгновенно перебив, Ахматова. – Вы – не деградируете».
Среди близких приятельниц Ахматовой, к которым она переезжала, когда на Ордынке из-за гастролей хозяйки, или перенаселенности квартиры, или еще почему-то оказывалось невозможно оставаться, были две, сопоставляемые ею по признаку несходства: «Вы обратили внимание, что насколько Любочка вся за границей, настолько для Маруси заграницы вообще не существует?» Я не замечал, что Любовь Давыдовна Стенич-Большинцова была «вся за границей», хотя международная политика действительно увлекала ее несравненно сильнее, чем самые сочные московские сплетни, к которым она тоже имела вкус. События, происходящие в мире, и то, как могут они повлиять на нашу жизнь, она толковала с таким здравомыслием и определенностью, как если бы чужеземные правительства были составлены сплошь из ее знакомых по Крыму времен Гражданской войны или по Петрограду времен нэпа и действовали на уровне домоуправления. Ее муж Валентин Стенич, в качестве «русского денди» вызвавший отповедь Блока, человек чести, переводчик экстра-класса, оставивший образцовые переводы Дос-Пассоса, Джойса, Брехта, умнейший собеседник, блестящий острослов, шутивший безоглядно в нешуточных ситуациях, был расстрелян в 1937 году. Его хотели спасти, заступились Зощенко и Катаев. Вдова, прелестная, хрупкая, «фарфоровая» («Любочка была фарфоровая» – так Ахматова описала ее), избалованная, оказалась еще и выносливой, терпеливой, работящей и пережила мужа на сорок пять лет. Ее литературная одаренность была частью одаренности общей, непреднамеренно проявлявшейся в поведении, в повседневности, а эстетический вкус, привитый еще в родительской семье, был отточен в замужестве и в дружеском общении с замечательными артистами и писателями. Она знала несколько языков и стала зарабатывать на жизнь переводами американских, английских, французских пьес и рассказов, не гнушалась литературной поденщиной и при всем том оставалась анекдотически неделовой. На пенсию вышла ничтожную, но ухитрялась ездить на такси и до последних лет жизни одевалась в парижские платья. При этом говорила: «Я умру, и никто так и не узнает, какой у меня был вкус; потому что мы носим только то, что можно было достать – что кто-то привозил и продавал». Всю жизнь ее не оставлял страх: обыска, ареста – не конкретных за что-то, а роковых, на роду написанных; и всю жизнь она этот страх побеждала – гордостью, готовностью к худшему, наконец, беззаботным нравом. Как-то раз в поверхностном веселом разговоре я спросил Ахматову, куда девались нежные, неумелые, притягательные своей беспомощностью женщины, те самые – слабый пол. «А слабые все погибли, – сказала она, сразу отбросив легкомысленный тон. – Выжили только крепкие».
Мария Сергеевна Петровых из дому выезжала редко, растила дочку, курила, вжавшись в угол кушетки, переводила стихи – армян, болгар и многих других братских и дружеских народов – и время от времени сочиняла свои. Худенькая, голос тихий, речь неторопливая, несколько фраз – и молчок, взгляд острый, вся внимание – и понимание. Не спорила и уступала – пока не доходило до черты, после которой спорила жестко и не уступала ни пяди. К каждому подстрочнику подходила с одинаковой ответственностью, на каждый тратила одинаковые силы, неограниченное время и все умение. Свою манеру и свой взгляд, однако, не навязывала ни в малой степени, кроме, может быть, того случая, когда возилась с сомнительной по части эротики поэтессой-скандинавкой: «У нее, знаете, это было, гнусноватое, ну так я ей еще и добавила». От ее переводов «не воняло переводом», как выражается мой знакомый. На этом поприще она и снискала признание, известность и необъявленное, но никем не оспариваемое первенство. Между тем личность была другого масштаба, крупнее, чем эта, оцененная ее сторона. Представление о подлинном масштабе равным образом и в совокупности дают три вещи: ее стихи, ее отношение к ним и то, что осталось за, между стихами, но высвечивается ими. Лучшие стихи произнесены ею «с последней прямотой» и одновременно с такой умеренностью выражения чувств, за которой идет уже информационная сухость. Писала она их для себя, уговорить ее что-нибудь прочесть удавалось только близким людям, и то через девять раз на десятый: за этим стояли целомудренность, для которой всякое стихотворение – интимно, и опасение, что «чернота, проникшая в стихи, может угнетающе подействовать на читателя», – так она мне однажды сказала. Ахматова привлекла внимание публики к ее стихотворению «Назначь мне свиданье на этом свете», слишком, как кажется, форсированному и красноречивому. Необъятность же того горя, тоски, утрат, которые человек неспособен вместить в сердце и потому стихи не могут выразить, а могут лишь указать на них, адекватнее передает молчание, царящее от одного ее стихотворения до другого. Все вместе давало впечатление внутренней значительности, тем более убедительной, что ничем, общепризнанно «значительным»: важностью, экстравагантностью, знаками успеха, – она не проявлялась вовне. Вовне прорывались сочувствие, снисходительность к слабости, жалость, когда напрашивалось единственно осуждение. «Ты, Мария, – гибнущим подмога», – сказал ей Мандельштам, и эти слова вдруг приходили на память во время беседы с ней, казалось, никак не связанные с темой и вызванные вовсе не прозвучавшим утешительным словом, а от беглой улыбки и робкого жеста, которым она поправляла волосы на виске. И оскорбленная ревностью и бездоказательным обвинением вдовы Мандельштама, которые та обнародовала многотысячным тиражом на многих языках, она не негодовала, не писала опровержений, не мстила встречными разоблачениями, а положила вообще не касаться этого предмета и только однажды заметила между прочим: «Он, конечно, небывалый поэт и все такое, но вот верьте, Толя, мне до него…» – и еще три слова, убийственных, неопровержимых, которые может сказать о мужчине только женщина, никогда его не любившая.
Любовь Давыдовна жила в Сокольниках, на Короленко, в доме без лифта: раз поднявшись, Ахматова на весь срок гостевания оставалась заточенной в квартире на высоком четвертом этаже. В ее комнате было широкое и высокое, почти во всю стену, окно, красивая старая мебель, большое овальное зеркало, очаровательная картинка маслом: народ, в сумерках расходящийся из церкви с зажженными свечками и вербой в руках. Дом окружали тополя, доросшие до крыши, весной и летом пышнозеленые. Двухэтажный домик, в котором жила Мария Сергеевна, и вовсе утопал в зелени: это был один из десятка совершенно тождественных коттеджей, построенных пленными немцами на углу Беговой и Хорошевки, – писательский поселок, загород в городе. Деревья, кусты, лужайки, беседки; деревянная лестница на второй этаж; одна комната очень светлая, другая очень темная. На Короленко в разговоре между гостьей и хозяйкой был определенный уклон к упоминанию имен Кеннеди, Мендес-Франса, сэра Исайи Берлина, баронессы Будберг, «акулы капитализма» Гринберга… На Беговой – Суркова, Маршака, Гудзия, Фурцевой, убийцы из «Мосгаза» Ионисяна… И там и там Ахматова вела себя непринужденно, была дома. Из глубокого кресла, стоящего возле старинного бюро красного дерева, смотрит на сокольнический тополиный пух, летящий за окном, и говорит: «Я чувствую, как уютно заболеваю». Садится против зеркала, подносит к волосам гребень и кричит через дверь: «Маруся, он надвигается! – (Он – ученый-физик, оставивший свои стихи на отзыв; хозяйка торопливо читает их в соседней комнате.) – Говорите скорей: чувство природы есть? слова стоят на своих местах?»
Это была Москва, Москва делала вид, что в ней каждую минуту что-то происходит, поощряла принимать участие в происходящем, быть кем-то, но напоминала, что это ты в ней кто-то, в ее жизни участвуешь. Ахматова называла ее «Москва-матушка» – с отзвуком когдатошнего петербургского высокомерия, не только, впрочем, не посягавшего на теперешнее положение вещей, но придававшего этому положению еще основательности чуть подобострастным напоминанием о себе. Хотя ленинградцы при всякой возможности подчеркивали свою несуетность, аристократизм и то, что живут «торжественно и трудно», они жили обыкновенно, разве что угрюмей и бездеятельней, чем в столице. «Чего вы хотите от этого города? – говорила Ахматова, когда сердилась на Ленинград. – Он кончился, когда перестал быть резиденцией правительства; теперь, как известно, это крупный населенный пункт». (Так, в частности, назывался Ленинград в военных сводках Информбюро.) Однако что-то отделяло ленинградцев в Москве от других и объединяло их – чуждых идее землячества, но ощущавших как бы принадлежность к недавно распущенному ордену не ордену, клубу не клубу, туманный устав и поименная иерархия которого продолжают передаваться через флюиды климата, зданий, лиц. Ленинградцы, видевшиеся с Ахматовой в Ленинграде, виделись с ней в Москве на этом дополнительном основании – ведь субординационная лестница, которая отделяла юного послушника от магистра, также и связывала их.
Среди заметок по поводу «Египетских ночей» Ахматова сделала такую запись: «Ведь мальчишки, альбомы, вопросы о новых произведениях – это и есть слава. (Это и больше ничего. Примечание для себя.)» Альбомы вышли из моды, вопросы ставились в юбилейные дни корреспондентами газет, а не как Чарскому – «первым встречным», и без «мальчишек» запись выглядела бы банальным примечанием к Пушкину. «Мальчишки» же, не в пушкинском употреблении этого слова: ребенок, декламирующий стихи, – а в ахматовском: молодежь, которая всегда ведает стихами, – придают ей характер дневниковый. Мальчишками она могла назвать за глаза, снисходительно-благодушным тоном старой дамы, семнадцатилетнего студента, прорвавшегося к ее больничной койке с вопросом, кто выше поэт, Мандельштам или Цветаева; и двадцатипятилетнего «главу семьи», зарабатывающего на хлеб, вино и китайский плащ «Дружба» более или менее тягостным времяпрепровождением в чертежном бюро или геологической экспедиции. К последним относились и мы четверо: Дмитрий Бобышев, Евгений Рейн, Иосиф Бродский, я.
Бобышев и Рейн в 53-м году, то есть через несколько месяцев после смерти Сталина, не зная до того друг друга, поступили в Ленинградский технологический институт и оказались на одном факультете. Оба всерьез писали стихи, ощущали и сознавали себя поэтами, каждый день жизни рассматривали как день поэтической судьбы и будущее русской поэзии – как от них зависящее, ими определяемое. Тогда же в тот же институт поступил я, но сошелся с ними только через год. Еще года через три, когда мы уже прочно дружили и в представлении посторонних, а поэтому – вынужденно – и в своем собственном составляли литературную группу, к нам присоединился Бродский, он был немного моложе нас. Как все в молодости, мы читали друг другу стихи, встречаясь на переменах и когда пропускали лекции. В весенний солнечный вечер, когда я и Бобышев впервые заговорили друг с другом, мы прошли пешком по Загородному, Владимирскому, Литейному, через Неву, по Лесному, до моего дома недалеко от Ланской, беспрерывно читая стихи, и еще час топтались у ворот, дочитывая «Февраль» Багрицкого и на выбор из «Орды» и «Браги» Тихонова. В другой раз Бродский, узнав у моих домашних по телефону, что я стою в очереди за билетом в железнодорожных кассах, помещавшихся тогда в здании Думы, приехал туда и прокричал-пропел «Большую элегию Джону Донну», только что написанную: публика была в шоке.
Как группу воспринимала нас и Ахматова, говорила мне: «Вам четвертым нужна еще поэтесса. Возьмите Горбаневскую». Мне это казалось как раз ненужным, мы не декларировали направления, не выпускали манифестов, не находились в оппозиции к другим группам, и если чему себя противопоставляли, то лишь вязкой бесформенности поэзии официальной или намеревающейся стать официальной. Ахматова однажды назвала нас «аввакумовцами» – за нежелание идти ни на какие уступки ради возможности опубликовать стихи и получить признание Союза писателей. Напечататься мы в самом деле хотели, но, во‑первых, не во что бы то ни стало, а во‑вторых, кроме чуть не ежедневного чтения стихов друг другу, мы получали частые приглашения «почитать стихи» в чей-то дом, во Дворец культуры, в разнообразные лито (литературные объединения), на вечера поэзии. Один раз я выступал в Доме архитектора вместе с клоуном Енгибаровым и укротителем удавов Исаакяном, он с акцентом говорил: «Советская школа дрэссуры смотрит на дрэссируемого, как следователь на обвиняемого, тогда как западная школа дрэссуры доказывает ему, что человек тоже зверь, только сильнее, то есть, по-простому, бьет»; и еще: «Питоны как живородящи, так и яйцекладущи». На этом фоне я читал стихи о том, что, погружаясь в сон, мы отстаем на треть от суток и от времени вообще, мне аплодировали, но удивленно, как если бы мне удалась только первая часть номера, а вторая – скажем, массовый гипноз – сорвалась.
Мы были молоды, то есть сильны, быстры, удовлетворены жизнью, не сомневались ни в своем таланте, ни в предназначении и верили в свою звезду. Мы ценили талант сверстников: Горбовского, Еремина, Уфлянда, а в Москве – Красовицкого, Хромова, Черткова. Уважали Слуцкого за серьезность, с которой он складывал бесхозные слова в строчки, считая, что армейско-протокольный способ их соединять ведет к правде. Что же до Евтушенко, то все-таки «Я разный, я натруженный и праздный» или «Не водки им, ей-богу бы, а плетки!» было очень на любителя, а на «Россия, ты меня учила свято верить в молодежь» не находилось уже и любителя. Когда же он и его товарищи стали писать, а точнее – работать, с расчетом на успех, это стало совсем неинтересно, стало неинтересно даже то, что они наши ровесники.
Ни тогда, ни даже сейчас, когда судьбы более или менее завершены и шаги, выглядевшие случайными, оказались тенденциозными, связи, представлявшиеся прочными, разорвались, а представлявшиеся невозможными – возникли и окрепли, когда восторжествовали взгляды и репутации, казавшиеся смехотворными, я не находил и не нахожу системы как в отношениях между людьми, так и в столкновении и развитии их идей. Понятия «поколение», «процесс», «историческое место» я воспринимаю как слова интеллигентско-газетного жаргона, навязанные для разрабатывания беседных определенного сорта тем и написания определенного сорта книг и лишенные реального смысла. Ольшевская разговаривала с Ахматовой, Надежда Яковлевна Мандельштам разговаривала с Ахматовой, Ольшевская с Мандельштам, иногда они разговаривали втроем, но представляли каждая самое себя, во всяком случае разговор был тем подлиннее, чем меньше каждая была в продолжение его сцеплена с кем-то, в разговоре не участвовавшим. Всякий человек выражает что-то неиндивидуальное: свою семью, свой круг, профессию, время, – но выражает, а не представляет. В общении «представителей» нет той единственности и обязательности, которые свидетельствуют, что «представители» – конкретные люди, то есть живые, то есть люди, а не, скажем, страницы текста или деревья.
Поэтому я был захвачен врасплох и обескуражен скандалом, который, не ожидая того, спровоцировал. Дело было в квартире Алигер, где Ахматова короткое время обреталась. Я навестил ее и был приглашен хозяйкой к обеду. К столу вышли еще две дочери Алигер и украинский поэт, имени которого не запомнил. В этот день на сценарные курсы приходил Слуцкий, рассказывал слушателям, в их числе и мне, о социальной роли современной поэзии. Сделал упор на том, как вырос спрос на стихотворные сборники: 50-тысячные тиражи не удовлетворяют его, а всего полвека назад «Вечер» Ахматовой вышел тиражом 300 экземпляров: «она мне рассказывала, что перевезла его на извозчике одним разом». В середине обеда, скучного и неживого в большой холодной комнате, я, как мне показалось, к месту пересказал его слова. «Я?! – воскликнула Ахматова. – Я перевозила книжки? Или он думает, у меня не было друзей-мужчин сделать это? И он во всеуслышание говорит, будто это я ему сказала?» – «Анна Андреевна! – накладываясь на ее монолог, высоким голосом закричала Алигер. – Он хочет поссорить вас с нашим поколением!» «Он» был я, но эта мысль показалась мне такой нелепой, что я подумал, что тут грамматическая путаница. Я не собирался ссорить Ахматову со Слуцким, но меньше всего мне приходило в голову, что Слуцкий и Алигер одного поколения – и вообще одного чего-то.
В эти дни, если не в самый этот день, Ахматова показала мне в тетради новое стихотворение «Все в Москве пропитано стихами, рифмами проколото насквозь…». Оно не связано впрямую с этим эпизодом, может быть, даже не учитывает его, но ощущение густой липкой избыточности стихов в рифму, стихов не чьих-то, а стихов вообще, московских, ленинградских, советских, этот обед передавал как нельзя лучше: хозяйка-поэтесса, поэт из Киева, поколение поэтов, 50 тысяч книжек – этот напор социально, но не индивидуально значимых поименований и чисел исподволь втягивал в свою свальную потеху и 300 экземпляров «Вечера», и имя Ахматовой. «Сам Прокоп ничего, – говорила она о ленинградском председателе Союза Прокофьеве. – Но стихи – типичное le robinet est ouvert, le robinet est fermé. Это Гонкуры вспоминают, как старуха Жорж Санд была потрясена изобретением водопроводного крана и все время демонстрировала им: «Vous voyez, видите, кран открыт – вода льется, кран закрыт – конец».
* * *
Друг, который вез на извозчике пачки тоненьких книжек с лирой на обложке, оказывался столь же реален, сколь участники застолья, которым о нем было упомянуто. Если не реальнее: как триста реальнее пятидесяти тысяч; как еврей-издатель «Камня», сказавший Мандельштаму: «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше», – реальнее Дымшица, через 35 лет после гибели поэта в дальневосточном лагере выпустившего его стихи с фразой: «В 1937 г. оборвался творческий путь Мандельштама».
Она вспоминала об умерших, особенно о друзьях молодости, тем же тоном, с той же живостью, что и о вчерашнем госте, и часто именно по поводу вчерашнего или сегодняшнего гостя. Хотя она приговаривала: «Я теперь мадам Ларусс, у меня спрашивают обо всем», – но ее реплики были не энциклопедическая информация по истории литературы и искусства, а анекдот, не оценка, а яркая деталь. Она писала заметки об акмеизме, о борьбе литературных течений, о Модильяни, о Блоке, но когда разговаривала, появлялись «Коля», «Осип», Недоброво, Анреп, «Ольга», Лурье, Лозинский, Шилейко; если Модильяни, то как «Моди», незнаменитый, милый, «свой». Блока же, создавалось впечатление, ее вынуждали вспоминать, она была вынуждена выступать как «современница Блока», но он был «чужой». Она говорила о его жене, Любови Дмитриевне Менделеевой: «У нее была вот такая спина, – показывала, широко разводя руки, – большая, тяжелая, и грубое красное лицо», – и возникала Муза таможенника Руссо. Но Блока не убавлялось, а прибавлялось, потому что наклонность опубликованных ею в мемуарах его фраз о Толстом, об Игоре Северянине или выпаленной на станции Подсолнечная – та же, что и его стихов, а спина и щеки, которых он не видел, во всяком случае не видел как поэт, дают представление об угле, под которым его поэтический взор был обращен к действительности. И акмеизм предстает в виде Цеха поэтов, на собрания которого рассылала повестки жена Гумилева Анна Ахматова, и Шилейко шутил, что она по неграмотности подписывала их «сиклитарь Анна Гу», – то есть предстает акмеизмом «Коли», «Осипа» и «Мишеньки» Зенкевича, а не акмеизмом филологов. А если так, если Блок – Блок и при такой музе и акмеизм – акмеизм и при таком легкомыслии, то и о Пушкине, центральной фигуре того третьего, «исторического времени», в котором жила Ахматова, она могла нисколько не в ущерб его достоинству сказать в веселую минуту, повторяя словцо Федора Сологуба: «арап, бросавшийся на русских женщин», и что Наталья Николаевна была жена типа «гаси свечу» – как о застанном ею живым, как о действительно живом, а не о ряженном во фрак произвольном «если-бы-он-жил-сейчас».
Прошлым прораставшее настоящее выбрасывало свежие побеги былого в непредсказуемую минуту. Ахматова рассказывала, как в 1935 году, в ночь после ареста ее сына и ее тогдашнего мужа Пунина, она вместе с первой женой Пунина Анной Евгеньевной, урожденной Аренс, в ожидании предстоящего обыска жгла в печке бумаги, которые могли выглядеть компрометирующими, то есть практически все подряд. И когда под утро, перепачканные сажей и без сил, они наконец присели и Ахматова закурила, с самой верхней из опустошенных полок спланировала на пол фотография, на которой барон Аренс, отец Анны Евгеньевны, свитский адмирал, на борту военного корабля отдавал рапорт совершавшему инспекционный визит государю Николаю II. (А.А. начала хлопоты об освобождении, поехала в Москву, пришла к Сейфуллиной, та отправилась к Поскребышеву, секретарю Сталина, и узнала, как надо отдать письмо, чтобы оно попало в руки Сталина. Поскребышев сказал: «Под Кутафьей башней Кремля около десяти часов – тогда я передам». Назавтра А.А. с Пильняком подъехали туда на машине, и Пильняк отдал письмо. «Стрелецкие женки», – произнесла она в этом месте рассказа, прокомментировав так строчки из «Реквиема»: «Буду я, как стрелецкие женки, под кремлевскими башнями выть». В тот же день отправил туда письмо и Пастернак, при этом сказал: «Сколько бы кто другой ни просил, я бы не сделал, а тут – уже…» Потом в некоем трансе она бродила по Москве и очутилась у Пастернаков. Хозяин весь вечер говорил об Анненском: что он для него, Пастернака, значит. Потом ее уложили спать. А когда утром она проснулась в солнечной комнате, в дверях стояла Зинаида Николаевна (жена Пастернака) и говорила: «Вы уже видели телеграмму?» Телеграмма была от Пуниных, что оба уже дома. Ахматова приехала в Ленинград и застала обоих, сильно друг другом недовольных, друг на друга за что-то сердящихся. Про освобождение Пунин рассказал, что когда его ночью подняли – в который-то раз, – он решил, что снова допрос. Когда же сказали, что отпускают, он, хотя и сбитый от неожиданности с толку, прикинул, что трамваи уже не ходят, и спросил: «А переночевать нельзя?» Ответ был: «Здесь не гостиница». «Вот, Толя, – сказала она, – предыстория моих отношений со Сталиным, не всегда усач спрашивал: “Что дэлает монахыня?”)
О Пунине разговор заходил считаные разы. Насколько легко она говорила о Шилейке, насколько охотно о Гумилеве, настолько старательно обходила Пунина. Сказала однажды, в послесловии к беседе на тему о разводе («институт развода – лучшее, что изобретено человечеством», или «цивилизацией»), что, «кажется, прожила с Пуниным на несколько лет дольше, чем было необходимо». Дала прочесть копию его письма 1942 года, в котором он писал, как, умирая в блокадном Ленинграде, много думал о ней, и «это было совершенно бескорыстно, так как увидеть Вас когда-нибудь я, конечно, не рассчитывал». «И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому так совершенна, как Ваша… Я тогда думал, что эта жизнь цельна не волей – и это мне казалось особенно ценным, – а той органичностью, т. е. неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит, …многое из того, что я не оправдывал в Вас, встало передо мной не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее прекрасным… В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена в камне и одним приемом очень опытной руки». «… Я остался жить и сохранил и само то чувство и память о нем. Я так боюсь его теперь потерять и забыть и делаю усилия, чтобы этого не случилось, чтобы не случилось того, что так иной раз случалось со мной в жизни: Вы знаете, как я легкомысленно, не делая никаких усилий, даже скорее с вызовом судьбе терял лучшее, что она, судьба, мне давала». Он был арестован в 1949 году и в 1953-м умер в лагере – Ахматова показала мне фотографию ровного поля, утыканного геометрически правильными рядами табличек: колышек с прибитой фанерной дощечкой, и на каждой номер и еще несколько цифр – на передних цифры можно разобрать. Табличек столько, сколько мог захватить фотообъектив: это лагерное кладбище, предположительно то его место, где зарыто тело Пунина.
О браке с Шилейкой она говорила как о мрачном недоразумении, однако без тени злопамятности, скорее весело и с признательностью к бывшему мужу, тоном, нисколько не похожим на гнев и отчаяние стихов, ему адресованных: «Это все Коля и Лозинский: «Египтянин! египтянин!..» – в два голоса. Ну, я и согласилась». Владимир Казимирович Шилейко был замечательный ассириолог и переводчик древневосточных поэтических текстов. Египетские тексты он начал расшифровывать еще четырнадцатилетним мальчиком. Сожженная драма Ахматовой «Энума элиш», представление о которой дают воссозданные ею заново в конце жизни фрагменты «Пролога», названа так по первым словам («Там вверху») древневавилонской поэмы о сотворении мира, переводившейся Шилейкой. От него же, мне казалось, и домашнее прозвище Ахматовой – Акума, хотя впоследствии я читал, что так называл ее Пунин – именем японского злого духа. Шилейко был тонким лирическим поэтом, публиковал стихи в «Гиперборее», «Аполлоне», альманахе «Тринадцать поэтов». Вот одно из его стихотворений, напечатанных в 1919 году в воронежской «Сирене»:
В ожесточенные годины Последним звуком высоты, Короткой песней лебединой, Одной звездой осталась ты. Над ядом гибельного кубка, Созвучна горестной судьбе, Осталась ты, моя голубка, — Да он, грустящий по тебе.Перед революцией он был воспитателем детей графа Шереметева и рассказывал Ахматовой, как в ящике письменного стола в отведенной ему комнате, издавна предназначавшейся для учителей, обнаружил папку с надписью «Чужие стихи» и, вспомнив, что в свое время воспитателем в этой семье служил Вяземский, понял, что папка его, поскольку чужие стихи могут быть только у того, кто имеет свои. В эту комнату Шилейко привез Ахматову после того, как они прожили тяжелую осень 1918 года в Москве в 3-м Зачатьевском переулке. Это было первое вселение Ахматовой в Фонтанный дом, № 34 по Фонтанке: следующее случилось через несколько лет, когда она вышла замуж за Пунина, жившего там в 4-м дворе во флигеле. С Шилейкой она жила еще в квартире в служебном корпусе Мраморного дворца: «одно окно на Суворова, другое на Марсово поле». Посмеиваясь, она рассказывала такую вещь об этом замужестве. В те времена, чтобы зарегистрировать брак, супругам достаточно было заявить о нем в домоуправлении: он считался действительным после того, как управдом делал запись в соответствующей книге. Шилейко сказал, что возьмет это на себя, и вскоре подтвердил, что все в порядке, сегодня запись сделана. «Но когда после нашего развода некто, по моей просьбе, отправился в контору уведомить управдома о расторжении брака, они не обнаружили записи ни под тем числом – которое я отчетливо помнила, – ни под ближайшими, и вообще нигде». Она показала мне несколько писем Шилейки, написанных каллиграфическим почерком, в изящной манере, с очаровательными наблюдениями книжного человека, с выписками на разных языках. «Целый день читаю Сервиевы комментарии к Вергилию. Прелестно! Вот Вам маленькие глупости:
И вежлив будь с надменной скукой. (Мандельштам) Nonne fuit satius tristes Amaryllidis iras Atque superba grati fastidia. Verg. Ecl. ii, vv. 14–15А Оська никогда и не заглядывал в Мантуанскую душу». (Двустишие из «Буколик»: Разве не было (мне) довольно печалящей гневливости Амариллиды /И надменного отвращения милого [Меналка]?) Письма дружеские, не супружеские, с шутливой подписью, вроде «Ваши Слоны», и нарисованным слоном. «Вот он был такой, – кивнула она головою. – Мог поглядеть на меня, после того как мы позавтракали яичницей, и произнести: «Аня, вам не идет есть цветное». Кажется, он же говорил гостям: «Аня поразительно умеет совмещать неприятное с бесполезным». Тем более неожиданным было услышать от нее, что «косноязычно славивший меня» – тоже он.
Начало 60-х годов было временем посмертной славы Мандельштама. «Воронежские тетради» мы прочли году в 55-м переписанными от руки именно в тетрадке. Теми же коричневыми чернилами, уже чуть выцветшими, тем же пером «с нажимом», в начале этой тетрадки был переписан «Камень», и первое впечатление от первых стихов Мандельштама, то есть от поэзии Мандельштама как таковой, было несравненно острее впечатления от, скажем, «Стихов о неизвестном солдате», которые звучали хотя и трагически, но все-таки уже на фоне удивительного, удивительно свежего, звука тех первых. Вскоре стала ходить по рукам машинопись «Четвертой прозы», ошеломлявшей сочетанием эгоцентрически агрессивной изысканности с ругательностью, органичной для ситуации травли и потому лишенной индивидуальных черт. Ритм, приспособившийся к прерывистому дыханию обложенного со всех сторон, но продолжающего свой «косящий бег» благородного зверя; высокий тон, едва не срывающийся на крик; максимализм претензий, поддержанный полнотой самоотдачи, – все это вместе представлялось молодому человеку наиболее привлекательной и наилучшим образом отвечающей его собственным литературным притязаниям манерой. На нее ориентировались, в частности, и мои первые прозаические опыты: было соблазнительно видеть в ней универсальность и, стало быть, многообещающие перспективы. «Это вам для вашей мстительной прозы», – заключала Ахматова свой или мой рассказ о событии или человеке, видимость которых оказывалась в трудно формулируемом противоречии с сутью. Тогда же она сделала запись, которую собиралась вставить в «Листки из дневника» (и даже пометила «в текст, стр.», но конкретного места так и не обозначила): «И дети не оказались запроданы рябому черту, как их отцы. Оказалось, что нельзя запродать на три поколения вперед. И вот настало время, когда эти дети пришли, нашли стихи Осипа Мандельштама и сказали:
Это наш поэт».
Зимой 1962 года я подбил Бродского на поездку во Псков. Накануне отъезда Ахматова предложила нам навестить преподававшую в тамошнем пединституте Надежду Яковлевну Мандельштам, передать привет, но адреса не знала, а только сказала, через кого ее можно найти. Мы провели в Пскове три дня, разглядывали город, переходили по льду Великую, ездили по окрестностям, день бродили по Изборску. В один из вечеров отправились к Надежде Яковлевне. Она снимала комнатку в коммунальной квартире у хозяйки по фамилии Нецветаева, что прозвучало в той ситуации не так забавно, как зловеще. Она была усталая, полубольная, лежала на кровати поверх одеяла и курила. Пауз было больше, чем слов, явственно ощущалось, что усталость, недомогание, лежание на застеленной кровати, лампочка без абажура – не сиюминутность, а такая жизнь, десятилетие за десятилетием, безысходная, по чужим углам, по чужим городам. Когда через несколько лет она наконец переехала в Москву, это был другой человек: суетливая, что-то ненужное доказывающая, что-то недостоверное сообщающая, совершенно непохожая на ту до конца дней явно или прикровенно ссыльную, которой нечего терять и недопустимо и унизительно – прельщаться мелочами беззаботной жизни вольняшек. И ее муж, устроивший ей эту судьбу и скрепивший ее фразой: «А кто тебе сказал, что ты должна быть счастливой?», из гениального поэта Мандельштама, сгинувшего в ледяной пустыне, стал превращаться в знаменитого московского юродивого «Оську» и в выдающуюся фигуру интеллектуально-эстетского Петербурга «Осипа Эмильевича». В дни очередного «завинчивания гаек», то ли когда Хрущев разругал литературу и искусство, которые занимались черт знает чем, а не изображали русский лес, особенно прекрасный в зимнюю пору, то ли когда стало раскручиваться дело Синявского и Даниэля, перепуганная Надежда Яковлевна приехала к Ахматовой посоветоваться, как быть. Она уже написала тогда первую книгу воспоминаний, многие читали ее в рукописи. Жила она еще у друзей, но хлопоты о квартире набирали силу, в них участвовала и Ахматова, отправившая письмо Суркову («Вот уже четверть века, как вдова поэта, ставшего жертвой деспотического произвола, скитается по стране, не имея крова. Однако эта кочевая жизнь ей уже не под силу: это старая и нуждающаяся в медицинской помощи женщина»). Надежда Яковлевна была в страхе: до писательского начальства могли дойти слухи о существовании ее мемуаров, а то и экземпляр неподконтрольно размножающейся рукописи. Ахматова как могла успокоила ее, но, после того как она ушла, сказала: «Что Надя думает: что она будет писать такие книги, а они ей давать квартиры?» Я спросил, насколько книга разоблачительна и в самом ли деле так опасна для автора, как думает Н.Я. Она посмотрела на меня взглядом, выражавшим, что находит мой вопрос странным, и прошептала: «Я ее не читала». Удовольствовавшись моим изумлением, добавила: «Она, к счастью, не предлагала – я не просила».
После смерти Ахматовой Надежда Яковлевна написала и издала еще «Вторую книгу». Главный ее прием – тонкое, хорошо дозированное растворение в правде неправды, часто на уровне грамматики, когда нет способа выковырять злокачественную молекулу без ущерба для ткани. Где-то между прочим и как бы не всерьез говорится, скорей даже роняется: «дурень Булгаков», а дальше следуют выкладки, не бесспорные, но и не поддающиеся логическому опровержению, однако теряющие всякий смысл, если Булгаков не дурень. Ахматова представлена капризной, потерявшей чувство реальности старухой. Тут правда только – старуха, остальное возможно в результате фраз типа: «в ответ на слова Ахматовой я только рассмеялась» – вещи невероятной при бывшей в действительности иерархии отношений. Мне кажется, что, начав со снижения «бытом» образов Мандельштама и Ахматовой, Надежда Яковлевна в последние годы искренне верила, что превосходила обоих умом и немного уступала, если вообще уступала, талантом. Возможно, ей нужна была такая компенсация за боль, ужас, унижения прежней жизни. По поводу же места в предреволюционной петербургской культуре, на которое она настойчиво выводила Мандельштама, Ахматова – после того, как закрыла дверь за Надеждой Яковлевной, четверть часа произносившей быстрые монологи на эту тему под ее выразительное молчание, – рассказала такой эпизод. «В середине десятых годов возникло общество поэтов «Физа», призванное, в частности, – как и некоторые другие меры, – для того, чтобы развалить «Цех». Осип, Коля и я шли в гору, а что касается «Цеха», то он должен был кончиться сам собой. «Физа» было название поэмы Анрепа, прочитанной на первом собрании общества в отсутствие автора, он находился тогда в Париже. Я оттуда взяла эпиграф «Я пою, и лес зеленеет». Однажды туда был приглашен Мандельштам прочитать какой-то доклад. После доклада мы с Николаем Владимировичем Недоброво, который поселился в то время в Царском, чтобы быть ближе ко мне, поехали на извозчике на вокзал. ДорÓгой Недоброво произнес: «Бог знает что за доклад! Во-первых, он путает причастия с деепричастиями. А во‑вторых, он сказал: «Все двенадцать муз», – их все-таки девять». Мандельштаму вовсе не обязательно было знать больше того, что он знал. Он рассказывал, что ему было три года, когда он в первый раз услышал слово «прогресс», и он дико захохотал. Он оживлял все, к чему ни прикасался, на что ни бросал взгляд. Но «отравительницу-Федру» он все-таки исправил, когда Гумилев и Лозинский сказали ему: «Кого же она отравила?» И не надо изображать его выпускником университета, когда он сходил в лучшем случае на восемь лекций. И не надо связывать его с Соловьевым и делать из него и Блока каких-то близнецов, Додика и Радика». В другой раз она к слову вспомнила: «Мандельштам говорил: “Я смысловик и потому не люблю зауми”. А еще: “Я ожидатель – и потому ссылка кажется мне еще невыносимей”».
Про Недоброво ко времени рассказа о «Физе» я уже много знал от нее, читал его статью о ней, его стихи, к ней обращенные, уже слышал: «А он, может быть, и сделал Ахматову», – но тогда, произнеся его имя, она нашла нужным подчеркнуть: «Он был первый противник акмеизма, человек с Башни, последователь Вячеслава Иванова». В ее фотоальбоме был снимок Недоброво, сделанный в петербургском ателье в начале века. Тщательно – как будто не для фотографирования специально, а всегда – причесанный; высоко поднятая голова; чуть-чуть надменный взгляд продолговатых глаз, которые в сочетании с высокими длинными бровями и тонким носом с горбинкой делают узкое, твердых очертаний лицо «портретным»; строго одетый – словом, облик, который закрывает, а не выражает сущность, подобный «живому» изображению на крышке саркофага. Он выглядит крепким, хотя и изящным, человеком, но грудь показалась мне слишком стянутой сюртуком, а может быть, просто узкой, а может быть, я обратил на это внимание, потому что знал, что через несколько лет после этой фотографии он умер от туберкулеза. Он умер в Крыму в 1919 году 35 лет. Ахматова увиделась с ним в последний раз осенью 1916 года в Бахчисарае, где кончались столько раз бежавшие им навстречу по дороге из Петербурга в Царское Село каменные верстовые столбы, теперь печально узнанные ими, —
Где прощалась я с тобой И откуда в царство тени Ты ушел, утешный мой!Ахматова говорила, что Недоброво считал себя одной из центральных фигур в картине, которая впоследствии была названа Cеребряным веком, никогда в этом не сомневался, имел на это основания и соответственно себя вел. Он был уверен, что его письма будут изданы отдельными томами, и, кажется, оставлял у себя черновики. Ахматова посвятила либо адресовала ему несколько замечательных стихотворений и лирическое отступление в «Поэме без героя», кончающееся:
Разве ты мне не скажешь снова Победившее смерть слово И разгадку жизни моей? —с выпавшей строфой:
Что над юностью стал мятежной, Незабвенный мой друг и нежный — Только раз приснившийся сон,— Чья сияла когда-то сила, Чья забыта навек могила, Словно вовсе и не жил он.«Н.В. Недоброво – царскосельская идиллия», – начала она одну заметку последних лет.
В 1914 году Недоброво познакомил Ахматову со своим давним и самым близким другом Борисом Анрепом. Вскоре между ними начался роман, и к весне следующего года Анреп вытеснил Недоброво из ее сердца и из стихов. Тот переживал двойную измену болезненно и навсегда разошелся с любимым и высоко ценимым до той поры другом, частыми рассказами о котором он в значительной степени подготовил случившееся. Анреп использовал каждый отпуск или командировку с фронта, чтобы увидеться в Петрограде с Ахматовой. В один из дней Февральской революции он, сняв офицерские погоны, с риском для жизни прошел к ней через Неву. Он сказал ей, что уезжает в Англию, что любит «покойную английскую цивилизацию разума, а не религиозный и политический бред». Они простились, он уехал в Лондон и сделался для Ахматовой чем-то вроде amor de lonh, трубадурской «дальней любви», вечно желанной и никогда не достижимой. К нему обращено больше, чем к кому-либо другому, ее стихов, как до, так и после их разлуки. За границей он получил известность как художник-мозаичист, А.А. показывала фотографию – черно-белую – его многофигурной мозаики, выложенной на полу вестибюля Национальной галереи: моделью для Сострадания Анреп выбрал ее портрет. В 1965 году, после ее чествования в Оксфорде, они встретились в Париже. Вернувшись оттуда, Ахматова сказала, что Анреп во время встречи был «деревянный, кажется, у него не так давно случился удар»: «Мы не поднимали друг на друга глаз – мы оба чувствовали себя убийцами».
О композиторе Артуре Лурье, с которым она сблизилась в самом начале 20-х годов и который, тогда же уехав с Ольгой Судейкиной, «героиней» «Поэмы без героя», в Париж, писал много лет спустя: «Мы жили вместе, втроем, на Фонтанке… Ане сейчас 73. Я помню ее 23-летней», – Ахматова вспоминала обычно в связи с кем-то: с Мандельштамом, с Ольгой, с «Бродячей собакой». Посмеиваясь, рассказала, что «Артур обратился с просьбой из Америки»: не может ли она, пользуясь своим положением, содействовать постановке в Советском Союзе его балета «Арап Петра Великого». «Ничего умнее, чем балет о негре среди белых, он там сейчас придумать не мог», – тогда было время расовых столкновений. В другом разговоре имя «Артур» вытолкнуло из ее памяти «старуху-прислугу в доме Ольги». Она считала, что хозяйке и ее подруге живется плохо: «… A Анна Андреевна сперва хоть жужжала, а теперь не жужжит. Распустит волосы и бродит, как олень. Первоученые к ней приходят улыбаются, а уходят невеселые».
Проживая каждый новый день, открывая книгу, выходя на улицу, она не могла не попадать в прошлое – как попала в подвал «Бродячей собаки», когда спустилась в ближайшее бомбоубежище застигнутая воздушной тревогой в августе 1941 года. Но при этом она не погружалась в прошлое, не давала ему сделать ее своей частью, а по мере того, как в него преобразовывалось то, что только что было будущим, отправляла его встречным потоком в будущее отдаленное. Не мемуарами, разумеется, которые предназначены привязать прошлое к своему времени раз и навсегда, а цельным без изъяна сознанием того, что бесконечно разнообразное будущее становится единственным прошлым именно для того, чтобы пребывать всегда. И тут нет места вариантам и разночтениям: чему следует быть фактом – должно быть фактом, чему стать легендой – стать легендой. Когда в «Новом мире» появились воспоминания Морозовой, по ахматовским догадкам, инспирированные «легендарной» Палладой («ей любовь одна отрада, и где надо и не надо не ответит, не ответит, не ответит “не могу”, – как пелось в кузминском гимне «Бродячей собаке»), Палладой Олимпиевной Гросс, Ахматова была в ярости, прочтя, что мемуаристка видела ее в «Привале комедиантов»: «Я ни разу не переступила порога «Привала»! Я ходила только в «Собаку»!» Я подумал тогда: какая разница – почти одного времени артистические кабаре, многие посетители «Бродячей собаки» оказались потом в «Привале комедиантов»… Но если ты по какой-то причине где-то не был, может быть, кому-то обещал не быть или считал для себя невозможным и отказывался от приглашений, дал всем заметить, что тебя там не бывает, как Блок – в «Бродячей собаке», а потом читаешь, что был, то в твоей жизни меняются местами все есть и нет, иначе говоря, вся жизнь.
Те, кто говорил или говорит сейчас, что в последние годы она «исправляла биографию», исходят из убеждения, что документ – а документом они называют всякую запись – достовернее его последующего исправления. Что, основываясь на документах, они воссоздадут истинное положение вещей. И что последующее вмешательство в документ, так или иначе искажающее сконструированную ими картину, посягает на истину и объясняется намерением улучшить свою или своих близких роль в прошлом и очернить противников. Но Ахматова, несколько десятилетий проработавшая с архивными документами, знала им цену, знала, к какой дезинформации, невольной или преднамеренной, приводит их неполнота, ошибочное «современными глазами» прочтение и тенденциозный подбор. Она не верила, что ахматовед умнее Ахматовой, и воспоминаниями и исправлениями последних лет объявляла себя первым по времени ахматоведом, с объективным мнением которого, как ни с чьим другим, придется считаться всем последующим.
Особым образом исправляла она в желательную сторону представление о себе. Однажды дала мне рукопись статьи «Угль, пылающий огнем» известного ленинградского критика. Статья была доброжелательная, но, хотя и касалась новых вещей Ахматовой, ничего не прибавляла к уже известному о ней, лишь избирательно что-то повторяла. Она сказала: «Ничего, я его приглашу и кое-что положу рядом. У меня есть такой прием: я кладу рядом с человеком свою мысль, но незаметно. И через некоторое время он искренне убежден, что это ему самому в голову пришло». Похоже, что именно так она «кое-что положила рядом» с Никитой Струве, когда беседовала с ним в Лондоне, только он, если продолжить метафору, «не взял чужого»: «А правда ли, – обратилась она к нему, – что вы в Россию кому-то написали о моих воспоминаниях: «Je possède les feuillets du journal de Sapho»? (В моем распоряжении листки дневника Сафо)». – «Никогда в жизни такого не писал». – «Ну вот, верь потом людям». Мне кажется, этим приемом она пользовалась, когда заявляла: «Считается, что в поэзии двадцатого века испанцы – боги, а русские – полубоги». Кем считается, на кого, как не на себя, она ссылалась? Или когда большая группа поэтов поехала в Италию по приглашению тамошнего Союза писателей, а ее не пустили, и она говорила, лукаво улыбаясь: «Итальянцы пишут в своих газетах, что больше хотели бы видеть сестру Алигьери, а не его однофамилицу». И повторяла для убедительности, по-итальянски: «La suora di colui» («сестра того»). Под однофамилицей подразумевалась поехавшая в Рим Маргарита Алигер, но в каких газетах писали это итальянцы, выяснять было бесполезно. A «La suora di colui» – это луна в XXIII песне «Чистилища», сестра того, то есть солнца. И так же я воспринял ее слова, когда в Комарове съездил на велосипеде по ее поручению и, вернувшись, услышал: «Недаром кое-кто называет вас Гермесом». Никаких других «кое-кого», кроме нее, вокруг не было видно.
Она редактировала упомянутые уже мемуары В.С. Срезневской. «… Характерный рот с резко вырезанной верхней губой – тонкая и гибкая, как ивовый прутик, – с очень белой кожей – она (особенно в воде Царскосельской купальни) прекрасно плавала и ныряла, выучившись этому на Черном море, где они не раз проводили лето (см. «У [Ахматова вставляет: самого] моря», поэма Ахматовой). Она казалась русалкой, случайно заплывшей в темные недвижные воды Царскосельских прудов [Ахматова приписывает: и до сих пор называет себя последней херсонидкой]. Немудрено, что Ник. Степ. Гумилев сразу и на долгие годы влюбился – в эту, ставшую роковой, женщину своей музы. Ея образ, то жестокой безучастной и далекой царицы, – перед которой он расточает «рубины божества» [Ахматова исправляет: волшебства], – то зеленой обольстительной и как будто бы близкой колдуньи и ведьмы, – в «Жемчугах», в «Колчане» [Ахматова зачеркивает «Колчан»] и еще много позже – уже как осознанный и потерянный навсегда призрак возлюбленной и ушедшей женщины – давлеет над сердцем поэта. Чтобы показать, что это не мои «домыслы и догадки» (как это нередко бывает в биографиях больших поэтов), а живая и настоящая правда, сошлюсь не только на свою многолетнюю радостную дружбу с обоими, но на более убедительный и несомненный след этой любви в стихах Н.С. Гумилева [Далее Ахматова вписывает названия обращенных к ней его стихов, начиная с «Пути Конквистадоров»]».
Валерия Сергеевна, урожденная Тюльпанова, была самой давней ее подругой. Еще в Царском, когда Горенки перебрались с первого во второй этаж дома Шухардиной, в первый въехали Тюльпановы, и к брату «Вали» Андрею приходил в гости его соученик Гумилев. У нее жила Ахматова в Петрограде на Боткинской, 9 (при клинике, в которой служил врачом доктор Срезневский) с января 1917 года до осени 1918-го, то есть пережила обе революции, простилась с Анрепом, вышла за Шилейко. У Срезневской же поселялась еще несколько раз, посвятила ей одно из лучших своих стихотворений «Вместо мудрости – опытность…». Вспоминала, как вдвоем они однажды ехали на извозчике, одна другой на что-то жаловалась, и извозчик, «такой старый, что мог еще Лермонтова возить, неожиданно произнес: «Обида ваша, барышни, очень ревная», – неизвестно которой». Когда Срезневская умерла в 1964 году, А.А. сказала: «Валя была последняя, с кем я была на «ты». Теперь никого не осталось». Она оставалась свидетельницей самых ранних лет, когда завязывались главные узлы ахматовской судьбы, и под некоторым нажимом Ахматовой и с установкой, совместно с нею определенной, начала писать воспоминания. В приведенном отрывке Ахматова оставляет, как есть, «давлеет» (вместо «тяготеет» – безграмотность, на которую она в других случаях вскидывалась) и «женщину своей музы». Вписывая «херсонидку» или названия гумилевских стихов, она не изменяет воспоминаний ни как самовыражения мемуаристки, ни как документа, а только ссужает, даже не из своей, а из общей для них обеих памяти, тем, чего той недостает, – прилагает к справке оборвавшийся уголок.
Ее память – «хищная», «золотая», если пользоваться словами, произносимыми ею в похвалу памяти других, – казалось, была устроена особенным образом: сохраняла в себе то, что случилось в конкретной ситуации, и одновременно то, что должно случаться в таких ситуациях. Причем это было не знание, выработанное по аналогии со случившимся или со случавшимся в ее жизни, то есть не вследствие опыта – хотя оно параллельно и опиралось на весь ее огромный опыт, – а как будто с рождения унаследованное неизвестно от кого, заложенное в самую глубину неизвестно когда. Ахматова именно не знала некоторые вещи, которых не была очевидицей, а помнила. Механизм вспоминания, описанный ею в связи с Блоком: «Записная книжка Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвения и возвращая даты полузабытым событиям», – распространялся у нее и на события, отпечатлевшиеся в прапамяти. «Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как-то сдвинулось в XIX век, чуть не в Пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазы». Это не представление о пушкинском времени, питаемое знанием, – а узнавание. То же самое бывало при чтении книг: среди страниц, описывающих то, что она не могла подтвердить или опровергнуть своим свидетельством, она натыкалась на строку о том, что «помнила», подлинность или поддельность чего «узнавала» по «воспоминанию», будь это Хемингуэй, или Аввакум, или Шекспир, или Плутарх. «Ну конечно, – воскликнула она, ткнув пальцем в подстрочник папируса, который просматривала среди других, прежде чем дать согласие на перевод египетской лирики. – Pyramid' altius. Для Горация пирамиды были абстракцией, а этот выглядывал в окошко и их одни и видел». «Этот» – был писец, прославлявший писцов глубокой древности: «они не строили себе пирамид из меди и надгробий из бронзы». С такой же определенностью говорила она, что ее дед по матери, Эразм Иванович Стогов, «жандармский полковник», проходил мимо Пушкина в анфиладах III Отделения (хотя знать она могла только, что он с 1834 года служил жандармским штаб-офицером в Симбирске).
Сродни «вспоминанию» был и метод, приводивший ее к некоторым открытиям в пушкинистике, особенно последнего времени: сперва она «узнавала», что дело обстояло именно так, а не иначе, и действительно вскоре к этому, как к магниту, начинали стягиваться необходимые доказательства – процесс, прямо противоположный подгонке фактов под концепцию.
При таком пользовании «чьей-то», «даром доставшейся» памятью Ахматова и ее, и благоприобретенную щедро тратила на нуждающихся. Правда, за ее спиной говорилось иногда, что она это делает небескорыстно, что она пристрастна и, по-своему толкуя факты, навязывает «субъективное» мнение. Я не наблюдал, чтобы она доказывала свою правоту, наоборот, ее упоминание о ком-то или чем-то было – по крайней мере, внешне – беззаботно, сплошь и рядом юмористично, свободно: хотите верьте, хотите нет – каковыми словами она, кстати сказать, часто заканчивала свою речь. Она не «тянула на себя одеяло», не подправляла историю литературы, ее вполне устраивала суммарная оценка ее судьбы, поэзии и места в русской и мировой культуре, так же как судеб и творчества ее современников. Если она нападала или защищалась, то прежде всего ради справедливости в общечеловеческом плане. В наши молодые годы Бродский был окружен безотчетным расположением тех же людей, чью безотчетную неприязнь чувствовал я. Он мог пообещать и забыть встретить на вокзале человека, приехавшего из другого города, – обвиняли человека: зачем ехал. Я мог попасть в больницу с сердечным приступом – говорили: доигрался. «Это как кому на роду написано, – объясняла Ахматова. – Как бы гнусно Кузмин ни поступал – а он обращался с людьми ужасно, – все его обожали. И как бы благородно себя ни повел Коля, всё им было нехорошо. Тут уж ничего не поделаешь». Но в раздражении могла хлестнуть наотмашь: «Может, Кузмина и чтят свои педерасты…» (к тому, что «Вячеслава Иванова – кто его сейчас чтит?»).
Она рассказала: «Бунин сочинил эпиграмму на меня:
Любовное свидание с Ахматовой Всегда кончается тоской: Как эту даму ни обхватывай, Доска останется доской.А что? По-моему, удачно».
И с таким же удовольствием: «Я рождена, чтобы разоблачать Вячеслава Иванова. Это был великий мистификатор, граф Сен-Жермен. Его жена, Зиновьева-Аннибал, умирает от скарлатины: в деревне, в несколько дней, просто задыхается. Он начинает жить с ее дочерью от первого мужа, четырнадцати лет. У той ребенок от него, какой-то попик в Италии незаконно их венчает. И вот, сэр Б. и сэр Б. торжественно объясняют это предсмертной волей жены… Блок, по европейским представлениям, это тот, кто «заходил в знаменитую Башню Вячеслава Иванова». «Вячеслав Иванов научил Ахматову писать стихи». Везде он оставлял старичков, плачущих по нем, в Баку, в Италии». С ноткой мстительности: «Но не в России. Он впивался в людей и не отпускал потом – «ловец человеков». В оксфордской книжке «Свет вечерний» его портрет: 82-летний старик с церковной внешностью, но – ни ума, ни покоя, ни мудрости – одни подобия».
«Я вам не ставила еще мою «пластинку» про Бальмонта?
Бальмонт вернулся из-за границы, один из поклонников устроил в его честь вечер. Пригласил и молодых: меня, Гумилева, еще кого-то. Поклонник был путейский генерал – роскошная петербургская квартира, роскошное угощение и все, что полагается. Хозяин садился к роялю, пел: “В моем саду мерцают розы белые и кр-расные”. Бальмонт королевствовал. Нам все это было совершенно без надобности.
За полночь решили, что тем, кому далеко ехать, как, например, нам в Царское, лучше остаться до утра. Перешли в соседнюю комнату, кто-то сел за фортепьяно, какая-то пара начала танцевать. Вдруг в дверях появился маленький рыжий Бальмонт, прислонился головой к косяку, сделал ножки вот так (тут она складывала руки крест-накрест) и сказал: “Почему я, такой нежный, должен все это видеть?”»
Эту фразу она иронически-печально произносила при виде либо чего-то, ей симпатичного, но, по общему мнению, недостойного «Ахматовой» (например, когда вышла на веранду комаровского домика и застала гостивших у нее молодых людей садящимися по двое на велосипеды, чтобы отправиться на реку Сестру купаться), либо несимпатичного, но не стоящего более серьезной реакции (например, когда ей на глаза попался журнал с фотографиями Элизабет Тейлор в роли Клеопатры).
Каким-то образом людей «до тринадцатого года», то есть старших, включая и тех, с кем она была хорошо знакома, в ее рассказах сносило в XIX век, через Толстого к Тургеневу, Фету, Некрасову. Они исполняли роль связки между ее прошлым и прошлым историческим. Точно так же, как не попавших в «тринадцатый год», пусть даже сверстников, уже покойных ко времени ее рассказа, Пастернака, Пильняка, Булгакова, выносило в настоящее. Они оказывались целиком вписанными в советское время, были нам понятны, как наши тогда еще живые папы и мамы, и исполняли в биографии Ахматовой функцию знаков ее 20-х, 30-х, 40-х годов… Я уходил на вечеринку к моим приятелям-грузинам. Она заметила вскользь, что одни, как Пастернак, «предаются Грузии» (одно из привычных ее словоупотреблений; например, о ленинградском писателе-криминалисте: «Герман в это время уже предался милиции…»), она же «всегда дружила с Арменией». Я ответил, что в этой компании сколько грузин тбилисских, столько и московских, да и тбилисский грузин в Москве почти то же самое, что ленинградец в Москве. Она сказала, что была знакома с некоторыми из московских. Я назвал имя Бориса Андроникашвили. «Как же… Он должен быть ваш ровесник. Пильняк, когда был в Америке, купил автомобиль, его морем привезли в Ленинград. Пильняк приехал, чтобы перегнать его в Москву, предложил мне сопровождать его, прокатиться, я согласилась. Мы отправились, белая ночь. Когда приехали, он узнал, что в эту ночь у него родился сын. Этот самый ваш Борис Борисыч… У Пильняка было неблагополучно с женами, одна из них – не мать Бориса, – кажется, сыграла свою роль в его аресте. Но погубила его – как и Бабеля – близость к НКВД. Обоих тянуло дружить и кутить с высокими чинами оттуда: «реальная власть», острота ощущений, да и модно было. Их неизбежно должно было всосать в воронку». Помолчала, потом сказала: «Пильняк семь лет делал мне предложение, я была скорее против».
И через несколько дней: «А с Пастернаком я возвращалась под утро – это было незадолго перед войной – как раз с грузинского пира. Нам было по пути, в Замоскворечье, он взял меня под руку и всю дорогу говорил о поэте Спасском, ленинградце: какой это замечательный поэт, перешли мост, и вот здесь, на Ордынке, – она показала подбородком в сторону реки: мы с ней стояли у ворот ардовского дома, – он уже совсем захлебывался: Спасский! Спасский! Вы, Анна Андреевна, не представляете себе, какие это стихи, какой восторг… И тут он в избытке чувств стал меня обнимать. Я сказала: «Но, Борис Леонидович, я не Спасский». Это типичный он. Борисик».
Зимним солнечным днем я забежал на Ордынку и застал Анну Андреевну сидящей в гостиной за столом, покрытым ослепительно-белой скатертью, вместе с Ниной Антоновной и еще двумя пожилыми людьми: элегантным статным мужчиной и очаровательной хрупкой дамой, которых я принял за мужа и жену. Представив меня, Ахматова с улыбкой прибавила: «Анатолий Генрихович поклонник “Театрального романа”». «Театральный роман» только что появился в «Новом мире» и был тогда у всех на языке. Дама взглянула на меня, тоже улыбнувшись. Вообще, с самого начала улыбались – и чем дальше, тем веселей – все, кроме мужчины. Я понял ахматовскую фразу как приглашение к теме и сказал, как мне понравился роман и чем. Улыбки, приветливые, но более широкие, чем, я ощущал, должны были вызвать мои слова, у всех, и саркастическая у мужчины вынудили меня на похвалы менее искренние и потому более жаркие. Женская смешливость и мужская неприязненность, проявившаяся уже в хмыканье и реплике «вон как!», еще усилились. Я почувствовал себя неуютно, но не хотел сдаваться, привел несколько лучших примеров булгаковского стиля. Ахматова перебила меня: «Позвольте представить вам Елену Сергеевну Булгакову». Мой конфуз, общее удовольствие, недоверие мужчины: «Да он знал; а не знал – мог догадаться». Это был Михаил Давыдович Вольпин, драматург, человек острого, немного желчного ума и жалящего языка, в 20-е годы на поэтических концертах ошикивавший Ахматову из любви к Маяковскому и одним из считаных людей выслушавший от нее «Реквием» в конце 30-х. Во время войны он и драматург Эрдман, ближайший его друг, оба в военной форме, навестили, попав в Ташкент, Ахматову. Они знали только приблизительно, где находился дом, и, по ее словам, всякий, у кого они спрашивали, в какой она живет квартире, спешил, в уверенности, что «за ней пришли», сообщить им что-нибудь разоблачительное. Когда же они, почтительно держа ее под руку, вышли из дому и через пять минут вернулись с большими бутылями вина, собравшиеся у крыльца были в смятении и глубоком разочаровании…
В тот зимний день, уходя, Елена Сергеевна повернулась ко мне и сказала: «Если хотите, я могу дать вам прочесть другой роман мужа, у себя дома, разумеется». За три дня в ее квартире со светлыми, словно воском натертыми, полами и павловской мебелью, в доме у Никитских ворот я прочел две папки «Мастера и Маргариты». Я признался Ахматовой, что сладкие часы чтения, тем более обаятельного, что оно совершалось в этой исключительной и самой выгодной для него обстановке, в конце концов осели во мне томящим разочарованием. Пленительный, живой, «булгаковский» слой советской Москвы должен был, по замыслу писателя, включиться в евангельский, то есть вневременный, «вечный», а вышло, что он низвел его до себя и в виде стилизованной исторической беллетристики, написанной к тому же без заинтересованности, «на технике», включил в себя. Она ответила неохотно: «Это все страшнее», – может быть, не именно этими словами, но в этом смысле, потом спросила насмешливо: «Ладно, что она его вдова, вы не догадались, но вам хоть понятно, что она Маргарита?»
Она называла Булгакову «образцовой вдовой», то есть делавшей для сбережения и утверждения памяти мужа все, что было в ее силах. Она рассказывала о преданности этой молодой, красивой, избалованной женщины полуопальному, а потом смертельно больному мужу. Однажды речь зашла о «декабристках двадцатого столетия», кажется, это был термин Надежды Яковлевны Мандельштам; затем о женах, разделивших судьбу, прижизненную и посмертную, мужей, о Булгаковой, о Стенич; затем о женах отказавшихся и предавших. Всплыло имя жены Н., которая была задумана природой как жена заслуженного артиста, и три года, пока Н. был заслуженным, она была счастлива. Потом ему дали народного, она растворилась в небытии. Ее место заняла другая, приспособленная быть женой народного артиста. Потом Н. оклеветали, посадили, сняли с него звание, и он остался один. «На эту роль дамы не нашлось», – жестко проговорила Ахматова.
Пильняк родился в один год с Маяковским, Булгаков на три года раньше, но Маяковский, в ее подаче, оказывался на историческую эпоху старше их. Она была очень высокого мнения о его поэзии 10-х годов: «гениальный юноша, написавший “Облако в штанах” и “Флейту-позвоночник”». Вспоминала о нем молодом с теплотой, почти нежностью. Рассказала, как шла с Пуниным по Невскому, и, завернув за угол Большой Морской, они столкнулись с выходившим на Невский Маяковским, который, не удивившись, сейчас же произнес: «А я иду и думаю: сейчас встречу Ахматову», – это уже какой-то из 20-х годов. Повторяла, что если бы так случилось, что поэзия его оборвалась перед революцией, в России был бы ни на кого не похожий, яркий, трагический, гениальный поэт. «А писать «Моя милиция меня бережет» – это уже за пределами. Можно ли себе представить, чтобы Тютчев, например, написал: «Моя полиция меня бережет»?» «Впрочем, могу вам объяснить, – вернулась она к этой теме в другом разговоре. – Он все понял раньше всех. Во всяком случае, раньше нас всех. Отсюда «в окнах продукты, вина, фрукты», отсюда и такой конец».
Неожиданным сопоставлением Маяковского с Тютчевым она добивалась еще нескольких целей, кроме очевидной: измеряла – по сходству, а чаще по контрасту – ранг фигуры; подыскивала – переводом в другой временной пласт – ей место в исторической перспективе; представляла время неделимым, не расслаивающимся на пласты, не разламывающимся на эпохи. К этому же приему она прибегла, когда разговор коснулся Маршака – через две-три недели после его смерти: «Когда умирает старик-писатель, это должен быть обвал, переворот в душах, кончина Толстого – а тут что?» Про Федора Сологуба, одного из немногих старших, кого почитала, с кем поддерживала дружеские отношения до последних его лет, сказала: «Сологуб никому не завидовал, вообще не опускал себя до сравнения с кем бы то ни было – кроме Пушкина. К Пушкину чувство было личное, он говорил, что Пушкин его заслоняет, переходит ему дорогу». Она рассказывала об обедах у Сологубов в большой холодной сумрачной столовой с висящими по стенам запыленными лавровыми венками, которые были на него в разное время возложены на поэтических турнирах и бенефисах; иногда одинокий лист срывался и медленно планировал на пол. Она была дружна и с Анастасией Николаевной Чеботаревской, его женой и сотрудницей, горячо им любимой, которая в припадке безумия покончила с собой: осенью 21-го года она исчезла, а весной ее тело нашли в Неве под окнами их квартиры.
Вообще же почти о всех «старших» разговор начинался так: «Мы его не любили, но…» 11 октября 1964 года она подарила мне свою фотографию, сопроводив это такими словами: «Мы стихов Зинаиды Гиппиус не любили, кроме одного прекрасного четверостишия, – я вам его переписала». На обороте было написано:
Не разлучайся, пока ты жив, Ни ради дела, ни для игры, Любовь не стерпит не отомстив, Любовь отымет свои дары.Потом в скобках – «З. Гиппиус», потом дата, потом строчное, высотой в прописное «а», пересеченное горизонтальной чертой.
* * *
«Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет», – несомнительно свидетельствует Псалтирь. Да еще двадцать-тридцать, пока сами не умрут, помнят покойного дети, вот как раз и век человеческий, сто лет. А потом уже «помяни, Господи, всех, за кого некому молиться».
Памяти «в род и род» добиваются люди святой жизни, памяти долговечной – вызвавшие своими делами великое противодействие Провидения. В особое положение поставлены поэты:
Нет, весь я не умру – душа в заветной лире Мой прах переживет и тленья убежит — И славен буду я, —при непременном условии:
доколь в подлунном мире Жив будет хоть один пиит.Поэты поставлены в особое положение не тем, что оставляют после себя книгу как вещь, пребывающую в дальнейшем употреблении, и не тем, что поэт-потомок, по роду своих интересов натолкнувшись на нее или отыскав, должным образом оценит или даже использует стихи предка. Поэт «не умирает весь» не только в осколке строки, который прихотливо сохранило время, безымянном и случайном, но и в пропавших навсегда стихотворениях и поэмах, другим каким-то поэтом когда-то усвоенных и через позднейшие усвоения переданных из третьих, десятых, сотых рук потомку. В принципе поэт остается «славным» («и славен буду я»), то есть слывет, вспоминается, при чтении любым другим поэтом любой поэзии, поэзии вообще, вспоминается постольку, поскольку он в ней содержится, ее составляет. Иначе говоря, поэзия и есть память о поэте, не его собственная о нем, а всякая о всяком, – но чтобы стать таковой, ей необходимо быть усвоенной еще одним поэтом, все равно – «в поколенье» или «в потомстве». Усваивается же она им уже «на уровне» чтения, «в процессе» чтения. При чтении читателем-непоэтом поэт тоже остается «славным», но эта слава совсем иного качества: непоэт – только приемник, поглотитель поэтической энергии, в него уходит творческий посыл поэта, на нем кончается. Ахматова в заметках на полях пушкинских стихов пишет об «остатках французской рифмы»: распространенная рифма rivage (берег) – sauvage (дикий) превращается у Пушкина в устойчивую формулу «дикий брег». Так вот, разница между этими двумя славами (у читателя-непоэта и у читателя-поэта) подобна разнице между услаждающим слух французским созвучием и самостоятельным образом. Непоэт благодарен читаемому им автору, умиляется, называет его «мой»; поэт пускает его в дело. Именно в дело, а не на украшения: одну из колонн можно взять в готовом виде, из привезенных с раскопок, из валяющихся среди руин, из лишних у соседа – что и делалось всегда и делается на стройке; но она должна быть несущей, а не декоративной. Читатель-непоэт декорирует свою речь лепниной стихов: «Иных уж нет, а те далече, как Сади некогда сказал», – дает Пушкин пример такого усвоения-присвоения поэзии. «Дикий брег» – чисто пушкинский строительный блок, хотя пошли на него элементы чужой архитектуры. То есть: читающий поэт усваивает не в общепринятом смысле слова, он усваивает ее новым стихам.
Когда это происходит, усвоенное обновляется двояко: не бывшими прежде стихами – и обогащением стихов, в них отраженных. Сравнивать поэзию со строительством можно только для наглядности: поэтическая «колонна», в отличие от архитектурной, возникает в новом здании, сохраняясь и в прежнем. Этим сохранением-преобразованием творческий акт усвоения поэзии напоминает метаморфозы у древних, с той поправкой, что Филомела, превращенная в соловья, продолжает быть Филомелой. Из того, что один не умрет, пока будет жив другой, следует, что в каждый момент поэзии оба живы. Эта жизнь не вечная: зависящая от людской памяти, она существует лишь «доколь». Но память – подобие бессмертия, попытка получить бессмертие «своими силами», и так как лучшего подобия в подлунном мире нет, предлагает считать ее бессмертием настоящим, умалчивая о том, что это все-таки лишь имитация бессмертия.
Я ведаю, что боги превращали Людей в предметы, не убив сознанья. Чтоб вечно жили дивные печали, Ты превращен в мое воспоминанье.Это сказала молодая Ахматова. С какого-то времени, если не с самого начала, все ее творчество становится подчиненным одному желанию – превратить мертвое в живое. Магия, вызываемая феноменом поэзии, граничит у нее с некромантией: живым голосом умерших хотела она говорить. Высшей концентрации эти ее усилия достигли в «Поэме без героя». «Их голоса я слышу… – пишет она о друзьях, погибших в Ленинградскую блокаду, – когда читаю поэму вслух…» – и впечатление такое, что голоса звучат не только в ее памяти, но и в ее реальности.
«Цитируя» в своих стихах поэтов-предшественников, Ахматова сознательно выступает как предсказанный ими будущий «пиит» – живой ради их неумирания. Среди немногочисленных книг ее библиотеки всегда под рукой были Библия, Данте (в итальянской антологии начала века, которую заключали стихи составителя; «ради этого и антологию составлял», – комментировала она), полное собрание Шекспира в одном томе, то же Пушкина. Реминисценции из них, менее или более зашифрованные, столь многократны и, благодаря тончайшему вживлению их в ткань ахматовских стихов, часто столь трудноуловимы, что следует говорить о постоянном библейском, или дантовском, или шекспировском слое в ее поэзии. Но при этом, мне кажется, не следует понимать только как стилизацию под античность ее «Музу»:
И вот вошла. Откинув покрывало, Внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала Страницы Ада?» Отвечает: «Я».Этот внимательный взгляд Музы так же конкретен, как все взгляды и взоры ее стихов, например, того же Блока:
Как хозяин молчаливый Ясно смотрит на меня!Она любила повторять, что прохожие на улице, завидев Данте, шептали друг другу: «Вот человек, который побывал там». Строкою «Внимательно взглянула на меня» описание прихода Музы выводилось из сферы воображения, так же как современники Данте не воображали, что он был там, а были в этом уверены.
В год возвращения из эвакуации и встречи с искалеченным Ленинградом, отметив 55-й день рождения, Ахматова написала стихотворение из разряда «последних», то есть тех, которые претендуют стать завершающими творчество поэта – не «Я помню чудное мгновенье», а «Брожу ли я вдоль улиц шумных»: то, что называется «о жизни и смерти».
Наше священное ремесло Существует тысячи лет… С ним и без света миру светло. Но еще ни один не сказал поэт, Что мудрости нет, и старости нет, А может, и смерти нет.Последние строчки предполагают, по крайней мере, два разных прочтения. «Поэт не сказал» этого, потому что мудрость есть, и старость есть, и смерть есть, а опровержение их, или, точнее, победа над ними, – дело не поэзии, а веры. Однако, благодаря нескольким приемам – сопоставлению «мудрости» со «старостью», рассчитанная неожиданность которой, чтобы не сказать – некорректность, имеет целью вызвать читательскую растерянность; и введению утверждающе-сомневающегося «а может» – на передний план выступает другой смысл: «поэт не сказал» этого, а мог бы. Мог хотя бы рискнуть. Последняя строчка – синтаксически самостоятельная, лукавый вопрос: если поэзия в самом деле светит во тьме, то, может, и смерти нет? К этому можно прийти, только назвав ремесло священным, и священное – ремеслом. «Священное ремесло» не делает разницы между словами, вдохновленными Богом и вдохновленными Аполлоном. В таком случае шестистишие может иметь в виду и Екклесиаста, не впрямую оспаривая его: «… преимущество мудрости пред глупостию такое же, как преимущество света перед тьмою… Но… увы! мудрый умирает наравне с глупым… И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить: «нет мне удовольствия в них!»» (глава II, ст. 13, 14, 16; глава XII, ст. 1). Но если кончает Екклесиаст тем, что «всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо», – то почему же «ни один не сказал поэт», не дерзнул сказать, слов надежды – до суда? – вот на что, похоже, намекает стихотворение. «I’ll give thee leave to play till doomsday, я разрешаю тебе играть до Судного дня» – любимое место Ахматовой в «Антонии и Клеопатре», предсмертное обращение царицы к преданной служанке.
Она начала читать Шекспира (в том смысле, как читает поэт; филологи сказали бы: заниматься Шекспиром) в молодости и читала до конца дней, в разные периоды разные вещи или на разное обращая внимание в одной и той же. «Макбет» был в числе досконально изученных и постоянно используемых, макбетовские мотивы попадают в ее стихи непосредственно из трагического быта, воспроизводящего кровавые ситуации пьесы, и через Пушкина, чьи заимствования у Шекспира были ею обнаружены еще в 20-е годы. «Реквием» и, шире, реквиемная тема времени террора, захватившего сорок без малого лет ее жизни, пропитаны словом и духом «Макбета». «Трагический октябрь», сметающий людские жизни, как желтые листья, в четверостишии, описывающем революцию, и голосующие в саду деревья в эпиграфе к стихотворению «И вот, наперекор тому…» – это отголоски движения Бирнамского леса, «шагающей рощи», несущей гибель королю-убийце.
Она рассказывала, что некий молодой англичанин жаловался на трудности чтения шекспировского текста, архаичный язык и проч. «А я с Шекспира начала читать по-английски, это мой первый английский язык». Вспоминала, что, отыскав незнакомое слово в словаре, ставила против него точку; попав на него снова, вторую точку и т. д.: «семь точек значило, что слово надо учить наизусть». «Основную часть англичан и американцев я прочла в бессонницу тридцатых годов», – упомянула она однажды. Среди них были Джойс и Фолкнер. Читала она по-английски, почти не пользуясь словарем, а говорила с большими затруднениями, с остановками, ошибаясь в грамматике и в произношении. Сэр Исайя Берлин, слушавший, как она декламирует Байрона, пишет, что мог уловить всего несколько слов, и сравнивает это с современным чтением античных классиков, которое также едва ли было бы понятно их современникам. Однажды, желая сказать мне то, что не предназначалось для чужих ушей, и допуская, что за дверью нас может услышать человек, который знал французский, она неожиданно заговорила по-английски, я как-то ответил, следующие несколько фраз были произнесены также с напряжением, хотя и свободнее, эпизод закончился, тема разговора переменилась. Через некоторое время она сказала: «Мы с вами говорили, как два старых негра».
Она находила пастернаковские переводы Шекспира более пригодными для театра, но отдавала предпочтение переводам Лозинского, адекватнее передающим «текст». О «Гамлете» говорила, что Призрак отца должен только мелькнуть на сцене, чтобы у зрителя осталось впечатление, будто ему показалось. В связи с этим заметила, что «вообще на сцене все должно каждую минуту меняться». Ее дневниковая запись «Найденная цитата в Гамлете (Frère Berthold)» означает, если не ошибаюсь, что слова Клавдия:
… so, haply, slander, Whose whisper o'er the world's diameter, Аs level as the cannon to his blank Transports his poison'd shot, may miss our name, And hit the woundless air, — (Акт IV, сцена 1)(…тогда, возможно, клевета, чей шепоток сквозь поперечник земли, прицельно, как пушка в десятку, несет свое отравленное ядро, может пролететь мимо нашего имени и ударит в неуязвляемый воздух) – отозвались в пушкинском плане «Сцен из рыцарских времен» фразой «La pièce finit par des réflexions – et par l’arrivée de Faust sur la queue du diable (découverte de l’imprimerie, autre artillerie)» (Пьеса кончается рассуждениями – и прибытием Фауста на хвосте дьявола (изобретение книгопечатания – своего рода артиллерия». Тем самым книгопечатание, Фаустово изобретение которого приравнено здесь к изобретению монахом Бертольдом Шварцем пороха, уподобляется – через метафору – клевете.
Среди шекспировских строк, которые она знала наизусть и могла к случаю вспомнить, был стих из «Ромео и Джульетты», слова Ромео: «For nothing can be ill, if she be well» (Ни в чем не может быть изъяна, если с ней все хорошо). Своеобразная анаграмма этого стиха, строчка, придуманная ею: «Ромео не было, Эней, конечно, был» – это не отрывок из неизвестного или неоконченного стихотворения, а самостоятельный афоризм, универсальный, как она с едва заметной ноткой шутливости настаивала, для всей сферы любовных отношений: мужчин, преданных возлюбленным так, как Ромео, не бывает; бросающих же «ради дела», как Эней, нет числа. Она не один раз приводила его как словцо в беседе, в письме, пробовала предварить им сонет «Не пугайся – я еще похожей», но как эпиграф он не прижился.
Из «Антония и Клеопатры» она повторяла еще два места – слова Клеопатры о себе: «I am fire, and air; my other elements I give to baser life» (Я огонь и воздух; прочие стихии отдаю низшей природе); и об Антонии: «… his delights were dolphin-like, they show’d back above the element they liv’d in» (… его очарование было подобно дельфину, оно выныривало спиной над стихией, в которой жило). Эту принадлежность одновременно двум стихиям она распространяла на себя: вспоминала фразу, которой брат Виктор, моряк, оценил ее умение плавать: «Аня плавает, как птица»; в другой раз сказала о том же: «Я плавала, как щука». А как-то раз в тихий теплый пасмурный день мы сидели на скамейке перед домом, и она произнесла: «В молодости я больше любила архитектуру и воду, а теперь музыку и землю».
Вообще же всякий шекспировский след в ее стихах был еще и знаком «английской темы», неким узелком для памяти.
В 1917 году, в революцию,
Трагический октябрь, Как листья желтые, сметал людские жизни. А друга моего последний мчал корабль От страшных берегов пылающей отчизны.В 1945-м, после великой войны, тот же торжественный александрийский стих отозвался эхом на шаги зеркально появившегося «оттуда» гостя:
И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом, По осени трагической ступая, В тот навсегда опустошенный дом, Откуда унеслась стихов сожженных стая.«Дальняя любовь» к уплывшему в Лондон другу (Анрепу) с этого времени связалась, переплелась и, в плане литературы, обогатилась чувством к другому русскому, мальчиком также эмигрировавшему вместе с семьей из Петербурга сперва в Латвию, потом в Англию. Осенью того года, на гребне волны взаимных симпатий между союзниками в только что окончившейся войне, в Москву советником посольства на несколько месяцев приехал известный английский филолог и философ Исайя Берлин. Его встреча с Ахматовой в Фонтанном доме, вызвавшая, по ее убеждению, все вскоре обрушившиеся беды, включая убийственный гром и долгое эхо анафемы 1946 года и даже, наравне с фултонской речью Черчилля, разразившуюся в том же году холодную войну, переустроила и уточнила – наподобие того, как это случалось после столкновения богов на Олимпе, – ее поэтическую вселенную и привела в движение новые творческие силы. Циклы стихов «Cinque», «Шиповник цветет», 3-е посвящение «Поэмы без героя», появление в ней Гостя из будущего – прямо, и поворот некоторых других стихотворений, отдельные их строки – неявно, связаны с этой продолжавшейся всю ночь осенней и еще одной под Рождество, короткой прощальной, встречами, его отъездом, «повторившим» с поправкой на обстоятельства отъезд Анрепа, и последовавшими затем событиями.
Ахматова говорила о нем всегда весело и уважительно (кроме того раза, когда ею были произнесены слова о «мужчине в золотой клетке»), считала его очень влиятельной на Западе фигурой, уверяла, правда посмеиваясь, что «Таормина и мантия», то есть итальянская литературная премия и оксфордское почетное докторство, «его рук дело» и что это «он сейчас о нобелевке хлопочет» для нее, хотя при встрече с нею в 1965 году и в позднейших воспоминаниях он это начисто отрицал. Она ценила его оценки, ей импонировали его характеристики людей, событий, книг. Она подарила мне его книжку «The Hedgehog and the Fox» (Еж и Лиса), о Толстом как историке, открывающуюся строкой греческого поэта Архилоха: «Лиса знает множество вещей, а еж знает одну большую вещь», и под этим углом рассматривающую писателей: ежей Данте, Платона, Паскаля, Достоевского, Пруста – и лис Шекспира, Аристотеля, Гете, Пушкина, Джойса. Ее рукой в книжке подчеркнуты места: «Толстой был по природе лисою, но считал себя ежом» и «конфликт между тем, что он был и чем себя считал». Возможно, она слышала в этих словах отзвук своих собственных, которые не уставала повторять, порицая Толстого за двойную мораль: непосредственную – и выражавшую мнение его круга, семьи, общества; и которые она высказала, в частности, Берлину в том многочасовом разговоре и впоследствии приведенные им в мемуарах: «Толстой знал правду, однако понуждал себя постыдно приспосабливаться к обывательским условностям».
В разговоре она часто называла его иронически-почтительно «лорд», реже «сэр»: за заслуги перед Англией король даровал ему дворянский титул. «Сэр Исайя – лучший causeur[3] Европы, – сказала она однажды. – Черчилль любит приглашать его к обеду». В другой раз, когда, заигравшись с приехавшими в Комарово приятелями в футбол, я опоздал к часу, в который мы условились сесть за очередной перевод, прибежал разгоряченный и она недовольно пробормотала: «Вы, оказывается, профессиональный спортсмен», причем «спортсмен» произнесла по-английски, – я спросил, по внезапной ассоциации, а каков внешне Исайя Берлин. «У него сухая рука, – ответила она сердито, – и пока его сверстники играли в футболь, – «футболь» прозвучало уже по-французски, – он читал книги, отчего и стал тем, что он есть». Она подарила мне фляжку, которую он на прощание подарил ей: английскую солдатскую фляжку для бренди.
Английскую тему, или, как принято говорить на филологическом языке, английский миф поэзии Ахматовой, обнаруживает не единственно шекспировский след в ее стихах. Байрон, Шелли, Китс (напрямую и через Пушкина), Джойс и Элиот подключены к циклам (или циклы к ним) «Cinque», «Шиповник цветет», к «Поэме без героя» – наравне с Вергилием и Горацием, Данте, Бодлером, Нервалем. Но подобно тому, как появление Исайи Берлина на ее пороге и в ее судьбе, беседа с ним, ночная в комнате и бесконечная «в эфире», были не только встречей с конкретным человеком, но и реальным выходом, вылетом из замкнутых, вдоль и поперек исхоженных маршрутов Москвы – Ленинграда в открытое, живое интеллектуальное пространство Европы и Мира, в Будущее, гостем из которого он прибыл, так и протекание сквозь ее стихи струи Шекспира соотносило их не конкретно с романтизмом, индивидуализмом, или модернизмом, или с «Англией» вообще, но тягой, постоянно в нем действующей, всасывало в Поэзию вообще, в Культуру вообще, во «все» вообще, если иметь в виду ее строчку «Пусть все сказал Шекспир…».
Пользуясь шекспировским материалом, она сдвигала личную ситуацию таким образом, чтобы, перефокусировав зрение читателя, показать ее многомерность. Эти сдвиги в обыденной жизни свидетельствовали о ее мироощущении или об установке (что в ее случае, особенно в поздние годы, было одно и то же), а в поэзии стали одним из главнейших и постоянных приемов. Наиболее частым сдвигом было смыкание не соответствующих один другому пола и возраста. Она написала мне, тогда молодому человеку, в одном из писем: «… просто будем жить как Лир и Корделия в клетке…» Здесь перевернутое зеркальное отражение: она – Лир по возрасту и Корделия по полу, адресат – наоборот. Та же расстановка участников «мы» в ее замечании «Мы разговаривали, как два старых негра», которое, вероятно, учитывало пушкинскую заметку из отдела Habent sua fata libelli («Свою судьбу имеют книги» – есть дневниковая запись Ахматовой под тем же заглавием) в «Опровержениях на критики»: «…Отелло, старый негр, пленивший Дездемону рассказами о своих странствиях и битвах».
Сдвиг по грамматическому роду в ее шутливом упреке молодым англичанкам: «А еще просвещенные мореплавательницы!» – напрашивается – если вспомнить «рыжих красавиц» ее прежних стихов и «рыжую спесь англичанок» у Мандельштама – на сопоставление с подобным сдвигом в строчках 1961 года о призраке: «Он строен был и юн и рыж, он женщиною был». По этой же схеме она изменила расхожую формулу-штамп того времени «секретарша нечеловеческой красоты», введя в трагедию «Энума элиш» «секретаря нечеловеческой красоты». И таков же был механизм некоторых ее шуток: «Бобик Жучку взял под ручку», – когда, выходя из дому, она опиралась на мою руку. Или: «А Коломбине между тем семьдесят пять лет», – как заметила она, прочитав преподнесенный ей молодым поэтом мадригал.
Сложнее построены сдвиги по функции. Ключ к их расшифровке можно получить на сравнительно простом примере реплики из «Улисса» Джойса: «You cannot leave your mother an orphan» (Ты не оставишь свою мать сиротой), которую Ахматова предпосылала эпиграфом последовательно к нескольким своим вещам, включая «Реквием», и окончательно – циклу «Черепки». Следствием такого сдвига оказывается множественность функций, множественность ролей, в которых одновременно выступает лирическая героиня Ахматовой, – прием, в частности и, возможно, наиболее полно осуществленный в цикле «Полночные стихи».
Появление Офелии в «Предвесенней элегии» («Там словно Офелия пела» – Ахматова, когда читала эти стихи вслух, произносила «Ophelia») непосредственно связано с содержанием четверостишия, открывающего весь цикл «Полночных стихов». Первые две строчки этого четверостишия:
По волнам блуждаю и прячусь в лесу, Мерещусь на чистой эмали, —соотнесены и описательно, и текстуально со сценой Голубой эмали из «Фамиры-кифареда» Анненского:
Приюта не имея, я металась В безлюдии лесов, по кручам скал, По отмелям песчаным и по волнам.Героиня стихов Анненского – Нимфа-Мать-Возлюбленная. «Возлюбленная» Офелия – также нимфа: The fair Ophelia! Nymph… (Прекрасная Офелия! Нимфа…) – говорит Гамлет, а сопутствующий ей у Ахматовой зимний пейзаж (Меж сосен метель присмирела) очевидным образом отсылает читателя к … be thou as chaste as ice, as pure as snow… (будь целомудренна, как лед, чиста, как снег).
В стихотворении «В Зазеркалье» этот прием еще более изощряется. «Полночные стихи» ориентируются на английский источник и настойчиво, и демонстративно:
Офелия в 1-м стихотворении;
Зазеркалье (Alice through the looking-glass – «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла) в 3-м;
сень священная берез (в записных книжках Ахматовой есть эпизод «Березы»: «… огромные, могучие и древние, как друиды…»; друиды – кельтские жрецы в Галлии и Британии) в 4-м;
наконец, начало: Была над нами, как звезда над морем, Ища лучом девятый смертный вал, перекликающееся со строчками: Без фонарей, как смоль был черен невский вал… И ты пришел ко мне как бы звездой ведом – из цикла «Шиповник цветет», адресованного Исайе Берлину, – в 7-м, «и последнем», стихотворении.
Загадочные стихи «В Зазеркалье» получают некоторое объяснение, если их читать в том же «английском» ключе.
В Зазеркалье
О quae beatam, Diva, tenes Cyprum et Memphin… Hor. Красотка очень молода, Но не из нашего столетья, Вдвоем нам не бывать – та, третья, Нас не оставит никогда. Ты подвигаешь кресло ей, Я щедро с ней делюсь цветами… Что делаем – не знаем сами, Но с каждым мигом нам страшней. Как вышедшие из тюрьмы, Мы что-то знаем друг о друге Ужасное. Мы в адском круге, А может, это и не мы.Взятый эпиграфом стих Горация (О Богиня, владычествующая над счастливым Кипром и Мемфисом), сохраняя смысл обращения к Венере, описывает также «владычицу морей» Британию – и вызывает в памяти конкретно приветствие из «Отелло» (II, 1): Ye men of Cyprus, let her have your knees. – Hail to thee, lady! («Будь доброй гостьей Кипра, госпожа!» – в переводе Пастернака.) Кресло в стихах Ахматовой всегда несет дополнительную смысловую нагрузку – отдых путешественника: «Не знатной путешественницей в кресле» в стихотворении «Какая есть» и еще яснее «юбилейные пышные кресла» в «Поэме без героя» – поэтому строчка «Ты подвигаешь кресло ей» не только не противоречит образу «владычицы морей», но усиливает его. Строчкам же Красотка очень молода, Но не из нашего столетья откликается столетняя чаровница «Поэмы без героя», 2-й ее части, из которой взят эпиграф к «Полночным стихам», – то есть «романтическая поэма начала XIX века» (в первую очередь байроновская и шеллиевская), как раскрыла секрет этой «английской дамы» сама Ахматова.
Таким образом, параллель, проводимая через весь цикл: Нимфа из «Фамиры» – и Офелия (как и проступающие за ними их создатели: Софокл – и Шекспир); Венера – и Британия, совмещенные в стихе эпиграфа (и опять-таки Гораций – и Шекспир); березы «как Пергамский алтарь» (в упомянутом этюде) – и «как друиды», – может быть описательно передана формулой детской игры-загадки: «если время – то Античность; если место – то Англия». Думаю, именно это, только другими словами, утверждала Ахматова, когда после поездки в Италию говорила, что «Флоренция – то же, что наши десятые годы», то есть принадлежность к культуре места все равно что принадлежность к культуре времени. Эта же параллель Античность-Англия выходит на поверхность и в стихотворении «Ты – верно, чей-то муж…», появившемся одновременно с «Полночными стихами».
Rosa moretur
Hor. 1, посл. ода Ты – верно, чей-то муж и ты любовник чей-то, В шкатулке без тебя еще довольно тем, И просит целый день божественная флейта Ей подарить слова, чтоб льнули к звукам тем. И загляделась я не на тебя совсем, Но сколько предо мной ночных аллей-то, И сколько в сентябре прощальных хризантем. ……………………… Пусть все сказал Шекспир, милее мне Гораций, Он сладость бытия таинственно постиг… А ты поймал одну из сотых интонаций, И все недолжное случилось в тот же миг.(Тут кстати будет сказать об обстоятельствах его сочинения. Первоначально Ахматова предполагала объединить его с «Последней розой» и «Пятой розой» в цикл «Три розы». К каждому стихотворению был выбран эпиграф из стихов, ей посвященных: Бродского – «Вы напишете о нас наискосок» к «Последней», моих – «Ваша горькая божественная речь…» к «Ты – верно, чей-то муж…». «Пятая» была написана по поводу букета из пяти роз, подаренного ей Бобышевым: четыре сразу завяли, пятая – «сияла, благоухала, чуть не летала». Незадолго перед тем Бобышев посвятил Ахматовой стихотворение «Великолепная семерка» с такими строчками: «Угнать бы в Вашу честь электропоезд, наполненный словарным серебром», – но считал его недостаточно «высоким» и предложил ей для эпиграфа четверостишие о розе, имевшее прежде другого адресата. А.А. дала вписать четверостишие в тетрадку, но хитрость немедленно раскусила – «Пятая роза» осталась без эпиграфа. «Моя» роза вскоре стала именоваться Rosa moretur – Медлящей розой, взятой у Горация, которая выглядела одновременно названием и эпиграфом. Двух эпиграфов стихотворение (как до того сонет в «Шиповник цветет») не выдержало: мой переполз в стихотворение, опубликованное после ее смерти, «Запретная роза», со строчками «Тот союз, что зовут разлукой И какою-то сотой мукой», очевидно связанной с «одной из сотых интонаций» в Rosa moretur. При подготовке посмертного ахматовского тома публикатор напечатал горациевский стих уже не как название, а только как эпиграф.)
Строчкой этого стихотворения «Пусть все сказал Шекспир, милее мне Гораций» не только определяется «место и время» в «Полночных стихах», не только формулируется авторский замысел. В ней есть еще указание на особый ахматовский способ включения в свои стихи чужого «текста в тексте», также чужом. Ее «Клеопатра», написанная на тему «Антония и Клеопатры» Шекспира, свою зависимость от сюжета этой пьесы выставляющая напоказ, тем самым прячет другую «Клеопатру» – 37-й оды Книги I Горация:
ausa et iacentem visere regiam voltu sereno, fortis et asperas tractare serpentes, ut atrum corpore conbiberet venenum(дерзнувшая поверженное зреть царство со спокойным лицом, осмелившаяся жестоких прижать к себе змей, чтобы черный телом впитать яд). Конкретно же, то есть применительно к розе, строка Ахматовой, возможно, имела в виду слова Гамлета о поступке Гертруды, об измене, которая
… takes оff the rose From the fair forehead of innocent love And sets a blister there, makes marriage vows As false as dicer’s oaths…(… срывает розу с ясного чела невинной любви и сажает на ее место язву, делает супружеские обеты пустыми клятвами картежников…). Но пусть Шекспир сказал об этом, как и обо всех других любовных делах, всё, – милее Гораций, «он сладость бытия таинственно постиг»:
mitte sectari, rosa quo locorum sera moretur(перестань искать, в каком месте роза поздняя медлит).
Simplici myrto nihil adlabores sedulus curo: neque te ministrum dedecet myrtus neque me sub arta vite bibentem(к простому мирту ничего не трудись добавлять усердно, прошу: ни тебя, прислужника, мирт не портит, ни меня, под густой лозой пьющего). Мирт – зелень Афродиты, символ супружеской любви, и мирт – украшение усопших распускается и увядает в ахматовском стихотворении хризантемами: «И сколько в сентябре прощальных хризантем». «Цветов – как на похоронах», – говорила она в день рождения, когда преподнесенные букеты и корзины не помещались в комнате.
Между таинственной Горациевой прелестью ускользающего мига и неотменимым вердиктом, которым Шекспир навсегда приковывал этот миг к слову, текут ее стихи, отклоняясь то к одному, то к другому берегу. Чаще – к тому, что прочнее, что меньше подвержен разрушению, сохраннее, «памятниковее». В июльский день 1963 года она отлила молодой женщине несколько капель болгарского благовонного масла из флакончика «Долина тысячи роз», закрепив этот жест стихом «Я щедро с ней делюсь цветами». Она любила цветы, больше всех розы, про куст, который на следующую осень неожиданно и бурно зацвел под ее окном, приоткрывал многочисленные бутоны, каждый день выбрасывал новые, говорила с нежностью и благодарностью: «Роза сошла с ума». Так что «это все поведано самой глуби роз» – живых. Но одновременно могла заметить: «С цветами в русском языке вообще неблагополучно: «букет», «бутон», «клумба», «лепестки», «цветник» – почти все никуда не годится. Вот и сочиняй после этого стихи». О встрече 1945 года она написала:
Шиповник так благоухал, Что даже превратился в слово, И встретить я была готова Посланца белоснежных скал.По-видимому, хрупкость этих слов внушала опасение, роковая минута угрожала оказаться мимолетной, и чтобы сказать о ней «все», она подвела фундамент покрепче – пусть не без урона для «сладости бытия»:
И встретить я была готова Моей судьбы девятый вал.* * *
«Заграница» Ахматовой была двух видов: Европа ее молодости – и место обитания русской эмиграции. Заграница громких имен, новых направлений и течений, благополучия и веселья оставалась чужой и, в общем, малоинтересной. Политике, всегда привлекавшей ее внимание, она находила объяснение в конкретных людях, их отношениях, привычках и манерах – несравненно более убедительное, чем в борьбе за свободу и за сырье.
Впервые она оказалась за границей в двадцать один год. Тогдашние впечатления сложились через полвека в очерк «Амедео Модильяни» и сопутствующие ему заметки – ядро (вместе с «Листками из дневника») ахматовской прозы. Воспоминания о Модильяни дописывались и компоновались на моих глазах – я тогда был у нее за секретаря, – и то, что в них не попало, если и выглядело менее существенным, чем попавшее, оно привлекало к себе специальное внимание тем, почему не попало. Между прочим она вставила в текст, что Модильяни «интересовали авиаторы… но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?)». Параллельно она мне рассказала такую историю. «Мы, шестеро русских, отправились на Монмартр в какой-то дом. Место было не вполне благопристойное, темноватое: кто-то куда-то выходил что-то смотреть, кто-то приходил. Я сразу села за стол с длинной, до полу, скатертью, сняла туфли – они безумно жали ноги – и гордо на всех глядела. По левую руку от меня сидел знаменитый тогда авиатор Блерио со своим механиком. Когда мы поднялись уходить, в туфле лежала визитная карточка Блерио». В этом же роде был рассказ о том, как полковник французского генерального штаба пригласил ее в луна-парк и провел по всем аттракционам; перед каждым непременно спрашивал у служителя: «Est-ce que ces attractions sont vraiment amusantes?» (Этот аттракцион в самом деле увлекательный?)
Не был включен в мемуары о Модильяни – то ли просто не нашлось подходящего места, то ли заводило сюжет в ненужные разъяснения – и такой отрывок: «Он писал очень хорошие длинные письма: Je tiens votre tête entre mes mains et je vous couvre d’amour. Адрес на конверте вырисовывал, разумеется, не зная русские буквы». (Я беру вашу голову в свои руки и окутываю вас любовью.) «Голова» тут – и скульптуры, вылепленной Модильяни, и живая ахматовская, вспоминаемая им. Как-то раз я рассказал ей о знакомом актере, которого итальянские киношники пригласили сниматься в роли Тристана. Я заметил, что голова его похожа на модильяниевскую. «А роста какого?» – «Среднего». – «А Модильяни был невысок» (или даже – «маловат»). Я сказал: «Не могли у себя найти Тристана». – «У них все очень все-таки носатые».
Упоминание о том времени возникло однажды после визита Симона Маркиша, с которым она была в добрых отношениях и время от времени консультировалась как с античником. Его отца, знаменитого еврейского поэта Переца Маркиша, расстрелянного в 1952 году, она знала еще в молодости и рассказала, что «он был фантастически красив», так что когда в 13-м году остался в Париже совсем без денег, то пошел по объявлению на конкурс красоты и выиграл первый приз.
Эмиграция, как сказала она раз навсегда, состояла из тех, «кто бросил землю на растерзание врагам», и «изгнанников», но это были не две ее части, а «бросивший землю» был также и «изгнанником». С годами акцент чувств сместился в сторону сострадания к осененным Овидиевой и Дантовой судьбами «изгнанникам», к которым в дни эвакуации она причисляла и себя: «А веселое слово – дома – никому теперь незнакомо, все в чужое глядит окно: кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке…» Одновременно эмиграция была и источником постоянного раздражения и тревоги. Вывезшие из России «свой последний день» эмигранты публиковали сведения, которые она лишена была возможности опровергнуть. Эти публикации формировали мнение и обывателей, и филологов, на них ссылались в диссертациях, в книгах. Она говорила про книжку, кажется, Роберта Пейна: «Читаю, что в тридцать седьмом году я была в Париже. Каким диким это ни кажется нам, знающим, что тогда творилось, вранью можно найти отгадку. Кто-то рассказал ему про Цветаеву, которая действительно была тогда в Париже. А чтобы американец предположил, что на свете в одно время могут существовать две русских женщины, пишущих стихи… – слишком много хотите от человека». Поэтому она пользовалась всякой встречей с иностранцем, чтобы что-то исправить, уточнить, восстановить истину. Поэтому она так подолгу занималась с Амандой Хэйт, писавшей диссертацию о ее творчестве, давала ей необходимые материалы, диктовала даты, указывала на источники. Глубокая и живая книжка Хэйт «Akhmatova. A Poetic Pilgrimage» (Ахматова. Поэтическое Странствие), изданная в Оксфорде в 1976 году, как и двухтомная диссертация, уникальна не только потому, что и сейчас, через тридцать с лишним лет после смерти Ахматовой, остается единственной цельной ее биографией, но и потому, что она то тем, то другим словом передает ее голос, и всем своим содержанием – направление ее мысли, «предсмертную волю».
В ней не было ни тени русской ксенофобии или подозрительности к иностранцам. Шпиономания же, к концу ее жизни укоренившаяся в умах и сердцах публики, была ей отвратительна. (Другое дело, что она не избежала отравы шпикомании: может быть, недостаточно основательно предполагала – а предположив, убеждала себя и близких, – что такая-то «к ней приставлена», такой-то «явно стукач», что кто-то взрезает корешки ее папок, что заложенные ею в рукопись для проверки волоски оказываются сдвинутыми, что в потолке микрофоны и т. д. Может быть, недостаточно основательно – но ни в коем случае не излишне легко: во‑первых, всего этого и в самом деле было в избытке, во‑вторых, подобные предположения мучили ее. Что же до тотального «международного шпионажа», то одним из ее любимых доводов против была шпионская поездка в Россию в 1919 году Сомерсета Моэма: «Как видите, подыскать подходящего человека необычайно трудно: чтобы шпионить в разрушенной стране, то есть практически в безопасности и безнаказанно, не нашли никого, кроме известного писателя». И похоже про Рубенса: «Я переводила его письма – оказалось, что он был двойным, если не тройным, агентом. Вот какие фигуры – шпионы, а не лавочники-туристы, щелкающие фотоаппаратом».)
Ее самое иногда принимали за иностранку («к слепневским господам хранцужа́нка приехала» – в 1911 году), иностранцы были непременной частью ее окружения в петербургской молодости – и даже в крымском детстве. Она рассказывала, как девочкой долго плавала вдали от берега – «а плавала я так, что брат, учившийся на гардемарина и плававший в полной выкладке в ледяной воде, говорил: “Я плаваю почти как Аня”». Какой-то француз-винодел, налаживавший в Крыму коньячное производство, однажды наблюдал за ней, а когда она вышла из воды, сделал комплимент ее способностям. Затем представился, сказав: «Je suis de Cognac, c’est connu, n’est-ce pas?» (Я из Коньяка, известное место, не правда ли?) «А мне было тогда совершенно все равно…»
«Итальянцы думают, что у них трудный язык, – вовсе нет, это они для важности» – так мог говорить человек, который не только читал «Божественную комедию», но и гулял по флорентийским, венецианским, генуэзским улицам. Это было замечание того же разряда, что и «итальянцы все носатые». Поездки 1964 и 1965 годов стали прямой противоположностью путешествиям молодости: тогда она бывала, где хотела, – тут ее возили; тогда она глядела на мир – тут глазели на нее. Ее чествовали, она доказала, что ее путь был правильный, она победила, но в palazzo Ursino было что-то от склепа, в оксфордской мантии – от савана, в самом торжестве – от похорон. И дело заключалось не в старости и слабости, только завершавших картину, а в том, что всё, что было живо когда-то, окаменело, утратило душу. Пунина, которая сопровождала ее в первой поездке, повезла ее купить чемодан для подарков (например, мне и Иосифу А.А. привезла по куртке). Продавец принялся скидывать с полок на прилавок лучший товар. Пунина показала на один из чемоданов и спросила, прочный ли. Вместо ответа продавец бросил его на пол, прыгнул сверху – чемодан проломился. Он схватил другой, они остановили его, купили первый попавшийся, кое-как выбрались из магазина. Ахматова рассказывала о веселом эпизоде, но веселья не слышалось в голосе: это было одно из редких живых впечатлений от Рима, и оно не походило на «сновидение, которое помнишь всю жизнь», как написала она об итальянских впечатлениях 1912 года.
Ей оформляли документы для обеих поездок по несколько месяцев: билет на лондонский поезд выдали в день отъезда. Она говорила: «Они что, думают, что я не вернусь? Что я для того здесь осталась, когда все уезжали, для того прожила на этой земле всю – и такую – жизнь, чтобы сейчас все менять!» Ворчала: «Прежде надо было позвать дворника, дать ему червонец, и в конце дня он приносил из участка заграничный паспорт».
Это был немножко «визит старой дамы»: ехала не Анна Андреевна – Анна Ахматова. Она должна была вести себя, и вела себя, как «Ахматова». Возвратившись, показывала фотографии: церемония на Сицилии, дворец, большой стол, много людей; на заднем плане – античный бюст с довольно живым – и насмешливым – выражением лица. Она комментировала: «Видите, он говорит: «“Эвтерпу – знаю. Сафо – знаю. Ахматова? – первый раз слышу”». Сопоставление имен было существеннее самоиронии.
Рассказывала, как проснулась утром в поезде и подошла к вагонному окну: «И вижу приклеенную к стеклу – во весь его размер – открытку с видом Везувия. Оказалось, что это и есть «лично» Везувий». Везувий с открытки был символом «нового», окончательного, последнего зрения: не свежая, любопытствующая зоркость иностранки, называющей вещь, чтобы «так и было имя ей», а ко всему готовый взгляд из глубины культуры, для которого вещь существует, потому что «так имя ей». И как вся эта поездка, культура тоже пародировала самое себя пятидесятилетней давности: открытка «пиджачной эры», «фельетонного времени» заместила полотно Cеребряного века с изображением той же Италии: «Как на древнем выцветшем холсте, стынет небо тускло-голубое». «Пошлость победила меня», – повторяла она слова Пастернака, услышанные от него в их последнее свидание; он сказал: «Пошлость победила меня – и там, и здесь».
И так же была похожа на монмартрскую компанию русских в 1911 году – делегация, с которой она ездила получать премию. «Они были добрые, – сказала она. – Но они не пили и поэтому были совсем черные. Потому что, если бы они выпили, как хотели, все узнали бы, кто они». Но и иностранцы, приезжавшие в Россию, чтобы видеть ее, тоже не все сплошь были сэры исайи.
Комаровская почтальонша принесла телеграмму с просьбой американского профессора такого-то принять его в такое-то время. Ахматова буркнула: «Чего им дома не сидится?» – и в назначенный час погрузилась в кресло у стола. Гость приехал с собственным переводчиком, она попросила меня остаться. Профессору было лет сорок, он имел обширные планы – намеревался писать сравнительную историю нескольких государств, в том числе Соединенных Штатов и России, и, кажется, Турции и Мексики, на протяжении нескольких десятилетий не то XIX, не то XX века. Сейчас он собирал материалы по России и, в частности, от Ахматовой хотел узнать, что такое так называемый «русский дух». Он объяснил с прямотой богатого бизнесмена: «В Америке мне сказали, что вы очень знаменитая, я прочел некоторые ваши вещи и понял, что вы единственный человек, который знает, что такое русский дух». Ахматова вежливо, но достаточно демонстративно перевела разговор на другую тему. Профессор настаивал на своей. Она навстречу не шла и всякий раз заводила речь о другом, всякий раз все суше и короче. Он продолжал наседать и в раздражении спросил уже у меня, не знаю ли я, что такое русский дух. «Мы не знаем, что такое русский дух!» – произнесла Ахматова сердито. «А вот Федор Достоевский знал!» – решился американец на крайний шаг. Он еще кончал фразу, а она уже говорила: «Достоевский знал много – но не все. Он, например, думал, что если убьешь человека, то станешь Раскольниковым. А мы сейчас знаем, что можно убить пятьдесят, сто человек – и вечером пойти в театр».
Когда в Ленинград приехал Роберт Фрост, на даче у Алексеева-англиста была устроена его встреча с Ахматовой. Оба имени стояли в списке претендентов на Нобелевскую премию, и замысел познакомить их казался руководителям и болельщикам литературы необыкновенно удачным. Ахматова после встречи вспоминала о ней насмешливо: «Воображаю, как мы выглядели со стороны, совершенные «дедулинька или бабулинька»». (Это к Чуковскому подошел на бульваре ребенок и спросил: «А вы дедулинька или бабулинька?») Профессор Рив, участвовавший во встрече, видел происходившее в другом свете и написал об Ахматовой приподнято: «Как величава она была и какой скорбной казалась». Она прочла Фросту «Последнюю розу»: «несколько мгновений мы оставались безмолвны, неподвижны». Ахматова же рассказывала, что Фрост спросил у нее, какую выгоду можно получать, изготовляя из комаровских сосен карандаши. Она приняла предложенный тон и ответила так же «делово»: «У нас за дерево, поваленное в дачной местности, штраф пятьсот рублей». (Фроста-поэта она недолюбливала за «фермерскую жилку». Приводила в пример стихотворение, где он утверждал, что человек, которому совсем уже нечего продать, так плох – хуже некуда. Высказывалась в том смысле, что на таком уровне и таким образом поэту рассуждать все-таки не пристало.)
Летом 1964 года в Комарове в Доме Театрального общества жила Фаина Раневская. Актерский талант самой высокой пробы и веса, и такой же интеллект и такая же острота ума; своеобразие взгляда на вещи, свобода поведения, речи, жеста; обаяние невероятной популярности, приданной временем трагикомической внешности – все вместе действовало мгновенно и пленительно на тех, кто оказывался с ней рядом. Стало общим местом признание того, что ее артистический дар был растрачен посредственными режиссерами на роли неизмеримо ниже ее возможностей, растаскан на «эпизоды», на «номера». Но печаль и сетования по этому поводу отвлекли внимание даже знавших ее современников от того, что было еще печальнее: так же по пустякам растранжирил век, привыкший считать людей на миллионы, и всю из ряда вон выходящую одаренность этой уникальной натуры, так же не оценен остался калибр личности. С Ахматовой они познакомились и прониклись друг к другу симпатией в Ташкенте. Когда Ахматова написала стихотворение «Ты – верно, чей-то муж…», то прокомментировала строчку «А ты нашел одну из сотых интонаций»: «Актер – это тот, кто владеет сотой, то есть ни на кого не похожей, интонацией, она и делает его актером; про это все знает Фаина, спросите у нее». Почтение Раневской к Ахматовой было демонстративное, но ненаигранное. Уточняя почтительность юмором, она обращалась к ней «рабби» и «мадам». Вдову Мандельштама, после ее антиахматовских выпадов, называла исключительно «эта Хазина», по девичьей фамилии. Прочитав в очередных воспоминаниях в начале 80-х годов, что Ахматова не любила Чехова, неожиданно мне позвонила и рыдающим басом, с характерным очаровательным своим заиканием, произнесла негодующую речь, что как же так, сперва «эта Хазина», а теперь «этот…» – осмеливаются публиковать гнусные измышления о том, чего не знают, чего быть не могло, потому что больше всех на свете она чтит двух людей, «А-ханночку Андреевну» и «А-хантона Павловича», обоих боготворит, оба гении, и как же одна могла не любить другого, когда он написал «всю правду про всех нас»: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси…» – и так далее, прочла почти целиком монолог Нины Заречной, с завораживающими паузами, с трагической интонацией, так что получилось в самом деле «холодно, холодно, холодно; пусто, пусто, пусто; страшно, страшно, страшно».
В то лето Раневская принесла Ахматовой книгу Качалова-химика о стекле. «Фаина всегда читает не то, что все остальное человечество, – сказала А.А. – Я у нее попросила». Возможно, у обеих был специальный интерес к автору, мужу известной с 10-х годов актрисы Тиме. Через несколько дней мы вышли на прогулку, вернулись, в двери торчала записка, я потом на нее наткнулся, когда перечитывал письма того времени. «А. А.А. Маdame Рабби! Очень досадно – не застала. Очень вас прошу, – пожалуйста, передайте Толе мою мольбу – прицепить к велосипеду книгу «Стекло», и если меня не застанет – пусть бросит в мое логово». Все малые «а» тоже, как у Ахматовой, трогательно перечеркнуты горизонтальной чертой. «Логово» был номер на первом этаже Дома актеров, в другой раз он мог быть назван «иллюзией императорской жизни» – словцо Раневской из тех, которыми Ахматова широко пользовалась.
Когда-то в Ташкенте она рассказала Раневской свою версию лермонтовской дуэли. По-видимому, Лермонтов где-то непозволительным образом отозвался о сестре Мартынова, та была не замужем, отец умер, по дуэльному кодексу того времени (Ахматова его досконально знала из-за Пушкина) за ее честь вступался брат. «Фаина, повторите, как вы тогда придумали», – обратилась она к Раневской. «Если вы будете за Лермонтова, – согласилась та. – Сейчас бы эта ссора выглядела по-другому… Мартынов бы подошел к нему и спросил: «Ты говорил, – она заговорила грубым голосом, почему-то с украинским «г», – за мою сестру, что она б…?» Слово было произнесено со смаком. «Ну, – в смысле «да, говорил» откликнулась Ахматова за Лермонтова. – Б…». – «Дай закурить, – сказал бы Мартынов. – Разве такие вещи говорят в больших компаниях? Такие вещи говорят барышне наедине… Теперь без профсоюзного собрания не обойтись». Ахматова торжествовала, как импресарио, получивший подтверждение, что выбранный им номер – ударный. Игра на пару с Раневской была обречена на провал, но Ахматова исполняла свою роль с такой выразительной неумелостью, что полнота этого антиартистизма становилась вровень с искусством ее партнерши. Мартынов был хозяином положения, Лермонтов – несимпатичен, но неуклюж и тем вызывал жалость.
Это было время нового, послереквиемного, этапа ахматовской славы и сопутствующей суеты вокруг ее имени. Она оставалась равнодушна к интересу, который вызывала, к комплиментам и т. д., ко всему, что было ей привычно. Но короткой заметке в какой-нибудь европейской газете неожиданно могла придать особое значение, спрашивать мнение о ней у знакомых, ссылаться на нее при встречах с незнакомыми. «Шведы требуют для меня нобелевку, – сказала она Раневской и достала из сумочки газетную вырезку. – Вот, в Стокгольме напечатали». – «Стокгольм, – произнесла Раневская. – Как провинциально!» Ахматова засмеялась: «Могу показать то же самое из Парижа, если вам больше нравится». – «Париж, Нью-Йорк, – продолжала та печально. – Все, все провинция». – «Что же не провинция, Фаина?» – тон вопроса был насмешливый: она насмехалась и над Парижем, и над серьезностью собеседницы. «Провинциально все, – отозвалась Раневская, не поддаваясь приглашению пошутить. – Все провинциально, кроме Библии».
* * *
Ленинградское телевидение устроило вечер памяти Блока. Обратились к Ахматовой, она сказала, что сниматься категорически отказывается, а записать на магнитофон рассказ о нескольких встречах с Блоком согласна. Телевизионщики, по-видимому, решили, что уломают ее на месте, и в условленный день вместо репортера с магнитофоном на Озерной улице Комарова показались два автобуса и несколько легковых автомобилей. Мы увидели их из окна, Ахматова произнесла с отчаяньем в голосе: «Я не дамся». Несколько предшествующих дней она плохо себя чувствовала, плохо выглядела. Через минуту в комнату входили две женщины с букетами роз, электрики подтягивали к дому кабель. Ахматова резким тоном сказала, что о камере не может быть речи, максимум – магнитофон, хотя и это – из-за нарушения ими уговора и из-за многолюдства – теперь сомнительно. Начались увещевания: «миллионы телезрителей», «уникальная возможность», и особенно «моя мама не спит ночей в ожидании мига, когда вас увидит». Она повернулась ко мне за поддержкой, взгляд был больной, затравленный. Одна из женщин, мне отдаленно знакомая, поглядела на меня поощрительно, видимо уверенная, что я с ней заодно. Я сказал, чтоб они оставили ее в покое. Женщины вытащили меня в коридор и горячо зашептали, что она уже старая и что история не простит. В конце концов та и другая сторона, ненавидя друг друга, сошлись на магнитофоне.
Телевизора у нее не было, а я специально смотрел эту программу, назавтра мы увиделись, она сразу спросила о впечатлении. Когда очередь дошла до ее выступления, ведущий объявил, что, благоговея перед именем, не может объявить его сидя, и встал. Оператор был к этому не готов и довольно долго показывал его живот. Зазвучал голос Ахматовой, и только тут камера стала медленно подниматься к лицу стоявшего. Он же тем временем начал неуверенно садиться и исчез из кадра: некоторое время ахматовские фразы раздавались на фоне пустой стены. Однако окончательное впечатление от всего вместе было торжественное, таинственное и пронзительное. И ее отсутствие оказалось особенно выигрышным на фоне выступления старенькой актрисы Веригиной, вспоминавшей, заметно шепелявя, как «Альсан Альсаныч» на новогоднем бумажном балу тысяча девятьсот… дцатого года восхитился ее платьем, – а вообразить, глядя в телевизор, что когда-то она выглядела иначе, было невозможно, и легкое яркое платье того бала в сочетании с этим дряхлым телом и морщинистым лицом вызывало представление об извращенных, макабрных вкусах Блока. Ахматова посмеялась.
«И все равно никто не поверил, что у вас не было с ним романа», – сказал я. Она поддержала разговор: «Тем более, что его мать, как известно, даже рекомендовала ему этот роман». – «Нет, нехорошо, вы обманули ожидания миллионов телезрителей…» – «Теперь уже поздно исправлять – передача прошла». И еще несколько фраз в том же тоне, пока я не сказал: «А что вам стоило сделать людям приятное и согласиться на роман!» Она ответила очень серьезно: «Я прожила мою, единственную, жизнь, и этой жизни нечего занимать у других». И еще через некоторое время: «Зачем мне выдумывать себе чужую жизнь?»
Между тем «чужая жизнь», по крайней мере на уровне легенды, творилась, сочинялась для нее уже на ее глазах, и не только из-за недобросовестности или злонамеренности критиков и мемуаристов, но подчиняясь законам людской молвы, действующим и всегда действовавшим по своей собственной логике. Ахматова знала это и делала опережающие шаги, предупредительные записи и в то же время знала, что логика молвы, как мутирующий вирус, ускользнет от всяких ее лекарств и нападет на ее биографию с неожиданной стороны. В дневниках Лидии Чуковской есть рассказ Ахматовой о том, как ее подруга сошла с ума и сказала ей: «Знаешь, Аня, Гитлер – это Фейхтвангер, а Риббентроп – это тот господин, который, помнишь, в Царском за мной ухаживал». Через десять лет после смерти Ахматовой ко мне подошла пожилая дама и сказала, что хочет сообщить мне вещь, которой никто не знает: «Я подружилась с Ахматовой в Ташкенте, всю войну мы были неразлучны. Я хочу рассказать вам, кто ее спас от окончательной гибели… Когда в Москву прибыл Риббентроп и ехал с Молотовым в машине по Невскому – а они были знакомы еще по школе, Риббентропы ведь петербургские немцы, – он обратился к Молотову и спросил: «Вячеслав, а как поживает кумир нашей молодости, поэт, которого мы боготворили, как поживает Анна Ахматова?» – «Да вот, проштрафилась, – отвечал Молотов. – Пришлось принять о ней Постановление ЦК». – «Ну, ты уж похлопочи за нее ради меня». Молотов обратился с просьбой к Жданову, и Ахматова была спасена». Вероятно, я мог бы узнать еще немало интересного, если бы не спросил необдуманно, в каком году это было. «В каком, в каком, – передразнила она меня. – В каком приезжал, в таком и было», – и, с неприязнью и подозрением на меня посмотрев, отошла. Это напоминает рассказы Хармса и вообще жанр анекдотов о Пушкине и Лермонтове, и я даже хотел для развлечения написать такую биографию Ахматовой. Но вот в Центральном Госархиве, например, хранится фотография, на которой сняты Ахматова и я на скамейке перед Будкой, и подпись – «Ахматова и Бродский в Комарове». Забавно, но в один из осенних дней 64-го года мы с ней сидели на скамейке, другой, в перелеске у дороги на Щучье озеро, проезжал на велосипеде юноша-почтальон, вдруг остановился и, страшно смущаясь, спросил у меня: «Вы Бродский?» И когда он отъехал, она заметила: «Ему очень хотелось, чтобы с Ахматовой был Бродский, так симметричней». А в другой раз рассказала, что за границей на ней женили Эренбурга: услышали ее имя, а кто еще живет в России? – Эренбург; стало быть, муж и жена.
Именно этим объясняются ее гневные – часто несправедливо – письма, записи, монологи или такая фраза в автобиографии: «1 октября 1912 года родился мой единственный сын Лев», – потому что слышала о многочисленных детях Блока, о дочери Мандельштама и т. д. В раздражении захлопнув напечатанные в журнале мемуары о Мандельштаме, она сказала: «Анна Григорьевна Достоевская писала, что вспоминатели принесли ей много горя, что всякий раз, когда она узнавала о появлении новых мемуаров о ее покойном муже, у нее сердце сжималось от тоскливого предчувствия: «Опять какое-нибудь преувеличение, какой-нибудь вымысел или сплетня». И она редко ошибалась. Большинство публикуемых мемуаров – несчастье. Несколько встреч соединяется в одну, одно лицо подменяется другим, даты старательно перепутываются. Зато чудовищно подробно вспоминают, кто что ел: Мандельштам – рыбу, Пастернак – курицу… Я бы издавала мемуары с эпиграфом: «Ну как, брат Пушкин? – Да так, брат, так как-то все…» Бич воспоминаний – прямая речь. На самом деле мы помним очень мало реплик собеседника точно так, как они были произнесены. А ведь только они дают такое живое впечатление от человека, которое ничем нельзя заменить». О том же она писала в дневнике: «Непрерывность тоже обман. Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак. При великолепной памяти можно и должно что-то забывать».
Слова «при великолепной памяти» она, конечно же, относила к себе. Она помнила подробности событий шестидесятилетней давности так же отчетливо, как вчерашние. Особенно была у нее развита память на стихи и визуальная – она помнила, например, в каком месте книги, то есть «ближе к концу, вверху правой страницы», расположена фраза, которую она ищет. Как-то раз она прочла новые свои стихи, и сразу вслед за ней я повторил их по памяти; она оценила это: «Формула найдена: читать вам стихи один раз – многовато».
Перед поездкой в Италию, в конце 1964 года, она по делу заехала к Эренбургу. Во время разговора с хозяевами в комнату вошла дама лет пятидесяти, с выразительным красивым лицом, и, склонившись к креслу Ахматовой, звонко проговорила: «Анна Андреевна, как я рада вас видеть!» Ахматова поздоровалась, но видно было, что не узнает. «Вы меня, должно быть, забыли, я Ариадна Эфрон», – сказала дама: оказывается, у Эренбурга в этот день собиралась комиссия по цветаевскому наследию, одним из членов была дочь поэтессы. Когда она вышла, Ахматова сказала: «Я ее, конечно, помню, но как сильно она изменилась». – «Да-да», – отозвалась жена Эренбурга и, чтобы затушевать неловкость, вызванную, по ее убеждению, забывчивостью старой Ахматовой, перевела разговор на другую тему. Но А. А. демонстративно вспомнила подробности и даже дату их последней встречи и повторила настойчиво, что «Аля» очень изменилась с тех пор. Светски-вежливый тон новой фразы, которой с нею соглашались, не устраивал ее, и тогда она сказала: «Это похоже на эпизод, который вспоминает Сухотин об уже стареньком Толстом. Лев Николаевич за обедом обращается к сыну: «Ты куда едешь, Лева?» – «К жене». – «А разве она не здесь?» – «Да нет, она живет в Петербурге». – «А это кто?» – «Это Анночка, ваша внучка, дочь Ильи». – «Вот как. А почему она здесь?» – «Да я уж с неделю как приехала», – отвечает та». Когда мы вышли на улицу, Ахматова проговорила: «Делают из меня выжившую из ума старуху – я удивляюсь, что еще хоть что-нибудь помню».
Но если при жизни искажалось очевидное, то тем более бессильной чувствовала она себя убедить кого-то через сто лет, что Гитлер не Фейхтвангер. Единственный способ доказать, что дело было так, а не иначе, она видела в своеобразной объективизации показаний, в привлечении к даче показаний хотя бы еще одного свидетеля того, как было дело. Она начинает свои заметки о Мандельштаме фразой: «… И смерть Лозинского каким-то образом оборвала нить моих воспоминаний. Я больше не смею вспоминать что-то, что он уже не может подтвердить…» Это был прием почти юридический: семестр, который она проучилась на юридическом факультете Высших женских курсов в Киеве, дал ей знания по истории права, объяснявшие на языке правосудия трагедию эпохи, квалифицировавшие «новую законность» как беззаконие и отзывавшиеся в ее беседах неожиданным заявлением вроде «я как юрист утверждаю…». Одного свидетеля было недостаточно ни в еврейском суде, ни в римском: «два свидетеля неотводимых составляют полную улику». Лирический поэт свидетельствует о случившемся с ним и с тем, кто разделил его переживание: с другим человеком, природой, книгой. Природа, книга дают свои свидетельства, и судья-читатель, зная их по опыту непосредственных впечатлений, решает, насколько поэт правдив. Но отношения с возлюбленным, с другом, с ближним – всегда личные, поэт не хочет полагаться на неизвестный ему опыт гипотетического читателя, который будет оценивать его чувства конкретно к Анне Керн, к Чаадаеву, к Арине Родионовне. Сознательно и инстинктивно поэт ищет партнера, который подтвердил бы его слова, – другого поэта: Сафо – Алкея, Алкей – Сафо. Помимо утверждения правды, то есть правоты, каждого из них, это спасает обоих от своего рода нарциссизма, глядения только в самого себя. Трудно сказать, была ли такая установка у Ахматовой с самого начала или, возникнув в молодые годы непроизвольно, стала затем необходимой, но Гумилев, Шилейко, Недоброво, Анреп, Пунин, как и некоторые другие адресаты ее стихов, были поэтами. В 1914 году Блок мадригалом вызвал ее на стихотворную переписку («Красота страшна, вам скажут» – «Я пришла к поэту в гости»), которую тогда же опубликовал. В самом конце жизни в стихах, примыкающих к «Полночным» и к «Прологу», Ахматова записывает:
Всего страшнее, что две дивных книги Возникнут и расскажут всем о всем.В последние годы она складывала в папку, которую назвала «В ста зеркалах», стихи, на протяжении ее жизни ей посвященные, все равно какого качества и кем написанные. Их оказалось несколько сотен, большинство играет роль только «зеркал», так или по-другому ее отражающих, но несколько – это еще и страницы «двух дивных книг»; одну писала она, другую – они. Это вовсе не значит, что ей было безразлично, кто звучал ей, кому звучала она, вторым голосом: стихотворения, составляющие цикл «Полночные стихи» и «Пролог», так же как и всякое ее стихотворение, которое описывает отношения «ты и я», «я и он», обращены к конкретному лицу, и она довольно резко высказалась о стихах поэтессы, «написанных двум адресатам сразу», в том смысле, что поэзия не прощает такой безнравственности и мстит за нее унизительными строчками. Но, как всякая правда, правда о конкретных двух становится правдой о любых двух; для того же, чтобы стать правдой о конкретных двух, не подверженной сомнениям и пересудам, требуется подтверждение второго – круг замыкается.
Пока речь шла о свидетеле-участнике лирической драмы, все было относительно ясно: «А на жизнь мою лучом нетленным грусть легла, и голос мой незвонок», – обращалась она к Гумилеву, он же подтверждал: «Молчит – только ежится, и все ей неможется, мне жалко ее, виноватую». Голос такого свидетеля попадал затем в ахматовские стихи хотя на тех же правах, что и все «чужие» голоса, но на иных основаниях: вводя его, она могла сослаться на их «личную переписку». Со всей полнотой и плодотворностью этот метод ссылок на прежде полученные «показания» она использовала в «Поэме без героя».
Ахматова начала писать Поэму в пятьдесят лет и писала до конца жизни. Во всех смыслах эта вещь занимала центральное место в ее творчестве, судьбе, биографии. Это была единственная ее цельная книга после пяти первых, то есть после 1921 года, при этом не в одном ряду с ними, а их – как и все, что вообще написала Ахматова, включая самое Поэму, – покрывшая собою, включившая в себя. Когда в письме 1960 года она заметила, что «по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие, и даже м.б. официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало то главное», то вполне вероятно, что в виду имелось также и это отсутствие после Аnnо Domini книг с единым лирическим сюжетом, который делал поочередно «Вечер», «Четки» и так далее именно книгами, а не сборниками стихов. Она искусно и основательно составляла отделы готовившихся к печати и выходивших или попадавших под нож сборников, была мастером соединения стихотворений в циклы. Однажды, когда прихотливое стечение событий и превратное их объяснение привело к ссоре между нами, она гневно проговорила: «А что касается стихов, то цикл у вас готов, только первым поставьте последнее по времени стихотворение, советую как опытный товарищ». А Поэма – при самом строгом авторском наблюдении за ее композицией – писалась сама, и чаще приходилось не впускать в нее принимавший ее внешность кусок, чем загонять в строфы прямо к ней относившийся, но формально самостоятельный.
Ахматова собирала мнения о Поэме, сама писала о ней, будущая судьба Поэмы ее волновала, она опасалась, что текст слишком герметичен или представляется таким. Рассказывала, что одна поклонница, декламировавшая стихи с эстрады, спросила у нее: «Говорят, вы написали поэму без чего-то? Я хочу это читать». С промежутком в два года она дала мне два ее варианта, оба раза подробно расспрашивала о впечатлении. Ища место для новых строф, вписывая или, наоборот, вычеркивая их, проверяла, естественно ли, убедительно ли, неожиданно ли ее решение. После одной такой беседы предложила сделать статью из всего, что я говорил о Поэме. Мне же казалось тогда, что статья должна быть фундаментальной, а мои заметки фрагментарны, но все же года через полтора я все собрал и что-то написал, поутратив свежих мыслей и не преуспев в фундаментальности. В частности, я описывал тогда строфу Поэмы: «Первая ее строка, например, привлекает внимание, заинтересовывает; вторая – окончательно увлекает, третья – пугает; четвертая – оставляет перед бездной; пятая одаряет блаженством, и шестая, исчерпывая все оставшиеся возможности, заключает строфу. Но следующая начинает все сначала, и это тем более поразительно, что Ахматова – признанный мастер короткого стихотворения». Уже после ее смерти выяснилось, что она записала это мое наблюдение в самый день нашего разговора, и вот в каких словах: «Еще о Поэме. Икс-Игрек сказал сегодня, что для поэмы всего характернее следующее: еще первая строка строфы вызывает, скажем, изумление, вторая – желание спорить, третья – куда-то завлекает, четвертая – пугает, пятая – глубоко умиляет, а шестая – дарит последний покой, или сладостное удовлетворение – читатель меньше всего ждет, что в следующей строфе для него уготовано опять только что перечисленное. Такого о поэме я еще не слыхала. Это открывает какую-то новую ее сторону».
Поэма была для Ахматовой, как «Онегин» для Пушкина, сводом всех тем, сюжетов, принципов и критериев ее поэзии. По ней, как по каталогу, можно искать чуть ли не отдельные ее стихотворения. Начавшись обзором пережитого – а стало быть, написанного, – она сразу взяла на себя функцию учетно-отчетного гроссбуха – или электронной памяти современных ЭВМ, – где, определенным образом перекодированные, «отмечались» «Реквием», «Ветер войны», «Шиповник цветет», «Полночные стихи», «Пролог» – словом, все крупные циклы и некоторые из вещей, стоящие особняком, равно как и вся ахматовская пушкиниана. Попутно Ахматова совершенно сознательно вела Поэму и в духе беспристрастной летописи событий, возможно осуществляя таким своеобразным способом пушкинско-карамзинскую миссию поэта-историографа.
Подобно мозгу, получившему достаточно сведений, чтобы на их основе и логике получать новые «из самого себя», Поэма производила новые строки как бы без участия автора.
Все уже на местах, кто надо: Пятым актом из Летнего сада Пахнет… Пьяный поет моряк…Моряк, матрос – центральная фигура Революции – занял место в картине предреволюционного ожидания сразу, всплыв ли из памяти, сойдя ли с холста Татлина, с позднейших ли плакатов или из блоковской поэмы. Но само расположение последней строчки на бумаге словно бы предполагало внутри нее дополнительное содержание, и дыхание строфы очередным своим выдохом вдруг расправило эту морщину:
Пахнет… Призрак цусимского ада Тут же. – Пьяный поет моряк.Можно с большим или меньшим успехом гадать, не был ли толчком для появления нового стиха пастернаковский «Матрос в Москве»:
Был ветер пьян и обдал дрожью: С вина – буян. Взглянул матрос (матрос был тоже, Как ветер, пьян), —к которому тянется строчка из следующего за ним стихотворения:
Январь, и это год Цусимы.Однако существеннее толчка к той или иной вставке само устройство Поэмы, множество ее пазух, куда можно по необходимости вложить или – что то же самое – где можно обнаружить новый стих, а то и блок новых стихов. Внутри нее все уже содержится, и вариант 40-х годов отличается от варианта 60-х объемом, но не полнотой – как аэростат, который готов к полету и надутый до половины, и целиком. По тому же принципу устроена и гармошка смыслов каждой строки, отзывавшаяся по мере растягивания новыми комментариями. Кто-то из читателей заметил, что стихи «Или вправду там кто-то снова Между печкой и шкафом стоит?» перекликаются с «Бесами», со сценой перед самоубийством Кириллова, когда он прячется в углу между стеной и шкафом. Ахматова многим об этом совпадении рассказывала, не уточняя, случайное оно или задуманное, а, как казалось, преследуя цель сколь можно большему числу непосвященных открыть метод Поэмы.
Это магическое ее свойство – прятать в себе больше, чем открывать, – одно из главных, но не единственное. В опубликованной прозе о Поэме, в так называемом «Втором письме», Ахматова, искренне или притворно, недоумевала: «Л.Я. Гинзбург считает, что ее магия – запрещенный прием – why?» – а в стихах о Поэме уже сама открыто признавалась:
Не боюсь ни смерти, ни срама, Это тайнопись – криптограмма, Запрещенный это прием.О спрятанных в Поэме непрочитанных, или нечитаемых, криптограммах дают знать те, что выступают кое-где на поверхность. Одна из строф, замененных при публикации строчками точек со сноской «Пропущенные строфы – подражание Пушкину», посвященная «каторжанкам, стопятницам, пленницам» времени террора, заканчивается жутким каламбуром:
Посинелые стиснув губы, Обезумевшие Гекубы И Кассандры из Чухломы, Загремим мы безмолвным хором (Мы, увенчанные позором): «По ту сторону ада мы».Женщины, и те, в частности, которых еще недавно поэты скорее провидчески, чем из очевидности, могли воспевать как кассандр и гекуб «тринадцатого года», отделены от толпящихся по ту сторону зоны мужчин, в частности, тех, которые их воспевали, – Мандельштама, Нарбута: «Цех поэтов – все адамы», как шутил в гимне «Бродячей собаке» Михаил Кузмин.
Голоса поэтов-предшественников, ждавших озвучения, то есть оживления, ее голосом, и поэтов-свидетелей, оставивших настроенные на высоту своего звука камертоны, смешиваются в Поэме с голосами безымянными, то сливающимися в гул – времени, толпы, – то прорезающимися в документально зафиксированных репликах:
«На Исакьевской ровно в шесть…» «Как-нибудь побредем по мраку, Мы отсюда еще в «Собаку»…» «Вы отсюда куда?» – «Бог весть!»Не сливаясь в хор, они обнаруживают новое качество, в котором проявляет себя голос автора. В продолжение одного разговора о Блоке Ахматова заметила: «Когда я написала о нем «Трагический тенор эпохи», все очень возмутились и стали меня укорять: «Он великий поэт, а не оперная примадонна». Но ведь у Баха в «Страстях по Матфею» тенор поет самого Евангелиста». Выступая в таком же качестве, трагическое контральто Ахматовой поет партии всех гостей Поэмы, узнаваемых и безвестных, всех, кто оделил ее звуком своих голосов.
Качественно новый и адресат стихов. Поэма открывается тремя посвящениями, за которыми стоят три столь же конкретные, сколь и обобщенные, и символические фигуры: поэт начала века, погибший на пороге его; красавица начала века, подруга поэтов, неправдоподобная, реальная, исчезающая – как ее, и всякая, красота; и гость из будущего, тот, за кого автором и ее друзьями в начале века были подняты бокалы: «Мы выпить должны за того, кого еще с нами нет». Играя грамматическими временами глаголов, Поэма принуждает прошлое возвратиться и будущее явиться до срока, так что они оба в миг звучания стихов оказываются в этом самом миге, но притом и увлекают его, как магниты, каждый в свою область. Это создает ощущение движения времени, движения не образного, а на уровне языка, то есть именно самому времени, его бегу, адресована вся Поэма и всякое ее слово.
В разное время разным людям Ахматова показала или вручила прозаические заметки о Поэме, которым она придавала вид писем: «Письмо к NN», «Второе письмо». Литературный стиль их очень близок стилю прозы «Вместо предисловия», с какого-то момента неизменно входившего в текст Поэмы. Мне она передала «Что вставить во второе письмо».
1) О Белкинстве
2) Об уходе Поэмы в балет, кино и т. п. Мейерхольд. (Демонский профиль)
3) О тенях, кот. мерещатся читателям.
4) «Не с нашим счастьем», как говорили москвичи в конце дек. 1916, обсуждая слухи о смерти Распутина.
5) …и я уже слышу голос, предупреждающий меня, чтобы я не проваливалась в нее, как провалился Пастернак в «Живаго», что и стало его гибелью, но я отвечаю – «Нет, мне грозит нечто совершенно иное. Я сейчас прочла свои стихи. (Довольно избранные.) Они показались мне невероятно суровыми (какая уж там нежность ранних!), обнаженными, нищими, но в них нет жалоб, плача над собой и всего невыносимого. Но кому они нужны! Я бы, положа руку на сердце, ни за что не стала бы их читать, если бы их написал кто-нибудь другой. Они ничего не дают читателю. Они похожи на стихи человека 20 л. просидевшего в тюрьме. Уважаешь судьбу, но в них нечему учиться, они не несут утешения, они не так совершенны, чтобы ими любоваться, за ними, по-моему, нельзя идти. И этот суровый черный, как уголь, голос и ни проблеска, ни луча, ни капли… Все кончено бесповоротно. М. б. если их соединить с последней книжкой (1961 г.) это будет не так заметно или может создаться иное впечатление. Величья никакого я в них не вижу. Вообще это так голо, так в лоб – так однообразно, хотя тема несчастной любви отсутствует. Как-то поярче – «Выцветшие картинки», но боюсь, что их будут воспринимать, как стилизацию – не дай Бог! – (а это мое первое по времени Царское. До-версальское, до-расстреллиевское). А остальное! – углем по дегтю. Боже! – неужели это стихи? Сама трагедия не должна быть такой. Так и кажется, что люди, собравшиеся, чтобы их читать, должны потихоньку говорить друг другу: «Пойдем выпьем» или что-нибудь в этом роде.
Мир не видел такой нищеты, Существа он не видел бесправней, Даже ветер со мною на ты Там за той оборвавшейся ставней.______
Как я завидую Вам в Вашем волшебном Подмосковии, с каким тяжелым ужасом вспоминаю Коломенское, без которого почти невозможно жить, и Лавру, кот. когда-то защищал князь Долгорукий-Роща (как сказано на доске над Воротами), а при первом взгляде на иконостас ясно, что в этой стране будут и Пушкин, и Достоевский.
______
И один Бог знает, что я писала: то ли балетное либретто, то ли киношный сценарий. Я так и забыла спросить об этом у Алеши Баталова. Об этой моей деятельности я подробнее пишу в другом месте.
______
П р и м е ч а н и е
Единственное место, где я упоминаю о ней в моих стихах – это —
Или вышедший вдруг из рамы Новогодний страшный портрет (Cinque, IV)т. е. предлагаю оставить ее кому-то на память.
______
Читателей поражает, что нигде не видно швы новых заплат, но я тут ни при чем.
* * *
Впервые в хор «чужие голоса» у Ахматовой сливаются – или, если о том же сказать по-другому: впервые за хор поет ахматовский голос – в «Реквиеме». Это не хор, сопутствующий трагедии, о котором она упомянула в Поэме: «Я же роль рокового хора На себя согласна принять». Разница между трагедией «Поэмы без героя» и трагедией «Реквиема» такая же, как между убийством на сцене и убийством в зрительном зале. Там – у каждого своя роль, в том числе и роль античного хора, конец четвертого акта, пятый акт; здесь – заупокойная обедня, панихида по мертвым и по самим себе, все – зрители и все – действующие лица.
Собственно говоря, «Реквием» – это советская поэзия, осуществленная в том идеальном виде, какой описывают все демагогические ее декларации. Герой этой поэзии – народ. Не называемое так из политических, национальных и других идейных интересов большее или меньшее множество людей, а весь народ: все до единого участвуют на той или другой стороне в происходящем. Эта поэзия говорит от имени народа, поэт – вместе с ним, его часть. Ее язык почти газетно прост, понятен народу, ее приемы – лобовые: «для них соткала я широкий покров из бедных, у них же подслушанных слов». И эта поэзия полна любви к народу.
Отличает и тем самым противопоставляет ее даже идеальной советской поэзии то, что она личная, столь же глубоко личная, что и «Сжала руки под темной вуалью». От реальной советской поэзии ее отличает, разумеется, и многое другое: во‑первых, исходная и уравновешивающая трагедию христианская религиозность, потом – антигероичность, потом – не ставящая себе ограничений искренность, называние запретных вещей их именами. Но все это – отсутствие качеств: признания самодостаточности и самоволия человека, героичности, ограничений, запретов. А личное отношение – это не то, чего нет, а то, что есть и каждым словом свидетельствует о себе в поэзии «Реквиема». Это то, что и делает «Реквием» поэзией – не советской, просто поэзией, ибо советской поэзии на эту тему следовало быть государственной; личной она могла быть, если касалась отдельных лиц, их любви, их настроений, их, согласно разрешенной официально формуле, «радостей и бед». Когда Ахматову мурыжили перед Италией с выдачей визы, она гневно говорила – в продолжение того, что «они думают, я не вернусь»: «Желаю моему правительству побольше таких граждан, как я». На «граждан» падало ударение такой же силы, как на «я». Подобным образом в двустишии:
И если зажмут мой измученный рот, Которым кричит стомильонный народ, —забившийся в безударную щелку «мой» весит столько же, сколько громогласный «стомильонный». Те, кто осуждали поэзию Ахматовой за «камерность», дали, сами того не ведая, начало трагическому каламбуру: она стала поэзией тюремных камер.
Когда «Реквием» в начале 60-х годов всплыл после четвертьвекового лежания на дне, впечатление от него у прочитавшей публики было совсем не похоже на обычное читательское впечатление от ахматовских стихов. Людям – после разоблачений документальных – требовалась литература разоблачений, и под этим углом они воспринимали «Реквием». Ахматова это чувствовала, считала закономерным, но не отделяла эти свои стихи, их художественные приемы и принципы, от остальных. Когда за границей собеседник стал неумеренно восторгаться ими как поэтическим документом эпохи, она охладила его репликой: «Да, там есть одно удачное место – вводное слово: «к несчастью» – там где мой народ, к несчастью, был», – напомнив, что это все-таки стихи, а не только «кровь и слезы». И, например, в 8-м стихотворении – «К смерти» – строчка «Ворвись отравленным снарядом», по всей видимости, указывает на все то же шекспировское poison’d shot, отравленное ядро клеветы, то есть донос – а не, скажем, газовую атаку времен Первой мировой войны.
Тогда, в 60-е годы, «Реквием» попал в один список с самиздатской лагерной литературой, а не с частично разрешенной антисталинской. Ненависть Ахматовой к Сталину была смешана с презрением. Когда однажды речь зашла о молодом поэте, завоевавшем репутацию «непримиримого» и тратившем все время и силы на поддержание этой репутации, она сказала: «Обречено. Постройка рушится в одно мгновенье… Сталин весь день слушал «ура» и что он корифей и генералиссимус и как его любят, а вечером какой-нибудь французик по радио говорил про него: «Этот усач…» – и все начинай с начала».
«Один день Ивана Денисовича» ей принесли еще отпечатанным на машинке, еще под псевдонимом Рязанский. Она говорила всем и каждому: «Нравится, не нравится – не те слова: это должны прочитать двести миллионов». О Солженицыне рассказала через несколько дней после их знакомства: «Ему 44 года, шрам через лоб у переносицы. Выглядит на 35. Лицо чистое, ясное. Спокоен, безо всякой суеты и московской деловитости. С огромным достоинством и ясностью духа. Москву не любит, Рязани не замечает, любит только Ленинград. Каково было мне – знаете, как я отношусь к городу-герою! – моя ли, его ли вина, потом рассудят. Прочитала «сиделок тридцать седьмого»[4]. Он сказал: «Это не вы говорите, это Россия говорит». Я ответила: «В ваших словах соблазн». Он возразил: «Ну что вы! В вашем возрасте…» Он не знает христианского понятия. Я ему сказала: «Вы через короткое время станете всемирно известным. Это тяжело. Я не один раз просыпалась утром знаменитой и знаю это». Он ответил: «Меня не заденет. Я-то переживу».
Тогда, в 50-е и в начале 60-х, «пытки, казни и смерти» предшествовавших десятилетий обозначились официальной формулой «культ личности», а обиходной – «тридцать седьмой», по году пика массовых репрессий. Ахматова, в зависимости от направления беседы, могла употребить и ту и другую, однако в серьезном разговоре называла это время только «террор». Оно началось для нее задолго до и кончилось много позже 37-го. Она рассказывала (и записала) историю, которую называла «Искры паровоза», о том, как в августовский вечер 21-го года в поезде из Царского в Петроград почувствовала приближение стихов, вышла в тамбур, где стояла группа красноармейцев, достала папиросу, прикурила ее, под их одобрительные замечания, от жирных искр, летевших с паровоза и садившихся на поручни площадки между вагонами, и под стук колес сочинила стихотворение на казнь Гумилева, знаменитое впоследствии «Не бывать тебе в живых…». Когда однажды кто-то из близких сказал, что у ее сына трудный характер, она ответила резко: «Не забывайте, что его с девяти лет не записывали ни в одну библиотеку как сына расстрелянного врага народа». А вспоминая о периоде после Постановления 46-го года, сказала: «С того дня не было ни разу, чтобы я вышла из Фонтанного дома и со ступенек, ведущих к реке, не поднялся человек и не пошел за мной». Я по молодости спросил: «А как вы знали, что он за вами идет, – оборачивались?» Она ответила: «Когда пойдут за вами, вы не ошибетесь».
В конце 1963 года, то есть в несоизмеримо более благополучное по сравнению со сталинским время, началось дело Бродского. В ноябре в ленинградской газете был напечатан фельетон «Окололитературный трутень», выдержанный в лучших традициях клеветы и гонительства. Я тогда жил в Москве, мне привезли газету назавтра, и в то же утро мы с Бродским, который незадолго до того также приехал в Москву, встретились в кафе. Настроение было серьезное, но не подавленное. В середине декабря Ахматова пригласила на Ордынку Шостаковича, он был депутат Верховного Совета как раз от того района Ленинграда, где жил Бродский. Меня она просила присутствовать на случай, если понадобится что-то уточнить или дать справку, сам Бродский уже уехал из Москвы. Шостакович, с несколькими тиками и со скороговоркой, в которую надо было напряженно вслушиваться, главным образом свидетельствовал Ахматовой свое глубокое и искреннее почтение, о деле же говорил с тоской и безнадежно, мне задал лишь один вопрос: «Он с иностранцами не встречался?» Я ответил, что встречался, но… Он, не дослушав, выстрелил: «Тогда ничего сделать нельзя!» – и больше уже этой темы не касался, только, уходя, сказал, что «узнает» и все, что от него зависит, сделает. В феврале Бродского на улице впихнули в легковую машину и отвезли в камеру при отделении милиции. Через несколько дней его судили и послали на экспертизу в сумасшедший дом. В марте, на втором суде, его приговорили к ссылке за тунеядство и отправили в Архангельскую область в деревню. Все это время Вигдорова, Чуковская и еще два-три десятка людей, включая Ахматову, делали попытки его спасти. Не то Ахматова, не то Чуковская, выслушав пришедшие из Ленинграда после ареста сведения, сказала: «Опять – «разрешено передать зубную щетку», опять поиски шерстяных носков, теплого белья, опять свидания, посылки. Все как всегда».
В конце апреля я неожиданно заболел, попал в больницу, выписался к концу мая в жалком виде и в июне, в ночь накануне дня рождения Ахматовой, переехал вместе с нею и Ольшевской в Ленинград, где против всякой вероятности оказался Бродский, добившийся отпуска на три дня. Относительно оправился я только к осени, и Ахматова сказала Ольшевской, когда я в один из дней в конце августа подходил к Будке после купания: «А помните, Ниночка, какую мы в июне везли из Москвы тряпочку вместо Толи?» В середине октября я поехал в деревню Норинскую Коношского района Архангельской области, где Бродский отбывал ссылку. Я вез продукты, сигареты и теплые вещи. Звонили знакомые, просили передать письма и разные мелочи; один предложил кожаные рукавицы, я поехал за ними, но дверь открыла жена и сказала, что муж не знал, что рукавицы уже носит сын. Ахматова, узнав, произнесла: «Негодяй», – я подумал, что из-за того, что он напрасно сгонял меня через весь город и прикрылся женой, и стал защищать его: дескать, мог не знать, что рукавицы у сына. «Тогда спускаются в лавку, – прервала она меня раздраженно, – и покупают другие».
Коноша – это большая станция и маленький городок, до Норинской от нее около 30 километров. Добираться надо было на попутном грузовике, которых за день проходило пять-шесть, из них верный – один, почтовый, по закону никого перевозить не имевший права, по безвыходности же положения странников подхватывавший. Приехав, я пошел наугад и в первой же избе по левую руку увидел в окне блок сигарет «Кент». Бродский снимал дом у хозяев, мужа и жены Пестеревых, кажется, за десять рублей в месяц. Пестеревы жили рядом, в другой избе, более новой и крепкой. Люди были добрые, участливые, к Бродскому расположенные, называли его Ёсиф-Алексаныч. Дом был покосившийся, с высоким крыльцом, с дымовой трубой, половина кирпичей которой обвалилась, а железо, когда топилась печь, раскалялось, в темноте светилось красным, и Пестеревы каждый день ждали пожара. Вокруг деревни были поля, голые к тому времени, близко подступал лес, невысокий, сырой, дикий. На другом конце деревни протекала речушка, над ней стоял клуб, он же начальная школа, мы в нем посмотрели фильм с Баталовым в главной роли. Однажды, когда мы шли по деревне в ранних сумерках и на землю садились редкие снежинки, из дому выбежал мужик, пьяный, в валенках, в подштанниках и в накинутом на плечи ватнике, с ружьем, крича: «Куня! куня!» – вскинул ружье и выстрелил в рябину, с которой шмякнулся оземь какой-то зверек: мы подошли одновременно, оказалась не куница, а кошка, охотник плюнул и ушел обратно в избу. Тишина стояла такая, что звук мотора возникал минут за десять до того, как появлялся автомобиль.
Место было глухое, тоскливое, но не тоскливей и не глуше других многих, немногим глуше, например, того же Михайловского. По вечерам Би-би-си и «Голос Америки» передавали разные разности, в частности и про Бродского. Еды хватало, дров тоже, времени для стихов тоже. Приходили письма, присылались книги. Иногда можно было дозвониться до Ленинграда с почты в соседнем сельце Данилове. Сутки я провел в одиночестве, потому что его командировали в Коношу на однодневный семинар по противоатомной защите. Он вернулся с удостоверением и с фантастическими представлениями о протонах и нейтронах, равно как и об атомной и водородной бомбах. Я объяснил предмет на школьном уровне, и мы легли спать, но он несколько раз будил меня и спрашивал: «А-Гэ, а сколькивалентен жидкий кислород?» Или: «Так это точно, что эйч-бомб – он называл водородную бомбу на английский манер, – не замораживает? Ни при каких условиях?» Словом, все было бы обыкновенно, а иногда и хорошо, если бы это была не ссылка, если бы он не был заперт здесь, и на пять лет. Когда я уезжал, он проводил меня до Коноши и, всовывая рубль в руку шоферу, молодому парню, который отказывался брать деньги, произнес с напором, картаво: «Алё, парень, не затрудняй мне жизнь!»
В следующий раз я поехал туда в феврале с Михаилом Мейлахом, тогда девятнадцатилетним Мишей. По приезде, как договаривались, я дал Ахматовой телеграмму, что добрались благополучно. От нее пришла ответная: «Из Ленинграда 23.02.65 в Данилове Бродскому для Наймана. Благодарю телеграмму, подписала бег времени набор, целую всех троих, Ахматова». Стояли сильные морозы, вода в сенях замерзала. В День Советской Армии пришел председатель сельсовета, сильно выпивший, но, что называется, ни в одном глазу, в шапке с поднятыми ушами и без варежек. Я открыл бутылку водки и налил ему и себе – Бродскому не полагалось по статусу ссыльного, Мейлаху по малолетству. Председатель спросил весело: «С собой забирать приехали?» – «Отпу́стите?» – «Дак я не держу, хоть сейчас же увозите». – «А кто держит?» – «Начальство». – «Тунеядец?» – мотнул я головой в сторону Бродского. – «Так не скажу», – отозвался председатель серьезно. – «Может, шпион?» – «А вот это точно!» – быстро проговорил он, засмеявшись. И перед уходом объявил: «По такому случаю – три дня отгула».
В мае Бродскому исполнялось 25 лет, и мы с Рейном к нему отправились. Когда с тяжелыми рюкзаками подошли к дому, дверь оказалась на замке, и тут же подбежал Пестерев, крича издали: «А Ёсиф-Алексаныч посажонный». За нарушение административного режима его увезли в Коношу и там приговорили к семи суткам тюрьмы. Через час появился грузовик в сторону Коноши, и я двинулся в обратный путь. Коношская тюрьма помещалась в длинном одноэтажном доме, сложенном из толстых бревен. В ту минуту, когда я подходил к ней, Бродский спускался с крыльца с двумя белыми ведрами, на одном было написано «вода», на другом «хлеб». Он объяснил мне, что все зависит от судьи, а судья сейчас в суде, точно таком же доме напротив. Я стал ждать судью, подошел мужичок, попросил закурить. Поинтересовался, по какому я делу, и, узнав, сказал, что судья сейчас свободен, в суде перерыв, судят же убийцу, а именно его, дадут восемь лет, так прокурор просил. Зарубил жену топором, пьяный был, сам ерцевский, в лагерь в Ерцево и пошлют, это станция через одну от Коноши. Вежливо попросил еще пару сигарет на потом, я отдал пачку, тут появился судья, и он исчез за какой-то дверью. Судья мне в просьбе отказал, я пошел к секретарю райкома, в дом, ближайший к суду, перед ним стоял бюст Ленина серебряного цвета. Секретарь был моих лет, с институтским значком, серьезный, слушал меня без враждебности. Набрал по телефону трехзначный номер, сказал: «Ты Бродского выпусти на вечер, потом отсидит. Круглая дата, друг приехал», – выслушал, видимо, возражения, повторил: «Выпусти на вечер», – повесил трубку. И мне: «В буфете вокзальном отдохнете», в смысле: отпразднуете день рождения. Я сказал, что в деревне ждет еще один человек, что там водка и закуска, дайте уж сутки. Он подумал и согласился на сутки. Когда я выходил из дверей, он сказал, что учился в Ленинграде, и спросил, сколько уже станций в ленинградском метро. Я перечислил. «Почему он патриотических стихов не пишет?» – сказал он и отпустил меня. Попутных машин в этот час не ожидалось, и мы с Бродским и еще одним ссыльным, с которым он там свел знакомство, зашагали не мешкая в сторону Норинской. На середине пути находилась деревня, где жил бригадир, по чьему заявлению Бродский и попал под арест, так что деревню надо было обходить стороной. К счастью, метров за сто до нее нас догнал грузовик и вскоре довез до места.
11 сентября я получил телеграмму из Комарова: «Ликуем – Анна Сарра Эмма». Сарра Иосифовна Аренс вела хозяйство Ахматовой, Эмма Григорьевна Герштейн тогда гостила у нее. Ликование было по поводу того, что Бродский наконец на воле[5]. Этому предшествовало несколько ложных обещаний скорого его освобождения. В октябре 64-го года я встречал в Ленинграде Вигдорову, ехавшую из Москвы собирать подписи тех, кто хотел поручиться за Бродского перед властями. Ступив на перрон, она воскликнула: «Толя, победа!» В Прокуратуре СССР ей сказали, что его вот-вот выпустят. В том же уверяли перед поездкой в Лондон Ахматову в Союзе писателей.
Разумеется, «дело Бродского» по сравнению с «тридцать седьмым» было «бой бабочек», как любила говорить Ахматова. Оно обернулось для него страданиями, стихами и славой, и Ахматова, хлопоча за него, одновременно приговаривала одобрительно про биографию, которую «делают нашему рыжему». «Реквием» начал ходить по рукам приблизительно в те же дни, в тех же кругах и в стольких же экземплярах, что и запись процесса Бродского, сделанная Вигдоровой. Общественное мнение бессознательно ставило обе эти вещи и во внутреннюю, хотя прямо не называемую, связь: поэт защищает свое право быть поэтом и больше никем – для того чтобы в нужную минуту сказать за всех. Стенограмма суда над поэтом прозвучала как гражданская поэзия – гражданская поэзия «Реквиема» как стенограмма репрессий, своего рода мартиролог, запись мученических актов.
Стихотворения военного времени в цикле «Ветер войны», которые заслужили Ахматовой официальное одобрение и официальный перевод из камерных поэтесс в поэты общественного звучания, были написаны в той же манере, что и «Реквием», точнее – в истощении этой манеры. Так, ставшее хрестоматийным стихотворение «Мужество», на которое неукоснительно и привычно ссылались всякий раз, когда приходила нужда похвалить поэтессу, противопоставить многочисленным ее винам ее патриотизм, хотя и написано во время войны и, как сказали бы раньше, «по случаю войны», выбивается из рамок темы. Ахматова опубликовала его через четверть века после крутой перемены в своей и общей судьбе и, как оказалось, за четверть века до собственной смерти.
Мы знаем, что́ ныне лежит на весах И что́ совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, И мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, Не горько остаться без крова, — Но мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, И внукам дадим, и от плена спасем Навеки!Нисколько не отменяя сиюминутного, «военного» содержания этой клятвы, стихи прочитываются и в более широком, и более узком контексте. При всей катастрофичности тогдашнего положения, при угрозе возможного порабощения врагом, разговор о запрещении, об уничтожении русского языка не шел, русская речь была вне конкретной опасности. Стихотворение говорит о мужестве, которое требовалось от поэта, чтобы противостоять уничтожению великой русской культуры новым – и до, и после войны – временем. Чтобы сохранить свободным и чистым русское слово Гумилева, легшего под пулями, повесившейся Цветаевой, сгинувшего за колючей проволокой Мандельштама и десятков других, продолжающих поминальный список. Это ответ на отчаянный выкрик друга: «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…»
В промежутке между «Реквиемом» и «Ветром войны» появились стихи, принадлежавшие и той, и этой теме. Война с Финляндией 1939–1940 годов наложилась на аресты и тюремные очереди предшествовавших, и посвященное зиме «финской кампании» стихотворение «С Новым Годом! С новым горем» звучит в реквиемной тональности:
И какой он жребий вынул Тем, кого застенок минул? Вышли в поле умирать.О том же – стихотворение «Уж я ль не знала бессонницы»: по цензурным соображениям Финляндия в нем спрятана за Нормандией, но выдает себя «чужими зеркалами»:
Вхожу в дома опустелые, В недавний чей-то уют. Все тихо, лишь тени белые В чужих зеркалах плывут.«Дома опустелые» и «чужие зеркала» открыли свою финскую принадлежность, когда сфокусировались в «пустых зеркалах» Финляндии позднейшего стихотворения «Пусть кто-то еще отдыхает на юге», замененных другим цензурным вариантом: вместо
Где странное что-то в вечерней истоме Хранят для себя зеркала, —было:
И нежно и тайно глядится Суоми В пустые свои зеркала, —так же как «старый зазубренный нож» заменил собою «финский зазубренный нож». Конец стихотворения «Уж я ль не знала бессонницы…» прозрачен:
И что там в тумане – Дания, Нормандия, или тут Сама я бывала ранее, И это – переиздание Навек забытых минут?Если Нормандия – на самом деле Финляндия, то белые тени не только лыжники-пехотинцы в маскхалатах – самый распространенный образ той войны, а и призраки навек забытых минут:
Царского Села – прежде именовавшегося Сарским по своему финскому названию Саари-моис;
гумилевского имения Слепнева – «тихой корельской земли» (стихотворение «Тот август»): переселенные корелы составляли немалую часть Бежецкого уезда;
Хювинкки – где она в туберкулезном санатории «гостила у смерти белой» (стихотворение «Как невеста получаю…»);
и, наконец, всей культурной, символистской «Скандинавии» начала века – «тогдашний властитель дум Кнут Гамсун», «другой властитель Ибсен», как вспоминала она через много лет.
Этот «старый друг, мой верный Север» в пространстве ахматовской поэзии отчетливо противопоставлен враждебным Западу, Востоку и Югу:
Запад клеветал и сам не верил, И роскошно предавал Восток, Юг мне воздух очень скупо мерил, Ухмыляясь из-за бойких строк.Словом, «земля хотя и не родная, но памятная навсегда», в конце жизни давшая ей приют под комаровскими соснами, под ними же и упокоившая ее прах.
Еще об одной вынужденной замене в ее стихах. Как-то раз вечером ей позвонил редактор «Бега времени» и предложил исправить в «Путем всея земли» строчку «Столицей распятой»:
И будет свиданье Печальней стократ Всего, что когда-то Случилось со мной… Столицей распятой Иду я домой, —о Ленинграде так выражаться не следовало. Кроме меня у нее в гостях тогда были Бродский и Самойлов. Она сказала нам: «Давайте замену». Я сравнительно быстро придумал «За новой утратой», она немедленно произнесла: «Принято». Бродский и Самойлов фыркали, выказывали неодобрение, но ничего конкретного не предлагали, она только посмеивалась. Новый вариант был имитацией и эксплуатацией ахматовского метода, и больше ничем. Вся история наравне с прочим цензурным разбоем и всей вообще судьбой ее поэзии описывается строчками из «Застольной песенки», обращенными ею к своим стихам:
Сплетней изувечены, Биты кистенем, Мечены, мечены Каторжным клеймом.И вовсе не применительно к Пушкину написала она четверостишие, грубо и наивно пришитое к «Слову о Пушкине» белыми нитками: «они могли бы услышать от поэта» – с единственной целью опубликовать запрещенное к публикации:
За меня не будете в ответе, Можете пока спокойно спать. Сила – право, только ваши дети За меня вас будут проклинать.* * *
С начала 1962 года я стал исполнять у Ахматовой обязанности литературного секретаря. Поначалу от случая к случаю, потом регулярно. Обязанности были невеликие: ответить на второстепенное письмо, позвонить, реже съездить по какому-то делу, переписать на машинке новое или вспомненное стихотворение, отредактировать – очень внешне, главным образом скомпоновать – заметки, чаще всего мемуарные. Все это раз в несколько дней и всякий раз недолгое время. Когда я предлагал сделать, не откладывая, еще то-то и то-то, она величественно изрекала: «Запомните, одно дело в один день».
Ежедневно приходило несколько читательских писем, в основном безудержно комплиментарных. «Мне шестьдесят семь лет, всю жизнь целовала и целую ваши стихи…» Когда я дочитал до этого места, она вдруг переспросила: «Сколько?» – «67». – «Шалунья», – проговорила она, через «ы»: шылунья. На некоторые диктовала ответ, всегда короткий. Вообще все личные ахматовские письма короткие. Кто-то написал, что в трудные моменты жизни находил утешение в ее стихах. Она немедленно продиктовала: «… Меня же мои стихи никогда не утешали. Так и живу неутешенная – Ахматова».
Время от времени приходили письма из зоны: «Вы меня не знаете» – и так далее, иногда длинные, человек изливал душу. Однажды прислал письмо только что освободившийся из заключения, писал из Томска не то Иркутска, что уже рассказывал о себе, еще когда сидел, теперь просит о помощи. Она сразу же велела выслать деньги телеграфом.
Первое письмо от нее я получил, когда был в Москве, она же переехала в Комарово из ленинградской квартиры. Оно начиналось четверостишием: похоже было, что она сочинила стихи и на том же листе решила написать письмо.
Из-под смертного свода кургана Вышла, может быть, чтобы опять Поздней ночью иль утром рано Под зеленой луной волховать.Сегодня вернулась в Будку. Без меня сюда решительно проникла осень и пропитала все своим дыханьем. Но мак дождался меня.
Комната одичала и пришлось приводить ее в чувство Чаконой Баха, Симфонией Псалмов Стравинского, раскаленной печкой, цветами и Вашей телеграммой.
Сейчас уже почти все хорошо. Горят свечи, безмолвная и таинственная Марина рисует меня. Когда приеду в город – буду ждать звонка из Москвы, хотя бы от Нины.
А.
21 сентября 1963
Вместо «решительно» сперва было «бесповоротно». «Волховать», а не «волхвовать».
Марина Басманова, художница, была тогда невестой Бродского. Она рисовала Ахматову в маленьком, с ладонь величиной, блокноте, не просто молча, но как будто сжав губы.
Мак посреди газончика, посеянного под окном с большим опозданием, неожиданно расцвел уже в осенние дни.
Хозяйство в комаровском домике вела Сарра Иосифовна Аренс, почти семидесятилетняя старушка, маленькая, с утра до вечера в переднике, всегда с улыбкой на морщинистом личике с всегда печальными глазами. Тихая, нежная, услужливая, самоотверженная, она боялась Ахматовой, но ничего не могла поделать с неистребимым желанием дать отчет о расходах и находила момент пробормотать что-то о подорожавшем твороге, на что та немедленно разъярялась: «Сарра! я вам запретила говорить мне про творог». Еще больше Ахматовой она боялась – и безгранично любила и почитала – своего мужа, Льва Евгеньевича, брата первой жены Пунина. Он тоже был маленького роста, с выразительным живым лицом чудака, с живыми веселыми глазами и длинной белой бородой, которая развевалась по ветру, когда он ехал на велосипеде, а ездил он на велосипеде главным образом купаться на Щучье озеро. Ботаник и, кажется, с ученой степенью, он знал названия и свойства множества растений. Человек был верующий, православный, часто уезжал на электричке в шуваловскую церковь. В свое время был репрессирован и на слова следователя: «Как же вы, просвещенный человек, и в Бога веруете?» – ответил: «Потому и просвещенный, что верую». Он сочинял стихи, исключительно для души, и когда на дне его рождения, праздновавшемся на веранде в присутствии Ахматовой и Раневской и еще десятка гостей, в основном молодых, друг его сына, выпив, сказал в умилении: «Дядя Лева, прочтите ваши стихи», – рявкнул, не давая ему договорить: «Молчать! Думай, перед кем сидишь!» Вообще тот день рождения был шумный. Виновник торжества порывался проводить Раневскую до Дома актеров, она же делала испуганный вид и шептала соседям: «Когда наша парочка покажется на пороге, все станут говорить, что я нарочно смешу людей». Один из гостей, артист театра «Современник», встал с рюмкой в руке, чтобы провозгласить тост за Раневскую, но спутал отчество, вместо «Георгиевна» сказал: «Позвольте, великолепная Фаина Абрамовна…» – не смог продолжать, пошатнулся и в мгновение ока был отнесен дружескими руками на тюфяк за диваном; наутро выйдя к столу, Ахматова спросила: «А где некто, кто рухнул?» В связи же с перепутанным отчеством вспомнила, что когда МХАТ поставил «Анну Каренину» и все неумеренно хвалили спектакль, а она в каких-то гостях разругала и высмеяла его, мхатовская поклонница, присутствовавшая там, волнуясь, запротестовала: «Вы несправедливы, дорогая Анна Аркадьевна…»
По утрам она выходила к завтраку свежая, как-то внезапно, и создавалось впечатление, что от вчерашней «спокойной ночи» до сегодняшнего «доброго утра» прошло время, в течение которого ей удалось побывать где-то в таком месте, о котором есть что порассказать, и что ей приятно после такой разлуки снова встретиться с друзьями.
Вдоль ахматовской стороны забора тянулась поросшая травой колея, по ней время от времени проезжала одна и та же телега. Лошадью правила жившая наискосок от Будки «женщина-конюх», с которой у Ахматовой были подчеркнуто приязненные, хотя и шапочные, отношения, выражавшиеся в том, что, заслышав шум телеги, она отрывалась от беседы, от перевода, от любого занятия и поднятой рукой приветствовала знакомую. Та радостно отвечала тем же, и Ахматова, непонятно – всерьез или в шутку, признавалась, что боится мнения соседки и чуть-чуть заискивает перед ней.
Другим соседом был Виктор Максимович Жирмунский, в ту пору уже академик, но еще приват-доцентом в 10-е годы знавший Ахматову. О приват-доцентстве он вспоминал всякий раз, когда выпивал рюмочку: казалось, он ценил его выше нынешнего академства, может быть, потому, что это было славное время и его молодость. Однажды к Ахматовой приехал славист-англичанин, женатый на русской из первой эмиграции. Он должен был навестить и Жирмунского, чья дача была в трех минутах ходьбы, Ахматова попросила меня показать дорогу. Жирмунские в этот час сели ужинать и пригласили нас обоих к столу. Было время белых ночей, светло, только что прошел дождь. Англичанин передал привет от своей тещи, вдовы университетского учителя Жирмунского. Жирмунский благодарил: «Он был не только моим учителем, но и старшим товарищем. Я писал у него курсовую работу по этике, эстетике и математике». Потом вдруг спросил: «Сколько же лет вашей жене? Они уехали в двадцатом, она была вот такого роста, лет десяти – значит, сколько сейчас?» И мне, и жене Жирмунского стало ясно, что она порядочно старше мужа, который, очень смутившись, повторял: «Нет, нет, не может быть». Жена Жирмунского перевела разговор на другую тему, но хозяин, возраста гостя, кажется, не оценивавший и неловкости не замечавший, вернулся к прежней и попросил меня как имеющего техническое образование сосчитать, сколько ей лет сейчас, если в 20-м, и так далее. Я понимал, что эта история как раз для Ахматовой, и, вернувшись, сразу стал рассказывать ее. Она жадно слушала и даже, по мере развития сюжета, медленно наклонялась в мою сторону. «Получалось, что ей не меньше пятидесяти пяти», – подытожил я. Она откинулась в кресле и тоном человека, присутствовавшего при рождении, произнесла с ударением на первом слове: «Шестьдесят пять, если не семьдесят… Они там все себе убавили на десять лет». То же самое тем же тоном она говорила о Бальзаке: «Он был обманут женщинами. Его увядающая «тридцатилетняя» – это, конечно же, сорока-, а то и пятидесятилетняя дама. Она настаивала на том, что ей тридцать: расчет был на доверчивость великого писателя. Тридцатилетняя – вы сами видите – никакая не увядающая, а цветущая молодая женщина. Не изменилась же она за полвека. Это, надо думать, постаралась наша прекрасная госпожа Ганская».
С большой неохотой раз в день она выходила на прогулку, хотя врачи настаивали на двух-трех. Маршрут был, как правило, до Озерной и обратно, аллейкой, проложенной в сосновом лесу. В нескольких метрах от Озерной была низенькая скамейка, она ненадолго присаживалась и, продолжая разговор, начинала водить концом трости по земле влево и вправо, так что вскоре появлялся свободный от опавшей хвои сегмент чистой сыроватой почвы. Было что-то завораживающее в этом похожем на качания стрелки метронома скольжении тонкой коричневой палочки и постепенном очищении черной земли, как бы грифельной доски, готовой для письма, в окружении желтых иголок. Я ловил себя на том, что это неожиданно становилось существенней и интересней беседы, что под эти шаркающие звуки и вычерчивание дуг беседа может быть все равно какая.
Однажды мы отправились в противоположную сторону, а именно к Жирмунскому. Был солнечный августовский день, но уже с бессильным теплом, с осенним недостатком тепла. У солдат, рывших вдоль улицы канаву для каких-то труб, был перекур, и многие повалились тут же на землю и спали. Она сказала: «Вот поэтому русская армия и непобедимая, что они могут так спать». Через несколько шагов у нее с ноги стал сползать чулок, я сделал вид, что не замечаю, она попросила меня пройти немного вперед и там подождать. Вскоре догнала, но чулок опять пополз вниз, и сцена повторилась. И еще раза два. Вышедшая на звонок домработница Жирмунского сказала: «Они спят». Получалось, что спали все, кроме нас, мы повернули назад, настроение у Ахматовой было окончательно испорчено. Однако Жирмунский, заспанный, явился через полчаса с извинениями, а через неделю Ахматова, заговорив о чем-то, вскользь заметила: «В тот день, помните, когда с меня спадали одежды…»
Из соседей по участку – с Гитовичами она дружила, с другим писателем и его женой была, что называется, в добрососедских отношениях. Он был инвалидом войны, чудом выжил после тяжелейшего ранения: Ахматова говорила, кажется со слов жены, что от него осталось 40 %, остальное протезы. Когда я приехал в Комарово почти после месячного перерыва, она среди новостей рассказала, что сосед со скандалом ушел к другой: «Вы понимаете, две женщины боролись за сорок процентов».
Недалеко от ее домика стояла дача критика, который в конце 40-х годов сделал карьеру на травле Ахматовой. Проходя мимо этой двухэтажной виллы, она приговаривала: «На моих костях построена». Однажды мы медленно шли по дороге на озеро, когда появился шагавший нам навстречу хозяин дачи со своей молоденькой дочерью. Сняв берет, он почтительно поздоровался с Ахматовой. Она не ответила, потому, может быть, что действительно не заметила или могла не заметить. Тогда он обогнал нас лесом, зашел вперед и еще раз так же ее приветствовал. Она поклонилась. Через несколько минут я спросил, зачем она это сделала, если узнала его. Она ответила: «Когда вам будет семьдесят пять и такое же дырявое, как у меня, сердце, вы поймете, что легче поздороваться, чем не поздороваться». Про двух знаменитых ленинградских писательниц говорила: «Пишут большие романы и строят большие дачи».
В другой раз мы сидели на скамейке, с залива дул ветерок, сосны покачивались и шумели. Она сказала: «Разговаривают без устали». Помолчав, прибавила: «Член Союза писателей Дудин написал: сосен медный звон. Ну – разговаривают, шепчутся, спорят, стонут – что угодно. Но откуда медный звон? Где он его услышал?» – «А полет фантазии! – стал я, насмешничая, защищать. – Или издержки вдохновения! Или оригинальное виденье! Он же все-таки поэт». – «Да, – произнесла она скучным голосом. – Поэт. Бильярд». Возможно, стрелы были направлены против куда более значительной фигуры, чем ленинградский советский лирик, а именно против Николая Клюева («“Русь моя – жена моя”, – это он Блока научил», – говорила Ахматова), на книжку стихов которого «Сосен перезвон» писал рецензию Гумилев… Вообще же к деревьям относилась с нежностью старшей сестры и с почтительностью младшей и, по ходу разговора о пантеизме, в ответ на мою реплику сказала – не продекламировала как стихи, а выставила как довод, так что я стихи не сразу и услышал, – начало гумилевского стихотворения из «Костра»: «Я знаю, что деревьям, а не нам, дано величье совершенной жизни». И через мгновение, уже как стихи, уже для своего удовольствия, прочла напевно:
Есть Моисеи посреди дубов, Марии между пальм…Заметив на руке комара, она не била его, а сдувала. Высказывалась против кровожадного старичка-паучка из «Мухи-цокотухи», который «муху в уголок поволок», приговаривала: «Вовсе это детям необязательно знать». Огромного дачного кота Глюка, который с грохотом прыгал с сосновой ветки на крышу дома, называла «полтора кота» и однажды сказала про Бродского: «Вам не кажется, что Иосиф – типичные полтора кота?» Когда мужа Пуниной укусила оса и он с возмущением и многословно обрушился на соседского мальчика, интересовавшегося насекомыми, за то, что тот «свил осам гнездо в жилом доме», она невозмутимо возразила: «Им никто ничего не вил, они сами вьют, где хотят».
Окно ее комнаты выходило в сосновую рощицу, летом наполненную «зеленым воздухом», который она охотно и с некоторой гордостью за природу показывала гостям. Раза два в неделю перед домом устраивался костер, из сухих веток, шишек, опавших иголок. Она эти часы – гудящее пламя, тлеющие красные угли – очень любила. Но предупреждала, если устроитель был неопытный: «Мой костер – одно из коварнейших на свете существ», – и следила, чтобы на ночь его тщательно засыпали землей: дескать, однажды она проснулась среди ночи оттого, что пламя полыхало выше сосен: «А вечером притворялся смирным. Вы его не знаете». Она любила лето и зиму – за устойчивость, определенность, а весну и осень недолюбливала – за непостоянство, «переходность», хотя московская весна – жаркая, грязная, стремительно обрушивающаяся на город – всегда была ей очень по душе.
Ей нравилось собирать грибы, вокруг дома и по дороге на озеро, и чистить их. Пришел неожиданный посетитель, Сарра Иосифовна доложила, она раздраженно и громко сказала: «Передайте, что я чищу грибы». Через пять минут молодой человек постучал, просунул голову в дверь и представился как знаток и поклонник стихов и личности Волошина. Она ответила резким тоном: «Вы видите, я чищу грибы!» Похоже, что причиной гнева больше был Волошин, чем бесцеремонный его почитатель. «Я последняя херсонидка», – часто со значением говорила она, настойчиво повторяя эту фразу еще и для того, чтобы не путали ее Крым с коктебельским, волошинским. Волошина она не любила как человека, не прощала ему историю с Черубиной де Габриак, ни во что ставила как поэта, считала дутой фигурой, которой невероятно повезло в мемуарной литературе: «Сначала Цветаева пишет о нем в качестве влюбленной в него женщины, потом Эренбург, реабилитируя все имена подряд, подает его только со знаком плюс». И все «коктебельское заведение», все его приемы и жесты считала недостойными.
Стоявший в ее комнате у окна ломберный столик служил и письменным столом, и обеденным – «Застольная песенка» описывает именно это двойное его употребление: «Под узорной скатертью не видать стола», а дальше о стихах, то есть о том, что творилось на нем как на письменном. Из гостиной комната вдруг превращалась в столовую. Когда приближалось время обеда, на столик набрасывалась скатерка, расставлялись приборы. Ахматова могла сказать таким тоном, как если бы ей только что пришло в голову: «Может быть, l’eau-de-vie? Ну, и чего-нибудь еще», – и доставала из старого портмоне десятку. Я, или кто-то из молодых гостей, ехал на велосипеде в магазинчик около станции. L’eau-de-vie не обязательно должна была быть водкой, одобрялся и коньяк, а «что-нибудь еще» означало ветчину, шпроты или другие консервы, иногда специально оговариваемые «бычки в томате», тогда самые дешевые, штабелями стоявшие на полках. Приятель, увидев, что я их покупаю, и узнав, для кого, заметил понимающе: «Наверно, напоминает ей одесское детство». Фирменным блюдом Сарры Иосифовны была вареная чечевица, к которой Ахматова приступала с присказкой – словами Исава из Книги Бытия: «Дай мне поесть красного, красного этого», – а кончала похвалой: «Можно отдать первородство». Водку она пила, как вино, маленькими глотками, и если к ней кто-нибудь в это мгновение обращался, отнимала рюмку ото рта, отвечала и потом так же медленно допивала.
В ее комнате против деревянной полки с самыми разными книгами, от подаренной, только что вышедшей, которую она, как правило, спешила кому-то передарить, до французского томика Парни или латинского Горация, стоял старый ламповый радиоприемник «Рекорд», с двумя диапазонами: средних и длинных волн. Она говорила, что у него внешность, предполагающая на стене над ним обязательный портрет товарища Сталина: в журналах 40-х годов печатались фотографии уютных комнат, с улыбающимся семейством, с изобилием на столе, с фикусом, со Сталиным в красном углу, а под ним – «Рекорд». Однажды среди бела дня мы поймали по нему передачу радио «Свобода»: диктор, безо всяких помех, читал нечто зубодробительное из книги Абрама Терца «Город Любимов». Уже были арестованы Терц-Синявский и Аржак-Даниэль, уже Ахматова показала мне фамилию Синявского под каким-то круглым номером в составленном ею за месяц до того списке ста людей, которым она собиралась дарить выходивший в свет «Бег времени». Когда передача кончилась, она сказала: «Я не люблю такого гарцевания на костях. Но что касается воровства, так нас на юридических курсах учили, что воровство в России объясняется пониженным чувством частной собственности как следствием первобытно-общинного строя славян. А что пьянство, так не нужно юридических курсов, просто поглядеть в окно».
У изголовья топчана на низеньком столе стоял электрический проигрыватель: либо я брал его в местном пункте проката, либо кто-то привозил из города. Она слушала музыку часто и подолгу, и разную, но получалось, что на какой-то отрезок времени какая-то пьеса или пьесы вызывали ее особый интерес. Летом 1963 года это были сонаты Бетховена, осенью – Вивальди; летом 1964 года – Восьмой квартет Шостаковича; весной 1965-го – «Стабат матер» Перголези, а летом и осенью – «Коронование Поппеи» Монтеверди и особенно часто «Дидона и Эней» Перселла, английская запись со Шварцкопф. Она любила слушать «Багателли» Бетховена, много Шопена (в исполнении Софроницкого), «Времена года» и другие концерты Вивальди и еще Баха, Моцарта, Гайдна, Генделя. «Адажио» Вивальди, как известно, попало в «Полночные стихи»: «Мы с тобой в Адажио Вивальди встретимся опять». Маленькая пластинка так и называлась «Вивальди. Адажио», без ссылок на конкретное сочинение композитора. Пьеса была скрипичная, отсюда:
Но смычок не спросит, как вошел ты В мой полночный дом.Французский переводчик перевел эти строчки как-то так: «Пес не залает, когда ты войдешь», – решив, что Смычок – кличка собаки.
В один из дней она попросила для разнообразия найти какую-нибудь музыку по приемнику. Я стал передвигать стрелку по шкале и заметил вслух, что полно легкой. Ахматова отозвалась: «Кому она нужна». – «А вот какая-то опера». – «Оперы – не всегда плохо». – «Когда, например, не плохо?» – «Когда “Хованщина”. Или “Град Китеж”». Вдруг послышалось из «Пиковой дамы»: «Я подвиг силы беспримерной готов сейчас для вас свершить». «Ну и ну, что ж это значит? – сказала она, как если бы услышала в первый раз. – Впрочем, «Пиковая» – всегда хорошо. «Онегин» – вот ужас».
Говорить про Ахматову «она писала стихи» – неточно: она записывала стихи. Открывала тетрадь и записывала те строки, которые прежде уже сложились в голове. Часто вместо строчки еще не существующей, еще не пришедшей, ставила точки, записывала дальше, а пропущенные вставляла потом, иногда через несколько дней. Кстати сказать, две последние строки четверостишия в приведенном письме записаны поверх двух пунктирных, прочеркнутых прежде. Некоторые стихи она как будто находила: они уже существовали где-то, никому на свете еще не известные, а ей удавалось их открыть – целиком, сразу, без изменений впоследствии. Чаще всего это бывали четверостишия, например:
Глаза безумные твои И ледяные речи, И объяснение в любви Еще до первой встречи.Когда она «слагала стихи», этот процесс не прерывался ни на минуту: вдруг, во время очередной реплики собеседника, за чтением книги, за письмом, за едой, она почти в полный голос пропевала-проборматывала – «жужжала» – неразборчивые гласные и согласные приближающихся строк, уже нашедших ритм. Это гуденье представлялось звуковым и потому всеми слышимым, выражением не воспринимаемого обычным слухом постоянного гула поэзии. Или, если угодно, первичным превращением хаоса в поэтический космос. С годами этот процесс у Ахматовой уходил на все более конкретные самоуточняющиеся уровни: знаменитый ее дольник подавлялся классическим метром, трех– или четырехкатренное стихотворение тяготело к модифицированному сонету, приблизительное созвучие вытеснялось изысканной рифмой. Она рассказывала, что Лозинский говорил про рифмы «сказал – глаза» или «наш – отдана»: «Так рифмовать и чтобы выходило хорошо – получается только у вас». А когда продиктовала мне песенку, позднее отданную «Поэме без героя»:
За тебя я заплатила Чистоганом, Ровно десять лет ходила Под наганом, Ни налево, ни направо Не глядела, А за мной худая слава Шелестела, —то заметила: «Я люблю так рифмовать, глухие со звонкими: заплатила – ходила, глядела – шелестела».
Она настаивала на том, чтобы в стихах было меньше запятых и вообще знаков препинания, но широко пользовалась знаком, который называла «своим», запятой-тире, при этом ссылалась на того же Лозинского, который сказал ей: «Вообще такого знака нет, но вам можно». Когда я однажды указал ей на одно место в рукописи: «Тут следовало бы поставить запятую», – ответ был: «Я сама чувствовала, что тут есть что-то запятое». Уставая и меньше контролируя себя, она писала некоторые слова по-старому, например, через фиту: «Привет Ѳеде», – в одной записке; или прилагательные в родительном падеже через «в»: молодова. Эти описки придавали словам бо́льшую выразительность, всему письму – прелесть.
Стихи не оставляли ее и во время болезни, в больницах она написала много известных стихотворений, – и даже в бреду, в тифозном бараке сочинила:
Где-то ночка молодая, Звездная, морозная… Ой худая, ой худая Голова тифозная, —и так далее – стихи, которые, по ее словам, некий почтенный профессор цитировал студентам-медикам как пример документальной фиксации видений, посещающих больного тифом.
Иногда стихи ей снились, но к таким она относилась с недоверием и подвергала строгой проверке на трезвую, дневную голову.
* * *
Следующее письмо я получил через полгода. Это было послесловие к одному из разговоров, которые она в то время все чаще начинала и которые я не умел ни вести, ни прекращать, – о близкой ее смерти. Тот, что упоминается в письме, я резко прервал, но и после него тема эта не исчезла совсем. Уже по возвращении из Италии она подарила мне миниатюрный томик «Божественной комедии», изданный в 1941 году в Милане, сделав на нем надпись «Era a me morte, ed a lei fama rea… Petrarca». В CCCLXVI канцоне Петрарка обращается к Деве Марии с просьбой о заступничестве, потому что помощь, которую могла бы оказать ему его земная донна, заключалась бы для него в смерти, а для нее – в бесславии: … ch’ogni altra sua voglia Era a me morte, ed a lei fama rea. Время подарка и надписи совпало с появлением четверостишия:
Светает – это Страшный суд, И встреча горестней разлуки. И мертвой славе отдадут Меня – твои живые руки, —в котором «мертвая слава» связала в один узел семантику и фонетику петрарковского стиха. Письмо было передано мне ею из рук в руки.
31 марта 1964 года
Москва
Вы сегодня так неожиданно и тяжело огорчились, – что я совсем смущена. Я часто и давно говорила Вам об этом и Вы всегда совершенно спокойно относились к моим словам.
Очень прошу Вас верить, что и сегодня они не содержали в себе ничего кроме желания Вам добра. Теперь я окончательно убедилась, что все разговоры на эту тему гибельны, и обещаю никогда не заводить их.
Мы просто будем жить как Лир и Корделия в клетке, – переводить Леопарди и Тагора и верить друг другу.
Анна.
После «желания Вам добра» зачеркнуто «в самом высоком смысле этого слова».
Договор на перевод лирики Леопарди, который (перевод) «Ахматова Анна Андреевна и Найман Анатолий Генрихович – действующие солидарно и именуемые в дальнейшем Автор» должны были представить издательству в мае 1965 года, с нами заключили лишь в конце лета 1964-го, но засели мы за работу еще с зимы. Сборник «Джакомо Леопарди. Лирика» вышел в Гослитиздате через год после ее смерти. Тагор, чьи стихи нужно было срочно перевести для многотомного Собрания его сочинений, той весной неожиданно врезался в Леопарди. Осенью 1965 года, незадолго до последней болезни Ахматовой, такой же договор, как на перевод Леопарди, с нами заключили на перевод стихов греческой коммунистки Риты Буми-Папа, которую А.А. сразу стала звать «Папа Гриша», по созвучию. Редакторша издательства «Прогресс» учтиво торопила со сдачей рукописи, объясняя, что выпуск книги «планируется к Женскому дню 8 Марта».
К переводу Ахматова относилась как к необходимой тягостной работе и впрягалась в этот воз даже не пушкинской «почтовой лошадью просвещения», а смирной ломовой, трудящейся на того или другого хозяина. Каким бы уважением или симпатией ни пользовался поэт, которого она переводила, он был мучитель, требовал сочинения русских стихов, и непременно в больших количествах, потому что она зарабатывала на жизнь главным образом переводами. Свои стихи она писала, когда хотела: то за короткий период несколько, то за полгода ничего, – а переводила каждый день, с утра до обеда. Потому-то она и предпочитала браться за стихи поэтов, к которым была безразлична, и еще охотней – за стихи средних поэтов: отказалась от участия в книге Бодлера, не соглашалась на Верлена.
Это вовсе не значит, что она неохотно работала: все-таки это были стихи, а она была Ахматова. Качество работы, которую она сдавала редактору, было безупречным: она называла себя, чуть-чуть на публику, профессиональной переводчицей, ученицей Лозинского. Среди своих переводов выделяла сербский эпос («вслед за Пушкиным»), некоторые из корейской классической поэзии, «Скиталец» румына Александру Тома:
Когда в твои шатры приходит гость, Встречай добром: ему дай хлеба, соли, На раны воду лей, спасай от боли, Но ты его расспрашивать не смей, Куда идет, явился он отколе; —«Осень» Переца Маркиша:
Там листья не шуршат в таинственной тревоге, А, скрючившись, легли и дремлют на ветру, Но вот один со сна поплелся по дороге, Как золотая мышь искать свою нору.Могла к случаю продекламировать последние строчки: «Но ты его расспрашивать не смей…» – или сказать: «У Маркиша прелестно: увядший листок – как золотая мышь».
Она переводила Незвала, которого называла «парфюмерным», Гюго, которого просто не любила, Тагора, которого оценила уже по окончании работы, да мало ли еще кого. Она обвиняла в неосведомленности или в сведении личных счетов и тому подобном критиков, ставивших в упрек переводчику перевод с подстрочника. «Мы все переводим с подстрочника: тот, кто знает язык оригинала, на какой-то стадии все равно видит перед собой подстрочник». Она негодовала, когда прочла в книге Эткинда, что перевод «Гильгамеша», сделанный Дьяконовым, точнее гумилевского: «Коля занимался культуртрегерством и только, он переводил с французского – как тут можно сравнивать!»
Ее замечания о переводимом материале сплошь и рядом носили иронический характер. «Белые стихи? – говорила она, принимаясь за какого-нибудь автора. – Что ж, благородно с его стороны». Она владела белым стихом в совершенстве, а с рифмой, хотя и дисциплинирующей переводчика, ей приходилось бороться. Когда мы погрузились в Леопарди, то вскоре стали жалеть его: он был великий поэт, писал прекрасные стихи, и все прочее, но он был очень больной, маленького роста, его не любили аспазии и нерины, он рано умер. Когда она уставала, пятистопный ямб мог незаметно перейти в шестистопный, а как-то раз и вовсе свернул в хорей, и я сказал: «Это уже Гайавата». С того дня, читая новый кусок, она весело приговаривала: «Еще не Гайавата?» А в другой раз, когда свою часть прочитал я – правда, это был уже Тагор, – она, отвлекшись, как я заметил, посередине чтения, спросила подчеркнуто светским тоном: «Это уже перевод или еще подстрочник?» Про то же однажды сказала: «Это мы пишем или нам пишут?» И объяснила: «Из карамзинских, наверное, историй. Дьяк докладывает воеводе новости; тот, в шубе, важно сидит слушает и наконец задает этот вопрос».
«Как, и «произнéсенный», и «произнесённый»? – сокрушалась она нарочито. – В моей жизни всего было по два: две войны, две разрухи, два голода, два постановления – но двойного ударения я не переживу».
Через несколько дней после того, как были сделаны последние переводы Тагора, она в первый раз сказала: «Он висел надо мной как долг… Но он великий поэт, теперь я это вижу. Дело не в отдельных гениальных строчках – «Странник, не бойся, не бойся, в ненастье ты под защитой богини несчастья», не в отдельных стихотворениях вроде «Отпусти», а именно в этом мощном потоке поэзии, который, как в Ганге, черпает силы в индуизме и называется Рабиндранат Taгop». Она начала реплику домашним голосом, кончила – трибунным, и сказала это не мне, а при мне третьему лицу, как бы уравновешивая раздражение на Тагора и язвительные насмешки над ним во время перевода – величественным афоризмом. То было «в оглоблях», теперь она говорила, сидя в кресле; то – «от души», теперь – «как надо».
Вообще, с публикацией ахматовских переводов следует вести себя осторожно. Например, переводы Леопарди, сделанные одним, обязательно исправлялись другим, и распределение их в книжке под той или другой фамилией очень условно. Я знаю степень помощи, долю участия в ахматовском труде – Харджиева, Петровых. Ручаться за авторство Ахматовой в каждом конкретном переводе никто из людей, прикосновенных к этим ее занятиям, не стал бы. Самое лучшее было бы выполнять ее волю, неоднократно ею разным собеседникам высказанную: в ее книгах после смерти переводов не перепечатывать. Это дело запутанное, невеселое, вынужденное, и почтенный ученый, которому я рассказывал про Лира и Корделию в клетке, переводящих Леопарди и Тагора, очень точно заметил: «А на слух – не Леопарди и Тагор, а – как леопард и тигр в клетке».
В конце апреля 1964 года я попал в больницу с диагнозом микроинфаркт. Тогда это была редкость среди молодых, врачи набросились на меня с испугом и воодушевлением. Серьезности болезни я не понимал, вставал, против распоряжений врача, с кровати, просил выписать меня под расписку. Ахматова несколько раз навестила меня и регулярно с кем-нибудь передавала маленькие письма, присылала букетики цветов.
В е л и к и й Ч е т в е р г.
Толя,
и все это вздор, главное, чтобы Вы были совсем здоровым и ясным.
Сердце усмиряют правильным дыханьем, а черные мысли верой в друзей. Разлук, разлучений, отсутствий вообще не существует, – я убедилась в этом недавно и имела случай еще проверить эту истину почти на днях. Щедро делюсь с Вами этим моим новым опытом. Вчера говорила с «домом». Ирина шлет Вам привет. Ника устроила для Вас письмо о Леопарди. Шлите Тагора, мы его перепишем на машинке и дадим младотурку. Борис произносит о Вашей пьесе очень большие слова.
Я уверена, что в 1963 г. с Вами было то же самое, а Вы проходили всю болезнь без врача. Не скучайте!
А.
Сегодня вышла «Юность» с моими стихами.
… и помните, что больница имеет свою монастырскую прелесть, как когда-то написал мне М.Л. Лозинский.
П я т н и ц а
Н о ч ь.
Толя,
сегодня огромный пустой день, даже без телефона и без малейших признаков «Ахматовки». Я почему-то почти все время спала. Была рада, когда Саша Нилин сказал, что Вы узнали библейские нарциссы. Благодарю товарища, который звонил от Вас.
Насколько уютнее было бы, если бы в больнице была я, а Вы бы меня навещали, как когда-то в Гавани.
Лида Ч. нашла эпиграф ко всем моим стихам:
На позорном помосте беды, Как под тронным стою балдахином.Но кажется это не ко всем?!
Вечером приходила Раневская. Алексей приглашал ее в свою картину: «Три толстяка».
Завтра жду Нику.
Если Тагор утомляет Вас – бросьте его и главное при первом признаке усталости делайте перерыв: мы еще поедем и к березам и к Щучьему Озеру.
Спокойной ночи!
А.
Б-у-д-у Вам писать часто.
«Дом» в первом письме взят в кавычки. В трехкомнатной квартире на улице Ленина, дом 34, жили кроме Ахматовой Ирина Николаевна Пунина с мужем и ее дочь Анна Каминская с мужем. И Пунина и Каминская относились к Ахматовой, разумеется, уважительно, но с оттенком недовольства – легкого, без объяснения конкретных причин, и постоянного. Бывали периоды ласковости, большей близости, они сменялись охлаждением и ссорами, но некоторое недовольство, как и некоторая интимность, демонстрируемая обращением к Ахматовой «Акума», не подвергались колебаниям, они были вынесены за скобки. Про Пунину в ее лучший период Ахматова как-то сказала: «Ира – замирённый горец». К возвращению Ахматовой из Москвы зимой «дом» старался достать путевку в Дом творчества в Комарове; по возвращении из Будки ее, часто через считаные дни, собирали и отправляли в Москву.
Ее комната, длинная, с окном на улицу, была рядом с кухней. Над кроватью висел рисунок Модильяни, у противоположной стены стоял сундук-кредéнца с бумагами, который она отчетливо называла «крадeнца», отчего и он, и столик с поворачивающейся столешницей, под которой тоже лежали письма и бумаги, и гобеленного вида картинка с оленем, стоявшая на столике и оказавшаяся бюваром, также хранившим письма, и овальное зеркало, и надбитый флакон, и цветочные вазы, и все прочие старинные вещи, выглядевшие в этой комнате одновременно ахматовскими и случайными, соединились в моем сознании с описанием спальни Ольги Судейкиной, «героини» Поэмы, кончающимся строчкой «Полукрадено это добро». Однажды к ней пришел молоденький воспитанник Оксфорда, занимавшийся темой «Народные истоки творчества Ахматовой», продекламировал, с легким акцентом: «Лучше б мне частушки задорно выкликать, а тебе на хриплой гармонике играть», – объяснив таким образом, чтó, в частности, подразумевает он под народными истоками. Через некоторое время разговор коснулся Модильяни, она попросила меня показать рисунок, я подошел к кровати, сделал приглашающий жест, он не двинулся с места; решив, что он чего-то не понимает, я объяснил, что вот он, рисунок, потянул гостя за рукав, стал подталкивать. Он с испугом взглянул на портрет и сейчас же вернулся на место. Когда он ушел, Ахматова сказала: «Они там не привыкли видеть постели старых дам. На нем лица не было, когда вы его тащили к краю пучины». Потом: «Они не могут поверить, что мы так живем. И не могут понять, как мы в этих условиях еще что-то пишем». И после новой паузы: «Мог бы про народность у Ахматовой придумать что-нибудь остроумней частушек и гармошки».
Муж Пуниной, чтец-декламатор Роман Альбертович Рубинштейн (которого А.А. за глаза также называла зощенковским – «артист драмы»), выступал с поэмой Смелякова «Строгая любовь» в библиотеках, клубах и таких неожиданных местах, как, например, ординаторские в больницах: в восемь утра, на пересменке ночных и дневных врачей. Он был «любитель прекрасного», каких, казалось, уже не осталось на свете, начинал в коридоре жаркий разговор о том, что «нельзя недооценить» или «нельзя переоценить» стихи такого-то из молодых и сякого-то из старых, и так как Ахматова каменно молчала, обращался к ее гостям. 5 марта 1963 года Ахматова пригласила меня и Бродского отпраздновать десятую годовщину смерти Сталина. Мы выпили порядочно коньяку и около часа ночи поднялись уходить. Ахматова вышла в прихожую проводить нас. Неожиданно у вешалки появился Роман Альбертович: он спросил у меня, согласен ли я, что нельзя недооценить Вознесенского и Суркова, – у меня не нашлось сил ему ответить. Он повернулся с тем же к Бродскому, который пьяно поймал его в поле зрения и очень громко проговорил: «Рамон, все в порядке!» Ахматова говорила: «Я очень его ценю. На его месте мог быть человек, который бы говорил мне: “Мама, вы опять не погасили свет в уборной”».
Жить в Доме творчества писателей она не любила: всегда на людях, причем не ею выбираемых, казарменный «подъем» и «отход ко сну», общая ванна, общий завтрак-обед-ужин, – но мирилась с этим, как с неизбежностью. Одна из гостий стала жаловаться ей, что ее знакомому, писателю, достойному всяческого уважения, дали в Малеевке маленький двухкомнатный коттедж, тогда как бездарному, но секретарю Союза роскошный пятикомнатный. Когда за ней закрылась дверь, Ахматова сказала: «Зачем она мне это говорила? Все свои стихи я написала на подоконнике или на краешке чего-то». В тот раз, когда мы оказались в комаровском Доме творчества вместе, за соседним столиком в столовой сложилась компания писателей средних лет, которые от еды к еде со все большей страстью беседовали на одну и ту же тему: покрошишь голубям хлеб, а воробьи налетают и тотчас склевывают. От еды к еде голуби становились все более простодушными и беззащитными, воробьи – хитрыми и хищными, так что вскоре это уже были никакие не голуби и не воробьи, а кто-то совершенно другие, кого собеседники хотели одних облагодетельствовать, других растерзать. Ахматова сидела спиной к этому столу. За каким-то обедом на нем появилось шампанское. Один из писателей, крупный круглолицый мужчина в точно таком же финском свитере, как и его крупная круглолицая жена, приблизился с двумя бокалами к Ахматовой, прося ее выпить по случаю его дня рождения. Не давая ему договорить, она очень резко объявила, что ей запрещено врачом. Он смутился и, комкая фразы, напомнил ей, что они знакомы по совместному выступлению в 1936-м или 37-м году в НКВД. «Вы сошли с ума! – сказала она. – Вы просто не знаете, кто я такая».
В другое ее проживание в этом Доме мы сидели на скамейке у входа, когда появился благообразный старик с чемоданчиком в руке, известный ленинградский поэт. Он родился в Царском Селе, о чем любил широковещательно упоминать, – в семье священника, на чем внимание публики старался не останавливать. «Точь-в-точь отец, – проговорила вполголоса Ахматова, – когда он шел на требы». Через час стало известно, что поэт – сослан: в Ленинграде раскрыли притон, он оказался одним из посетителей, жена на суде заявила, что после этого не хочет мыться в одной ванне с ним, и его сослали в Дом творчества на несколько месяцев. Ахматова воскликнула: «А я хочу мыться в одной ванне с ним?!»
К мужу Каминской, художнику Леониду Зыкову, она относилась с симпатией, хлопотала за него, когда у него начались неприятности с военкоматом, и однажды попала из-за него в двусмысленное положение. В Ленинграде ее навестила дочь Шагала, сентиментально и торжественно рассказывала ей о любви родителей к ее стихам. Потом спросила, что она может прислать ей из Парижа, какие духи, книги, лекарства… Нет, ничего не нужно, спасибо. Ну что-нибудь, что угодно, это никого не затруднит, будет только приятно. И тут Ахматова, вспомнив, что недавно обсуждалось, где достать Лёне для работы пастель, попросила ее прислать. Через месяц кто-то приехавший из Франции передал ей, что Шагал спрашивает, какую именно пастель, раннюю ли, или, может быть, Ахматова имеет в виду какую-то определенную его вещь. В Париж поплыло разъяснение, что речь идет о красках. Наконец в Москву приехала коробочка пастелей. История огорчила Ахматову, она в жизни ничего ни у кого не просила, к Шагалу относилась как к великому художнику-современнику и приговаривала удрученно: «Вот тебе и «опишу я, как свой Витебск – Шагал»!» – строчкой из Царскосельской оды. (Дочку Шагала сопровождал известный искусствовед, он был отдаленно знаком с Ахматовой. В конце беседы он сказал ей: «Почему вы ничего не сдаете в архивы? В ЦГАЛИ будут счастливы получить хоть что-нибудь. Один ваш автограф – уже вещь». После их ухода она произнесла: «Природа позаботилась запечатлеть на его лице все его пороки. Сам человек этого не видит».)
О Лёнином брате Владимире Зыкове, проницательном, спокойном, красивом человеке, тогда начинающем технике, сказала: «Типичный русский молодой инженер. Вот такие вдруг появились в стране после александровских реформ: врачи, судьи, инженеры, земские деятели. За несколько лет они преобразили лицо России, в середине шестидесятых они были уже повсюду».
Тем временем от дела Бродского, месяц как кончившегося отправкой его в Коношу, продолжали расходиться круги, потряхивавшие его друзей и защитников. Обвинение в тунеядстве на тех же основаниях угрожало реально еще нескольким молодым людям, не имевшим официального статуса литератора, в частности мне, тем более что я добился от одного из издательств справки о сотрудничестве в нем Бродского в качестве переводчика. Справка фигурировала на суде, я был квалифицирован как мошенник, провокатор и пр., а выдавший справку завредакцией получил выговор как поддавшийся на мошенничество, провокацию и пр. К тому же инициатор всего дела прежде заведовал клубом в институте, где я учился, и знал меня лично, пятью годами раньше опубликовав донос на меня. Ситуация тревожила Ахматову, особенно после истории с Ионисяном.
Зимой 1963–1964 годов в Москве случилось несколько жестоких убийств, почти во всех подробностях повторявших одно другое. В середине дня в квартире раздавался звонок, на вопрос «кто там?» убийца из-за двери отвечал: «Мосгаз», входил, доставал из портфеля топор, убивал присутствующих, по большей части одинокую старушку, старушку и девочку, забирал какую-то ерунду из вещей, к примеру старый телевизор, который потом волок к стоянке такси, и исчезал. При этом не таился, так что впоследствии многие вспоминали его внешность, и милиция составила «словесный портрет». Москвичи были в меру терроризированы, в меру возбуждены и увлечены развитием событий. Искали мистических объяснений его одновременному присутствию в разных местах Москвы: в полдень он произносил «Мосгаз» в Тропареве, в пять минут первого – в Бескудникове. Затем прошел слух, что в одно из утр к генеральному прокурору без предупреждения и без охраны приехал Хрущев и объявил, что дает ему на поимку убийцы три дня сроку. Его схватили к концу вторых суток, в ночь, когда такси, в котором я ехал с Ордынки на проспект Мира, где снимал комнату, через каждые 100–200 метров останавливали милицейские патрули и проверяли мои и шофера документы под светом полностью включенных уличных фонарей. Его молниеносно судили, приговорили к расстрелу и тотчас же расстреляли.
Через несколько дней квартирная хозяйка сказала, что в мое отсутствие приходил участковый, сделал обыск в моей комнате и вызвал меня в отделение. В отделении меня принял милицейский капитан, мой протест по поводу обыска добродушно отклонил, а полистав принесенные мною книжки с моими переводами, сказал не без удовольствия: «Что же, что вы писатель, – он вон тоже был артист», полез в ящик стола, бросил передо мной рисованную фотографию, маленькую и невнятную, Ионисяна и уточнил: «Массовик-затейник». Оказалось, что преступника обнаружили чуть ли не в его околотке, во всяком случае история коснулась его непосредственно и дала ему благоприятный шанс. Заодно он проверял всех сомнительных, к которым дворник или какой-то бдительный сосед, естественно, причислил меня.
Все это происходило в прямом смысле слова на глазах Ахматовой. Я снимал эту случайную комнату уже несколько месяцев, когда А.А. сообщила мне, что по приглашению Нины Леонтьевны Шенгели переезжает к ней, и попросила помочь при переезде. Мы поехали, и она велела шоферу остановиться… у моего подъезда. После первых мгновений немоты я сказал ей об этом, наступила ее очередь изумиться. Я жил на втором этаже, Шенгели на седьмом.
Вернувшись из милиции, я поднялся к Ахматовой. Она выслушала мой рассказ, помолчала, потом проговорила: «Ионисяном мог быть не он, а вы. С той же вероятностью. Так что благодарите судьбу. Выигрышная роль могла достаться и мне: старая опытная наводчица и скупщица краденого. Я, как вы знаете, тоже живу без прописки. Не много ли нас на одну лестницу?» Я не отнесся к происшедшему серьезно и вскоре переехал к друзьям. Она же приняла все, как казалось мне тогда, чересчур близко к сердцу: несколько раз, уже без тени юмора, убеждала меня в том, что я избежал смертельной опасности – настоящей, невыдуманной, – и рассказывала эту историю многим тогдашним своим гостям. Поэтому она и торопила издательство дать мне, еще до заключения договора на Леопарди, гарантийное письмо – на тот случай, если органы охраны порядка возьмутся за меня более решительно.
Ника – Ника Николаевна Глен – была редактором в Гослитиздате, занималась болгарской литературой, за что А.А., нежно и уважительно всегда о ней говорившая, называла ее «болгарской королевой». Она пользовалась исключительным доверием Ахматовой, предоставляла, живя вдвоем с матерью, одну из двух маленьких комнат в коммунальной квартире в ее распоряжение, приезжала ухаживать за ней в Комарово и некоторое время до 1963 года исполняла у нее секретарские обязанности. То, что от нее требовалось, она делала бесшумно, говорила мало, кратко. Присутствуя безмолвно во время беседы, она создавала впечатление, что ее нет, и возникала, только когда в ней была нужда, всегда со взвешенным и ясно сформулированным мнением. Высокий редакторский профессионализм, литературную одаренность и точное знание специальных предметов она сочетала с настолько незаметным для окружающих проявлением этих своих качеств, что назвать их скромностью и то было бы преувеличением. В то время в Гослитиздате сошлось несколько редакторов высокого класса, настоящих специалистов, ученых, интеллигентов, Ахматова знала им цену, да и ко всему издательству относилась, в общем, с симпатией. Когда она приходила за гонораром, начинался «малый крестный ход в Тверской губернии», выходили навстречу знакомые, незнакомые, бухгалтеры, корректоры, заведующие. Со слов Пастернака, она рассказывала, что когда во время травли из-за «Живаго» он появлялся, также по гонорарным делам, в какой-нибудь из издательских комнат, бедные редакторши зарывались носами в бумаги и шептали оттуда: «Борис Леонидович, мы вас очень любим, мы вас очень любим». Впрочем, редакторы были разные – хотя бы тот, которого по совокупности качеств, внешности и поведения Ахматова беззлобно прозвала «младотурком»…
В тот год у меня то ли начинался, то ли кончался роман с театром «Современник». Я написал пьесу, в которой действовали три персонажа: театр, то есть режиссер, кое-кто из ведущих актеров, завлит ею заинтересовались, ее было удобно ставить. На каком-то этапе дело незаметно ушло в песок, но я почти не расстроился, потому что писал уже другую пьесу. Ее интрига заключалась в том, что на выигрыш по лотерейному билету, оставшемуся на руках у продавца, стала претендовать, создавая видимость прав на него, группа людей, которой тот продал этих билетов некоторое количество и к которой сам волею обстоятельств принадлежал. Двух главных героев-антагонистов должен был играть один актер, так же как их жен – одна актриса. Про эту пьесу и говорил Ахматовой «очень большие слова» Борис, младший из «мальчиков Ардовых», о ней же, «вглядевшись» в сюжет, написала она в одном из следующих писем: «Все дело в Вашей пьесе». Ей показалось, что пьеса содержит недолжные аллюзии: самый замысел двойничества был ею истолкован как попытка замаскировать ситуацию, имевшую отношение к ней, вернее, к тому, что она тогда писала. Нечаянно я дал к этому повод, введя в действие лицо, имевшее слишком явное сходство с человеком из ее окружения. Последовало неприятное объяснение, размолвка, потом примирение.
«Лида Ч.» – Лидия Корнеевна Чуковская – с исчерпывающей полнотой передала содержание и подробности своих многолетних отношений с Ахматовой в трехтомных «Записках»: ее имя отныне навсегда связано с ахматовским. Они были люди разного времени, разного склада, разных вкусов и идей – теперь, когда история делает их чуть ли не ровесницами, это следует подчеркнуть. Ахматова, как мне казалось, в полной мере оценила не только общепризнанные ее достоинства: честность, бесстрашие, прямодушие, – а еще и более редкие: наивность и даже прямолинейность, над которыми могла подтрунить за глаза, но никогда не в ущерб ровному уважению к этой верности идеалу, особенно привлекательные на фоне искусного мертвящего ума и уступчивой изобретательности, которыми владело большинство. Эпиграф, предложенный ею к ахматовским стихам, – это строчки из четверостишия, открывающего цикл «Черепки»:
Мне, лишенной огня и воды, Разлученной с единственным сыном… На позорном помосте беды, Как под тронным стою балдахином.«Но кажется это не ко всем?» – уточнение необходимое, лукавое и тонкое. Это эпиграф скорее к образу Ахматовой из «Записок» Чуковской, чем к ахматовской поэзии. Отношения между ними начались в кошмаре 30-х годов, он задал тональность и их развитию в дальнейшем. Но Ахматова была и такая, и другая, и, как любила она говорить, «еще третья». Дневники – уникальный документ, но беседа с установкой, пускай бессознательной, на запись лишается той нелогичности, бессвязности, а часто и бессмысленности, которые делают ее подлинно живой. К тому же и Ахматова подозревала, что за ней записывают, – правда, среди предполагаемых ею эккерманов имени Чуковской я не слышал, – и иногда она говорила на запись, на память, на потомков, превращаясь из Анны Андревны в эре-перенниус-пирамидальциус. Ахматова была с Чуковской совсем не та, что, например, с Раневской, – не лучше-хуже, не выше-ниже, просто не та.
Что касается упоминания об Алексее Баталове и «Трех толстяках», то он незадолго до того снял свой первый фильм «Шинель» и готовился снимать второй, по политической сказке Олеши. Как актер – после картины «Дело Румянцева» – он был баснословно популярен и любим кинозрителями обоих полов и всех возрастов. Однажды Ольшевская разговаривала, едучи в такси, с режиссером, который брал в свой театр ее сына Бориса. Когда она выходила из машины, шофер бросил вслед неприязненно и с вызовом: «Видно, и в артисты без знакомства не пробьешься. Одному Баталову удалось». Она сказала: «Это другой мой сын». Ахматова притворно жаловалась, что посетители, знающие о ее дружбе с этим семейством, непременно спрашивают у нее: «А не знаете, над чем сейчас работает Баталов?» Он ее утешал: «В любом клубе, на всякой встрече со зрителями, меня первым делом спрашивают, как здоровье Смоктуновского». Как-то раз, когда все сели обедать, ему принесли телеграмму от поклонницы из Испании, с которой он там познакомился: «Писать бесполезно». Испанку и ее умение вместить всё в два слова присутствующие достойно оценили. Ахматова сказала, улыбнувшись: «Красиво… Ах, какие сволочные телеграммы я давала за свою жизнь…» Раневская согласилась сниматься в фильме, приезжала в Петергоф на кинопробы, но в конце концов тетушку Ганимед сыграла Рина Зеленая, с которой ему как режиссеру было проще сговориться.
* * *
Возможно, сейчас я располагаю письма не совсем в том порядке, в каком они приходили ко мне, хотя доводы именно в пользу такой последовательности достаточно основательные.
Толя
Анюта по ошибке захватила томик Мистраль и мои стихи. Пусть Таня вернет их на место.
Вчера у меня были Карпушкин и Маруся. Очень спешат с Тагором, которого необходимо сдать до 1 июня.
Ахм.
Не вздумайте мне звонить. Я знаю, что Вам запрещено вставать.
Толя!
Все дело в Вашей пьесе. Это я объясню подробнее при встрече. Очень прошу мне верить. Остальное все на прежних местах. Берегите себя. Если можно напишите мне несколько слов – я еще не верю, что говорила с Вами. Ну и утро было у сегодняшнего дня! – Бред.
А.
9 в е ч е р а
Толя,
Наташа Горбаневская принесла мне «Польшу». Там стихи, которые Вам кое-что напомнят. Мы посадили сына Наташи на большую белую лошадь, он сморщился. Я спросила: «Ты боишься?» Он ответил: «Нет, конь боится».
Н.А. жалуется, что Вы очень строгий. Толя, не безумствуйте. <···> Не могу сказать, что мне было очень приятно это слышать… Унижение очень сложная вещь. Кажется, как всегда накаркала я. Помните, как часто я говорила, что Природа добрее людей и редко мешается в наши дела. Она наверно подслушала и вежливо напомнила о себе.
Дайте мне слово, что против очевидности Вы не выйдете из больницы. Это значило бы только то, что Вы хотите в нее очень скоро вернуться и уже на других основаниях. Я про больницу знаю все. Но довольно про больницу – будем считать, что это уже пройденный этап. Главное это величие замысла, как говорит Иосиф.
Саша расскажет Вам, что я делаю. А в самом деле я сонная и отсутствующая. Люди стали меня немного утомлять. Никому не звоню. Вечер будет 23 мая.
Напишите мне совсем доброе письмо.
А это правда, что Вы написали стихи?
Анна
2 мая. Ордынка.
3 м а я
Толя,
и я благодарю Вас за доброе письмо. Сегодня день опять был серый, пустой и печальный. По новому Мишиному радио слышала конец русской обедни из Лондона. Ангельский хор. От первых звуков – заплакала. Это случается со мной так редко. Вечером был Кома – принес цветы, а Ника принесла оглавление моей болгарской книжки – она составила ее очень изящно. Была у меня и ленинградская гостья – Женя Берковская.
Не утомляйте себя Тагором.
Пишите о себе.
Нина категорически утверждает, что мне до Вас не добраться, но я вспоминаю седьмой этаж у Шенгели! – Помните.
Завтра мне привезут летнее пальто – начну выходить.
Спокойной ночи!
А.
Сегодня Ира сеет привезенный Вами мавританский газон около Будки, костер сохнет, кукушка говорит что-то вроде ку-ку, а я хочу знать, что делает Ваш тополь?
5 м а я
Толя,
сейчас придет Галя Корнилова и я передам ей эту записку. 7-го у здешних Хайкиных будет исполнена моя «Тень». Может быть пойдем вместе.
Писать все труднее от близости встречи. Я совершенно одна дома. Вокруг оглушительная тишина, здешний тополь (у окна столовой) тоже готов зазеленеть.
Вчера у нас были Слонимы и Ильина, сегодня Муравьев принесет летнее пальто и ленинградские письма. Впрочем Вы все это уже знаете.
До свиданья.
А.
Толя милый,
очевидно мне судьба писать Вам каждый день. Дело в том, что сейчас звонил сам Ибрагимов – он заключает с Вами договор и не знает Вашего адреса. Очевидно надо сообщить ленинградский адрес, как делаю я.
Лежите тихо, тихо.
Видите, как все ладно.
Пришла книга Рива, где он требует для меня Нобелевскую премию.
Если можно напишите два слова и адрес для Ибрагимова.
А.
Первые две записки были вызваны путаницей, контур которой, и без того расплывчатый, сплетенный из реальности, случайностей и воображения, стал, когда все разъяснилось, быстро терять отчетливость, а мелочи, которые остались в памяти, сейчас нет смысла ворошить. Художница Анюта Шервинская, старшая дочь переводчика-античника Сергея Шервинского, с Ахматовой познакомилась еще девочкой: летом 1936 года та гостила в их доме недалеко от Коломны. Поэтесса и переводчица Таня Макарова, дочь Алигер, была для Ахматовой тоже из тех детей, которые «родились у знакомых». Из историй об этих детях она с удовольствием рассказывала такую. Однажды она была в Переделкине и встретилась на улице с критиком Зелинским, который попросил ее на минуту свернуть к его даче посмотреть на сына. «К калитке подошла молодая женщина с годовалым ангелом на руках: голубые глаза, золотые кудри и все прочее. Через двадцать лет, на улице в Ташкенте, Зелинский попросил на минуту свернуть к его дому посмотреть на сына. Было неудобно напоминать, что я с ним уже знакома. К калитке подошла молодая женщина с годовалым ангелом на руках: голубые глаза, золотые кудри. И женщина, и ангел были новые, но все вместе походило на дурной сон».
В 1963 году вышел сборник стихов Габриелы Мистраль в переводе Савича: на некоторое время эта книжечка стала главным чтением Ахматовой. Они родились в один год, первую известность Мистраль получила в 1914-м, ее любимыми писателями были русские. Оказалось, что она нобелевская лауреатка и умерла совсем недавно. Тональность ее стихов, неожиданно акмеистических, особенно раздела «Боль», удивительно близка ахматовской, параллели и совпадения чуть не дословные:
Шиповник стоял с нами рядом, Когда у нас слов не стало, —(«Шиповник так благоухал, что даже превратился в слово»); или стихотворение «Папоротник», с рефреном:
Сорви его и дари В иванову ночь до зари.Ахматова почти с восхищением говорила: «Краснокожая обошла меня», – Мистраль была индианкой. Стихотворение «Фонтан» она несколько раз просила прочитать ей вслух, заставляла читать гостей и требовала немедленной оценки.
Я на фонтан заброшенный похожа — он, мертвый, слышит свой ушедший гул; уста из камня все еще тревожа, вчерашний шум не умер, а уснул. Я верю, что судьба не оглашала свой страшный приговор и что, скорбя, я ничего еще не потеряла и, руки протянув, коснусь тебя. Я – как немой фонтан; в саду струится чужая песнь, чужое торжество: от жажды обезумевшему, снится ему, что песня – в сердце у него; что он взметает плещущие струи в голубизну, – а он уже заглох; что грудь его впивает поцелуи живой воды, – а воду вылил бог.«Живая вода» в стихах Ахматовой – это знак и признак Царского Села, и того куска ее жизни и русской истории, и того человека, в котором Царское Село для нее наиболее полно и высоко выразилось, образ, с пушкинской легкой руки, от этого места не отторжимый:
Еще я слышу свежий клич свободы, Мне кажется, что вольность мой удел, И слышатся «сии живые воды» Там, где когда-то юный Пушкин пел.Неожиданно наткнуться на «живую воду» у латиноамериканки, о самом существовании которой она знала до того только понаслышке, было поразительно. Не говоря уж о том, что синтаксис, рисунок, ритм, рифмы второй строфы – может быть, не без участия переводчика – прямо, конкретно, «патентованно» ахматовские, калька ее стихов. Зато строфу стихотворения «Сосновый бор», о котором она никогда ни словом не упоминала, которое, казалось, прошло мимо ее внимания:
Была гора на заре розовой землею, но сосны закрыли ее чернотою, —она своим излюбленным, доведенным до виртуозности приемом включила в написанные вскоре стихи:
И сосен розовое тело В закатный час обнажено. («Земля хотя и не родная…»)В журнале «Польша», который принесла Горбаневская, были стихи полячки Веславы Шимборской, в ахматовском переводе. «Напомнить» они мне должны были сопутствовавшие этой работе обстоятельства. Ее попросили перевести три стихотворения, из которых два она предложила мне, потому что устала и потому что хотела дать мне заработать. Молодому, без имени, и главное, с дурной общественной репутацией, мне переводить давали очень редко и в ничтожных объемах, так что время от времени мы практиковали и этот вид «солидарного действия»: часть переводила она, часть я, всё подписывалось ее именем, соответственно количеству строчек делился гонорар. От Н.Я. Мандельштам, увы, тянется гадкая сплетня, будто в таких случаях Ахматова была недобросовестна при расчетах. Зачем это нужно было Н.Я., остается только догадываться; зачем эту ложь подхватывают, то есть допускают, что такое было возможно, голову ломать не надо: это иллюстрация собственных нравственных принципов и свидетельство исключительно о самих себе.
Наталья Горбаневская была полонофилка, цитировала польские стихи по памяти, особенно почитала Норвида. Она жила в Москве, но часто появлялась в Ленинграде, добираясь на попутных грузовиках. Ахматова шутя объявляла: «Звонила Наташа – как всегда, приехала на встречных машинах». Как поэтесса она была сразу признана Ахматовой, стихи были оценены без скидок на возраст, неблагоприятные обстоятельства и так далее. Из них особенно выделяла Ахматова два «ударных»: «Послушай, Барток, что ты сочинил?» и «Как андерсовской армии солдат», с прелестными строчками:
Но преданы мы, бой идет без нас. Погоны Андерса – как пряжки танцовщицы, Как туфельки и прочие вещицы — И этим заменен боезапас.Это, конечно же, напоминало Ахматовой о ее ташкентских встречах с андерсовцем Иозефом Чапским, которому адресовано «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…». Очень нравилось ей еще одно короткое стихотворение:
«Не тронь меня!» – кричу прохожим, не замечающим меня. Чужие комнаты кляня, слоняюсь по чужим прихожим. Но как пробить дыру в стене? И кто протянет руку мне? Горю на медленном огне.Горбаневская перепечатывала свои стихи на маленьких листах, вкладывала их в обложечку и дарила эти тоненькие тетрадочки знакомым, в частности и Ахматовой. Однажды А.А. попросила меня найти среди бумаг нужную ей рукопись, объяснила, где она вероятнее всего лежит, как выглядит. Я перебрал несколько папок, рукописи не нашел. Поискал в другом месте, в третьем, сказал, что нет, не вижу. И похожего ничего? И похожего ничего. «А стихи Горбаневской?» – спросила она вдруг. Я, засмеявшись, ответил, что и их не обнаружил. Она обреченно проговорила: «Раньше хоть ее стихи можно было найти, сейчас и они пропали».
Против окна моей палаты рос высокий тополь. За то время, что я там лежал, его набухшие почки приоткрылись, он сделался бледно-зеленым. Он стоял на солнце, а тот, что рос посреди двора на Ордынке, – в тени, он на несколько дней опаздывал, это была такая игра – хвалиться тем, чтó чей тополь успел сделать. Палата была на третьем этаже, а все лестницы с некоторого времени сравнивались, по степени трудности подъема, с лестницей у Шенгели. В тот раз я провожал Ахматову после гостей: когда мы подошли к лифту, он оказался выключен. До квартиры Шенгели было семь высоких этажей, времени – час ночи. Я стал искать выход, предлагал поймать такси, поехать к тем-то, к тем-то – никто, разумеется, не откажет; найти механика, чтобы исправил лифт… Она сказала, что единственное спасение – не медля, начать подниматься. Мы одолевали лестницу больше получаса: какие бы я ни находил способы облегчить подъем, она коротко и категорично их отвергала. Поднималась по обычной своей методе: ставя по очереди обе ноги на каждую ступеньку, и на площадке между маршами делала пять-шесть глубоких размеренных вдохов-выдохов, унимая таким образом сердцебиение («сердце усмиряют правильным дыханьем»). Это называлось «дыхание йогов», а Нина Антоновна, имитируя артистку Бирман в роли сиделки в популярном тогда спектакле, определяла такой подъем как «шажок! – отдохнули!». Дважды она садилась на ступени. Войдя в квартиру, попросила хозяйку накапать ей валокордину и перед моим уходом сказала, что теперь она похожа на ту прустовскую бабушку или тетушку, которой расхваливали погоду и воздух на Елисейских полях, соблазняя ее погулять; она соглашалась, намечала для прогулки ближайшее воскресенье, и все знали, что она из дому никогда не выйдет из-за убежденности, что попросту не может этого сделать; однако, когда дом загорелся, старуха спустилась по пожарной лестнице – кажется, даже не касаясь перил. Лестница у Шенгели придала ей уверенности и опыта: в Италии, во дворец, где ей должны были вручать премию, вела высокая мраморная лестница с крутыми ступенями – по ее словам, она вспомнила то ночное восхождение и, не раздумывая, двинулась вверх.
«Кома», принесший цветы, это Вячеслав Всеволодович Иванов, ученый-лингвист и филолог, носивший такое домашнее имя; а «Саша» – это Александр Нилин, Александр Павлович, ближайший друг «мальчиков Ардовых», уже промелькнувший в одном из предыдущих писем с букетом нарциссов. «Маруся» – Мария Сергеевна Петровых – тоже участвовала в тагоровском предприятии, Карпушкин был ответственный, не то внешний редактор переводов. Суета, нагнетавшаяся вокруг них, казалась необходимой и важной, кто-то противодействовал заключению договора, кто-то проталкивал его: едва переводы вышли, уже нельзя было вспомнить не только, в чем состояло дело, но и почему оно до такой степени всех захватило. И эта тревога и нервность, от которых через короткое время не найти было следов, повторялись потом еще много раз, всегда с одинаковой силой и остротой. Когда у меня начались заурядные неприятности на сценарных курсах и я беспокоился и мрачнел, Ахматова утешала: «Через две недели после их окончания вы навеки забудете, что такое кино» (она ошиблась на несколько дней).
«Ленинградская гостья» Женя Берковская, Евгения Михайловна, одна из тех шестидесятилетних, измученных жизнью, но не предъявляющих к ней никаких претензий, никогда не жалующихся женщин, которых было несколько в окружении Ахматовой, происходила из благополучнейшей петербургской семьи и претерпела все, что за такое происхождение полагалось. В то время она жила по чужим углам, зарабатывала вязанием и перепечаткой рукописей на машинке, в частности и для Ахматовой. Ахматова была с ней неизменно ласкова, поддерживала ее – в первую очередь психологически; Берковская, лишившись ее, осиротела окончательно, как-то сразу обессилела и очень скоро умерла… Как правило, знакомые ленинградцы и москвичи, курсируя между двумя столицами, довозили Ахматовой что-то, забытое в одной из них, почту или, если она задерживалась надолго, одежду по сезону, как, например, упомянутый в письме Владимир Сергеевич Муравьев.
Стихотворение «Тень», посвященное Саломее Андрониковой, о которой перед поездкой в Англию Ахматова написала в дневнике: «Мы не виделись 49 лет, да и не увидимся, она ведь слепая», – было положено на музыку Артуром Лурье, и ноты присланы в Москву. Хайкины были кузенами Ардова, но «Тень» исполнялась дома не у Бориса Эммануиловича Хайкина, известного дирижера, и не у его брата, известного физика, а у сына физика, женатого на музыкантше. Сохранилась магнитофонная запись того вечера, дважды спетый романс, а затем стихи Ахматовой, которые она с охотой стала после музыки читать.
Илья Львович Слоним, скульптор из тех немногочисленных, которые видят глазами и осязают пальцами линии, плоскости и объемы, выводимые пространством из самого себя, а не ваяют фантомов, похожих на человека, только вдвое или вдесятеро раздувшегося, был женат на Татьяне Максимовне Литвиновой, писательнице и художнице. Он лепил голову Ахматовой, для чего она несколько раз приезжала к нему в мастерскую на Масловку, но портрет не вполне удался, как бывает, когда натура сама по себе слишком «скульптурна». Ахматова за свою жизнь позировала нескольким десяткам художников, чувствовала себя в студии непринужденно, вела себя во время сеанса профессионально. Примерно в это же время она сказала: «Хочу видеть вашего Целкова». С Олегом Целковым я дружил с юности, с Ленинграда, и мы часто виделись в Москве. Я привез Ахматову в его комнату в Тушине, служившую также мастерской. Он поставил стул у стены, усадил ее и стал холст за холстом, с промежутком в минуту-две, прислонять к противоположной стене. Мне показалось, что она ожидала увидеть что-то более поверхностное, менее серьезное и талантливое. Когда я рассказал ей о коллажах на выставке поп-арта, ставшего тогда последним криком моды, она беззвучно пошевелила губами, считая, и произнесла: «Пятый раз на моей памяти», – возможно, к чему-то подобному она приготовилась и сейчас. Показывая картины, Целков болтал со мной, а она изредка роняла легкие светские реплики, на которые он, делая паузу в нашем разговоре, улыбался. Когда появился «Групповой портрет с агавами», она спросила: «Это какие цветы?» Он немедленно ответил: «Такие же, какие и люди». Она внимательно посмотрела на него, он на нее, потом мы попили чай и уехали. Через несколько дней она сказала: «Поблагодарите вашего друга еще раз». Она любила быстрым росчерком рисовать на первой странице рукописи не то знак, не то букву «а», и это была единственная выходившая из-под ее пальцев – если оставить в стороне почерк – графика. Однажды я пришел на Ордынку, и она, показав на восьмилетнюю внучку Нины Антоновны, игравшую в соседней комнате, рассказала, что та попросила ее что-нибудь нарисовать. «А я, когда она была совсем маленькая, что-то по ее просьбе выводила на бумаге. Но после сегодняшнего художества она вежливо спросила: «Вы разучились рисовать?» Это она научилась».
Книга Рива, «где он требует Нобелевскую премию» для Ахматовой, по-видимому, та самая «Роберт Фрост в России», в которой он описывает их комаровскую встречу.
Меня задержали в больнице еще на несколько дней, и последняя полученная мною там записка была такая:
Толя милый!
сейчас уезжаю с «Легендарной Ордынки». Дала Нине для Вас Леопарди, у меня другой – подарок Лиды Чуковской.
Нина объяснит Вам, почему все хорошо, а я думаю, что
За ландышевый май В моей Москве стоглавой Отдам я звездных стай Сияния и славы…А.
12 мая 1964
Москва
* * *
В конце этого года Ахматова поехала в Рим, оттуда на Сицилию, в Таормин (она так и не решила, как называть город: Таормин, Таормино, Таормина), затем в Катании ей вручили литературную премию. Сопровождать ее должна была Нина Антоновна, которая, пока оформлялись документы, уехала в Минск ставить в тамошнем театре спектакль, – и в сентябре ее разбил неожиданный инсульт. Ахматова тяжело и остро переживала это несчастье, сразу попросила меня слетать в Минск, я звонил ей оттуда, сообщал о состоянии больной. Болезнь приняла затяжной характер, вместо Ольшевской в Италию отправилась Пунина. Я получил за время поездки семь писем (по большей части открыток, вложенных в конверт), телеграмму, разговаривал с Ахматовой по телефону. Однажды в Комарове, когда принесли очередную почту, я сказал про письмо из-за границы, которое находилось в пути чуть не два месяца: «Пешком шло». «И неизвестно, с кем под ручку», – отозвалась Ахматова, как бы вынося эти слова в эпиграф ко всей такого рода корреспонденции.
[Из Рима в Ленинград, почтовый штамп на конверте 7.12.64. Открытка с видом площади Испании.]
Вот он какой – этот Рим. Такой и даже лучше. Совсем тепло. Подъезжали сквозь ослепительную розово-алую осень, а за Минском плясали метели и я думала о Нине.
Во вторник едем в Таормино. Хотят устроить вечер стихов.
Прошу передать мой привет Вашим родителям <···>.
А. Ахматова
[Из Рима в Ленинград, почтовый штамп неразборчив. Открытка с видом площади дел’Эздера.]
Вернулись ли Вы в Ленинград? В среду мы едем в Таормино. Сегодня полдня ездили по Риму, успели осмотреть многое снаружи, но красивее того розового дня на Суворовском ничего не было. Обе здоровы. Ахм.
[Приписка сверху: ] Привет милым ленинградцам.
[Из Рима в Ленинград, почтовый штамп 9.12.64. Открытка с видом Пантеона.]
Жду врача из Посольства. Пусть скажет могу ли я ехать [в] Таормин и пр. Сны такие темные и страшные, будто то, что в Вильнюсе сказала дочка Трауберга – правда.
Где Вы?
Мы еще не знаем дня вручения премии.
Звоните Ане. Пусть меня все помнят.
Ахм.
[Из Рима в Ленинград, почтовый штамп 9.12.64. Открытка с видом фонтана Треви.]
Сегодня был совсем особенный день – мы проехали по via Appia – древнейшему кладбищу римлян. Кругом жаркое рыжее лето и могилы, могилы.
Потом ездили на могилу Рафаэля. Кажется он похоронен вчера. (В Пантеоне.)
Завтра едем в Таормин. Ира две ночи подряд говорила с Аней по телефону.
Ахм.
[Из Таормина в Ленинград, почтовый штамп 10.12.64, письмо пришло, несмотря на перепутанный адрес: вместо «проспекта Карла Маркса» Ахматова написала «Проспект Ленина». Открытка с видом Пантеона ночью.]
«Из Таормина проездом»
Сегодня с утра мы уже в Таорминине [Так!]. Здесь все, о чем я Вам только что говорила. Целый день дремала. Сейчас у меня был Ал-ей Алекс. Он бодр и очень заботлив. Сказал, что г-жа Манцони хочет писать мой лит. портрет. Поэтому просит, чтобы я ее приняла. [Над строкой приписка: ] нужна библиография. Ей очевидно должна заняться Женя. Я так и знала, что Вы загоститесь в Москве. Целую мою Нину в Москве. Привет Вашим.
А.
[Из Таормина в Ленинград, почтовый штамп 11.12.64. Открытка с репродукцией гравюры А.П. Остроумовой-Лебедевой «Крюков канал».]
«Из Таормина проездом, Ахматова»
А вот и наш Ленинград. Я – почти в Африке. Все кругом цветет, светится, благоухает. Море – лучезарное. Завтра – вечер. Буду читать стихи из «Пролога». Все читают на своих языках. У меня уже были журналисты. Грозят телевизором.
Пишу Нине.
Думаю о ней. Всем привет.
А х м.
[Приписка сверху: ] Ира говорит: «Позвоним когда вернемся в Рим».
[Приписка сбоку: ] Покупайте воскресную «Униту».
[Из Таормина в Ленинград, почтовый штамп 12.12.64.]
А сегодня для разнообразия, вместо открытки – письмо.
Вечером в отеле стихотворный концерт. Все читают на своих языках. Я решила прочесть по тексту «Нового мира» три куска из «Пролога», о чем, кажется, уже писала Вам.
Завтра вручение премии в торжественной обстановке – в Катанье, потом опять Рим и… дом.
Все, как во сне. Почему-то совсем не трудно писать письма. Вероятно, меня кто-нибудь загипнотизировал. Врач дал чудесное лекарство и мне сразу стало легче. Как моя Нина? – Чем бы ее потешить…
Надо думать – Вы уже в Ленинграде. Прошу Вас передать мой привет Вашим родным. Сейчас ездила смотреть древний греко-римский театр на вершине горы.
Позвоните Ане и скажите, что мы с Ирой живем дружно и она чувствует себя хорошо.
Будем звонить из Рима
А.
[Телеграмма: ] Из Катании 14.12.64 в Ленинград. tous va bien demain partons pour Rome Achmatova (все благополучно завтра уезжаем в Рим Ахматова)
Как-то раз Ахматова попросила меня отвезти письмо Суркову. Я предварительно позвонил ему по телефону – оказалось, он за границей. «Ну, значит, скоро вернется, – сказала Ахматова. – Это раньше за границу уезжали надолго, а сейчас две недели – и назад». Такая же была и ее поездка.
Ей предшествовала встреча в Москве с Джанкарло Вигорелли, председателем Европейского литературного сообщества, кажется, им самим и организованного. Ахматова принимала его на Ордынке: на ордынском совете решено было, что удобнее и эффектнее всего сделать это в «детской», полулежа на кушетке. Она надела кимоно, припудрилась и прилегла, опираясь на руку, – классическая поза держательницы европейского салона, мадам Рекамье и др. – на что-то в этом духе и был направлен замысел сценария; плюс сразу возникшее сходство с рисунком Модильяни, неожиданное. Кимоно было новое, может быть, уже то, которое прислал брат Виктор из Америки; кроме него ее гардероб украшали – как домашнее, и одновременно слишком парадное для домашнего, платье – еще одно-два старых, чтобы не сказать ветхих, давнего происхождения. Возможно, этот стиль начался с Пунина, с его поездки в Японию; о визитах к ней японцев-переводчиков упоминалось мимоходом – за исключением одного, который произвел на нее сильное впечатление. Это был переводчик Полного собрания сочинений Толстого, она из вежливости спросила его, переводил ли он еще кого-нибудь из русских, он ответил: «Да, всего Достоевского».
Я выглянул в окно и увидел топчущихся в пустом дворе, разглядывающих номера подъездов двух толстячков, по виду иностранцев. Я спустился, спросил по-французски, кого они ищут, и показал дорогу. Один просиял, другой оглядел меня неприязненно, он был наш – сопровождающее лицо, из Союза писателей. Вигорелли вошел в комнату, остановился в дверях, картинно отшатнулся, картинно раскинул руки, воскликнул: «Анна!» Она подняла ладошку, легонько помахала ею в воздухе и произнесла не без строгости: «Привет, привет». Он поцеловал ей руку, сел на стул и заговорил сразу деловым тоном.
Литературное предприятие синьора Вигорелли было просоветского направления, если не прямо коммунистическое. Союз писателей, возглавлявшийся тогда Сурковым, искал случая подружиться – не теряя собственного достоинства – с «реалистически мыслящими» литераторами Запада. Недавний скандал с Пастернаком затруднял сближение, желательное и той и другой стороне. Ахматова оказалась фигурой, хотя и вызывавшей претензии тех (не левая – не революционна, как сформулировал Пазолини) и других (не советская и все прочее), но идеальной для создавшейся коллизии («Реквием», гонимость и вообще несоветскость – для них; патриотизм и неконтрреволюционность – для нас; ранг, авторитет и известность – для всех). Однако то, что «Ал-ей Алекс.» (Алексей Александрович – Сурков) «очень заботлив», вовсе не означало, что он был заинтересован сохранить привезенный товар в лучшем виде и больше ничем. С Ахматовой его связывали долгие и не схематичные – начальник-подчиненная – отношения. Он напечатал цикл ее верноподданнических стихов после Постановления и второго ареста сына – и он же искал ее одобрения своим стихам, говоря о себе: «Я – последний акмеист». Он издал после многолетнего перерыва первый со времени Постановления сборник ее стихотворений, прозванный по причине темно-красного переплета и «официального» шрифта «Манифестом коммунистической партии», – жутковатую книжку, со стихами о мире (которые она, даря экземпляр, заклеивала автографами других своих стихотворений), с многочисленными безликими ее переводами, – но издал. У него она могла попросить за кого-то, похлопотать о чьей-то жилплощади, он был ее начальство, вполне ее устраивающее. Время от времени она за глаза называла его снисходительно-ласковой кличкой домашнего, но не вполне выясненного происхождения – «Сурковер». Она написала, что он был «бодр», но, когда я читал письмо первый раз, я прочел «добр», и это показалось мне нормальным.
Поездка была короткой, Рим не успевал заслонить Ленинград, Аппиева дорога – Крюков канал, Пантеон – Суворовский проспект. Выделенное в письме отточием созвучие «Рим и… дом» это не только ахматовская шутка-рифма Roma – дома и вывернутый наизнанку Urbis – Orbis, а как будто из опыта добытое знание, сообщаемое на потом еще не умудренному жизнью адресату, что Рим-мир меньше дома, что дом, во всяком случае к концу жизни, не говоря уже о доме последнем, заключает в себе и все Римы, и весь мир.
В Италию, так же как через полгода в Англию, она ездила поездом. Ей вообще нравились путешествия по железной дороге – отчасти потому, что их характер да и само существо почти не изменилось с начала века, когда она путешествовала легко и много, разве что скорости сколько-то возросли. Она вспоминала, как возвращалась из Киева в Петроград в 1914 году перед самой войной через Москву: «Приехала в Москву утром, уезжала вечером, видеть никого не хотелось, с вокзала поехала на извозчике к Иверской, помолилась, потом весь день ходила по улицам, было так хорошо быть никем». В воспоминании, как и во всех других такого рода, не появлялось и тени тягот передвижения, не только всегда рассказчиками красочно описываемых, но и действительно составлявших чуть не все содержание путешествий того и последующих времен. «Что может быть приятнее поездки через зимнюю Финляндию в комфортабельном русском вагоне! Образец уюта», – сказала она в один из невеселых морозных дней в Комарове, когда серая влажная стужа пронизывала до костей. В последние годы, однако, переезды давались ей все труднее, главным образом из-за болезни сердца. За час до выхода из дома появлялись симптомы Reisefieber, предотъездной лихорадки, иногда случался сердечный приступ. Ездила она только с какой-нибудь близкой знакомой или свойственницей. На вокзал прибывали задолго до подачи поезда к перрону. Как-то раз сидели в зале ожидания на Московском вокзале в Ленинграде, и сопровождавшая ее Стенич-Большинцова вспомнила, как они с мужем провожали Мандельштама и тоже приехали раньше времени; в зале стояла пальма в кадке, Мандельштам повесил на нее свой узелок и произнес: «Одинокий странник в пустыне». Кто-нибудь из молодых назначался ответственным за ахматовский багаж, кто-то постоянно находился возле нее с нитроглицерином под рукой – другой флакон с нитроглицерином всегда лежал у нее в сумочке. Шла к вагону она медленно, опираясь на чью-нибудь руку, и время от времени останавливалась отдохнуть. Я часто бывал или провожающим, или встречающим – главное было идти не торопясь. Однажды летом 1965 года мы решили поехать из Москвы в Ленинград вдвоем дневным сидячим поездом. Ее провожало несколько человек. Надежда Яковлевна Мандельштам, то забегая вперед, то приотставая, отпускала по поводу происходящего язвительные замечания, смысл которых, собственно, и заключался в язвительности. Под конец, когда мы вошли в вагон, она оглядела кучку провожающих и заметила между прочим: «Когда я уезжала из Пскова, на перроне стояло двести человек». Ахматова ничего этого, по тогдашней свой тугоухости, не слышала. В Ленинград мы приехали веселые, за окном по платформе бежали встречающие, впереди всех – с пышным букетом у груди – летел в нескольких сантиметрах над перроном Роман Альбертович, артист Ленконцерта.
Она читала Эйнштейна, понимала теорию относительности, к достижениям же техники относилась довольно сдержанно. К лифту – неприязненно, но терпимо; пишущую машинку, особенно в союзе с копировальной бумагой, терпеть не могла. Вспоминала, как в Гаспре в 1929 году физики или астрономы издевались: «Анне Андреевне бинокль в руки не давайте, взорвется». Лишь автомобиль пользовался безоговорочным признанием. Как-то раз наше такси остановилось у бензоколонки рядом с новеньким сверкающим «Мерседесом», я сказал: «Красиво, правда?» Она ответила пренебрежительно: «Вам в самом деле нравится? У вас буржуазный вкус. Она, наверное, еще из этих современных говорящих: «Залейте бензин, он на исходе!», «Снизьте скорость, не оставьте своих детей сиротами!» Бр-р!» Ей нравилось, когда даже малознакомые владельцы машин приглашали ее прокатиться на автомобиле; довольно часто она находила повод вызвать по телефону такси поехать куда-то за чем-то, а иногда без повода: «Давайте прокатимся». Именно о таком бесцельном катании розовым днем – хотя у меня остался в памяти зеленовато-розовый летний вечер – по Суворовскому проспекту она напоминает в письме. «Вы знаете фокус со Смольным? Если медленно ехать по площади мимо собора, он начинает кружиться, а угол зрения остается один и тот же. Я вам сейчас покажу», – сказала она и попросила шофера повернуть с Невского на Суворовский. А в письме в больницу: «мы еще поедем и к березам и к Щучьему Озеру» – это напоминание о других автомобильных прогулках.
Однажды Наталья Иосифовна Ильина предложила Ахматовой, а Ахматова мне, выехать на час из Москвы. Был бессолнечный день поздней осени, Ильина повернула на Рублевское шоссе и остановила машину на опушке березовой рощи, облетевшей, ослепительно-белой, сплошь из высоких и как будто по чьему-то замыслу расставленных стволов. Ослепительность при этом смягчали, гасили беловатое небо и воздух, подкрашенный прямым и отраженным от берез дневным светом. Было тепло и невероятно тихо. Мы погуляли по опавшей листве и поехали обратно в город. Подозреваю, что ахматовская запись о березах: «огромные, могучие и древние, как друиды» и «как Пергамский алтарь» – возникла после этой прогулки. На Щучье же озеро в трех километрах от ее комаровского дома ездили не один раз, и по крайней мере один раз с Ильиной: четвертым тогда был Бобышев. Мы с ним выкупались, Ахматова посидела на пне, Ильина побродила по берегу, потом все погрузились в автомобиль, Н.И. стала разворачиваться, и тут Бобышев заговорил – в почти куртуазной, в общем, несвойственной ему манере, с паузами и эканьем, – что вот, мол, он, не позволяя себе и в мыслях вмешаться в процесс вождения и так далее, и так далее, хочет только любезно обратить любезное внимание водительницы на то, что заднее колесо, над которым он сидит, по-видимому, приближается к… Она ударила по тормозу на мгновение раньше того, как я крикнул: «Яма!» Мы втроем выскочили из машины: колесо висело над метровым обрывом, другое остановилось на самом краю. С великими предосторожностями мы откатили машину от ямы – Ахматова беззаботно и торжественно сидела внутри. Когда все было позади, я поинтересовался у Бобышева, почему он так длинно говорил, – ответила Ахматова: «Что за вопрос? Так человек устроен». Смеясь, она рассказала мне в другой раз, как Бобышев, выслушав от нее комплимент моим последним стихам, сказал угрюмо и многообещающе: «Я мог бы предъявить Толе ряд упреков». «И на том замолчал навеки. Это мне напомнило мальчика Валю Смирнова: он был мой сосед по пунинской квартире, погиб в блокаду. Он заглядывал ко мне в комнату и объявлял: «Сегодня вечером будет кино». Из этого ровно ничего не следовало. То есть ровно ничего: так ему требовалось для какой-то его игры». Потом прибавила: «Кроме этой, он говорил еще одну прелестную вещь. Я с ним занималась французским, учила: le singe – обезьяна, лё сэнж, повтори. Он убегал из комнаты, потом просовывал в дверь голову, спрашивал: «Люсаныч – годится?» – и опять убегал». (Она могла, прочитав гостю свои новые стихи и слыша его восторженное бормотанье, вдруг произнести: «В общем, люсаныч годится?»)
В переделку, по-настоящему серьезную, попали мы с ней среди бела дня на Гороховой. Она хотела успеть в сберкассу, времени же оставалось в обрез: начинался «ахматовский час» – так назывался час обеденного перерыва в учреждениях, необъяснимо начинавшийся как раз в ту минуту, когда туда приезжала Ахматова. Таксист, молоденький парень, желая нам помочь, гнал отчаянно, хотя улицы были узкие и забиты транспортом. Обгоняя колонну грузовиков и троллейбусов, мы выскочили на крутой мостик через Мойку – и оказались лоб в лоб со встречной полуторкой. Наш шофер рванул руль влево, мы вылетели на левый тротуар, к счастью, пустой, и тут же, круто взяв вправо, снова втиснулись в свой ряд. Маневр был выполнен на большой скорости, так что подробности мы осознали с некоторым опозданием, но, осознав, мгновенно как-то обмякли. Мы – это шофер и я: Ахматова поморщилась от тряски и вновь сидела прямая, невозмутимая, глядя вперед. Тотчас нашу машину взяли в кольцо другие, водители которых видели наш вольт. С искаженными от пережитого страха и возмущения лицами, они все, как один, кричали, что наш шофер пьян. Я попробовал за него вступиться, мне бросили: «Ты благодари Бога, что жив». Решили везти нашу машину – вместе с нами – в ближайшую милицию. Только тут Ахматова пошевелилась, повернулась к ним, выглянула в окно и произнесла: «В таком случае наша поездка потеряет смысл». Внешность была так внушительна, тон так неожиданно спокоен и убедителен, что пробка стала рассасываться: мы успели минута в минуту.
Среди «катавших» Ахматову ленинградцев особое место заняла Ольга Александровна Ладыженская, известная математичка, которую Ахматова рекомендовала гостям случайным как Софью Ковалевскую наших дней, а близким – пародируя нескладную грамматически формулу «женщина-математик» – как «собаку-математика». Ей посвящено стихотворение «В Выборге», возникшее в результате забавного стечения обстоятельств. Обычно маршрут автомобильной прогулки пролегал вдоль Финского залива, не далее Черной речки, где была могила Леонида Андреева, – именно одну из таких прогулок воспела Ахматова в «Земля хотя и не родная». Но чаще она просила остановить машину между 60-м и 70-м километрами Приморского шоссе, где был дикий, усеянный огромными гранитными валунами, безлюдный берег. Однажды, правда, это безлюдье, тишина и неподвижность оказались рисунком на коробочке, из которой выскакивает чертик. Ахматова и я вышли из машины и медленно двинулись вдоль живой изгороди, почти сплошь состоявшей из бурно цветущего шиповника. Ладыженская закрыла двери и пошла вслед за нами. В это мгновение из узкого прохода между кустами выступила средних лет дама и, задохнувшись, проговорила: «Здравствуйте, Анна Андреевна, скажите, как здоровье Льва Николаевича?» К тому времени Ахматова уже несколько лет не видела сына, жившего в Ленинграде. «У него отменное здоровье, благодарю вас!» – отчеканила она, круто повернулась и, как могла быстро, пошла к автомобилю… В Выборг, однако, ее свозила не Ладыженская. Меня навестил московский приятель, который проезжал на автомобиле через Ленинград. Я предложил Ахматовой прокатиться. Мы выбрали красивую дорогу, соединявшую Приморское и Выборгское шоссе, и, не торопясь, ехали по ней. Внезапно кому-то в голову пришла мысль отправиться в Выборг. Она согласилась, и началась головоломная гонка, потому что к ней вскоре должен был прийти гость, а до Выборга было больше 120 километров. Со скоростью 100 и быстрее мы примчались в Выборг, покрутились возле парка и причала, не выходя из машины, съели по эскимо и так же стремительно вернулись. Она сказала только: «Средней силы населенный пункт…» Через несколько дней Ладыженская, навестив Ахматову, рассказала, что она съездила в Выборг, как там было прекрасно и какое впечатление на нее произвел гранитный монолит, ступенями уходящий под воду. Ахматова посмотрела на меня с притворной сокрушенностью и обидой и сообщила гостье, что мы ничего такого там не заметили. Через день, если не на следующий, ею были написаны стихи «Огромная подводная ступень» и так далее, с посвящением Ладыженской.
В последний раз по Москве мы поехали кататься в феврале 1966 года, вскоре после ее выписки из больницы, дней за десять до смерти. Было морозно, садилось солнце. Попросили шофера отвезти нас к Спасо-Андроникову монастырю. Такси было старое, дребезжало, воняло бензином. Улица, ведущая к монастырю, оказалась закиданной глыбами льда, видимо, недавно сколотого, машину стало трясти. Ахматова поморщилась, взялась рукой за сердце, я велел возвращаться на Ордынку. Она пососала нитроглицерин, шофер стал огибать белую монастырскую стену. Продолжая держаться за грудь, она сказала: «Могучая кладка, на века». А в одну из первых поездок по Москве мы спускались с Большого Каменного моста, и машина поравнялась с тремя страшными черными многоэтажными домами возле «Ударника». Многие их жильцы были расстреляны в годы террора. «А за то, что люди должны каждый день видеть этот ужас, – сказала Ахматова, – архитектора не надо расстрелять, как вам кажется?»
3 марта 66-го года Ахматова с Ольшевской отправились в домодедовский санаторий под Москвой. Ехали двумя машинами, пригласили медсестру из отделения, где лежала Ахматова. Доехали, несмотря на сравнительно длинную дорогу и поломку в пути, без приступа. Санаторий был для привилегированной публики, с зимним садом, коврами и вышколенным персоналом. К желтому зданию вели широкие ступени полукругом, упиравшиеся в белую колоннаду. Мы медленно по ним поднялись, она огляделась и пробормотала: «L’année dernière а́ Marienbad». «В прошлом году в Мариенбаде» Роб-Грийе была чуть ли не последней книгой, которую она прочла.
В письмах из Италии, так же как в московских, часты упоминания о том, что она спала: «я сонная и отсутствующая», «сны такие темные», «целый день дремала». Конечно же, это объясняется возрастом и состоянием здоровья, но не только этим. В то время ей на глаза попалось… – надо немного отступить: в то время я читал стихи Йейтса… – и еще немного: в то время мне подарили книжку Йейтса – и в результате соединения этих как будто случайностей ей на глаза попалось – если про стихотворение, прочитанное Ахматовой, вообще можно говорить: попалось, – его «When you are old and gray and full of sleep», «Когда ты старый и седой и сонный», которое я тогда же пытался переводить. С тех пор всякая реплика о сонливости стала ссылкой на эти стихи. Но, кроме того, почти всякий сон, по крайней мере, думаю, что всякий, о котором она упоминала, был сновидением, и «дремала» в сочетании со «сны такие темные и страшные» больше похоже на «грезила» (английское «dream»), чем на «поспала». А «то, что в Вильнюсе сказала дочка Трауберга», Наталья Леонидовна, было тогда расхожей темой в кругу молодежи, настроенной связывать свои представления об аде и рае с моралью, в частности с моралью ничего не подозревавших их знакомых и полузнакомых, решая, кто из них ангел, кто демон.
* * *
Толя,
вот и моя московская зима пришла к концу. Она была трудной и мутной. Я совсем не успела ничего сделать и это очень скучно.
Теперь думаю только о доме. Пора!
Надо платить за Будку и получать пенсию.
А по Комарову уже бродят «морские белые ночи», кричит кукушка и шуршат сосны. Может быть там ждет меня книга о Пушкине.
Привет всем.
Анна Ахматова.
Письмо не датировано и помещено здесь, то есть после итальянских, условно. Память о подробностях его получения смешалась с позднейшей – о том, как я перечитывал его в первый раз через несколько лет после ее смерти, какую близость с «Приморским сонетом» находил, наполняя новым, прощальным, содержанием слова «дом», «пора!», как гадал, намеренно она первоначально написала вместо «мутной» – «мудрой», то есть еще чему-то ее научившей, и потом исправила, или это была описка. Есть достаточно аргументов в пользу того, что оно было написано весной и 1964 года, и 1963-го, и 1965-го – есть доводы и против каждого из них.
В этих трех зимах больше было сходства, чем различий: переезды с места на место, два картонных чемодана с рукописями, звонки из редакций с предложением что-то чем-то заменить, издание «Бега времени», непомерно растянувшееся, недомогания, болезни и – гости, визитеры, реже приемы, еще реже поездки к кому-то с визитом. Не нам судить, насколько светской сочли бы Ахматову светские дамы 10-х годов, о которых она вспоминала без восторга, но в наших глазах ее светскость, лишенная фона для сравнений, была образцовой, а в глазах дам 60-х – даже чрезмерной, в ущерб искренности. На самом же деле светскость – как раз тот инструмент, который дозирует искренность, как и все прочие реакции на происходящее, в точно выверенном соответствии с происходящим, и всегда быть искренним – столько же недостаток, сколько достоинство. Другое дело, что светскость как ритуализированное раз навсегда поведение, внешность, манеры могла привести к почти полной искусственности общения, и Ахматова, говоря о некоторой засушенности петербургских дам, одетых по моде двадцатилетней давности, противопоставляла им крупных, крепких, с грубыми чертами лица фрейлин двора – возмутительно непохожих, с другой стороны, на смазливых стройненьких барышень, какими их изображали в голливудских фильмах. Когда она захотела познакомиться с моими родителями и они навестили ее в Комарове, то по прошествии двух или трех недель я неожиданно услышал от нее фразу, смутившую меня старомодностью: «Узнайте у ваших родителей, когда я могу отдать им визит». Я узнал, привез ее, опять ей пришлось подниматься на пятый этаж без лифта, она завела легкую беседу, посидела недолгое время за столом, и мы уехали. Когда же они приезжали к ней, отец, дорогой спрашивавший меня, любит ли она стихи Есенина, а также сравнение Львом Толстым поэзии с пахарем, приседающим на каждом втором или третьем шаге, и получивший в обоих случаях ответ, что нет, не любит, объявил, едва войдя на дачу, что его любимый поэт – Есенин, написавший «Ты жива еще, моя старушка», после чего прочитал несколько строф этого стихотворения, и что он согласен с Толстым, что поэзия – это пахота с приседанием на втором или третьем шаге. На оба выпада она произнесла только: «Да-да, я знаю», а когда я проводил их на станцию и вернулся, сказала: «Ваш отец очаровательный человек».
Вообще же тем, кто приходил к ней впервые, было самым недвусмысленным образом страшно переступить порог. Мои знакомые в коридоре шепотом упрашивали меня не оставлять их с глазу на глаз с нею – это забавляло ее и сердило. За долгие годы сложился и отлился в точную, завершенную форму обряд приема более или менее случайных посетителей. «Уладьте цветы», – говорила она кому-нибудь из домашних, освобождая гостя от букета, и ему: «Благодарю вас». Затем: «Курите, не стесняйтесь, мне не мешает – я сама больше тридцати лет курила». Когда время визита, по мнению гостя, истекало и он собирался уходить, она спрашивала: «А который час?» – и в зависимости от ответа назначала оставшийся срок – услышав, например, что без четверти восемь, говорила: «Посидите ровно до восьми». Когда же решала, что визит окончен, то без предупреждения подавала руку, благодарила, провожала до двери и произносила: «Не забывайте нас». Молодых, с кем была хорошо знакома, напутствовала: «Ну, бегайте». Разговаривать с ней по телефону было невозможно – посередине твоей фразы раздавалось: «Приезжайте», – и вешалась трубка.
В беседе всегда была самой собой, произносила фразы спокойным тоном, предельно ясно и лаконично, не боялась пауз и не облегчала, как это принято, ничего не значащими репликами положение собеседника, если ему было не по себе. К тому, что приходят из любопытства или тщеславия, относилась покорно, как к неизбежному, и бывала довольна, если во время такого визита возникало что-нибудь неожиданно интересное. Некоторые решались прийти к ней просто поделиться горестями, чуть не исповедаться – и уходили утешенные: хотя она говорила мало. В больницах, узнав, кто она, к ней подходили советоваться – соседки, нянечки; начало у всех было одно и то же: «Ну, с мужем я не живу уже три месяца», – разница была в сроках. Как правило, одинаковый был и конец: «Скажите, будет когда-то ей, разлучнице, так же худо, как мне сейчас?» Ахматова отвечала: «За это я вам ручаюсь, тут можете не сомневаться».
В ее стихах юмор редкость, а в разговоре, особенно с близкими, она часто шутила, и вообще шутливый тон всегда был наготове. Иногда она намеренно сгущала краски, описывая какое-то событие, какое-то свое дело, – ей предлагали тот или иной выход, она говорила: «Не утешайте меня – я безутешна». Негодовала из-за чего-то, ее пытались разубедить – это называлось «оказание первой помощи». Ей советовали что-то, что было неприемлемо, она произносила иронически: «Я благожелательно рассмотрю ваше предложение». Ольшевская жаловалась на нее, что вот, столько дней безвыходно просидела дома, не дышала свежим воздухом, она добродушно защищалась: «Грязная клевета на чистую меня».
Она смеялась анекдотам, иногда в голос, иногда прыскала. Вставляла в разговор центральную фразу из того или другого, не ссылаясь на самый анекдот. «И как правильно указывает товарищ из буйного отделения…»; «Сначала уроки, випить потом…»; «То ли, се ли, батюшка, а то я буду голову мыть…». К пошлости была нетерпима, однажды сказала, возмутившись: «Все-таки есть вещи, которые нельзя прощать. Например, “папа спит, молчит вода зеркальная”, как недавно осмелились при мне пошутить. А сегодня резвился гость моих хозяев: “Отчего Н. лысый – от дум или от дам?”» Терпеть не могла и каламбуры, выделяя только один – за универсальное содержание: «маразм крепчал». Однажды сказала: «Я всю жизнь была такая анти-антисемитка, что когда кто-то стал рассказывать еврейский анекдот, то присутствовавший там X. воскликнул: “Вы с ума сошли – как можно, при Анне Андреевне!”» Как-то раз я к случаю вспомнил такой: один пьяный спрашивает другого: «Ты Маркса знаешь?» – «Нет». – «А Энгельса?» – «Нет». – «А Фейербаха?» – «Але, отстань: у вас своя компания, у нас своя». Ей было смешно. Через несколько дней я приехал в Комарово, и она рассказала, что поэт Азаров приводил к ней поэта Соснору. Я тотчас отозвался: «У вас своя компания, у нас своя». Она рассмеялась, но без промедления парировала: «Да? И кто же ваша компания?»
Очень хорошо знала и любила Козьму Пруткова, не затасканные афоризмы, а например: «Он тихо сказал: «Я уезжаю на мызу», – и на всю гостиную: «Пойдем на антресоли!» «Пойдем на антресоли» говорилось, когда Ахматовой нужно было уединиться с кем-нибудь из приятельниц. Признавалась в любви к стихам Ал. К. Толстого, не только в нежной, с ранней молодости, к «Коринфской невесте», первую строфу которой «свирельным» голосом читала наизусть:
Из Афин в Коринф многоколонный Юный гость приходит незнаком; Там когда-то житель благосклонный Хлеб и соль водил с его отцом; И детей они, В их младые дни, Нарекли невестой и женихом, —но и в обычной «читательской» к «Балладе о камергере Деларю» и «Сну Попова» и декламировала скороговоркой:
Тут в левый бок ему кинжал ужасный Злодей вогнал, И Деларю сказал: «Какой прекрасный У вас кинжал!» —и торжественно:
Мадам Гриневич мной не предана! Страженко цел, и братья Шулаковы Постыдно мной не ввержены в оковы!Считается, что сатира чужда поэзии Ахматовой, хотя в 30-е годы она сочинила вариации на известную русскую стихотворную тему «Где же те острова», из которых я запомнил строфу:
Где Ягода-злодей Не гонял бы людей К стенке, А Алешка Толстой Не снимал бы густой Пенки…(разумеется, о современном ей А.Н. Толстом).
В обиходе она нередко как приемом пользовалась произнесением вслух – от декламации до проборматывания – чьих-то известных строчек, как правило парадоксально подходящих к месту. Например, ища запропастившуюся куда-то сумочку, могла сказать из любимого ею «Дяди Власа», переменив некрасовскую интонацию: «Кто снимал рубашку с пахаря? Крал у нищего суму?» (Власу худо; кличет знахаря, – да поможешь ли тому, кто снимал рубашку с пахаря, крал у нищего суму?) – причем поощряла скорее утилитарное и даже свойское отношение к стихам, чем трепетное, как к священному тексту. Некрасов был употребителен в таких случаях особенно: «Не очень много шили там и не в шитье была там сила» – из «Убогой и нарядной»; или: «Хоть бы раз Иван Мосеич кто меня назвал» – из «Эй, Иван» (Пил детина ерофеич, плакал да кричал: «Хоть бы раз Иван Мосеич кто меня назвал!..»). Последнее – жалобно, наравне с «Фирса забыли, человека забыли!» из нелюбимого «Вишневого сада» – когда собиралась куда-то ехать, шофер вызванного такси уже звонил в дверь, поднималась суматоха, внимание провожавших сосредоточивалось на том, «все ли взято»; нитроглицерин, сумочка, если нужно – чемоданчик, а она, в пальто, в платке, с палкой в руке, садилась в коридоре на стул и приговаривала: «Фирса забыли». В ее стихи попадал другой, общественный, обличительный Некрасов, прочитанный «в сознательном возрасте», чью «кнутом иссеченную музу» Ахматова превращала в «музу засекли мою»; а этот, с маминого голоса, с детства, домашний, шел на домашние нужды: члены «Цеха поэтов», развлекаясь, читали «У купца у Семипалова живут люди не говеючи» в переводе на латынь: «Heptadactylus mercator servos semper nutrit carne». Это легкое и веселое обращение со стихами она распространяла и на собственные: переодевшись в ожидании гостей, выносила из своей комнаты затрапезное кимоно и совала его в руки кому-нибудь из домашних со словами: «Ах, милые улики, куда мне прятать вас?» (он дал мне три гвоздики, не поднимая глаз: ах, милые улики, куда мне прятать вас?)
Она шутила щедро, вызывая улыбку или смех неожиданностью, контрастностью, парадоксальностью, но еще больше – точностью своих замечаний и никогда – абсурдностью, в те годы входившей в моду. Она шутила, если требовалось – изысканно, иногда и эзотерично; если требовалось – грубо, вульгарно; бывали шутки возвышенные, чаще – на уровне партнера. Но никогда она не участвовала в своей шутке целиком, не отдавалась ей, не «добивала» шутку, видя, что она не доходит, а всегда немного наблюдала за ней и за собой со стороны – подобно шуту-профессионалу, в разгар поднятого им веселья помнящему о высшем шутовстве. Она буквально расхохоталась однажды на райкинскую реплику: «Потом меня перебросили на парфюмерную фабрику, и я стал выпускать духи “Вот солдаты идут”». И с чувством и как о чем-то немаловажном и неслучайном рассказывала позднее, что Райкин, во время ее оксфордского чествования находившийся в Англии, не то приехал поздравить, не то дал телеграмму: она была признательна за внимание, но рассказ строился так, что то, что он знаменитость, отступало на дальний план, а на передний выходило, что вот – королевство, королева, королевский шут… И тут же – снижая сказанное: «А Вознесенский – тоже откуда-то из недр Англии – прислал по этому случаю свою книжку: «Многоуважаемой…» и так далее, а потом сверху еще «и дорогой» – совершенный уже Карамазов: «и цыпленочку»».
Подобное отношение проявлялось у нее и ко всему вообще бытовому: между «бытом», «делами», с одной стороны, и «величием замысла», с другой, существовало равновесие, подвижное, хрупкое, стрелка которого иногда смещалась в направлении «быта», и тогда жизнь становилась «трудной и мутной» и бывало «очень скучно», а иногда к «величию» – и становилась ясной, сама себя выстраивая из множества разрозненных наблюдений, «книга о Пушкине», и все, от пронзительного скрипа колодезного ворота до стука в дверь, на который она не отозвалась, потому что недослышала, оказывалось стихами, «Полночными», из «Пролога» или из много лет назад начатых циклов и книг. Вот две записки с поручениями, которые она мне давала, – первую, когда в очередной раз я ехал в Ленинград, вторую – в Москву.
I. «День Поэта» Ленинградский 1963 г. (там,
где моя поэма) и всю поэму из дома.
II. Узнать по какой день заплочено в «Дом
Творч.»
III. П-и-с-ь-м-а.
IV. Откуда Аня знает про Эмму?
V. Привезти письма, кот. написал Адмони
(нем.) на подпись мне.
VI. Мое радио.
VII. Сообщить кто и когда приедет?
VIII. Привет Фаусто.
Аня – Каминская, Эмма – Герштейн; Адмони – Владимир Григорьевич, один из близких знакомых Ахматовой, крупный германист и поэт, о котором, процитировав строчки его стихов «Кровь шумит у меня, как у всех, кто один на один с темнотою», сказала: «Вот где сейчас поэзия – профессор с мировым именем»; Фаусто – Малковати, миланец, в те дни начинающий, впоследствии известный литературовед, специалист по Вячеславу Иванову и по советскому театру 20-х годов.
Толе в Москву
1. Кацнельсон. Леопарди в «Неделю» (Эткинд – предисловие…. 2. Егип. переводы я просила Вас узнать.
…………………….
2. Моя книга переводов: «Голоса друзей». Когда гонорар? Деньги на Ордынку. Данные по сберкн. у Ники
…………………….
«Азия Африка сегодня». Проверить.
…………………….
Модильяни. Взять у Харджиева его текст к «Моди»
…………………….
«Юность» и про себя и про меня (Пушкин?)
…………………….
Лида узнать, что написал Корнею обо мне – -
Передать три мои фото для Коновалова
…………………….
Нине – духи
…………………….
Приветы и любовь:
нашей Гале
Марусе и Арише
Любочке
Нике, Юле, Оле
Ѳеде
R. – идиоту
Кацнельсон был ответственным редактором «Египетской лирики». Леопарди, ни с, ни без предисловия Ефима Григорьевича Эткинда, в «Неделе» не пошел. С Николаем Ивановичем Харджиевым, замечательным искусствоведом и историком литературы, Ахматова дружила с 30-х годов. Лида – Чуковская, Корней – Корней Иванович Чуковский, ее отец. Коновалов – известный славист, профессор Оксфордского университета, а обозначенный пунктиром – Исайя Берлин, Нина – Ольшевская; Галя – Галина Михайловна Наринская, впоследствии моя жена; Маруся – Петровых, Ариша – ее дочь; Ника – Глен, Юля – Юлия Марковна Живова, редакторша польской литературы в Гослитиздате, Оля – Ольга Дмитриевна Кутасова, редакторша югославской литературы там же, θедя – ее только что родившийся сын. R – «Реквием», а идиот – владелец не то машинописи, не то мюнхенского издания, приславший его по почте, то есть прямо под перлюстрацию, с просьбой об автографе.
Запись об оплате путевки в «Дом творчества» и стихи о «заповеднейшем кедре» под его окнами соседствовали в ее дневнике и уравновешивали друг друга в ее реальной жизни так же, как припомненный по ходу веселого застолья «Камергер Деларю», намеренно безынтонационное проговаривание, исключительно для развлечения гостей: «Тут в левый бок ему кинжал ужасный злодей вогнал», – с отчетливо выделенной ею в ровной беседе репликой об особом значении в ее поэзии стихотворения «Углем наметил на левом боку место, куда стрелять». Точно так же естественно и свободно были сбалансированы и дополняли друг друга в ее передаче подлинная цена того или другого человека или произведения искусства и их официальная репутация. Она слишком хорошо знала невидимые для публики пружины, действовавшие в создании чьей-то, и своей собственной, славы или бесславия, чтобы обольщаться по поводу присуждения какого-то звания или премии. Когда я, развернув газету, спросил, главным образом риторически, за что это такому-то дали Ленинскую премию по литературе, она буркнула судейское: «По совокупности», – а когда я, с молодым задором, заметил, что «все-таки это безобразие», она довольно резко меня оборвала: «Стыдитесь – их премия, сами себе и дают». И если свою итальянскую «Этну-Таормину» и свою оксфордскую «шапочку с кисточкой» она подавала достаточно серьезно, то в этом было куда меньше тщеславия и прочих извинимых слабостей, чем убежденности в том, что не ей, а другим, верящим в справедливость людям необходимо, чтобы «справедливость восторжествовала» и «Ахматовой было воздано по заслугам». «Когда после войны командование союзников обменивалось приемами, – рассказывала она, – и Жуков верхом въехал в западную зону Берлина, то Монтгомери и Эйзенхауэр, пешие, взяли его лошадь под уздцы и повели по улице. Это был его конец, потому что Сталин воображал, что он въедет на белом коне и те пойдут по бокам от него». «Нобелевка» в ее глазах была этим самым белым конем истинного победителя в изнурительной полувековой войне.
* * *
Ахматова довела до нашего времени свое, которого была одним из создателей, эстетику и лицо которого в значительной мере определяла. Понятие «свое время» сложным образом суммирует более пятидесяти лет, временнóе пространство между 10-ми и 60-ми годами, которое она прошила, простегала траекторией своей судьбы и строчками своих стихов. Точно такие же слова, с поправкой на содержание биографии и поэзии, можно в полной мере отнести и к Пастернаку. Его смерть в 1960 году и ее в 1966-м завершили историю русской культуры первой половины XX века: при их жизни нельзя было не оглянуться на них, нельзя было сказать и поступить так, как стало возможно уже через месяц-два после ахматовских похорон.
Она часто говорила о начале столетия то, что впоследствии записала: «XX век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же как XIX начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют. Несомненно, символизм – явление 19-го века. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми 20 века и не хотели оставаться в предыдущем…» Ее стихи «Мы на сто лет состарились» не только свидетельство об ужасах Первой мировой войны, трагедия которой дала молодым опыт стариков, но и буквальный переход из века в век, то есть вдруг оказалось прожито на век больше. Опоздание на все те же полтора десятилетия отдаляет подлинную середину нашего века от календарной.
Ни ей, ни Пастернаку не требовалось, даже если бы у них было намерение, идти в ногу со временем; ускорение, задаваемое времени истинной поэзией, всегда больше максимального ускорения эпохи, что и делает творчество поэта вневременным. Ожидание чудес от Джека Алтаузена в 20-х годах было перенесено любителями стихов в 50-е годы на другие имена, но Ахматова – Пастернак, по словам не любившей шутить критики, «не сумевшие вовремя умереть», простым наличием в списке, пусть и среди тех, кто прижат к обочине, в сочетании с неучастием в гонке, портили удовольствие уже от самого ожидания и в конце концов сводили объявленные чудеса на нет, в лучшем случае – к трюку. Несмотря на коренную разницу эстетических установок: Ахматовой, писавшей так, чтобы потомки «на таинственном склепе чьи-то, вздрогнув, прочли имена», и Пастернака, писавшего так, чтобы в момент чтения строки́ продолжало быть видно, как сохнут чернила под его рукой, – циркуль для измерения масштаба ее «монументальности» и его «моментальности» был растворен столь широко, что оказывался непригоден для оценки величины других, и те, от кого ждали чудес, наглядно проигрывали в сравнении с ними, попросту выпадали из сравнения. После их смерти все резко переменилось: масштабы, метод измерения, наконец, сами циркули. Переменилась атмосфера.
Вечер, конец дня, конец года, конец века предполагают спад активности, замирание, откладывание дел, мыслей и самой жизни на начало следующего – дня, года, века. В конце-начале половинных сроков все это проявляется в более стертом виде, выражено менее остро, но все же ощущается отчетливо. К середине 60-х годов усталость, накопленная за полвека, усугубленная его катаклизмами и по-новому отяжелевшая после облегчения, полученного от смерти Сталина, дала себя знать в самых разных областях. Силы, которые собирались к началу второй половины столетия, справиться с ней не могли, хотя в свою меру и старались: в частности, поэзия стала уступать место литературе, публицистике, широко – от Евтушенко до Солженицына – понимаемому диссидентству, прозе, а в узколитературном плане – анализу прежде написанных стихов. Но признаки деградации можно было заметить и раньше – в «оттепель» и даже в «расцвет нового интереса к поэзии», как говорила Ахматова в начале 60-х годов. Исподволь демонстрировать их, ненавязчиво, но неоспоримо, удавалось в первую очередь ей самой.
«Стара собака стала», – приговаривала она время от времени, отнюдь не жалуясь и констатируя не только физическую тяжесть прожитых лет, но и невозможность не знать то, что она знала. Она вспоминала запись Вяземского, которую он оставил, прочитав «Войну и мир», то есть уже стариком, – о днях его юности и молодости. Он писал, что «покойному императору», так он называл Александра I, многое можно поставить в упрек, но одного качества в нем не было и следа – вульгарности: он был безукоризненно воспитан и не мог, как описывает молодой граф Толстой, бросать деньги в народ. Не то чтобы она была на стороне Вяземского: когда я однажды сказал, что согласен с каждым его словом в оценке пушкинского «Клеветникам России», она сердито бросила: «А я нет. Верно или нет, но тот сказал, что хотел, во всеуслышанье, а этот – в своем дневнике, велика заслуга». И не шпилькой Толстому, которого она делано свирепо ругала «мусорным стариком» за заведомую неправду об Анне Карениной и вообще за жертвенную приверженность идеям, было ее замечание. Но подобные сопоставления выстраивались, сплошь и рядом без ее желания, в четкие параллели: было – стало. Не брюзжание «было лучше, стало хуже», а: было так – стало не так, а кому что больше нравится – дело вкуса. Она рассказала о жене Стравинского Вере, ослепительной красавице, прозванной петербургскими ценителями красоты Бякой: в эмиграции, в Париже, она открыла шляпную мастерскую; клиентка примеряла перед зеркалом шляпу, и, если сомневалась, Бяка надевала эту шляпу на себя и говорила: «Ну как?» – после чего та немедленно убеждалась, что шляпа изумительно красива, и платила деньги. «Она была настоящая красавица, – сказала Ахматова, – это такая редкость. Вот эта грузинка, жена нашего славного поэта, вы ее видели, она ведь безукоризненно красива – но пронеси бог мимо такой красоты».
В другой раз она вспомнила передававшуюся из уст в уста в 10-х годах, если не в конце 900-х, столичную историю с известной театральной актрисой, возлюбленной художника Коровина. Он был у нее в гостях, когда без предупреждения явилась портниха Ламанова. «А это как если бы сейчас к вам домой приехал сам… – она назвала имя Диора или какого-то другого парижского модного дома, – и даже больше: она была такая одна. Тут уже было не до Коровина. Хозяйка выбежала к ней, что-то на себя накинув, и объяснила это тем, что как раз в ту минуту ее осматривает приехавший с визитом врач. Примерка очень затянулась, Коровину надоело ждать, и он неожиданно вышел в кое-как застегнутой рубашке и с незавязанными шнурками. Актриса находчиво воскликнула: “Доктор, что за шутки!”» И то ли незадолго до, то ли вскоре после этого рассказа Ахматова спросила меня, слышал ли я историю про пудреницу. В конце 50-х – начале 60-х годов московская светская дама, писательница, приходила в гости, предпочитая многолюдные, доставала из сумочки пудреницу, пудрилась и оставляла ее открытой на середине стола. Рассказчики варьировали детали: не оставляла открытой, зато каждую минуту открывала и пудрилась; не на середине стола, а, наоборот, куда-то прятала. В конце концов кто-то обратил на это внимание, заподозрил неладное, как бы случайно сбросил пудреницу на пол – оказалось, что в ней миниатюрный магнитофон. «Так вот, знаете, кто эта дама?» – спросила Ахматова, предвкушая эффект, и произнесла имя одной из своих знакомых, регулярно бывавшей у нее и пусть неискренне, но привечаемой ею. Это было так невероятно, что даже не интересно, и впоследствии я словно бы и помнил и в то же время как бы не знал этого. Интересно было только напрашивающееся сравнение того, что становилось шумной историей тогда и что теперь.
Мой приятель Яков Гордин, в ту пору патриот села Михайловского, попросил меня узнать у Ахматовой, подпишет ли она письмо в защиту места пушкинской ссылки от посягательств строителей, нацелившихся возвести там многоэтажную гостиницу. Я передал Ахматовой просьбу, начал объяснять то, что он объяснил мне, она перебила: «Давайте письмо. Хотя предупреждаю, я выбрана по ошибке, есть любимые народом подписи, знаете – как хвастаются москвичи: «Вчера у нас в гостях были Шостакович, Уланова, академик Капица, Патриарх всея Руси и Юрий Гагарин»». Я сказал, что Гордин хочет зайти сам. Она внезапно продекламировала, засмеявшись:
Литературного ордена Братия, встаньте – горим: Книга Владимира Гордина Вышла изданьем вторым.Я передал приглашение Гордину Якову, передал эпиграмму, Владимир оказался каким-то его дедом. Через полвека предмет безобидной изящной литературной шутки предстал перед Ахматовой борцом за неприкосновенность государственного литературного заповедника.
В одну из сравнительно ранних наших встреч я передал ей содержание монолога, который накануне выслушал от общего знакомого. Он утверждал, что уже созданного искусством вполне достаточно для нынешних нужд; что XX век не предложил ничего по-настоящему нового и если в начале еще снимал пенку с предшествующих, то теперь и этого нет в помине; что в истории такое уже бывало, Рим долгое время пользовался искусством Греции, и множество других известных примеров; что в такой точке зрения нет ничего разрушительного, ибо на смену искусству приходит свободная, вне его рамок, жизнь, скажем, вопль живой кошки в симфонии конкретной музыки; и что если сейчас еще что-то есть, то это в лучшем случае один-единственный кадр в фильме, одна-единственная строчка в поэме. «И это не снобизм, – сказал я, – вы же знаете: он человек весьма просвещенный, все превзошедший…» – «Да-да: невзрачный, но очень талантливый, как про таких говорят, – вступила она. – Именно потому, что просвещенный, это и есть снобизм. Помню, в десятых годах один просвещеннейший молодой человек, вернувшись из-за границы, утверждал, что нельзя сказать, что в Лувре совсем уже нечего смотреть: он нашел там одну штучку. Нет, не живопись – скульптура, и даже не скульптура, а кусок скульптуры – из раскопок; словом, бюст, без головы, без рук – но какой камень!»
Как будто из бездонного мешка, набитого ее прошлым, она доставала нужные ей или собеседнику факты, эпизоды, фразы, при надобности снабжаемые академически пунктуальным комментарием дат, мест и обстоятельств, а чаще – без ссылок на происхождение, оторванно от времени, или упоминая о нем приблизительно или намеренно темно. Однажды порознь приглашенные к обеду общей знакомой, мы ехали из разных мест, и я, опоздав на четверть часа, не нашел ничего лучшего, как начать в извинение объяснять, что принимал ванну, когда отключили горячую воду, и так далее – что было правдой. Ахматова, уже сидя за столом, смотрела на меня ледяным взглядом и, едва я кончил, процедила сквозь зубы: «Гигиена и нравственность», – лозунг или какое-то название, словом, когда-то замеченный ею штамп времени. В другой же раз, когда я получил неожиданный гонорар и хотел пригласить в ресторан всю ордынскую компанию, она посоветовала вместо этого купить ведро пива и ведро раков и прямо с двумя ведрами в руках явиться к Ардовым; и когда я так и сделал, купив ведра в «Хозтоварах», раков на Сретенке, пива в Кадашевских банях, и, догрызая последние клешни и дочерпывая со дна остатки пива после еще одной или более ходок в те же бани, все шумно отдали должное замыслу и его осуществлению, Ахматова, с таким же красным и отяжелевшим, как у остальных, лицом, но без их горячности и многоглаголания, произнесла: «Дай Бог на Пасху, как говорил солдат нашей няни».
Что-то отзывалось 10-ми годами, что-то 30-ми. Уходя от нее после одного из первых посещений, я надевал в прихожей пальто, и она помогла мне попасть в рукав – смутившись, я почти выдернул его из ее руки, пробормотал: «Ну что вы!» Она ответила: «Академик Павлов стал подавать пальто уходившему от него аспиранту. Тот тоже – вырвал: вы! мне! как можно? Павлов сказал: “Поверьте, молодой человек, у меня нет никаких оснований к вам подольщаться”». И еще, в связи с уходами вообще: «Мандельштам говорил, что самый страшный на свете просчет – это выражение глаз, которое сменяет улыбку на лице хозяина на долю мгновения раньше, чем выходящий за дверь гость перестал на него смотреть». А уже к разговору о просчетах, действиях не вовремя, доле мгновения и тому подобном рассказала, как, когда Гумилев был в Африке, она почти безвыходно сидела дома и лишь однажды заночевала у подруги. В эту ночь он вернулся. Она, приехав наутро и увидев его, заговорила, застанная врасплох, что надо же такому случиться, первый раз за несколько месяцев спала не дома – и именно сегодня. Кажется, при этом присутствовал ее отец, и не то он, не то муж обронил, когда она замолчала: «Вот так все вы, бабы, и попадаетесь!»
После визита к ней поэта Сосноры рассказала: «Читал стихи про то, кто как пьет. Страшные, абсолютно нецензурные, будут нравиться. Тайны в них нет. Спросил, знаю ли я, что поют “Сероглазого короля”. Я ответила: “Боже, как устарело!” Еще в 47-м пели: “Слава тебе, безысходная боль, отрекся от трона румынский король”».
Любила по ходу разговора сослаться на Мандельштама, привести то или другое его бонмо. Из недатируемых – «Воевать поляки не умеют – но бунто-ва-ать!..», несколько цинично комментирующее его же стихи «Поляки! я не вижу смысла в безумном подвиге стрелков». Из датируемых – об Абраме Эфросе: когда в Москву приехал Андре Жид, Эфросу предложили или поручили сопровождать знаменитого писателя; вернувшись во Францию, Жид написал о Советском Союзе не то, чего здесь от него ждали, и Эфроса сослали, но «времена были еще вегетарианские», он легко отделался, попал в Ростов Великий, сравнительно недалеко – на что Мандельштам сказал: «Это не Ростов – великий, это Абрам – великий». Эфрос, как известно, редактировал «Письма Рубенса», переведенные Ахматовой. Когда книга вышла, он пригласил ее в ресторан отпраздновать это событие; в том же зале случайно оказались Катаев и Шкловский: подвыпив, они подошли к их столику, поцеловали Ахматовой руку, церемонно попросили разрешения на минуту присесть, произнесли несколько любезных реплик, потом откланялись, но перед тем, как отойти, Шкловский решился доставить себе удовольствие и, перефразируя известный бабелевский афоризм, проговорил: «Абрам может пригласить русскую женщину в ресторан, и она останется им довольна».
Слова в ее записке «Юность и про себя…» относятся к намечавшейся в этом журнале публикации нескольких моих стихотворений; число их по мере продвижения по редакционным инстанциям на каждом этапе уменьшалось вдвое-втрое, дошло до одного, но и оно было в последнюю минуту выброшено. Она сказала: «Я все это проходила с Мандельштамом. «Дайте пятнадцать, чтобы было из чего выбрать восемь». Из восьми – в трех главный нашел аллюзии, два несвоевременных, три печатаем. Вернее, не три, а два, из-за недостатка места. И на всякий случай принести еще что-нибудь на замену… Это единственное иногда прорывалось». Когда ее стихи напечатали в «Литературной России», или, как она прежде называлась, в «Литературе и жизни», то «передовая интеллигенция» в придаточных предложениях давала ей понять, что напрасно она согласилась на публикацию в этой, реакционной по сравнению с «Литературной» газете и тем сыграла на руку противникам прогресса. Она раздраженно сказала после одного такого разговора: «Не печатают везде одинаково. Зачем я буду выискивать микроскопическую разницу, когда печатают?»
Ее не обманывало внешнее сходство: «Когда начался нэп, все стало выглядеть, как раньше, – рестораны, лихачи, красотки в мехах и бриллиантах. Но все это было – «как»: притворялось прежним, подделывалось. Прежнее ушло бесповоротно, дух, люди – новые только подражали им. Разница была такая же, как между обериутами и нами».
«Почему все так сокрушаются о судьбе МХАТа! – я не согласна, – говорила она, когда этот театр как театр, тем более как МХАТ, умирал. – У чего было начало, должен быть конец. Это же не Комеди Франсез или наш Малый – сто лет играет Островского и еще сто будет играть… Открытие Станиславского заключалось в том, что он объяснил, как надо ставить Чехова. Он понял, что это драматургия новая и ей нужен театр с новыми интонациями и со всеми этими знаменитыми паузами. И после грандиозного провала в Александринке он заставил публику валом валить к нему на «Чайку». Я помню, что не побывать в Художественном считалось в то время дурным тоном, и учителя и врачи из провинции специально приезжали в Москву, чтоб его увидеть. И впоследствии – все, что было похоже или могло быть похоже на Чехова, становилось удачей театра, а все остальное неудачей. А война мышей и лягушек разыгралась оттого, что одни считали систему Станиславского чем-то вроде безотказной чудотворной иконы, а другие не могли им этого простить. И все. Тогда было начало, теперь – конец».
Она дождалась конца множества возникших при ней и с ней начал. Рассказ о событии 50-х годов мог вызвать эхо 20-х. «Когда Роман Якобсон прибыл в Москву в первый раз после смерти Сталина, он был уже мировой величиной, крупнейшим славистом. На аэродроме, у самолетного трапа, его встречала Академия наук, все очень торжественно. Вдруг сквозь заграждения прорвалась Лиля Брик и с криком «Рома, не выдавай!» побежала ему навстречу…» После паузы – с легким мстительным смешком: «Но Рома выдал». Имелась в виду все эти годы скрываемая Бриками парижская любовь Маяковского и его стихи Татьяне Яковлевой.
Создавалось впечатление, что in my beginning is my end, в моем начале мой конец, это не только вечная тень, отбрасываемая смертью на рождение, и не только корни будущего, прячущиеся в вызывающе не похожем на него настоящем, но что конец – это обязательная пара к началу, что начало без конца недействительно. Ее жизнь казалась более длинной, чем у любой другой женщины, родившейся и умершей в одно с ней время, потому, разумеется, что она была так насыщена событиями, потому что не просто включила в себя, а выразила собой несколько исторических эпох, но и потому, что она словно бы тормозила, затягивалась до завершения еще одного, и еще одного, растянувшегося на десятилетия эпизода, до еще одного подтверждения догадки или наблюдения. До конца каждого из ее начал и тем самым до Конца ее Начала, до полного совершения судьбы. До того, чтобы про все происходящее она могла сказать: это – как то-то, – причем сказать таким образом, чтобы «это – как то-то» стало единственной истинной метафорой происходящего. Не сравнением вещей по сходству или контрасту их признаков, не произвольным сопоставлением, а необходимым и естественным соединением конца с началом и потому – бесспорной правдой бесспорной реальности.
За два месяца до смерти, уже в больнице, она прочла тоненькую книжку стихов Алисы Мейнелл, родившейся за несколько лет до Ахматовой и умершей в 1922 году. Из нее она выбрала строчки для эпиграфа к своим стихам:
…none dare Hope for a part in thy despair(…никто не смеет надеяться на долю в твоем отчаянии). Они остались без употребления, но однажды перед стихами Ахматовой уже стояли похожие слова: «Не теряйте Вашего отчаяния» – фраза Пунина не то из письма к ней, не то из разговора.
Даже если конкретное «это – как то-то» оказывалось ошибочным, оно не отменяло верности самого принципа и общей правоты. Во времена газетных статей о фанатической преданности китайцев Мао Цзэдуну она сказала: «Китайцы предаются какой-то одной идее на десять тысяч лет. Я знаю – мне самый главный китаист объяснял. Десять тысяч лет они верят Конфуцию, потом – как рукой снимает, появляется что-нибудь новое – и опять на десять тысяч лет». Кроме В.М. Алексеева, самым главным китаистом быть было некому, а он вряд ли объяснял именно так. Поэта Семена Липкина, известного в ту пору как переводчика главным образом восточной поэзии, она называла «мудрец Китая», и похоже, что это сочетание было получено из того же несерьезного источника, что и «десять тысяч лет». (Даже с учетом пушкинской черновой пробы «Конфуций мудрец Китая», которую она безусловно знала и помнила). Любви китайцев к Мао на столько не хватило, но убедительности и, против очевидности, впечатления, что это правда или, по крайней мере, должно быть правдой, больше было в ахматовской сказочке о китайцах, чем в последовавшей вскоре перемене их идей.
Октябрьским днем 1964 года мы ехали в такси по Кировскому мосту. Небо над Невой было сплошь в низких тучах с расплывающимися краями, но внезапно за зданием Биржи стал стремительно разгораться, вытягиваясь вертикально, световой столп, красноватый, а при желании что-то за ним увидеть – и страшноватый. Потом в верхней его части возникло подобие поперечины, потом тучи в этом месте окончательно разошлись, блеснуло солнце, и видение пропало. Назавтра мы узнали, что в этот день был смещен Хрущев. Ахматова прокомментировала: «Это Лермонтов. В его годовщины всегда что-то жуткое случается. В столетие рождения, в 14-м году, Первая мировая, в столетие смерти, в 41-м, Великая Отечественная. Сто пятьдесят лет – дата так себе, ну, и событие пожиже. Но все-таки, с небесным знамением…» Она говорила о себе: «Я хрущевка», – из-за освобождения сталинских зеков и официального разоблачения террора. А наша поездка в такси каким-то своим боком в минуту упоминания о Лермонтове наложилась на ее поездку полвека назад на извозчике, «таком старом, что мог еще Лермонтова возить», и эти ахматовские пятьдесят, и извозчицкие почти сто, и лермонтовские сто пятьдесят, и ее такое личное – товарки по цеху, старшей сестры, «бабки Арсеньевой» – нежное к нему отношение так переплелись, что таинственным образом растянули ее собственную жизнь чуть не вдвое, одновременно переведя и хрущевское падение из ряда сиюминутных событий в ряд динамических вообще – декабрьского и других восстаний, дворцовых переворотов и проч. «Про Лермонтова можно сказать «мой любимый поэт», сколько угодно, – заметила она однажды. – А про Пушкина – это все равно, что «кончаю письмо, а в окно смотрит Юпитер, любимая планета моего мужа», как догадалась написать Раневской Щепкина-Куперник».
Контекст ее биографии переделывал «под себя» все попадавшее в ее орбиту, даже явления периферийные, даже чуждые ей. «В Ташкенте, – рассказывала она, – подо мной поселились бежавшие в свое время от Гитлера антифашисты. Они так ругались между собой и дрались, что я думала: если такие антифашисты, то какие – фашисты!» За символом, зверем, бранным словом «фашист» в ее реплике вдруг проглядывал еще муссолиниевский балбес в раннем романтическом ореоле. Так же «по-ахматовски» звучала ее характеристика неподлинных, псевдозначительных людей, книг, мыслей – «надувное-набивное», – взятая из канцелярского перечня ассортимента товаров: «игрушка надувная-набивная». Равно как и газетное «народные чаянья» в применении к желаемому, выдававшемуся за действительное.
Когда мы бывали в чем-то не согласны и каждый настаивал на своем, особенно если речь шла о практических делах, она нередко произносила с напускным апломбом: «Кто мать Зои Космодемьянской, вы или я?» Услышав в первый раз, я спросил, откуда это. Она сказала, что когда после войны в Сталинграде выбирали место для строительства нового тракторного завода взамен разрушенного, то в комиссию среди представителей общественности входила мать Зои Космодемьянской; неожиданно для всех она заявила непререкаемым тоном, что строить надо не там, где выбрали специалисты, а вот здесь, и когда ее попытались вежливо урезонить, задала этот риторический антично-убийственный вопрос: «Кто мать Зои Космодемьянской, вы или я?»
Она делала чужое своим с такой легкостью, как если бы принимала данное ею когда-то взаймы, и, если вникнуть в этот процесс поглубже, так оно и было. Вернувшись из поездки к Бродскому, я рассказал ей, как уютно было по вечерам, затопив печь, слушать радио, постепенно заполнявшее вологодскую тьму за окном призраками Парижа, Ленинграда, Лондона. И как, слушая рассказ об обеде, устроенном в честь Пристли каким-то обществом не то клубом, мы оба были взволнованы пронзительным концом его ответной речи, где он цитировал слова Эдгара из «Короля Лира» о невластности человека над выбором мига появления на свет и ухода, завершающиеся знаменитым: Ripeness is all! (готовность – все!). Бродский позднее взял эпиграфом к своей книге эдгаровский пассаж целиком, а Ахматова, сразу после моих слов, записала в дневнике: «К. L. – is all», – как бы между прочим. Около того времени она встретилась с ленинградской писательницей, в годы войны служившей чуть ли не простым матросом на Балтийском или Северном флоте, а теперь ради справедливости активно отбивавшей «этого молокососа Оську» у «этих паразитов». Она настояла на свидании с Ахматовой отчасти из стратегических соображений, отчасти из любопытства, но вышла от нее разочарованной: «Она же недослышит, а нам нужны люди без изъянов». Ахматова, когда я вошел к ней, выглядела, напротив, довольной, гостья ей понравилась, и на мое «ну как?» она ответила одобрительно: «Морская пехота». А вскоре Бродский разом завязал и разрешил обе темы, военную и ссыльную, когда, освободившись, приехал в Комарово и немедленно стал копать под Будкой бомбоубежище для Ахматовой. Придя из леса, я застал его уже по плечи в яме, а ее у окна, улыбающейся, но немного растерянной: «Он говорит, что на случай атомной бомбардировки». В ее словах слышался вопрос – я ответил: «У него диплом спеца по противоатомной защите».
В одном из разговоров я сказал, что замечаю, как люди, сдающие одну позицию за другой, возмещают это желанием укрепить внутри себя нечто, что было бы недоступно для остальных и противостояло собственной слабости, и как часто это нечто, если оценивать непредвзято, оказывается просто озлобленностью. Она отозвалась резко: «Ни в коем случае нельзя кормить это чудовище, пусть сдохнет с голоду. Озлобленность дает ужасные результаты: пример – Городецкий». И через некоторое время: «Когда человек живет так долго, как я, у него появляются некие конечные идеи… Добро делать так же трудно, как просто делать зло. Нужно заставлять себя делать добро». «Такая добрая», – говорила она с радостью про первую жену ее брата Виктора, самоотверженную, предупредительную Ханну Вульфовну Горенко, по первому зову приезжавшую из Риги. Даже когда сердилась на нее, в словах сквозило умиление: «Ханна напозволяла».
Назавтра, после того как я принес посвященное ей стихотворение, судя по некоторым знакам, пришедшееся по вкусу, она заговорила о нем уже подробно, потом на другую тему и вдруг перебила себя – как бы вспомнив: «Да! Там у вас лишняя стопа в такой-то строчке, надо бы исправить». Я сосчитал стопы про себя, затем, уже выйдя от нее, на пальцах, затем дома нарисовал схему – лишней не было. Я сказал ей об этом в следующую встречу. Она не стала слушать: «Лишняя – точно, точно, можете не проверять, не ошиблась. Пятьдесят лет на этом деле сижу». Ее упрямство огорчило меня, и лишь позднее я понял, что это значило: стопа была лишняя не метрически, а музыкально-ритмически, та строка требовала укорочения, перебоя, равномерность делала ее расслабленной. Это была еще одна ее правота против правил, правота из наиболее очевидных, не из глубинных. Одна из ее правд в самых разных планах и поэзии, и всей жизни, правд, которые она могла утверждать ссылкой на то, что просидела на этом деле пятьдесят лет.
* * *
Среди нескольких десятков портретов Ахматовой альтмановский был на особом счету, хотя тышлеровский и Тырсы ей нравились больше. Может быть, потому, что Альтман писал ее в счастливые дни ее жизни или сами сеансы проходили в особой интимно-дружеской атмосфере и с ними было связано что-то, что потом приятно вспоминать, или потому, что это был первый «знаменитый» ее портрет. Про Альтмана она рассказывала, что после частых встреч в 10-е годы он пропал почти на тридцать лет, потом вдруг позвонил по телефону: «“Анна Андреевна, вы сейчас не заняты?” – “Нет”.– “Так я зайду?” – “Да”. И зашел – как будто так и надо – и мы заговорили непринужденно, словно виделись вчера». «А когда он меня писал, в студию иногда поднимался один иностранец, смотрел на картину и говорил: “Это – будет – большой – змъязь!”» Она изредка повторяла этот пифийский приговор, но никогда не объясняла значение таинственного слова: я считал его производным от «смех», что-то вроде существительного «смеясь» – в то же время передающего и грандиозность вещи, события. Фраза оказалась более или менее универсальной, подходила почти ко всему случающемуся вокруг, по крайней мере, вокруг Ахматовой. «Это будет большой змъязь» – о поездке в Англию за мантией, о суде над Бродским, о намерении перелицевать пальто, о выходе за границей «Реквиема»…
Подобных изречений, средних между каламбуром и пророчеством, было несколько. В одном из писем в больницу она упоминает о болезни, которую я годом раньше «проходил без врача». Это случилось в конце лета, и она, узнав, «командировала» ко мне из Ленинграда Бродского – как вскоре меня к Ольшевской. С ним она передала свое новое стихотворение, его рукой переписанное и ее подписью заверенное, «Тринадцать строчек» – которых, однако, как нарочно, оказалось двенадцать, потому что он одну по невнимательности пропустил, а она не заметила. В первом же разговоре об этих стихах я стал возражать против «предстояло»: «И даже я, кому убийцей быть божественного слова предстояло», – потому что если предстояло, то я и ты в стихотворении не равноправны, герой находится во власти героини и лишь играет роль участника драмы, а не участвует в ней полноценно. С доводами она соглашалась, но стихи защищала, мягко – главным образом тем, что «зато хорошо получилось». Через год или полтора, после сходного, только более резкого спора об одном четверостишии из «Пролога», она взяла ластик и стерла в тетрадке написанные карандашом строчки. Но в тот раз она, засмеявшись, сказала: «Вы напомнили мне Колю. Он говорил, что вся моя поэзия – в украинской песенке:
Сама же наливала, Ой-ей-ей, Сама же выпивала, Ой, боже мой!»И тотчас продолжила: «Зато мы, когда он вернулся из Абиссинии, ему пели: «Где же тебя черти носили? Мы бы тебя дома женили!» Тоже хорошо, хоть и не так точно».
Ее острый слух («собачий», «как у борзой» – если использовать ее замечания о других) вылавливал в обыденной беседе, в радиопередаче, в прочитанном ей стихотворении несколько слов, которые, произнесенные ею, выделенные, обособленные, обретали новый смысл, вид, вес. «“Я сюда проберусь еще тенью”, – выхватила она одну мою строчку. – Годится на эпиграф. И ударение неправильное – хорошая строчка». В другой раз, когда я читал только что переизданного Светония и наткнулся на чудное замечание: «В хулителях у Вергилия не было недостатка», – она отозвалась: «Первоклассный эпиграф». А по поводу самой книги однажды сказала: «Светония, Плутарха, Тацита и далее по списку – читать во всяком случае полезно. Что-то остается на всю жизнь. Знаю по себе – кого-то помню с гимназии, кого-то с «великой бессонницы», когда я прочла пропасть книг… «Солдатские цезари» симпатичнее предыдущих – кроме, может быть, Кая Юлия. «Божественному Августу» не прощаю ссылки Овидия. Пусть дело темное – все равно: опять царь погубил поэта». И еще: «Насколько все понятно про Рим, настолько ничего не понять про Афины», – то есть римская цивилизация – основа и часть вообще европейской, а государство, культура, жизнь Древней Греции не похожи ни на что.
В очередной Пушкинский юбилей (125 лет со дня смерти —?) в «Литературной газете» была напечатана заметка о том, что, судя по отскоку пули, Дантес, вероятно, стрелялся в кольчуге. «Кто написал?» – в ярости почти рявкнула она. Я сказал, что, кажется, Гессен. «Это Гессен стрелялся бы в кольчуге! – как будто тоже выстрелила она. – Вам известно, как я люблю Дантеса, но он был кавалергард и сын посланника, человек света, ему мысль такая не могла прийти в голову: для того, кто вышел драться, предохраняя себя таким образом, смерть была бы избавлением!» «А вообще это из типичных юбилейных открытий. Раз в десять-двадцать лет обнаруживают совершенно новые неопровержимые доказательства того, что Пушкина убил Дантес, Моцарта отравил Сальери, «Слово о полку» написано Бояном, но что «Илиаду» и «Одиссею» сочинил не Гомер, а другой старик, тоже слепой».
В один из жарких летних вечеров 1963 года мы поехали в гости к Петровых, Ахматова жила тогда на Ордынке. Около полуночи я был послан за такси и пошел, как обычно, к бензоколонке на Беговой, в этот час они туда одно за другим подъезжали на заправку. Сев в машину, я стал показывать дорогу, ехать было два шага, но по извилистым, расходящимся аллейкам, к тому же густо заросшим зеленью, и мимо совершенно одинаковых и несимметрично раскиданных по обширному участку домиков. Вскоре стало ясно, что мы заблудились, и тут в открытом темном окне ближайшего дома появилась привлеченная шумом автомобиля могучая женская фигура в ночной рубашке. Я вышел и спросил, где корпус 2, она спросила, а кого я ищу. Я назидательно заметил, что не важно кого, ищу корпус 2. Она, опершись о подоконник, еще назидательнее возразила, что общественности все важно. В эту минуту из кустов вышли милиционер, мужчина в штатском и женщина, от них пахло вином. Милиционер осведомился, в чем дело, и потребовал у меня «документ». Едва я его вынул, как в штатском, не глядя, положил мое удостоверение в карман, нырнул в такси на заднее сиденье и оттуда приказал всем ехать в милицию. Я полез отбирать «документ», но милиционер ловко подпихнул меня, втиснулся сам, так что я очутился между ними, женщина села впереди, дверцы захлопнулись. Шофер, которому все это не нравилось, грубо сказал, что никуда не поедет, пока ему не заплатят. Штатский показал свое удостоверение, пригрозил ему карами, и мы медленно тронулись. В тот же миг я увидел корпус 2 с ярко горящим окном на втором этаже, крикнул: «Стоп!» – и машина остановилась. Милиционер согласился выйти, хотя второй сопротивлялся как мог. Всей компанией мы поднялись по лесенке, я позвонил, Мария Сергеевна открыла дверь, и мы ввалились. Милиционер был смущен, но спросил, указывая на меня: «Вы знаете этого гражданина?» Ахматова сидела за столом почти спиной к двери, она не обернулась, лишь повернула в нашу сторону голову, всего на несколько градусов, только чтобы показать, что видит нас, и звучно, разделяя слова, проговорила: «Да, это наш друг…» – и назвала мое имя, отчество и фамилию. Мне вернули удостоверение, охранники порядка удалились. Мы спустились и поехали. По дороге я рассказал, что случилось, шофер дополнил мой рассказ выразительными характеристиками, например, «шалашовка драная» – о женщине, севшей рядом с ним. Выслушав, Ахматова произнесла строчку из Феофана Прокоповича: «Что, россияне, мы творим?» Я проводил ее до ардовской квартиры и на том же такси поехал к себе. Прощаясь, шофер сказал: «Старая резюмирует точно: как мы, русские, честное слово, друг друга в рот по нотам!» Назавтра я ей это передал, она была довольна, но заметила: «Шалашовка было лучше. Она вот именно шалашовка».
Среди скопленных за жизнь емких словечек, которыми она озаглавливала и покрывала обширные области человеческих проявлений, отношений, самих условий существования, регулярным спросом пользовалось еще одно из Вяземского не то Горбунова – «и ведмедю хорошо». Оно было из тех немногих, произнесение которых она любила сопровождать пересказом всей истории. «Это в городскую усадьбу Шереметевых зимой скачет мужик сказать господам, что выследили и всей деревней обложили медведя. Господа начинают быстро собираться, гонца отправляют на кухню выпить стакан водки. Там его обступает дворня, расспрашивает и рассуждает. «Вон тебе-то хорошо, господа тебя заметили». – «Мне-то хорошо», – не протестует тот, разомлевший и польщенный общим вниманием. «И господам хорошо, побалуются». – «И господам хорошо». – «И мужикам – небось каждому по целковому». – «И мужикам хорошо». – «И бабам хорошо – всех угостят, подарки получат», – постепенно заходятся дворовые. «И бабам», – соглашается герой. «И ведмедю́ хорошо!» – «И ведмедю́, конечно, хорошо!» – авторитетно подтверждает он».
Она бывала капризна, деспотична, несправедлива к людям, временами вела себя эгоистично и как будто напоказ прибавляла к явлению и понятию «Анна Ахматова» все новые и новые восторги читателей, робость и трепет поклонников, само поклонение как определяющее качество отношения к ней. Вольно и невольно она поддерживала в людях желание видеть перед собой фигуру исключительную, не их ранга, единственную – и нужную им, чтобы воочию убеждаться в том, сколь исключительным, какого ранга может быть человек. И то, что она в самом деле была такой фигурой, выглядело – с близкого расстояния – естественной основой и побудителем ее поведения, а главным и самостоятельным, чуть ли не обособившимся от первопричины казалось поведение.
По прошествии лет и тот и другой план – и существо, и поведение – встроились в перспективу, вмещающую в себя большее пространство, но зато и сужающуюся, уменьшающую непосредственное впечатление от вещей. Коллекционирование преклонения и даже одних и тех же комплиментов начинает казаться теперь не проявлением или данью эгоистичности, а скорее, наоборот, постоянно тревожащей памятью о необходимости отдать «жизнь свою за други своя». Истину о том, что ученик не больше своего учителя, она распространяла и на себя. Она знала, что уступает Вячеславу Иванову в образованности, Недоброво – в тонкости, Гумилеву – в уверенности, – имена и качества здесь взяты почти наугад, – но она превосходила их талантом, а Время выставило требование таланта впереди всех прочих. У разных эпох в цене разные вещи, и тут нужда была не в обширных знаниях, философских системах, религиозно-нравственных учениях и т. д., но, в первую очередь, в таланте, в таланте и в дерзком его проявлении, а у нее был и талант, и необходимая смелость. Таким образом, ей выпало и удалось высказаться во всеуслышанье за тех, от кого она чему-то научилась и кто по той или другой причине не высказались сами, тех, на чьих черновиках она писала. Это им, всем по прихотливо составленному списку: от своих матери и отца, от Ольги Глебовой, от Лозинского – до Данте и Гомера, – через себя – собирала она славу.
Однако воспринятые ею от и через живых учителей знания, принципы, критерии в сочетании с ее мощным и гибким умом, а главное, ее здравый смысл, размером и всеохватностью не уступавший таланту, ставили границы той свободе, неожиданности, непредсказуемости, которые неубедительно, но всем понятно зовутся гениальностью. «Он награжден каким-то вечным детством», – сказала она об этом качестве пастернаковского дарования – с восхищением и одновременно снисходительно, не без тонкого сарказма, дескать, «сколько можно». Его стихи выкипали через края структурированной по-акмеистически вселенной: он вызывающе заявлял, что не разбиравшаяся в Пушкине Гончарова – жена лучшая, чем Щеголев и позднейшие пушкинисты, что Шекспир долго не мог найти нужного слова и потому затягивал сцены; его безвкусицы вроде «О, ссадины вкруг женских шей» или «Хмеля», которых она ему не прощала, были так же ярки, как его несомненные удачи – словом, «он ставил себя над искусством», как записала Чуковская ее слова. Она говорила, что у Мандельштама «черствые лестницы» («с черствых лестниц, с площадей… круг Флоренции своей Алигьери пел…») – законны, оправданы дантовским «хлебом чужим», а «простоволосая трава» – уже запрещенный прием.
Когда вышла книжечка переводов Рильке, сделанных хорошо ей знакомым и уважаемым ею человеком, она огорченно сказала, что все на месте, а великого поэта не получилось. Мы заговорили о «Реквиеме по одной женщине», в книжку не вошедшем. Я сказал, что это гениальные стихи: там ее смерть, и она при жизни, и она воскресшая, и поэт, который просит ее не приходить… «Вот это и ужасно, – тотчас ответила Ахматова. – Это обязательное свойство гения… Она после смерти приходит к нему, а он: «Нет, простите, пожалуйста, не надо». Или Толстой в «Отце Сергии» – не замечает, чтo он заставляет женщину делать. Потом что-то отрубает или не отрубает – как будто мне после того, что было, это нужно. А Толстому важно только то, что там, вдали… А Достоевский! Митя Карамазов ведь настоящий убийца: он так ударяет Григория, что тот лежит с раскроенным черепом. Но гении – потому что они гении – делают так, что никто этого не замечает…» Я сказал, что если оставить лесть в стороне, то Ахматова не гений, а некий антигений… Она выслушала это без удовольствия, буркнула: «Не знаю, не знаю». Я объяснил, что употребил это определение как позитивное, по аналогии, например, с «антипротоном»: «Это не означает ничего обидного, тем более дурного…» Она закончила с юмором, примирительно: «А я почти уверена, что означает, но спросить не у кого».
Надо ли говорить, что эти границы ни в самой малой мере не мешали искусству? Они пролегали внутри его, ставили ему внутренние пределы, а не огораживали. Она говорила, что у Достоевского, если говорить строго, нет ни одного собственно романа, кроме «Преступления и наказания»: в остальных «главные события происходят до начала, где-то в Швейцарии, а тут все летит вверх тормашками, читатель задыхается, все ужасно…» И сразу прибавила: «Но вообще, у настоящего прозаика – адская кухня. Они успевают написать за свою жизнь в пять раз больше того, что потом входит в полное собрание сочинений. Поэтому я не верю, что можно написать большой роман и после ничего, как Шолохов». (Может быть, к этой реплике ее подтолкнули «Дневники» Кафки, которые она в то время читала во французском переводе; в них под 17 декабря 1910 года запись: «То, что я так много забросил и повычеркивал, – а это я сделал почти со всем, что вообще написал в этом году, – тоже очень мешает мне при писании. Ведь это целая гора, в пять раз больше того, что я вообще когда-либо написал, и уже одной массой своей она прямо из-под пера утаскивает к себе все, что я пишу».)
Она объясняла, что пушкинистика в ближайшее время вряд ли добьется сколько-нибудь значительных результатов, потому что пушкинисту кроме чутья, таланта, трудолюбия и других обязательных для ученого качеств необходимо еще и хорошее знание французского, английского, истории эпохи – а такое сочетание сейчас редко. Она требовала от писателя образованности Томаса Манна и приводила в пример «Волшебную гору», правда, с оговоркой, что рассуждения о времени уступают уровню всей книги – которую она любила, как казалось, специфически лично, может быть из-за описания быта туберкулезного санатория; я читал ее, лежа в больнице, и она сказала: «А это и есть больничное чтение».
Но при этом она выделяла Хармса-прозаика: «Он был очень талантливый. Ему удавалось то, что почти никому не удается – так называемая «проза двадцатого века»: когда описывают, скажем, как герой вышел на улицу и вдруг полетел по воздуху. Ни у кого он не летит, а у Хармса летит». Она говорила: «Фрейд – искусству враг номер один. Искусство светом спасает людей от темноты, которая в них сидит. А фрейдизм ищет объяснения всему низкому и темному на уровне именно низкого и темного – потому-то он так и симпатичен обывателю. Искусство хочет излечить человека, а фрейдизм оставляет его с его болезнью, только загнав ее поглубже. По Фрейду, нет ни очищающих страданий, ни просветления «Карамазовых», а есть лишь несколько довольно гнусных объяснений, почему при таких отношениях между отцом и матерью и таком детстве ничего, кроме случившегося, случиться и не могло. А к чему это?» Она рассказала про письмо одной ее приятельницы другой, Надежде Яковлевне Мандельштам, о книге, которую написал Хазин, брат Н.Я. «Он написал роман, кажется, о 1812 годе: о чем пишут люди, чтобы не умереть с голоду? И, между прочим, в похвалу автору та заметила, что он умеет забалтываться, а это необходимое качество настоящего прозаика. И дальше – я читала своими глазами, потому что Надя хотела меня поссорить с ней и показала письмо: «Это знают все и даже Анна Андреевна». Правда, и та меня ссорила с Надей». Она посмеялась, но то, что прозе нужно забалтываться, что прозе нужна избыточность, «ненужная деталь», было для нее азбукой искусства. Может быть, из-за того что теперь «это знают все», она ставила прозу середины века выше прозы ее молодости, когда блистали перлы вроде «Степь чутко молчала» – чья-то фраза, в свое время попавшая на язык Мандельштаму. Ей понравился рассказ Аксенова «Победа», а несколькими годами раньше рассказ Рида Грачева «Подозрение». Но «выше-ниже» был уровень средней прозы – в 10-м году еще писал Лев Толстой: «всо-таки», как шутила она.
Больше, чем отзывающуюся произволом свободу и непредсказуемость гениальности, она ценила тайну. «В этих стихах есть тайна», – было первой настоящей ее похвалой. Другая: «В этих стихах есть песня», – была в ее устах исключительной редкостью, я слышал такое лишь два раза, о Блоке и о Бродском, по поводу «Рождественского романса», но и вообще об его стихах. Однажды Бродский стал с жаром доказывать, что у Блока есть книжки, в которых все стихи плохие. «Это неправда, – спокойно возразила Ахматова. – У Блока, как у всякого поэта, есть стихи плохие, средние и хорошие». А после его ухода сказала, что «в его стихах тоже есть песня», – о Блоке это было сказано прежде, – «может быть, потому он так на него и бросается».
Как заметил знаменитый трубач и певец Луис Армстронг, «сперва я думал, что людям нужна песня, но скоро понял, что им нужен спектакль». Что же касается тайны, то уже при жизни Ахматовой тайна стала заменяться намеком, а после ее смерти поэзия намеков сделалась общепринятой и общепризнанной. В 70-е годы поэт намеков имел большую, преданную ему, им самим воспитанную аудиторию, которая прекрасно разбиралась, о каком политическом событии или лице идет речь в стихах, посвященных рыбной ловле: «мальки» означали молодежь, «сети» – цензуру. Это был символизм наоборот, поэзия второй половины XX века.
* * *
Это правда, что мелочи, попадавшие в сферу ее внимания, она наделяла грандиозностью, которая окружающим казалась излишней. Таков был эффект масштаба ее личности, эффект слишком широко растворенного циркуля: в нашем представлении тысяча миллиметров много меньше одной тысячной километра. Когда ей понадобилось подтверждение какого-то факта из истории 10-х годов, она по телефону попросила приехать Ольгу Николаевну Высотскую, в прошлом актрису, сын которой от Гумилева был ненамного моложе Льва Николаевича. Мы с Борисом Ардовым привезли ее в такси с Полянки на Ордынку. Ахматова сидела величественная, тщательно причесанная, с подкрашенными губами, в красивом платье, окруженная почтительным вниманием, а ее когдатошняя соперница – слабая, старая, словно бы сломленная судьбой. Она подтвердила факт, на мой взгляд, второстепенный, из тех, которые укладываются в ахматовские же стихи «В биографии славной твоей разве можно оставить пробелы?», – и Ахматова распорядилась отвезти ее домой. Она подтвердила факт – и подтвердила победу Ахматовой. Участок фронта был тоже второстепенный, тут не требовалось артиллерии столь крупного калибра, но другой у нее не было.
Этим в немалой степени объясняются ее так называемые «преувеличения» и «ни из чего не следующие» заключения. Чуковская записала в 1940 году слова В. Г. Гаршина, ставшего в то время близким другом Ахматовой: «Вы заметили, она всегда берет за основу какой-нибудь факт, весьма сомнительный, и делает из него выводы с железной последовательностью, с неоспоримой логикой?..» О том же вспоминает Исайя Берлин: «Ее оценки людей и поступков других совмещали в себе острое проникновение в нравственный центр характеров и ситуаций… с догматическим упрямством в объяснении мотивов и намерений… – что казалось даже мне, часто не знавшему обстоятельств, неправдоподобным и иногда в самом деле вымышленным… Мне казалось, что Ахматова строила на догматических предпосылках теории и гипотезы, которые она развивала с исключительной последовательностью и ясностью. Ее непоколебимое убеждение, что наша встреча имела серьезные исторические последствия, было примером таких idées fixes. Она также думала, что Сталин дал приказ, чтобы ее медленно отравили, но потом отменил его; что уверенность Мандельштама перед смертью, будто пища, которой его кормили в лагере, отравлена, была обоснованной; что поэт Георгий Иванов (которого она обвиняла в писании лживых мемуаров в эмиграции) был какое-то время полицейским шпионом на жалованье царского правительства; что поэт Некрасов в XIX веке также был правительственным агентом; что Иннокентий Анненский был затравлен врагами до смерти. Эти убеждения не имели действительного очевидного основания – они были интуитивны, но они не были лишены смысла, не были прямыми фантазиями, они были элементами в связной концепции ее собственной и ее народа жизни и судьбы, тех центральных вещей, которые Пастернак хотел обсуждать со Сталиным, – эффект зрения, которое поддерживало и формировало ее воображение и искусство. Она не была визионером, у нее было, по большей части, сильное ощущение реальности». На другую тему, но характеризуя то же ее свойство, писал Недоброво о молодой, только еще начинавшей Ахматовой: «Несчастная любовь, так проникшая самую сердцевину личности, а в то же время и своею странностью и способностью мгновенно вдруг исчезнуть внушающая подозрение в выдуманности, так что мнится, самодельный призрак до телесных болей томит живую душу, – эта любовь многое ставит под вопрос для человека, которому доведется ее испытать…»
Словами Гаршина и Берлина можно было бы объяснить многие вещи и события, случившиеся и в последние годы жизни Ахматовой, неожиданные повороты ситуаций и бесед, некоторые письма. Какую-то сторону реальности, стоявшей за «Прологом», «Полночными стихами» и сопутствовавшими им, описывают выделенные мною места из статьи Недоброво. Хотелось бы сказать, что она вела себя неадекватно – если бы это не было линией ее поведения, построенной, как выяснялось при внимательном взгляде, из множества ответов на происходящее, абсолютно адекватных конкретным эпизодам. Сомнительное, если всмотреться в него, состояло из последовательных точностей. Все было почти медицински, почти милицейски точно: несколько крошечных коричневых пятнышек на глазном яблоке, соединенных тончайшей прожилкой в кружок, образовывали «тот ржавый колючий веночек»; по линиям и выпуклостям руки хиромант в самом деле мог прочитать «на ладони те же чудеса». Эти и менее отчетливые детали действительности она замечала тем обостреннее, что вся жизнь с ранней юности была прожита ею под знаком memento mori. Возможно, что ткань ее стихов последнего времени так истончена еще и потому, что смерть приобрела необратимые и неоспоримые черты – старости и болезни.
Еще два письма я получил от нее из Боткинской больницы, куда ее отвезли в ноябре 1965 года с инфарктом. В палате лежало несколько больных, а говорить с ней, из-за того что она недослышала, надо было громко, поэтому мы в необходимых случаях переписывались на клочках бумаги, но эти два она прислала по почте, когда я уехал в Ленинград.
2 я н в а р я 1 9 6 6
Толя
Пишу Вам только потому что Вы так просите и заставляет Маруся, сама же я еще не чувствую себя готовой писать письма.
Вы обо мне все знаете, Иосиф видел как я хожу, могу немного читать, не все время сплю, начала что-то есть.
Благодарю Вас за письма и телеграммы, последняя даже принесла мне радость.
Москва была мне доброй матерью, здесь все добрые.
Жду лирику Египта.
Всем привет.
Ахматова
3 1 я н в 1 9 6 6
Толя,
Забыла Ваш адрес и потому решаюсь беспокоить Асю Давыдовну.
Благодарю Вас за довольно толковую телеграмму.
Вчера у меня был Миша Мейлах с Арсением, но я была еле живая. Это от лекарства, кот. сегодня отменено. Новостей, конечно, никаких нет, кроме одной типа сюрприза. Не будьте любопытным.
Пишу воспоминания о Лозинском, но выходит вяло и чуть чуть слезливо.
Со своей стороны шлю приветы моим милым согражданам.
Передайте поклон Вашим родителям <… > Позвоните Нине.
А.
[На обороте адрес моей матери и обратный:]
от Ахматовой А. А. Москва
Боткинская больница, корп. 6
«Арсений» – это Тарковский, Арсений Александрович – поэт, первое признание получивший в 60-е годы, когда ему было уже за пятьдесят и за спиной изувечившая его война и больше четверти века писания стихов. К тому времени он был знаком с Ахматовой уже несколько лет, читал ей стихи разных периодов, и она говорила о нем ласково: «Вот этими руками я тащила Арсения из мандельштамовского костра», – то есть помогала ему освободиться от влияния Мандельштама.
Когда ей стало получше и дело пошло к выписке, я несколько раз приходил в больницу, по пути забегая на ипподром, который был рядом. Однажды, войдя с мороза и подозревая, что запах коньяка, проглоченного только что в буфете для согрева, может быть ею уловлен, я решил предупредить необходимое объяснение малоизобретательной риторикой: «Вам никогда не догадаться, откуда я сюда пришел». Ее вид показывал, что ей это и не интересно. Я сказал: «С ипподрома!» Она ответила безразличным тоном: «Я только это про вас и слышу». И, едва заметной отмашкой ладони дав понять, что и объяснение, и его неуклюжесть позади, заговорила о более существенном – моя игра на бегах была развлечением, возможно, слабостью, но не пороком и уж, во всяком случае, не идеей. Прочтя у Бродского в любовных стихах: «Мы будем в карты воевать с тобой», – она поморщилась и высказалась неодобрительно.
«Бег времени» только что вышел, она надписывала по несколько экземпляров в день. В книжку не попало изрядное количество центральных стихотворений, были выброшены многие, напечатать которые еще теплилась надежда, привкус горечи явственно ощущался в словах благодарности, которыми она отвечала на комплименты. Зная наверное, что когда-то их опубликуют, она хотела сделать это сейчас, при жизни, пока они сами еще живые и дикие, «с рогами, копытами и хвостом», а не в виде священной, а главное – съедобной, коровы, вылепленной из фарша, который будет пропущен публикатором через мясорубку своего времени.
Медсестры, санитарки, соседки по отделению, брошенные или бросаемые мужьями и возлюбленными, шли к ней как к «специалистке по женской любви» и говорили бедные слова, которым она, у них подслушав, их отчасти научила. Каждая говорила то же, что и другая, то же, что и Ахматова, только не так ясно и точно. Она была «специалисткой по любви», потому что любовь была ее поэзия: «одной надеждой меньше стало – одною песней больше будет». Женская любовь была не какой-то особой, присущей женскому существу, а более острой, глубокой, полной – лучшей любовью, как о том свидетельствовал еще Тирезий. «Научно доказано, что мужчины – низшая раса», – приговаривала она. Или: «Овцу, если вдуматься, тоже жалко: у них на всех один муж, и тот – баран». Она жалела всех приходивших к ее постели и «оказывала им первую помощь» – и посмеивалась над ними и над собою, повторяя услышанную мной и сразу ею «взятую на вооружение» фразу: «Я не ревную, мне просто противно». Она жалела и утешала всех женщин вообще. Ее раздражало ее раннее стихотворение «Я не любви твоей прошу»: А этим дурочкам нужней сознанье полное победы, чем дружбы светлые беседы и память первых нежных дней, – «Почему «дурочкам»? – возмущалась она. – Если он предпочел другую, так уж она сразу и дура?» Потому же ей претила цветаевская «Попытка ревности» («Как живется вам с трухою?», «Как живется вам с стотысячной?») – «тон рыночной торговки».
В середине февраля, кажется 19-го, ее выписали, на начало марта были добыты путевки в санаторий – для нее и Ольшевской. Эти 10–12 дней на Ордынке ей становилось то лучше, то хуже, вызывали «неотложку», делали уколы, бегали за кислородными подушками.
5 марта я с букетиком нарциссов отправился в Домодедово – 3-го, прощаясь, мы условились, что я приеду переписать набело перед сдачей в журнал воспоминания о Лозинском, которые вчерне были уже готовы и требовали лишь незначительных доделок и компоновки. Стоял предвесенний солнечный полдень, потом небо стало затягиваться серой пеленой – впоследствии я наблюдал, что так часто бывает в этот и соседние мартовские дни. Встретившая меня в вестибюле женщина в белом халате пошла со мной по коридору, говоря что-то тревожное, но смысла я не понимал. Когда мы вошли в палату, там лежала в постели, трудно дыша, – как выяснилось, после успокоительной инъекции, Нина Антоновна; возле нее стояла заплаканная Аня Каминская, только что приехавшая. Женщина в халате закрыла за мной дверь и сказала, что два часа назад Ахматова умерла. Она лежала в соседней палате, с головой укрытая простыней; лоб, когда я его поцеловал, был уже совсем холодный.
Празднование Женского дня 8 Марта отодвинуло похороны на несколько дней. Что она умерла в день смерти Сталина, вспомнили позднее, 9 марта была гражданская панихида в морге института Склифосовского, потом гроб запаяли и самолетом отправили в Ленинград. После отпевания и многочасового прощания с телом в Никольском соборе и гражданской панихиды в Союзе писателей, 10-го во второй половине дня ее похоронили на кладбище в Комарове.
Среди подаренных мне книжек две – связывают ее надписи. На Аnnо Domini МСМХХI: «Анатолию Найману в начале его пути Анна Ахматова, 23 апреля 1963, Ленинград». И ровно через два года, на аполлоновском оттиске поэмы «У самого моря»: «Анатолию Найману – а теперь мое начало у Хрустальной бухты. А. 23 апреля 1965, Ленинград». Она принесла с собой «свое время» – и унесла его: в нынешнем ей, живой, места не нашлось бы – «ведь тех, кто умер, мы бы не узнали». Буква «А» в последней надписи, строчная в размер прописной, перечеркнута легким горизонтальным штрихом.
1986–1987
Иллюстрации
Родители жили в коммунальной квартире пятиэтажного дома в конце улицы Марата, когда я родился. Гулять меня водили – а до того возили в коляске – на площадку бывшего ипподрома на пересечении Марата и Звенигородской. Я знал, что это место называется ипподром, знал даже, что это значит, но никаких лошадей, беговых дорожек, стадионного овала посередине припомнить не могу, потому что никогда и не помнил. Возможно, до самого ипподрома мы не доходили. Что этот кусок города – Семеновский плац (восстания, шпицрутены, казни, петрашевцы-Достоевский, народовольцы), узнал только после войны, в школе. Ипподром тогда уже был разбомблен, в войну на нем стояли зенитки. Но что произвело на меня впечатление очень сильное и отложилось в памяти на всю жизнь, это взвод немцев, который провели под конвоем под нашими окнами в начале войны, наверное, в сентябре 1941 года. Вместе со всеми я смотрел на них с подоконника. Говорили, что это самолетный десант, сброшенный на ипподром. Шли строем – медленнее, чем вообще ходят люди, а как бы чуть-чуть приволакивая ноги. Потом, через год-два, я уже повторял за другими, взрослыми и ровесниками, что это специальный немецкий пленный гусиный шаг… В семье про фотографию говорили, что я с отцом «на ипподроме».
Это Витя Бокоютов, Лева Поляков, Юра Блажин. Не круг моих близких друзей, но я с ними дружил. Любил с ними дружить. Дружбы – органика молодости. Они ничего не требуют, даже верности. Само собой разумеется, что они верные, иначе с чего дружить? Их верность необременительна. Как молодость. Не вся, а, скажем, с 19 до 23–24. Тебе нравятся приятели, ты им. Лично – и как категория. Привязанность остается надолго – простота, с какой она проявляется. На ипподроме есть выражение «порядок бьет класс». То есть лошадь послабей, но хорошо к данному заезду подготовленная, может выиграть у заведомо более сильной. С годами понимаешь, что в отношениях с приятелями «давность бьет содержание». Даже у тех, на кого потом дулся, с кем ссорился, подолгу не встречался, всегда имеют перед достойными, более ценимыми, с которыми сошелся позднее, одно преимущество: они были еще тогда. Так что можно сказать и что привязанность остается на всю жизнь… Эта фотография не постановочная, при мне снимали. Могу вспомнить по корешкам некоторые книги, стоящие на полках. Тонкий чугун пепельницы. Сигареты, наверное, болгарские, «БТ», «Шипка». Тяжесть скатерти. Свитера на ощупь. Главное же, атмосферу, настроение. Ленинградские. В них нет тоски, угрюмости. Но нет веселости. Между тем все трое люди веселые, украшение компаний, сборищ, яркие, одаренные. Просто «в Петербурге жить – словно спать в гробу».
День моего рождения, 1972 год.
Слева направо. Стоящие: моя жена Галина Наринская; писатель Игорь Ефимов; Маша Слоним (что про нее ни сообщи, все несопоставимо меньше того, что она есть; в общем – маша слоним); художник Игорь Галанин; писатель Владимир Максимов; Татьяна Целкова, первая жена Олега; Габриэль Суперфин, великий архивист; Наталья Галанина, жена Игоря; Наталья Горбаневская, поэтесса и вообще фигура героическая; Светлана Штутина, близкая подруга; живописец Олег Целков; Ирина Наринская, сестра моей жены; я; Минна Сергиенко, подруга поэтов и близкая наша. В самое короткое время девятеро из гостей эмигрировали кто куда. Как все были тогда уверены – навеки: прощались, как хоронили. Гарик отсидел за «Хронику текущих событий» 5 + 2 года.
Этот город – такое же близкое и неотъемлемое от меня существо, как остальные персонажи этой книги, и столь же часто, если не чаще, мною изображавшееся. Фотографироваться с ним мне было проще всего, естественнее и незамечаемее, чем с кем бы то ни было другим. Но этот, на фоне Петропавловской крепости, снимок, на котором мне, наверно, чуть больше 20 лет, фотограф Лев Поляков, мой дружок с 4-го класса, сделал не непринужденно, а специально устроил, так он хотел. Получилось же, что я этот вид использую для собственного украшения. Сейчас, подбирая фотографии для вкладыша, я повертел-повертел изображение и решил, что не стоит о нем думать больше, чем следует. Ну да, абрис крепости меня украшает, и мне это нравится, я этого хочу, я его благодарю. Я благодарю судьбу за то, что родился и полжизни здесь прожил, что мое зрение сфокусировано и подправлено именно этим городом и конкретно этим видом.
Но не надо амикошонствовать и, не спросясь, лезть ему в неразлучные друзья. Я привык видеть его без себя, дорожу его отчужденностью. Тем самым и своей от него. Другой фотограф, Михаил Лемхин, таковым его и снимает. И раз в год, используя один из снимков как открытку, присылает мне новогодний привет из Калифорнии, где он живет. Но доходит он до меня не оттуда, а словно бы с улиц, по которым я семь лет ходил каждый день, утром и днем (скорее похожим на сумерки), в школу и из школы. А потом куда и когда угодно, в одиночку и во всех мыслимых и немыслимых компаниях, и всегда заодно с ним, с городом, – у плеча, сзади, сбоку, навстречу. Обнаруживающим себя не как набор видов, а как то, что в них кроется. Как, бывает, человек хочет передать, что ему пришло в голову или свое впечатление от чего-то, кого-то, ходит вокруг и около, ища единственное нужное слово, без которого картина никак не наводится на резкость, не совпадает со своей сутью.
Петербург, особенно зимой, особенно насыщен шевелением на вторых планах неясных фигур, призраков, очертаний деревьев и архитектуры – и вместе с тем томительно пуст. Снег летящий заставляет двигаться пустые площади и сады, лежащий убирает из кадра мешающие подробности, загоняет суету пространства под свои обширные плоскости и кривизны. Известная городская площадь с собором, памятником, дворцом, мостиком словно бы замещает их – их же тенями, так сказать, лишь следами их существования. Город превращается во фрагмент бездонного космоса, который он временно занимает. Врезающийся в невский лед Трубецкой бастион Петропавловской крепости на фотографии предстает дредноутом, вернувшимся из иномирного плаванья неотождествляемой эпохи в порт приписки. Каковым, если спросить коренного петербуржца, и является – необсуждаемо признан, от рождения.
Моя любимая лемхинская работа – фотография Малого Михайловского сада в метель. Нестрашную, домашнюю, позволяющую удальцам вроде пары на переднем плане ходить без шапки. Голые мятущиеся деревья замерзли больше людей. Левая и правая стороны сквера сходятся на многоколонности Русского музея, проглядывающей сквозь белую замутненность. Этот вид уже снимают – стоящий спиной к зрителю фотограф в нескольких шагах от пары. Ему позирует девушка, имитируя позу памятника Пушкину, высящегося на пьедестале позади нее. Там мимо памятника навстречу снегу проходит еще одна пара, совсем уже маленькая. За ней еще фигурка. Вся композиция находится в непрекращающемся движении, все объекты – идущие, стоящие – заражают им друг друга… И могу ли я не упомянуть, что мимо этого места и пролегал мой ежедневный многолетний путь из дома в школу, из школы домой? Что это я – и сад, и снег, и пешеходы, и фотограф?
Нехарактерная фотография Довлатова. Ни великолепия, ни величия, ни даже физической великости. Ни неприступности. Ни тяжелого взгляда. Ни горечи, ни что неплохо бы выпить, ни что надо завязывать. Ни «Сереги». Никакой литературы, никакого места в литературе, собратьев по литературе, супостатов, шакалов, шушеры, уважаемых, не вполне, ровни… Рассказывал (и я этого рассказа не встречал напечатанным), как, свернув с Невского на Рубинштейна, был остановлен ровесником, незнакомым, несколько обдерганным: вы меня, Сергей Донатович, не знаете, но я тоже пробую силы в прозе, и для меня было бы очень важно, не говоря уже какая честь, услышать ваше мнение. Не сейчас, не сейчас, разумеется, но если бы в обозримое время у вас нашлась минутка взглянуть на мои опыты… «Я был так поражен, – говорил Довлатов, – что есть люди, которые относятся ко мне так, как я к [он назвал имя, а потом другое, в сопровождении нескольких слов, которые вместе с именами – сюжет отдельного рассказа, который я сейчас опускаю], так польщен, так благодарен, что сказал: «Какие глупости! Мы в двух кварталах от моего дома. Зайдем и поговорим. У меня, правда, мама больна, но мы пройдем тихонько ко мне…» – «Что вы! Ни в коем случае! Я бы никогда себе не позволил… Никогда не простил…» После благородных препирательств я его все-таки уговорил. Когда мы уже поднимались по лестнице, он мне объяснял: «Серега, ты пойми. Андрей, бля, Белый и Александр, нах, Блок…» Войдя в коридор, толкнул мамину дверь: «Болеем, мамаша?» – ну и дальше.
На фото же: дочь Катерина, жена Елена, довольный и тронутый происходящим отец.
Первый раз меня выпустили за границу – по прохождении 13 инстанций, иногда абсолютно неизвестных, неугадываемых и мною так и не понятых, – в конце лета 1988 года. Официальное приглашение было из Веллсли-колледжа прочесть лекцию и провести семинар, но когда я прилетел, меня ждала еще дюжина подобных приглашений. Одно из Университета Джорджа Мейсона от Аксенова. Они жили в Вашингтоне Ди-Си, в Джорджтауне. За три дня, что я у них провел, мы поболтались по городу и окрестностям. Через два месяца предстояли выборы президента, на улицах там и здесь стояли, приглашая сфотографироваться, фанерные фигуры кандидатов и их жен. Мы своего не упустили. Портфель под мышкой у Аксенова – пилота военно-воздушного флота Италии времен Муссолини, куплен в антикварном магазине. Впоследствии подарен им моему сыну, в настоящее время, потерявший один из двух замков, находится в моем распоряжении.
Когда я от них уезжал, Майя выставила на стол завтрак обильный невероятно. У меня все 5 или 6 недель пребывания в Штатах было взвинченное, напряженное состояние, спал по пять часов в сутки, мне казалось, что во мне меняется кровь. Те, кого 15 и 10 лет назад я хоронил, а они меня, встречали меня живые. Я сказал, что съем только это и это, больше не могу. Она смотрела на меня с состраданием и повторяла: «Да ты ешь, ешь. Когда ты в следующий раз-то поешь?» С увесистым пакетом «на дорогу» мы погрузились в белый «Мерседес», который я с согласия Аксенова называл непрофессионально «полуторным», и он повез меня на вокзал.
А фотография «костюмная», за столом – 1994 год, Кеннановский Институт в Вашингтоне. Меня туда пригласили стипендиатом на 10 месяцев. Вообще-то, это заведение для историков, экономистов, политологов, такого рода людей, – со всего мира, на разные сроки. Они там проводят исследования каждый по своей теме. В отдельных, замечу, довольно уютных кабинетах. Но время от времени руководство делает как бы зиг-заг и приглашает писателя – или поэта, как в моем случае. Мне показалось – чтобы внести в это годами отлаженное предприятие некую иную струю, относительно неожиданную. До меня за 4 года был Войнович, за 12 лет – Аксенов. Два-три раза в неделю устраивается выступление кого-то из феллоуз, иногда парное, с элементами диспута. Однажды парой предложили быть мне с Аксеновым. Директором института был умница, человек обширных знаний, мастер со– и противопоставлений Блэр Рубл. Не Рубль, но чем-то русофильским отдавало.
Апшуциемс – рыбацкая деревушка в полусотне километров от Риги. Мы туда с начала 70-х выезжали на все три летних месяца каждый год, 19 лет. Выбран был за то, что глушь. У меня с Латвией отношения тесные, давнишние, сложные. Мама там родилась, родня ее обширная, разветвленная там издавна жила, в июне 1941-го мама меня пятилетнего и брата годовалого туда привезла к своим отцу, матери, родным сестрам и всему кузинажу, в Ригу. Через, наверно, неделю Гитлер бросил на восток войска, началась война, мы чудом попали в один из последних поездов на Ленинград. Дедушка, бабушка, тетушки, почти все родственники погибли: немцы и латыши согнали их в гетто, 6 декабря расстреляли в Румбуле – я об этом писал, и не раз. Кому-то удалось уйти, бежать, выжить, после войны вернулись; мы к ним, они к нам регулярно ездили. Так что в Юрмале бывал, место любил, но, повзрослев, обнаружил, что стиль жизни тамошней, культурно-курортный, мне ни к чему. Поехали с маленькой дочкой как бы и туда, но за Взморье, промахнув его, сняли дачу в Рагациемсе. А нет, лес, видите ли, недостаточно дикий, народу на пляже немного, а все-таки. И однажды в автобусе попадаю на людей с ведрами, полными малины. Откуда? Из Апшуциемса… На следующий год – туда. Домишко в 20 метрах от моря. В 5 утра баркасы уходят в море, в 7–8 приходят с рыбой. Коптильни чуть не в каждом дворе. Ягод – всех по очереди – выходи на место и, пока охота, грузи в лукошко; грибов – все виды до роскошных боровиков. Надоело море, поезжай на велике на лесное озеро. Малы дюны – сходи лесом на Морскую гору, обозри мироздание аж до Швеции, или что там на горизонте.
Года через три (пять) подтянулись приятели, знакомые знакомых, сбилась условная колония. Состав менялся незначительно, ядро еще меньше. На крыльце, сверху вниз: Маша Липман, я с сыном Мишей, Наташа Старостина с дочкой Лизой; Рома Тименчик с дочкой Лизой, Саша Дорошевич с гитарой.
У стены упомянутого домишки я, дочь, сын, жена (Аня Наринская, Миша Найман, Галина Наринская). Счастливое время.
На велосипеде я с сыном.
Наши близкие друзья Сарабяновы: Елена Борисовна (Мурина) и Дмитрий Владимирович. В начале 90-х они нашли нам избу в деревне, где сами жили, под Калязином. О них в книге ничего нет, это потому, что книга о другом. В книге нет о многом, очень важном, драгоценном. Родном. Когда мне предложили ее составить, я сам не знал, о ком и о чем она будет. Как ведь не знал, когда знакомился и сходился с теми, кто в нее попал, что они в нее попадут. Она же не автобиография, тем более не автопортрет, даже не фотка на удостоверение личности. Это книга о. «О». Кружок, протаявший под подушечкой пальца в зимнем замерзшем окне. Через который видишь, как обычно, только то, что можешь охватить глазом. Ведь если окно летнее, распахнутое, широкое, через которое видишь «всё», это «всё» все равно укладывается в пропускную способность твоего непосредственного зрения, исключает то, что могло бы быть увидено «еще», потому что одно «еще» мешает другому. Пролетающая ласточка повисшему пауку, девочкина скакалка пролетающей ласточке… Мы сидим за столом в той самой, подысканной ими избе. За окном холодноватое тверское лето. Написать, что вмещается в эту картинку, было бы как написать еще одну книгу, не тоньше этой. Этому уже не бывать, но ведь можно хотя бы притронуться кончиком языка к верхней губе в инстинктивной вере, что так удастся почувствовать вкус этой минуты, дня, других мгновений, дней, лет с Лелей и Димой.
60-летие жены Романа Каплана, красавицы Ларисы, в «Русском самоваре». Ее отсутствие на фотографии так же, как и некоторую самодовольную мордатость присутствующих, возмещает главный герой события, изваянный из льда лебедь, подарок Романа (который с трубкой). Отмечаю определенный сплав шика и изящества: не колье какое-нибудь, сующее под нос гостям свою банковскую цену, а художественная вещь, на глазах у всех исчезающая. Однажды грек, мастер по изготовлению лир, предложил поучить меня танцевать сертаки (по совпадению было это тоже на дне рождения его жены). Оказалось делом весьма непростым, и когда я не одолел счета «раз-и», мы прошли к столу, налили по рюмке и разговорились. Он спросил, публикую ли я свои стихи (жена успела сказать ему, что я их пишу). Я ответил, что в последнее время (было самое начало 90-х) да, их стали печатать… А зачем?.. Ну, так принято… Мало ли что принято, отстранил он объяснение. Нет, это против искусства. Искусство – это как мы с вами протанцевали, кончили, и ничего не осталось, как бы и не было… После «Самовара» я бы решительно подтвердил его подначку лебедем.
На фотографии справа:
В двухкомнатной квартире Джованни Бутафавы (см. очерк «Великая душа») было катастрофически тесно: повсюду, почти впритык, стояли колонки книг в человеческий рост, среди них пробирались, как между сталагмитов. Теснее всего мне казалось на кухне, там тоже были книги в вертикальном измерении, хотя и ниже, стопками, зато в ней во множестве громоздились кастрюли, миски, котелки, сковородки и проч., поскольку он, помимо всех своих талантов, широко известных, был еще замечательным кулинаром. Мне лестно вспомнить, что когда мы в первый раз приехали в Рим, он закатил ужин, мясо для которого купил, как он выразился, в «маленьком мясном бутике», где столкнулся с Джульеттой Мазиной. Они были знакомы, она спросила, каков повод, он объяснил – «приезд русских друзей». В другой раз – я прилетел один – он объявил мне, что вечером мы пойдем в дорогой ресторан. Дороговизна – определяющий критерий. Он заведовал тогда отделом культуры в «Эспрессо», а «Эспрессо» был прекрасно осведомлен в самых разных областях итальянской жизни. Ресторан был из тех, в который надо звонить по телефону, чтобы забронировать место, а подойдя к двери, в звонок и некоторое, правда короткое, время ждать фейс-контроля. Была бутылка рислинга, лучшего я не пил, и был судак по-польски, всего лишь, блюда вкуснее не едал. Когда мы вышли, я ему именно это сказал. Он принял к сведению, но без восторга. Да, – согласился, – но недостаточно дорого.
В продолжение нескольких лет прилетал в Москву на свой день рождения, в середине января. Он был поклонник кухни моей жены, конкретно – грибного жаркого. С собой привозил бутылку «Вдовы» и доску, на которой располагались разные сорта сыров. Однажды его поселили в «Космосе», он вышел к завтраку и заказал творожники, тоже любимые. Официант принес, он спросил, а сметана? Тот сказал, кончилась… Этого не может быть, завтрак только что начался… Тот сказал, ладно, только без шума, – и вынес под полой передника мисочку со сметаной, из которой шваркнул на творожники две ложки. Японец, за соседним столиком евший сосиски, не знавший по-русски ни слова, замычал со страстью и показал рукой: мне – из-под передника – раз-два. Получив, встал и выдал Джанни серию ритуальных поклонов.
Желающих получить о нем более насыщенные, яркие, хотя менее документальные сведения отсылаю к стихотворению Бродского «Вертумн», написанному на преждевременную смерть Бутафавы. Это прекрасные стихи. У меня к ним лишь две крошечные претензии. Первая – в них, на мой вкус, некоторый излишек торжественности, отчужденности от тепла, тем более жара, который исходил от Джованни при жизни, принадлежности к камню и растительности в ущерб витальности человеческой. Вторая – что друзья-интеллектуалы поэта (отчасти и мои) сказали, что чтобы получить в подарок такое стихотворение, стоило и умереть. Ничто не стоило.
Архимандрит Софроний (Сахаров) (1896–1993).
Две фотографии Стася Красовицкого. На первой он (в косынке, на десятилетия предвосхищающей бандану) с Игорем Куклесом, художником, замечательным, талантливым не только в пластике своего искусства, но и в глубине концепции изображаемого. Это Север, конец 1950-х. Вместе с поэтом Валентином Хромовым они тогда отправились в Вологду (поездом), оттуда колесным пароходом через озеро, дальше километров 20 пешком до Ферапонтова монастыря. Тамошние храмы стояли в те дни в развалинах, в лучшем случае по чуть-чуть ремонтировались.
Такие путешествия в условиях и обстоятельствах непредсказуемых были тогда не редкостью и по своей сущности прямой противоположностью нынешним, более экскурсионным, облегченно туристическим, по большей части автомобильным. Безоглядность, с какой многие мои приятели и я сам пускались в дорогу, вознаграждалась ощущением освобожденности в смысле слова, несравненно превосходящем «проведение отпуска диким способом», подлинности происходящего, короче, свободы, не нуждающейся в осознании. Свободы от всего и для всего. Время было наше, открывавшиеся виды, мельчайшие подробности, пробующие себя в разных состояниях стихии.
Второй снимок – внутренность только-только восстановленного, еще не обжитого храма Воскресения на острове Валаам, начало 1990-х. Он состоял под юрисдикцией Русской Зарубежной Церкви. Красовицкий, отец Стефан, ставший тогда ее священником, должен был в нем служить. Но Ельцин росчерком пера отдал храм в числе других Московской Патриархии. Осталась вот эта картинка необычайной внушительности, вместе умилительной, пронзительной, исполненной ясности и тайны.
Совхоз «Шушары», осень 1955 года. Мы на картошке – студенты Технологического института имени Ленсовета, специально для этого снятые с занятий. (И всех прочих учебных заведений, и всех городов СССР, и каждую осень.) Никакого недовольства, скорее так-этак развлекающая перемена обстановки. Лошадь всамделишная, не муляж, запрягаю-распрягаю более или менее умело. Покрикиваю «но», «тпру», возжами скотинку не нервирую, без крайней нужды не натягиваю. Что должности этой заслуживаешь, надо доказать, иначе стой весь день под дождиком в вязком глиноземе, выковыривай за плугом картофелины, наполняй ящик. Ночной сон в соломенных тюфяках на полу клуба вповалку. Ровная бесцветность вызывающего озноб пространства до горизонта и за. В сторону неизвестно где именно, но известно, что там, недалеко, прячущихся роскошных парков и навсегда, как их ни реставрируй, разоренных дворцов Царского Села и за ним Гатчины. Бурты картофелин – нищие горстки под низким-низким небом, которыми не насытить и полевых мышей, неожиданно юркающих в бороздах.
Это наблюдение общее, но лучше всего переданное Чеховым, дескать, каждая мать заявляет, что у ее младенца по-особенному глазки блестят, «но вот мой действительно необыкновенный, и это во мне не только мать говорит…». Чего наглядной иллюстрацией и выставлено это фото.
Когда Ане было 5 и она заболела ангиной, пришла участковый врач, сказала, что пропишет антибиотики. Аня сказала: «Папа против антибиотиков». Разговор шел при мне. Врач взглянула на меня, спросила: «Твой папа врач?» Она ответила: «Он СЫН врача». Объясняя непонятливой что-то вроде, что он не майор, а генерал-майор.
Миша же, 7-летний, ранней зимой был отпущен во двор. На каток, еще не залитый, зато прекрасно обозреваемый из квартиры. Через некоторое время он исчез. Мы с женой по очереди побежали туда и сюда, в ближайший парк, к школе, в отделение милиции. Пошел снег, быстро стемнело. Стала накатывать паника… Коротко. Мы увидели его под фонарем на дорожке, ведущей к подъезду, в семь вечера. Шел в осыпанной снегом шубке, не торопясь. Я выбежал во двор, что-то обличительное закричал, отвел руку, чтобы от души хлопнуть по попке. Он, в моей истерике не участвуя, остановился в нескольких шагах, спокойный, происшедшим как бы обрадованный, чуть-чуть развел руки в стороны и проговорил: «Захотелось немного свободы».
Фотографии 1974 и 1978 годов.
На второй – моя мама, Ася Давыдовна Авербух. Она была заметным в Ленинграде врачом-педиатром, к этому времени уже больше десяти лет как вышла на пенсию, но родители ее бывших пациентов и сами ставшие родителями бывшие пациенты постоянно звонили по телефону, просили приехать или принять у себя новую поросль. Между прочим, во время работы в поликлинике на улице Глинки (через сквер у Консерватории) она оказалась лечащим врачом некоторых моих друзей, Бориса Тищенко, Насти Браудо, Марины Басмановой, потом их детей; Мойка, проспект Римского-Корсакова был ее участком.
В свое время она окончила медицинский факультет университета Монпелье (потом в СССР Ленинградский педиатрический институт). Когда я был младенцем, в комнате стояла корзина (привезенная, кстати сказать, из Франции) с мамиными вещами на первое время после ожидаемого ее ареста. Ее ближайшая подруга по Монпелье была арестована в Харькове как японская шпионка. Но маму (допускается сказать: нас) Бог миловал. (Подругу выпустили в бериевскую пересменку.)
Над головой Ани – картина Сусанны Чернобровы «Олень», очень нам нравящаяся, милая нам и вообще прелестная.
Осень 1964 года, на скамейке возле ахматовской дачки в Комарове. Снимал Лев Поляков, я предложил ей читать стихотворение «Наследница». В нем 12 строчек – и фотографий вышло 12, отличались одна от другой только выражением ее лица (незначительно), положением губ, открытыми-закрытыми глазами. С годами они неприметно от меня разошлись по разным людям, просившим подарить или «на время», а кто, может, и «заиграл». Возобновить пропавшие тогда было просто, Поляков напечатал бы еще набор. Но потом он эмигрировал в Нью-Йорк. Я огорчения не ощущал и не ощущаю. Глядя на оставшиеся фото и зная стихотворение наизусть, я слышу ее свирельное контральто: «Казалось мне, что песня спета – средь этих опустелых зал». Подъем интонации: «О, кто бы мне тогда сказал, Что я», – перепад: «наследую все это! Фелицу, лебедя, мосты» – почти деловое перечисление драгоценностей, без тени похвальбы, ни вот настолько не выпячиваемое. «И даже собственную тень. Всю искаженную от страха. И покаянную рубаху. И замогильную сирень». Ни йоты поэтического вымысла, ни клочка вуали искусства. Что гармония идеальна, что в рифму – так потому, что так эта речь сложилась, эти слова, эти пункты свидетельства о наследовании сами собой сошлись.
Репродукция картины Олега Целкова «Некролог», 1971 год. Умер его близкий приятель, он изображен перед занавесом, черно-белый, в рост. На другой половине занавеса автопортрет художника, в тонах багровых. А над ними в три ряда портреты друзей Целкова еще живых, тоже черно-белые. На них при всматривании можно опознать некоторые лица. Эрнста Неизвестного. Евтушенко. Виктора Голявкина. Володи Марамзина. Бродского. Меня, грешного.
Две фотографии – комаровских, зима 1962 года, оттепельный день. Втроем – Бродский, я, Глеб Горбовский. Личность редкостной органики, выразительности, обаяния, поэт яркий, крупного калибра. Кроме стихов, сочинял время от времени песни, среди них «Когда качаются фонарики ночные», невероятной популярности. Однажды какая-то компания в электричке ее при нем под гитару запела, а он, выпивший, сказал, что не так, а ты что за знаток, а я автор, началась воодушевленная потасовка. Я не меньше ценю «Зеленого ювелира», «На дива-, а на дива-, а на диване», «В Ватикане идет мелкий дождичек». Но это всё на фоне стихов, подлинных, свежих, пронзительных, мы их тогда переслушали сотни, дюжину я и сейчас помню наизусть.
На фото полуторном Бродского оказалось только половина. А внушительна, как целая.
Изборск, тот же 1962 год. Марина Басманова. Снимал тот же ИБ.
У столба с названием деревни Норинская, куда его сослали: это февраль 1965-го. О той поездке см. «Рассказы о АА».
Приподнятое настроение – по поводу конца ссылки. Бродский в итальянской куртке. Ахматова привезла ему и мне по куртке из поездки в Таормину. Я к своей к этому времени уже привык, уже мог предпочесть ей и свитер (тоже кем-то привезенный). А тунеядцу, конечно, внове, носил не снимая.
Вадим Борисов.
В центре Вадим Борисов с дочкой Машей; рядом Соломон Волков. Верхний ряд: я, Наталья Горбаневская, Георгий Левинтон. Если я не ошибаюсь и это а) Апшуциемс и б) Волков приезжал в Апшуциемс лишь однажды, то дата – 9 августа 1975 года. Мы тогда почти весь день – солнечный – провели на лужайке поблизости от дома, на пледах. К вечеру стало холоднее, я пошел в дом за свитерами. В эту минуту у соседей по радио сказали, что умер Шостакович. С этим я вышел к честной компании. Волковы (он и жена) бросились бежать к шоссе в надежде как-то добраться до Риги и уехать в Москву.
1988-й. Мой, наверно, второй день в Нью-Йорке. Вчера, чтобы я от всего вместе сразу не сбрендил, ходили по его райончику в Гринич-Виллидж, а сегодня он вывел меня на Бруклин-Хайтс. Щелкнуть нас предложил проходивший мимо господин с барсеткой на запястье. Я, поблагодарив, протянул ему камеру, Бродский же зыркнул неодобрительно, встал на скамейку неохотно. Я спросил, что не так. Он сказал: «Цвет сумочки его мне не нравится». Правда, снявшись, не забыл показать мне щелочку на том берегу реки: «Уолл-стрит». Я позднее тоже всем здесь прогуливаемым ее показывал.
Другая фотка – у Бродского во дворе на Мортон. «Жил две (или три?) ступеньки вниз, квартирка тесноватая»: ничего, дворик тоже ему принадлежал, не забудем. Рядом Игорь Ефимов. Понятно, не помню, что я тут говорю, но что-то, кажется, нравящееся больше барсетки.
А это нас дня через три уговорил зайти к нему в фотоателье классный фотограф Леонид Лубеницкий, наш знакомый еще по Ленинграду. Сделал кадров с полсотни. Проходит неделя, я говорю: где снимки? Завтра будут, послезавтра принесу. Еще через неделю захожу в ателье: где?.. У меня только спечатки… Давай спечатки, сделаешь фотографии – верну… Назавтра ателье сгорает, подчистую, в центре города, с сиренами, со шлангами. Я остаюсь со спечатками. Парочку вот решил опубликовать.
Тому, кто в Венеции (см. очерк о Бродском) сфотографируется так, чтобы в кадр не попали гондолы, мой отдельный респект.
Улетаю в Москву, середина 90-х. Стоят, кроме ИБ, Яков Гордин и Игорь Ефимов. Снимает Роман Каплан, его же и квартира.
Виктор Голявкин.
Свет. Заманчиво.
Примечания
1
Скажите, государыня, где князь Павел? – Он уехал с моей женой! (фр.)
(обратно)2
Так было уже один, а м.б. и не один раз в 20-х годах, когда еще были живы мои читатели 10-х годов. Тогдашняя молодежь жадно ждала появления какой-то новой великой революционной поэзии и в ее честь топтала все кругом (всп. Гаспра, 1929). Тогда все ждали чудес от Джека Алтаузена. (Примеч. А. Ахматовой.)
(обратно)3
Собеседник (фр.)
(обратно)4
«Чтоб с сиделками тридцать седьмого/ Мыла я окровавленный пол» – строчки из стихотворения «Все ушли, и никто не вернулся…».
(обратно)5
А вот что вспоминает об этом дне К.М. Азадовский, тогда молодой человек.: «Кто-то позвонил мне по телефону и сказал, что Ося Бродский освобожден из ссылки. Не помню, то ли меня попросили сообщить об этой радостной новости Ахматовой, то ли я сам решил, что надо бы это сделать. В тот день, когда мне позвонили, у меня в гостях была итальянка Сильвана Де Видович, писавшая тогда в Ленинграде свою дипломную работу про Сухово-Кобылина, и я предложил ей поехать вместе со мной в Комарово.
Домик Ахматовой я нашел, расспрашивая прохожих. Анна Андреевна, конечно, не узнала меня, и я назвал ей свою фамилию и напомнил про зимний визит. Познакомил ее с Сильваной. У Анны Андреевны и на этот раз гостила какая-то незнакомая мне дама, оказалось – Э.Г. Герштейн. Я объяснил причину нашего внезапного вторжения. Анна Андреевна выслушала новость об Иосифе, сообщенную мной, внимательно и, я бы сказал, сдержанно, что меня слегка удивило. (Мне показалось, что она уже об этом знает от кого-то другого.) Тем не менее она произнесла вслух: «Ну что ж, это большая радость, сейчас мы будем ликовать»; с этими словами она стала накрывать на стол и попутно, обратившись к Сильване, спросила: «А вы, Сильвана, знаете, что такое ликовать?» Бедная Сизи, и без того смущенная знакомством с Ахматовой, пролепетала что-то невнятное, но стало ясно, что она не очень понимает значение этого слова. И тут Анна Андреевна, глядя на зардевшуюся Сильвану, великодушно молвила: «Не огорчайтесь, Сильвана, мы, честно говоря, сами не знаем, что это такое». А потом подробно объяснила нам, как возникло и пошло в России слово «ликовать» (по великим праздникам, когда из храма выносят икону, толпа падает перед ней на колени и – ликует). Потом мы сели за стол и начали «ликовать» (кажется, выпили даже водки). О чем шел разговор, в точности не помню. Анна Андреевна интересовалась, чем занимается Сильвана, и весьма одобрительно отозвалась о Сухово-Кобылине, назвала его «большим» писателем. Что-то говорила об Осе, скорее в бытовом плане: о его возвращении, прописке, устройстве и т. д.». (Примечание. Объяснение слова «ликовать» не совпадает с общепринятым, Азадовский приводит его так, как запомнил.)
(обратно)
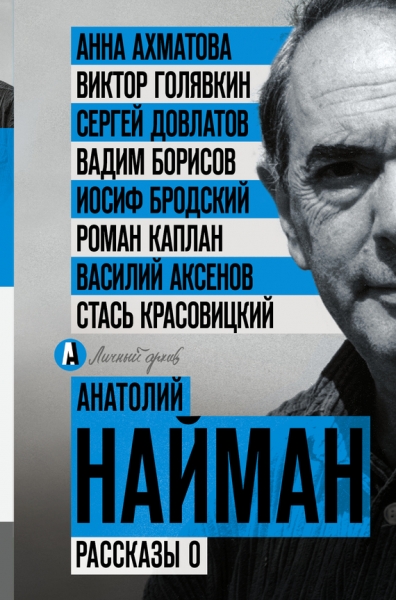



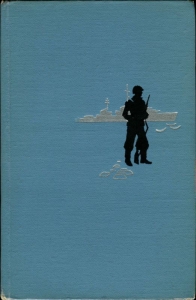
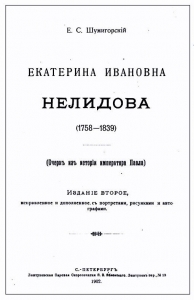


Комментарии к книге «Рассказы о», Анатолий Генрихович Найман
Всего 0 комментариев