Сергей Куклев В голове моей опилки…
Возможно, это и неправильно, но мне кажется, что название этой книги нужно объяснить. Когда-то Дейл Карнеги (да-да, это тот самый парень, который лучше вас знает, какие вам нужны друзья) написал: «Кто из вас в своей жизни хоть раз пилил опилки? Конечно, никто не может пилить опилки. Они уже напилены. То же самое с прошлым. Когда вы начинаете беспокоиться о вещах, которые уже прошли, вы занимаетесь тем, что пилите опилки».
И вот тут происходит логический парадокс. С одной стороны, старина Дейл, конечно, не может ошибаться при таких-то тиражах. С другой – мне почему-то кажется, что любой человек очень любит свое прошлое, потому что оно только его. В этой интимной комнатке, где горит оранжевый торшер, на диване лежит теплый плед, а в стакане налит портвейн, человеку хорошо. Даже если вокруг дивана стоят неясные тени прошлого, а в платяном шкафу скелеты играют в покер.
Прошлое прекрасно своей неповторимостью, оно и делает нас уникальными. И в этом смысле я не исключение. Думаю, что нет ничего интереснее и удивительней моей жизни. Однако, про нее уже написано. И даже про то, как писалось, тоже написано. Понимаете, какая засада? Я в плену своего прекрасного прошлого. И это чертовски облегчает мою задачу. Осталось всего лишь красиво разложить опилки на мониторе, чтобы вам уютно было в моей комнате с портвейном и скелетами.
Когда мне было 20, читатели приходили в редакцию в поисках 40-летнего репортера, написавшего «про это такими словами». Глядя на вихрастого парня в свитере, только что вернувшегося из командировки и остервенело бьющего по клавиатуре, они не верили в авторство «таких слов», качали головой и желали удачи. Может, при этом про себя поминали переселение душ, тихонько крестились и пили дома валерьянку – не знаю. Было не до того. На носу – дедлайн, редактор хочет уже читать репортаж, а у меня только-только третья тысяча знаков выползает на экране. Голову поднять некогда, да и незачем. Я снова возвращаюсь туда, откуда приехал два часа назад, чтобы процедить через мозг и душу события, судьбы, пейзажи и выдать их в утреннем выпуске газеты.
Хотел бы я сейчас снова научиться так неистово чувствовать, писать и жить... Но – мне уже 40, и с журналистикой покончено. Хочется верить, что не навсегда, хотя особых предпосылок для оптимизма нет. Репортер, как скрипач из «Кин-дза-дза», уже не нужен. Мое ремесло погибло под спудом пресловутого клипового мышления. Кто будет тратить целый час на неторопливые репортажи о местах, где вряд ли окажется, и людях, с которыми вряд ли познакомится? Гораздо проще пролистать ленту соцсети. Там ведь быстро и во всех ракурсах покажут, что в очередной раз «взорвало Интернет».
Хуже всего то, что нынешний «репортер» должен подать тему под нужным углом, а это уже нечестно. Хочешь остаться честным – будь готов к увольнению (вопреки массовому убеждению, большинство журналистов едва сводят концы с концами, и увольнение для них смерти подобно) или смени профессию, предав предавшую тебя. Очень точно сказал мой первый редактор в журнале «Русский Newsweek» Леонид Бершидский про то, что медиа перестали выполнять свою главную функцию – «защищать слабых от сильных». Сказал – и эмигрировал в Германию.
Мне, в конце концов, тоже пришлось сделать именно так – эмигрировать, но только из профессии. Обидно, ведь 20 лет я только и делал, что писал для своего – как всегда считал – читателя. Однако, предисловие затянулось, но чтобы вы лучше меня поняли, начну с колонки, написанной в последний год моей журналистской карьеры. Наверное, и сам хочу понять, кто я – вынужденный герой или сбитый летчик.
Итак, опилки номер раз...
***
КРИЗИС СРЕДНЕГО КЛАССА
Я смертельно боюсь жизни. Погоня за уровнем существования среднего класса сделала меня заложником, ожидающим публичной казни перед телекамерой.
Ипотека превратила в раба системы. Когда-то казалось, что выбора нет, и ипотечное ярмо не натирало шею. Собственная крыша над головой была благом, а сил тащить воз было много. Теперь каждое 20-е число месяца я обреченно тащусь в банк, чтобы отдать. И каждое 20-е понимаю, что стоит остаться без работы, и уже банк сможет взять. Меня, мой образ жизни, да даже мою правую почку, как бы дорога она мне не была...
Новости, в которые по долгу службы я ежедневно погружаюсь с головой, заставляют виски седеть, виски – пить, а мыслями постоянно возвращаться к жене и дочерям: как они там без меня? И никаких veni-vidi-vici, приспособляемость – залог выживаемости.
Полярность сетевых суждений, цифровой суицид, виртуальные изнасилования, вечное предчувствие войны, просьбы о помощи, конфликты интересов, отсутствие какой-то законченной правды – вот мир, в котором я живу и в котором боюсь жить.
За рамками этого мира – семья и близкие. Семью нужно кормить и любить, близких – любить и пытаться сократить дистанцию. Не отдалиться тяжело, потому что хочется одного: ограничить круг общения диваном и каналом «Дискавери».
Замечаю, что не я один такой. Устав от общения по «Скайпу» и в «Фейсбуке», друзья не спешат принять приглашение в гости. И к себе не зовут, даже если скажешь, что несешь коньяк. У каждого – семья, дом, работа, сон до обеда в субботу и шкала жизненных ценностей, похожая на ценники у соседнего дискаунтера. Обесцененная...
Раньше мы писали стихи и пили вино у костра. Творили безумства, за которые не было стыдно наутро. Мечтали до мордобоя и любили без пожарного выхода. Там, где была лестница, мы съезжали по перилам, там, где стреляли, мы вставали в полный рост. Теперь мы встаем в 7:30. В своем вечном самокопании сравниваем, уравниваем. Урываем. Зарываемся. Пьем в одиночку, любим одиночество, живем в одного. Смерти не боимся – ее нет, а жизнь – пугает до депрессии. Блокировка кредитной карты – как серпом по амбициям. Вечер пятницы – словно утро выпускного...
Часто думаешь, где тот юморной и беззаботный я, которому море было по колено, а проблемы – по щиколотку? Где мы? Почем продали свои огни, воды и медные трубы? За что?
Психиатр объясняет про ответственность, про отношение к жизни, про то, что все перемелется, и мука будет. Говорит про кризис среднего возраста и выписывает фенобарбитал, по две штуки на ночь. Я настаиваю: это кризис среднего класса, выбрасываю таблетки в унитаз и иду за пивом...
***
Депрессия хороша тем, что имеет свойство периодически оставлять человека. Тогда он бесшабашен, весел, сорит деньгами и целуется взасос. Кому-то для такого состояния достаточно вовремя полученной зарплаты, кому-то любви, ну а мне хватало новых острых ощущений. Из-за этого я и пошел в репортеры, хотя до последнего был уверен, что стану учителем русского языка и литературы. По крайней мере, такую стезю мне готовил родной Челябинский госуниверситет.
Люблю вспоминать годы учебы. Они пришлись на те самые тяжелые 90-е. Странное время. Гораздо более эгоистичное, чем пресное сегодня. Я имею в виду то, что каждый мог себе позволить делать все, что хотел. Наемные убийцы – убивать, юные бизнесмены – обманывать и обманываться, странные парни, потерявшиеся в 80-х и не обросшие жирком к 90-м – вроде меня – писать стихи, пить пиво на центральной городской площади, ну и учиться, конечно. С одной стороны, это давало отсрочку от армии, с другой – глупо было не получить высшее образование, пока оно не стало платным.
В университет я поступил легко – с тремя «пятерками» за все экзамены. Все потому, что за два года до окончания школы попал в первый в городе лицей. Тогда еще никто не знал, чему должно учить лицеистов, поэтому занятия проходили на базе университета, и к моменту поступления в моей голове осела, в сущности, учебная база двух курсов.
Я очень плавно и безболезненно сменил школьную форму на студенческие джинсы. Осталось только понять, как провести ближайшие пять лет максимально весело. Это оказалось несложно. Представьте: филфак, 120 студентов на потоке, из них только восемь молодых людей, остальные – фривольные дамы. Помимо интрижек и романов, большая часть мужского населения нашего потока увлеклась хоровым пением в фольклорном коллективе. Не скрою, влились мы в него не только из-за красоты казацкой песни и городского романса, но и по причине доступа в помещение для репетиций – ТДКС. До сих пор не знаю, как расшифровывается эта аббревиатура, но отлично помню, что в «тадике», как мы называли эту обширную комнату с четырехметровым потолком, лежали балалайки и дудки, барабаны и гитары, имелась посуда, самовар и пианино. Остальное мы несли сами, благо до ближайшего пивного ларька от здания университета было метров двести. Довольно скоро выяснилось, что шарообразные плафоны, висящие на историческом факультете (наш корпус совмещал филфак и истфак), вмещают ровно пять литров пива. Итак, кто-то громоздился коллеге на плечи, отвинчивал плафон и передавал вниз. Оперативная бригада получала деньги и бежала к ларьку, попутно заходя в булочную за бубликом. Бублик – это важно. На него ставили плафон, не в руках же его держать. Потом, дабы не оставлять улики, отслужившую емкость пускали в свободное плавание по реке Миасс и закидывали камнями. Через несколько месяцев истфак освещали голые лампы. Осталось добавить, что репетиции проходили раз в одну-две недели, а в другие дни хозяевами «тадика» были мы, такие дела.
Отсидев важную лекцию профессора (на осколки советской образовательной системы вроде «Истории советской прессы» мы не ходили принципиально), наш крепкий коллектив собирался в «тадике» и до ночи в опустевшем корпусе универа раздавались голоса, бряцание гитары и прочая аморальщина. Мы делились планами, смотрели в будущее, соревновались в смелости. В общем, вели себя, как примерные студиозусы из гоголевского «Вия». Часто в ТДКС и ночевали на столах. Утром снова бежали за пивом, и круг замыкался.
...И все-таки сейчас я часто задаю себе вопрос: как мы выжили? За других говорить не буду, но наша семья тяжело пережила 90-е. Отец ввязался в сомнительную авантюру, однозначно похожую на финансовую пирамиду. Его оправдывает то, что он работал персональным водителем создателя пирамиды, то есть был ближе к телу. Но совершенно непонятно, за каким чертом он убедил всех домочадцев (и меня в том числе) в необходимости продажи квартиры и перемещении немалой суммы в карман его работодателя. Дальше – классика. Пирамида накрылась, основатель улетел покорять берега офшорных стран, а мы остались без жилья. Зимой. В 90-е, когда зарплату могли выдать и продуктами производства предприятия. Хорошо, если колбасой, а если тазиками?
Хочу заметить, что уныние никогда не просачивалось сквозь железобетонную броню батиной уверенности, он устроился в ЖЭК и начал отрабатывать стаж, чтобы получить служебное жилье. Но несколько лет мы жили на квартирах у родственников и друзей. Мое место обычно было на кухне, на диванчике, под которым лежали учебники. Рядом – табуретка с магнитофоном и пепельницей. В голове – литература средневековья, в кармане – нож и ключ от «тадика». Утром позавтракаешь банкой пива с сигаретой – и на занятия, а к вечеру кривая вывозит порой в такие загадочные дали, что однажды перестаешь строить планы и отдаешься течению.
Кстати, о течении. Однажды гужевали мы на съемной квартире у моего близкого друга Женьки. Денег было не ахти, поэтому купили водки, каковая в то грозовое время изготавливалась во вселенских масштабах из любого сырья, способного валить с ног. В нашем случае напиток имел изысканный запах одеколона – видимо, чтобы замаскировать сивушную вонь. Выпили, закусили макаронами, еще выпили, дальше пробел, а наутро мы с Женькой не смогли оторвать головы от подушек, настолько тяжелым было похмелье. Ползком (и это не метафора) я добрался до кухни и снял с плиты остывший чайник. Он был полон, и нам хватило его на двоих. Вырвало, конечно, зато стало гораздо легче. О, благословенная юность... Сейчас я бы еще пару дней не помышлял о том, чтобы выйти из дома, а тогда мы переглянулись и отправились на лодочную станцию, купив по дороге пивка.
Водные путешествия, как учит нас Джером К. Джером, считаются прекрасным средством для угнетения хандры и оздоровления. Мы взяли лодку напрокат и бодро погребли к середине Первого озера. Прохладный ветер быстро выгнал похмелье из головы, ноги, погруженные по щиколотку в обжигающую воду, сладко ныли. Погруженные – потому что в нашем плавсредстве обнаружилась дыра. Ее мы нашли и заткнули носком, но вот воду вычерпать было нечем. Через какое-то время заметили странное оживление на берегу. Завыла сирена, и люди стали махать руками. Наверное, что-то случилось, но тут Женька заметил, как в опоры ЛЭП бьют молнии. Мы немного понаблюдали за буйством стихии, а потом поняли, что очень скоро попадет и в нас.
Полузатопленная лодка шла к берегу не очень-то ходко, а вот чернильные, в каких-то осьминожьих завитках тучи, напротив, нагоняли нас уверенно. Оставалось каких-то сто метров до берега, и тут начался град, шквал и полный Айвазовский. Лодку моментально перевернули волны, вплавь мы добрались до земли. Через полчаса вакханалия закончилась. Думаете, на подгибающихся ногах и с колотящимися сердцами мы долго еще переживали налет шторма? Нет, выжали джинсы и отправились в ларек в поисках контрафактного спиртного. Весело было, но иногда я спрашиваю себя: как мы выжили?
В продолжение темы о веселье и выживании добавлю к моим опилкам еще одно воспоминание. В 2005 году репортаж о треке к базовому лагерю на Эвересте первоначально был размером в 28 страниц «Ворда». После редакторской правки осталось всего шесть, журнал-то не резиновый. Жалею, что не сохранил первую версию, зато пришлось потом вспоминать все заново и получилось... веселее.
***
ЭВЕРЕСТ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
Как-то мы с фотокорром Андреем по затейливому заданию редакции добрались до базового лагеря на Эвересте. Три недели провели в Непале, три недели мечтали вернуться в оттаивающую мартовскую Москву. Непривычен нам гималайский быт. Впрочем, я немного брюзжу. На самом деле не хватало только душа, пельменей и воздуха. «Высота убивает медленно. Берегись!» – так было написано у входа в Сагарматха нэшнл парк. Мы береглись по мере сил, хотя однажды чуть было не встретились с особенно близким в горах Создателем во время перехода, который по самым скромным подсчетам занимает двое суток, а не десять часов...
Отель «Роял Сингхи» в самом центре Катманду встретил нас кондиционированной прохладой. «Андрей, ты какие языки знаешь?» – задумчиво спросил я фотокорра, шевелящего босой пяткой на кровати в номере. «Никаких», – задорно ответил Андрей и начал разбирать тяжеленный рюкзак с фотографическим стеклом и железом. «Плохо...» – так же задумчиво протянул я, наблюдая в окно, как из пыльного зеленого джипа вываливаются вооруженные солдаты. Я более или менее понимаю три языка, но ни на одном не говорю бегло. А тут... Мы летели 12 часов, здесь гражданская война, король Гьянендра и никакой надежды на проходящие через Бологое электрички.
Звонок в номер: «Хелло, внизу вас ждет проводник». На ресепшн действительно ждали. Трое непальцев в кожаных куртках, узкоглазые, темнолицые и деловые. Этакие братки. Познакомились, аккуратно пожали руки – в Непале свежи еще предрассудки насчет нехватки туалетной бумаги и использования подручных или – на крайний случай – ручных средств для подтирки.
Да ладно, в базовом лагере нам пришлось пить чай из воды напополам с мочой яков, которые вереницами таскают грузы из долины в горы. Облегчаются они по пути, вода – из гигантского ледника Сола Кхумбу, который тащится от долинной части Непала до самого Эвереста. Вот и приходится пить то, что есть. Вертолеты с «Кока-колой» тут не летают. Один Ми-8 вот отлетался – лежит сейчас брюхом вверх у самого базового лагеря. В нем теперь Новый год отмечают те, кто готовится к восхождению в декабре. Лентами украсили, трехцветными буддистскими флажками. Внутри – запустение и пустые канистры из-под спирта...
Так вот, братки на ресепшне собрались, чтобы обсудить маршрут, а заодно понять, чего же этим странным русским с бритыми головами надо. Глава принимающей турфирмы счел за честь лично встретиться с непритязательными клиентами. Лично отметить места ночлега, питания и прочего сервиса. Небрежно постукивая сигаретой о край пепельницы в подлокотнике зеленой кожи кресла, я заявил, что ничего нам из сервиса не надо, люди нас интересуют, безумцы, тратящие массу денег, времени и здоровья на восхождение. Директор напрягся и еще раз переспросил на мяукающем английском. Я заверил его, что все так и есть. Тогда он с трудом поднялся из кресла, широко махнул рукой и сказал: «Ит ыз ё гайд!» Неприметный парнишка, разглядывающий до того открытки на стойке, подбежал и, заглядывая в глаза, представился. Я даже не понял, что он сказал...
На следующий день мы сели в самолетик – бывший французский бомбардировщик – и отправились в Луклу, чтобы оттуда начать наше путешествие по Гималаям.
В долинной части Непала спокойней. Крестьянский быт, зелень, бьющая в глаза, кусты с ярко-красными цветами – одним из символов страны. Если я правильно понял, то цветы эти не что иное, как суданская роза, впрочем, за верность этого утверждения не ручаюсь. Проводник бодро попер в гору. Увидев, что журналисты задыхаются с непривычки, перешел на спокойный шаг. В горах он преобразился и стал уверенней и непринужденней. «Слушай, меня зовут Сергей, это – Андрей, а как тебя зовут, только покороче, типа Сергей, Андрей?» – задал я мучающий меня вопрос, ведь с этим худеньким парнишкой нам предстоит провести три недели. «Анг Нуру, – сказал он. – Можно просто Нуру». О’кей.
Нуру оказался большим приколистом. Первые пару дней он пытался услужить. Вечерами старательно выпытывал, принести ли нам тазик с горячей водой в номер гостинички-«лонжи» или вынести его на улицу. Нам, выросшим еще в советские времена, такое низкопоклонство казалось глупым и вычурным. Пришлось провести с Нуру воспитательную беседу и объяснить, что крепостное право в России отменено давным-давно. Тогда наш «гайд» осмелел и позволял себе вечерами пропадать в компании с другими шерпами-проводниками.
Да, шерпы... Это особое племя – тибетцы, в свое время перевалившие через гималайские хребты и обосновавшиеся в долине Сола Кхумбу. Выносливые, живучие и неприхотливые, как белки. Если нам вечно не хватало еды, то Нуру довольствовался лепешкой из порошкового картофельного пюре, сдобренного куском масла и огромной порцией жгучего перца. Есть это невозможно, но Нуру, приговаривая «В перце – сила шерпа», поглощал это адское блюдо и бодро шел дальше.
Ветровка «North Pole», ботинки «Salomon», шапочка, ковбойский платок от пыли, прямоугольные очочки, рост 160, рот до ушей – вот вам портрет Анг Нуру. Его настоящие глаза я увидел, когда на третий или четвертый день мы впервые подошли к тому месту, откуда можно увидеть вершину Эвереста. «Сагарматха...» – выдохнул проводник. Без понтов, с жалостью, с ненавистью, со всей силой своей шерпской естественности. У него на Сагарматхе погиб брат – провалился в замаскированную снегом ледяную пропасть. Теперь Нуру и ненавидит священную гору, и поклоняется ей.
«Знаешь, какие они оттуда приходят?» – спросил он меня на вершине горы Калапаттар. «Кто?» – не понял я. «Ну люди, мертвые...» – ответил Нуру. И продолжил: «Их перемалывает ледник. Они могут лет двадцать сползать с вершины вместе с ним. Потом то, что осталось, мы складываем в мешки и уносим...» Невыносимое на высоте солнце заставляло его щуриться сильней, чем обычно. Кажется, под стеклами очков что-то блеснуло. Слеза от ветра или в память? Брата его так и не нашли...
Он еще ловко скакал по камням, наш Нуру. Брал на себя заботу по поиску ночлега, чтобы не «кинули». Заработать деньги в Непале можно двумя способами: либо начать производить глиняные кирпичи, которых вечно не хватает, либо таскать туристов или их груз к Эвересту. Поэтому «кидалово» процветает. Могут продать кружку чая, заваренного из использованного уже пакетика, по цене пачки сигарет. Нуру это дело пресекал безжалостно и кормил нас, гигантов по сравнению с полутораметровым «гайдом», на убой (по его понятиям). Все – чтобы мы дошли, это ведь маржа...
...Потом в Катманду мы договорились, что встретимся. И – самое интересное – мы встретились. Нуру оказался, по нашим понятиям, «upper middle class». У него есть дом – редкость в Катманду. Более того, он имеет возможность сдавать часть его. В общем, деньги водятся.
Нуру подъехал за нами в «Роял Сингхи» на мотоцикле. Ну, это так называется, мотоцикл. На самом деле – это мопед с 75-кубовым движком. Но имя пышное – «Хонда». Андрей с Нуру на «Хонде», я – сзади на такси. Подъехали к той части непальской столицы, которая вряд ли найдется в туристических путеводителях. Темно, фонарей нет, а проходы между домами такие узкие, что мы – северяне – шоркали об стены плечами. За обнесенным забором из сетки рабицы – дом Нуру. Одноэтажная хибара, впрочем, они почти все здесь такие. Люди боятся землетрясений и пытаются распластаться на почве. Откуда-то сверху лает собака. «Я когда ухожу на треккинг, – пояснил «гайд», – оставляю ее на крыше». «А не подохнет без еды?» – иронично скосил я бровь. «Не, не подохнет. Она месяц может так. Да и жильцы выходят из дома, ей что-нибудь бросают». Подивившись на непальские премудрости в деле обращения с животными, мы вошли в дом. «Сергей, – (у Нуру почему-то получалось «Сеей»), – я приготовил тебе суккути, ты ведь его любишь. А еще я купил ром, тебе он тоже понравился». Прекрасный Нуру... Мяса и в самом деле всегда не хватало, нет его в горах, там каждая корова работает на переноске грузов, пока в прямом смысле не откинет копыта, потом уже ее едят. А суккути – это порезанная в лапшу говядина, пережаренная с луком, специями и помидорами – ужас диетолога. Местный ром «Кхукри» вполне съедобен после второй стопки. После пятой – это уже практически амброзия, очень уж духовит. Поели-попили, выяснили, почему Нуру упорно учит японский язык. Оказалось, что наш ушлый парнишка, едва разменявший «четвертак», надеется таким образом клеить девчонок в европеизированной части Катманду, представляться собирается туристом из Японии. Молодец...
В районе двух ночи Андрей сказал, что ему пора в гостиницу спать, дескать, завтра с утра он поедет снимать похороны. Нуру отвез его на мотоцикле, а я в это время рассматривал обиталище. Комнатушка, кровать сантиметров 20 в высоту, столик немного повыше кровати, индийские плакаты, стерео с неудобоваримыми для русского уха песнями, телевизор с чудовищными в своем натурализме роликами о личной гигиене (эта проблема, в самом деле, остро стоит в Непале). Нуру вернулся: «Сергей, а почему ты не доел суккути?» «Я тебя ждал, у нас не принято, чтобы в одиночку пить и есть». Нуру задумался о странной стране Россия. А до этого мы уже ему показывали фотографии зимней рыбалки. Похоже, он так и не поверил, что озеро может оказаться под толщей льда, на которую можно встать без опасений провалиться, и длится такая жуть почти полгода...
Настало и мне время ехать в гостиницу. Спать. «Нуру, а давай я буду вести, а ты сзади посидишь», – попросил я, едва ворочая языком после «Кхукри»». «Давай», – согласился он. Я завел «Хонду» и с трудом вывел ее из узкого лабиринта дворов. Погнали. Существенно мешало то, что в Непале левостороннее движение, так и тянуло на встречную полосу. Ночное Катманду – это спящий монстр. Тотальная экономия не позволила натыкать через каждые 50 метров фонарей, и поэтому путь наш освещался только скудным и помаргивающим фонарем «мотоцикла». «Стой, Сеей», – неожиданно заорал Нуру. Что такое? Перед нами – военизированный патруль: скоро непальский Новый год, поэтому местные «гаишники» с автоматами шерстят всех подряд.
Нуру пересел за руль. Выписывая синусоиды, наше транспортное средство пересекло линию взгляда солдат. «Садись опять», – Нуру, покачиваясь, вылез из седла. Это повторялось еще пару раз: едва завидев патруль, мы менялись местами, а потом снова проводник давал мне возможность ощутить, что же такое бешеная гонка на мотоцикле по темным улицам столицы затерянного в Гималаях государства.
Подъехав к гостинице, я спросил из интереса: «Покажи свои права». Нуру вытянул из кармана какую-то бумазейку, больше похожую на отксеренную «левую» московскую регистрацию. Вглядевшись, я понял, что на фото не мой Анг Нуру, а какой-то другой. Гораздо старше, гораздо усатее, много европеоидней. «Это мой брат, – спокойно заметил шерп. – Моя мама может ездить, я могу ездить по этим правам. У нас такие правила». «Закачавшись полутора литрами рома», – добавил про себя я. Нам не понять гималайские нравы...
Пока я курил у входа в «Роял Сингхи», мимо прошли две проститутки: «Мистер, лав?» «Ноу», – мрачно ответил я. Назавтра предстоял визит к йогам, время и алкоголь уже зашкаливали за 2 промилле и 5 утра. Нуру уехал, выписывая кренделя передним колесом и нещадно коптя некачественным бензином небо. Андрей спал, как младенец, положив руку на зарядник фотоаппарата. В ноутбуке сияла последняя открытая фотка – Эверест. Ложась спать, я выдохнул: «Сагарматха...»
Все это случилось уже потом, после возвращения из базового лагеря на Эвересте и с вершины Кала-Паттара, после пяти дней обратного пути, когда Сагарматха магнитом вцеплялась в спину и не отпускала в мутную цивилизацию. А первое время в Катманду мы с фотокором Андреем чувствовали себя из рук вон плохо: пыль, жара, непонятный запах. Но прогуляться по столице Непала хотелось. Отправились ночью. Не лучшая идея в стране, где идет гражданская война, но нам было все равно, ходить по ночным улицам российских городов в 90-х было на порядок опасней. Портье гостиницы попытался нас образумить, но мы твердо стояли на своем; он открыл дверь и тут же запер ее за нами.
Фонари в Катманду – только в предназначенном для туристов районе. Зато на остальной территории – тьма-тьмущая. Впрочем, мы были готовы и с карманными фонарями устроили охоту на беснующихся цикад, которые, как и мы, радовались наступившей прохладе.
Катманду – это муравейник. Издалека кажется застывшим монолитом, зато вблизи видно, что из окон квартир из-под жалюзи, закрытых днем и ночью, выбивается голубое сияние телевизоров. Кафешки «для местных» работают чуть ли не до полуночи, ведь вечер – время отдыха для отработавших весь день непальцев. В одну из таких мы и вошли. Сказать о непальской кухне просто – никакая она, такая же неприхотливая, как и местные кулинары. Деликатесом считается «момо» – готовится, как манты, варится, как пельмени. Только внутри – сплошные специи, а снаружи – хитро изогнутый хвостик. Изгибают его в зависимости от начинки, но я, если честно, так и не разобрался в ассортименте момо, хотя их, по словам поваров, около 40 видов, различий я не почувствовал. Суп из змей здесь не варят, пауков не жарят. Суп и чай, кстати, похожи, как близнецы-братья. Оба делаются из порошков, заключенных в цветные банки. Нужно постараться, чтобы отличить эти банки друг от друга. В горах поступают еще проще: давят чеснок в миске, солят и заливают его кипятком – «гарлик суп» получается.
С поварами мы разговаривали долго. Отчасти этому способствовала бутылка рома, отчасти любопытство фотокора, изведшего на кухне гигабайт памяти. Между прочим, душевные люди эти непальцы. Общаясь исключительно жестами, мы обсудили все нюансы международного положения, рассказали об Урале, посмотрели выразительную пантомиму о моде на трансвеститов в Непале. Распрощались совсем за полночь. Разбудили спящего портье, с удивлением вспомнившего постояльцев. Сбросили вспотевшие майки. Все-таки в Катманду душно...
Приятно было вспомнить о равнинных встречах в Катманду на высоте порядка четырех тысяч по дороге к базовому лагерю у подножия Эвереста. Там есть очень неприятный перевал из долины Чхукунг, если я правильно помню названия. Почти отвесный, нагретый солнцем и такой длинный, что забраться на него не решаются делегации полновесных американцев или те, кто решил приехать в Гималаи с детьми. Ни мне, ни фотокору, честно говоря, не хотелось лезть по круче. Мы как раз пили чай (вернее лимонный порошок, разведенный в кипятке) в лодже перед перевалом. «Камон, Сеей», – тормошил Нуру, наш проводник. «Да погоди, дай отдышаться», – отнекивался я, понимая, что Нуру прав: еще полчаса, и усталые ноги одеревенеют, а легкие, едва приспособившиеся к темпу подъема, опять начнут гореть на вдохе. Надо идти с небольшими перерывами. Каждое утро, когда мы выходили на маршрут, первые полчаса хода были самыми мучительными. Мозоли притирались к носкам, мышцы неохотно разогревались, глаза медленно привыкали к солнцу. Ничего хорошего нет и в том, что в 30-40-градусном пекле нельзя раздеться. Шли в темных очках, подняв воротники курток, в перчатках и опустив «уши» кепок. Иначе мощный поток ультрафиолета на такой высоте за несколько минут обожжет кожу до волдырей. Даже Нуру, проживший здесь всю свою жизнь, пользовался кремом от загара.
Перед неприятным перевалом я увидел маленькую старушку в очках, в совершенно дачном плащике и панаме. Не отвлекаясь на чай, она медленно полезла в гору. «Надо взять интервью», – автоматом пронеслась мысль. Вот бабушка уже поднялась метров на сто и скрылась за валуном, а я все пил чай, ни на секунду не сомневаясь, что настигну потенциальную интервьюируемую леопардовым скоком. Через три часа, когда мы, совершенно выдохнувшиеся, присели на камень на вершине перевала, бабушки и след простыл. Хотя было бы интересно поговорить с ней именно здесь, в своеобразном мемориале погибшим на Эвересте экспедициям.
Гигантское плато, сжатое с боков скальными стенами и обрывающееся перевалом, уставлено пирамидками, сложенными из камней. Каждая – экспедиция, в которой погибли люди, к каждой прислонен камень с выбитыми именами. Как предостережение идущим дальше. Экспедиции, в основном, интернациональные по составу. Среди американских, французских и немецких видны и русские фамилии. В 2006 году на Эвересте погиб россиянин Игорь Плюшкин. Не знаю, успели ли поставить ему памятник в этом самом мрачном по пути к Эвересту месте.
Бабушку мы встретили в Лобуче. Добравшись до лоджи, упали на кровати, пока голод не погнал нас в столовую. Пока ждали ужина из «гарлик супа» (ели его постоянно, очень полезно, по утверждениям Нуру) и лапши, я побежал в соседнюю лоджу, чтобы купить воды в магазинчике. А вот там и увидел Габи, так звали бойкую немку, которой уже под 70. Позвал Андрея, выбрались на природу. «Как же вы, Габи, решились на такой поход?» – уважительно спросил я. «Голубчик, я всю жизнь занималась альпинизмом, – весело ответила Габи, не отрывая взгляд от солнца, погружающегося за гималайские пики. – Мои дочери и внучки выросли. Теперь, конечно, я не могу себе позволить лазить по скалам, но треккинг вполне по силам». Выяснилось, что немка не может позволить себе штурм отвесных стен по одной простой причине – у нее в переломанную ногу вставлены стальные спицы. Вот так...
А канадца Ларри мы встретили уже в базовом лагере. Рано утром выползли из палатки пораньше, хоть и не спали всю ночь. Внутренние непромокаемые скаты от дыхания обросли пушистым снегом, который утром стал комками падать на лицо. Мы знали, что будет холодно, напялили на себя всю одежду и влезли в спальники в ботинках. Ночью переворачивались с боку на бок по команде, слушали, как взрывается под нами трещинами ледник Кхумбу, на котором стояла палатка, и падают лавины. Под этот аккомпанемент заснуть было невозможно, хотя Нуру и успокаивал: мол, если мы слышим, как «стреляют» трещины, это мелочи, они могут образовываться и за километр от нас, а лавины, ну, что лавины, мы же не под стеной находимся.
Продрогшие, мы стояли на солнце и отогревались. Нуру готовил чай, взяв воду из ямки, куда успели помочиться яки, носильщики вытряхивали снег из палатки. Вдруг я заметил, что по леднику, круто уходящему вверх, к Эвересту, спускаются едва заметные фигурки. Андрей сменил объектив на телевик и сообщил, что это люди. Мы побежали к ним навстречу. Напрасно: они были так далеко, что прошло часа два, прежде чем они дошли до базового лагеря. Тут сложно оценить расстояние. Гималайские масштабы не укладываются в голове: вроде видишь оранжевую палатку, идешь к ней полчаса, а это оказывается здоровенный шатер человек на 20. С горами еще сложнее: находясь на высоте 5 500, приходится убеждать себя, что вон тот холмик выше на два километра, просто до него не близко.
Жизнь базового лагеря похожа на обычную походную. Кто-то ставит палатки, кто-то готовит еду на всех, отдельная бригада копает яму для туалета, ведь жить в базовом придется долго. На подготовку снаряжения и акклиматизацию уходит по несколько месяцев...
Ларри появился как триумфатор. В красных бахилах и черной куртке, обвешанный альпинистским железом, с ледорубом наперевес. Он стоял на валуне, смотрел на нас сверху вниз, и снег отражался в его очках. Представившись, я задал тот же вопрос, который задавал каждый день вот уже две недели: «Зачем все это? Куча денег, масса опасностей?» Ларри наклонился, оперся о ледоруб и ответил: «Если ты спрашиваешь «зачем», ты ни черта не понял в этой долбаной жизни...»
Вот еще одна встреча – для понимания этой долбаной жизни и самого понятия «целеустремленность». Вернемся на пару дней назад. Когда мы сидели в «столовой» в Лобуче и делились впечатлениями от разговора со старушкой Габи, дверь тяжело отворилась, и на пороге, держась за проем, появился здоровый мужик. Охотничья куртка, камуфляжные брюки, усы на красном вспотевшем лице – однозначно, русский. «Вы откуда?», – спросил я на родном языке. «Из ада...» – ответил он. Мы познакомились. Москвичи Татьяна и Виктор решили осуществить свою мечту и отправились в Непал. Но у Виктора началась горная болезнь. Ему было плохо так, как не бывает плохо с самого тяжелого русского похмелья. Слабость, головная боль, тошнота, нехватка воздуха. Накрыв спальником, мы уложили его на скамью и принялись поить чаем. Нуру отозвал меня на улицу и сообщил, что, по его мнению, во всем виноват гид московской пары. «Я вас постоянно кормлю и пою чаем, а тот гид, наверное, экономил, вот Виктору теперь и плохо. У меня такого не бывает, я хороший гид», – похвастался Нуру, и мне захотелось дать ему чаевые.
В той же лодже нашлись еще трое русских. Я им завидовал. Еще на перевале я увидел, как с горы в долину летит голубой параплан. Валентин Дмитриевич – его хозяин – крепкий человек с седой щетиной и совершенно синими глазами. Завидовать было чему: недавно Валентину Дмитриевичу исполнилось 72 года. И приехал он не на треккинг, а чтобы достать старый параплан, вмерзший в ледник где-то на 6 500. Ни одно российское мероприятие, будь то «Лыжня России» или международная экспедиция на Северный полюс на собачьих упряжках, не обходится без Дмитрича. А тот параплан он самолично закопал на склоне, куда его принесло ветром, когда облетал ледник Кхумбу, чтобы с воздуха определить самый безопасный путь на Эверест. Спускался «дед» Валентин со сломанной ногой...
Завидовал я и Сереге, моему погодку. Он с отцом путешествовал по Гималаям, чтобы написать курсовую работу по индуистике. Учится и живет Серега в Гамбурге, его отец – то там, то в Москве, автомобилями занимается. Как бы это так умудрится наладить жизнь, чтобы средний российский студент, пишущий работу по фламандской живописи, мог посетить европейские музеи за счет института? С Серегой, его отцом (забыл, как зовут уже, вот ведь) и Валентином Дмитриевичем мы облазили все окрестности Лобуче. Добрались даже до итальянской метеостанции «Пирамида». Она и в самом деле пирамида с гранями, покрытыми солнечными батареями. Нам нужно было позвонить. Итальянцы сначала вежливо не понимали сути просьбы, а потом прямо заявили, что не дадут, потому что телефон сломался, но мы можем переночевать у них... за сто евро.
На следующий день мы в отличном настроении позавтракали, собрали рюкзаки и готовились пойти к подножию Эвереста и на вершину горы Калапаттар. Ночью Виктору стало хуже, Галина не спала, меняя мокрые повязки на его голове, отпаивая чаем. К завтраку он вышел бледный и пошатывающийся. Есть не стал, зато медленно, на подкашивающихся ногах полез вверх по склону, чтобы попытаться приспособиться к высоте, а если станет еще хуже, быстро спуститься. Ему мучительно хотелось увидеть Эверест, и ради этого он готов был пожертвовать, если не жизнью, то многим. Но не срослось, и теперь перед ним была только одна дорога – вниз, где больше кислорода, где отпустит «горняшка»...
Мы уже почти вышли из поселка, Валентин Дмитриевич балагурил и показывал, как он будет слетать со склона на своем параплане. Серега что-то писал в блокноте на ходу, Андрей забегал вперед и снимал наш маленький отряд.
Когда я оглянулся, то увидел, как Татьяна поддерживает Виктора, который машет нам вслед в своей нелепой охотничьей куртке. Горы не пустили его, и он отчаянно завидовал нам. И желал удачи...
***
Журналистика, бессердечная ты сука. И гордыня – грех, и слава – филиал ада. А редакторат – подручные его. Из огня да в полымя кидали меня. Выжимали, как губку, после ночей под обстрелами или экспериментов над собственным телом и психикой. Искали в эмоциональном вареве оголенные нервы, дергали, трепали и требовали подробностей, топоча копытами, потрясая трезубцами. А потом, опустошенного, удовлетворенно отбрасывали, сыто отрыгивая. Утирая капли крови с уголков ртов, милостиво наливали стакан традиционной российской валерьянки. Той, от которой сгорают за месяц, да чертей-редакторов по углам видят. На, подлечись, на следующей неделе тебе предстоит сошествие в ад. Но не таков я оказался, чтобы вернуться оттуда в белоснежной сорочке и сияющих туфлях. Не Бонд, не Джеймс Бонд ни разу. Возвращаешься оборван, нищ, похмелен и пуст...
Всякое бывало в моей репортерское карьере. Я ведь и пошел в профессию, чтобы побывать и прожить там, где нормальному человеку делать нечего. Однажды, например, Леонид Парфенов, только-только ставший редактором «Русского Newsweek», вызвал меня и сказал, что нужно закодироваться от пьянства. Я сказал, что в моем случае проблема пока не достигла таких масштабов, и не больно-то и хотелось. Парфенов ответил, что вообще-то он имел в виду репортаж в стиле «испытано на себе», а если я откажусь, то буду уже четвертым отказавшимся, и номер журнала останется без заглавного текста. Что бы вы сделали? А я согласился, нашел специального врача, заплатил немалые деньги (выданные, разумеется, бухгалтерией) и закодировался. Но только для того, чтобы уже в редакции выпить стакан коньяку и сесть за клавиатуру. Занятные ощущения: пишешь и ждешь, когда начнется обещанный врачом отек легких с летальным исходом через 15 минут. Но это ничего, когда рядом есть куча коллег, и «скорая» в случае чего приедет через пару минут, а вот каково было одному ночью дома... Об этом умолчим, но не спал и, глядя в окно, курил сигарету за сигаретой. Кстати, вас никогда не закапывали в могиле? Меня, например, – да.
***
ЗАКУЛИСЬЕ «ПОХОРОН»: НИКОГДА НЕ КУРИТЕ В МОГИЛЕ
У поселка Шапки под Питером есть песчаный карьер. Однажды я и еще полтора десятка человек приехали туда утром, чтобы собственноручно вырыть себе могилу и провести в ней несколько часов. Есть такая индейская практика – «Похороны воина». Смысл в том, чтобы молодой индеец провел под землей ночь, а утром, преодолев страх смерти, вылез мужчиной. Понятное дело, преодолевался страх с помощью разных растительных штук. В нашем случае имел место адаптированный вариант, без мескалинового допинга. «Вам может привидеться всякое, – стращал руководитель тренинга. – Но ничего бояться не нужно, это лишь ваши страхи». Я боялся только не успеть на вечерний поезд в Москву, где работал тогда, поэтому рьяно принялся копать. Рытье – самая неприятная часть процедуры. Во-первых, жарко, а во-вторых, шапкинские перелески полны комаров и гнуса. Часа через три руки и лицо были, как у человека, больного ветрянкой. Я по натуре ленив, поэтому особо не утруждал себя шанцевыми работами, а вот мои сотоварищи – кто из Москвы, большинство из Питера, один человек из Челябинска, пара из Мурманска – устраивали себе настоящие лежбища, чтобы можно было раскинуться, устилали пол могилы мхом и спальниками. Мне было завидно, поскольку из всех удобств имелась только бутылка воды и плеер.
...Я об этом вспомнил, когда недавно «Первый канал» пригласил выступить в программе Малахова «Пусть говорят». Не то чтобы я недолюбливал Андрея, не то чтобы мне не нравилась программа. Просто я ее до этого смотрел один лишь раз. Забавный паноптикум, не более. Обсуждение дутой проблемы без определенных выводов. Бюджетный мозговой попкорн. Не мой стиль. С другой стороны – высокий рейтинг, а значит, возможность засветиться. Могу же и я рассчитывать на свои 15 минут славы в глазах домохозяек, им еще придется сочувственно утирать глаза платками во время рассказа о моих «похоронах». Ведь тема программы звучала пугающе: «Репетиция смерти». Было, кстати, что репетировать: в студии – полный швах. Софиты разогрели площадку градусов до 40. Зрителям хорошо, у каждого второго веер, а мне пришлось узнать, что имеет в виду девушка, когда говорит: «Тушь потекла».
«Сергей, а что вы чувствовали в могиле?» – спросил Малахов, откидывая прядь со лба. До меня уже опросили барышню, проспавшую 16 лет и научившуюся летать и понимать язык птиц и зверей (по студии не летала и не щебетала), моложавую даму из Саратова, мечтающую, чтобы после смерти из ее тела сделали бриллиант, потомка Гоголя, заживо похороненного дедка. В этой кунсткамере ваш покорный слуга был достойным экспонатом и добросовестно начал рассказывать.
...Закончив рыть, я сделал изогнутые воздуховоды (чтобы свет не проходил по верхнему краю ямы, закидал ее ветками, поверх них постелил полиэтилен и забрался внутрь.
В общем и целом, моя «могила» скорее напоминала землянку: я поленился раскопать яму вширь и поэтому умещался на дне ее полубоком. Глубина «залегания» – около метра. Хорошо еще, что выкопал полочку для бутылки с водой, иначе пришлось бы греть ее на груди. Воздуховоды представляли собой каналы по верхнему краю ямы. Когда их накрыл полиэтилен, выяснилось, что свет немного проходит, пришлось заткнуть их клубками сухой травы. Полиэтилен на «стропилах» из еловых веток служил крышей. Плотный и черный, он практически не пропускал свет, но «погребение» без земли – это неспортивно, поэтому сверху на «крышу» набрасывается земляной холм. Снаружи – настоящая могила, только без креста.
«Да ты эгоист», – многозначительно заметил голос сверху. «Посвятитель воинов» еще немного поворчал, что я мог бы хотя бы наполовину прикрыть полиэтилен песком, чтобы ему работы было меньше. «Но я тебя с удовольствием закопаю», – резюмировал он, взял лопату и бодро воздвиг на моей могиле внушительный, как потом выяснилось, холм. Наступила тишина без комариного писка в ушах, стало прохладно и сыро. Сдуру я закурил. Вот этого никогда не следует делать в могиле. Дым не выветривается, а оседает на одежде и премерзко воняет. Воткнув наушники, я поставил в плеере альбом Жана-Мишеля Жара. Не послушав и трех минут, выключил. Замогильные синтезаторы гуру электронной музыки вызывали ужас. Казалось, что в этой темноте, когда все равно, закрыты или открыты глаза, что-то высунет костлявую руку из песка и схватит за лодыжку.
В общем, стараясь не думать о груде песка, под тяжестью которой полиэтилен на «потолке» вздулся пузырями, я уснул. Снилось всякое, но ничего не запомнилось, кроме боли в пояснице. Отлежав положенные четыре часа (это было минимальное время «погружения»), я начал кричать. Минут через пятнадцать мои крики услышал проходящий грибник. Не знаю уж, что он подумал и какие памперсы использовал, но подмогу вызвал. Организаторы семинара, отошедшие подальше от «могил», чтобы не мешать шумом, откопали меня... Никогда не курил с таким удовольствием и при таком скоплении журналистов. Смачно затянувшись, я ехидно сказал в диктофоны коллег, что интервью не будет. Этот эксклюзив мой.
После горячего чая мне вручили бубен и отправили будить остальных «покойников». Звук бубна под землей чувствуется, как удар подушкой по голове. То тут, то там, как в «Возвращении живых мертвецов», из-под земли показываются руки. Бледные, засыпанные песком тела, вяло вылезающие из ям, дополняют впечатление. Жаль, нет профессиональной камеры, вполне можно снимать сиквел... А дальше – каждый сам по себе: паренек из Мурманска сел у сосны и жестами, как комаров, отгонял назойливых журналистов. Он не вообще не желал говорить, а думал о своем. Девушка из Москвы впала в истерику и часа полтора рыдала в голос. Ей за время лежания под землей пришла в голову здравая мысль – помириться с матерью. Челябинца, к слову сказать, я так и не дождался. Он был на семинаре во второй раз и, судя по словам организаторов, собирался пробыть в яме всю ночь. Что касается меня, то в истерику я не впадал и не ощущал, как «черный осьминог вытягивает из моего тела щупальца по одному», как одна впечатлительная дама из Москвы. Честно говоря, главной задачей было – написать статью о людях, которые идут на психотренинг, чтобы избавиться от каких-то личных проблем. Поэтому я прислушивался больше не к внутренним ощущениям, а фиксировал происходящее снаружи. И главный вывод «Похорон воина», сделанный мной, вынесен в заголовок статьи. Наверное, это обычная журналистская толстокожесть. А может быть, просто проблем нет. Мне в могиле понравилось: тихо, прохладно, и мухи не кусают. Но я не стал бы советовать вам самокопание как лучшее средство избавления от жары, впрочем, как вариант может подойти. Главное – не курите в могиле...
***
90-е – это моя молодость. Время, которое не может омрачить даже инфляция, нищета и спирт «Рояль», подкрашенный «Юпи». Мотало тогда меня-студента знатно: из этнографических экспедиций на курсы крупье в казино. От сочинителя предвыборных листовок для Елены Мавроди (ага, жены того самого, который построил МММ) до педагога-организатора в средней школе. Моя жизнь всегда напоминала лоскутное одеяло с прорехами. Был пионером и прошел курс молодого комсомольца, но в ВЛКСМ вступить не успел, потому что падение Союза, как цунами, прошлось по одной шестой части суши. До сих пор в подкорке прекраснодушные слова о мировом братстве, а сталкиваться пришлось с проявлениями мерзейшей и бессмысленной жестокости на улицах городов и войнах. Хотел честно служить, а надо было хапать. И профессию выбрал по степени взбалмошности характера, и этот сборник текстов прыгает по годам и территориям. Но мне просто нужно было закрепить каждый кусок пазла в общей картине, чтобы он не потерялся. Или не потерялся я сам...
Любой 20-летний рано или поздно начнет оправдывать собственные неудачи или, наоборот, победы, а главное – пороки принадлежностью к «потерянному поколению». У Ремарка герои любили и пили, оправдываясь войной, ставшей водоразделом между юностью и взрослением. После Великой Отечественной пили по той же причине, в 60-х – потому что «страну построили», в 80-х – потому что застой. Мое поколение старательно губило себя из-за несоответствия ожиданий. Вот представьте: мои родители с младенчества моего ежемесячно платили за мою страховку. Предполагалось, что к моменту моего 16-летия, когда сумму можно будет получить на руки, она будет настолько внушительной, что позволит мне обрести крылья или, как минимум, трамплин во взрослую жизнь. Где там! В итоге на эти гроши в 1991-м можно было купить две палки колбасы. Ну, или вот еще пример: в первом классе я расписал свою жизнь в блокноте. Как сейчас помню, в 2000-м должен был состояться мой первый полет в космос (естественно, космонавтом). В школе я методично продвигался в этом направлении – ходил в астрономический клуб «Апекс» при Дворце пионеров, тренировался, читал кучу специфической литературы. И вот – невозмутимый Сфинкс страны Советов начал разрушаться. Сначала нос отпал, потом накладные волосы из песчаника, дальше – лапки, коготочки, пищевод... И все накрылось медным тазом. Пришлось переквалифицироваться в журналисты.
Справедливости ради нужно заметить, что ближе к звездам я все-таки стал. В 2004 году по заданию все того же «Русский Newsweek» прошел часть курса подготовки космонавтов в Звездном городке. Однако унылое верчение на центрифуге и поглощение орбитальной пищи на Земле оказалось ну никак не интересно. Ни невесомости, ни «только из космоса я увидел, как прекрасна наша планета». Но все-таки мне повезло больше, чем одногодкам, которые в свое время избрали лукавый путь торговли металлическим ломом. В живых остались единицы, и их искореженные судьбы не могут быть примером для подрастающего поколения.
Вот, кстати, оно – нынешние 20-летние. Поколение Z, как их сейчас называют. Жили на шее прилично зарабатывающих родителей, добровольно погрузившихся в пучину офисного планктона, ловили Wi-Fi в Макдоналдсе под неспешное поглощение картошки фри и сливочного коктейля. Потом закончили элитную школу и престижный вуз (а сейчас они все такие, да), только-только стали разбираться в смузи, сортах сыра и офисном этикете, как выяснилось, что сыр не растет на дереве и офисный перекладыватель бумаги, в общем, не нужен. А за окном – поддатые группы уволенного пролетариата, а за дверью – коллектор, пришедший с битой спросить про ипотечные выплаты. И вот уже образовалось новое потерянное поколение, а значит, мне можно перестать манкировать годом рождения и эпохами, через которые пришлось продраться. Да, звезд не хватал, но космос в итоге нашел – на Земле...
***
ЗАКУЛИСЬЕ АЗИИ: САДЫК И ДЕВАЛЬВАЦИЯ
...Он никогда не отличался многословностью, тихий был этот Садык. Молча сидел, гоняя чаи, в нашей палатке, бесшумно уходил, так же бесшумно приходил, без слов резал горло козам. Коверкая русские слова, только застенчиво просил тряпку – оттереть кровь с рук – и несколько раз предупреждал, чтобы не трогали его берданку – кремневое ружье с прикладом в изоленте, доставшееся в наследство от деда. Еще помню его взгляд: ресницы одного глаза были у Садыка совсем седые, а зрачок подернут плесенью бельма. Мертвый глаз, дурной. В другом – напротив – плескалось черное горное безумие, когда Садык припадал к прицелу ружья, чтобы подстрелить байбака. В пыльном засаленном халате, такой же невообразимого цвета чалме, раздвинув ноги, словно сошки пулемета, уперев ступни в чунях из кусков автомобильных покрышек в камни, часами он лежал, выслеживая толстого горного сурка. Байбак нас и познакомил.
«Садык, а что это за зверь живет в соседнем ущелье, жирный такой, как хомяк?» – спросил я его как-то. «Когда приходит?» – живо заинтересовался мой собеседник. «Утром...» На следующее утро Садык уже лежал в засаде. Унялся даже ветер над хребтом Чуль-Баир, и даже солнце ушло за арчу, чтобы не ослепить единственный рабочий глаз стрелка. Щелкнул курок, фыркнул порох на полке, ружье оглушительно, по-стариковски отхаркнуло заряд. «Не попал...» – Садык поднялся, не спеша зарядил ружье, пробормотал молитву, и мы пошли пить чай. Был 1998 год. Россию, как грушу, тряс дефолт, где-то в другой жизни можно было принять горячую ванну, в четырех сутках пешего пути есть книжный магазин, тут – Средневековье, тишина и постоянное ощущение опасности...
Это была первая моя серьезная экспедиция. На месяц, в горы Узбекистана, недалеко от афганской границы, а дальше – в одну из глубочайших пещер мира Бой-Булок. Я долго уламывал друзей-спелеологов взять меня с собой. «А ты с рюкзаком-то ходил?» – спрашивали они. «Да, на Таганае был», – отвечал я, не понимая, почему дружный смех был мне ответом. Когда все-таки спелеологи согласились, настало время уламывать главреда. В самом деле, странно выглядит, когда корреспондент областной газеты уходит на месяц непонятно куда, непонятно зачем, а самое главное – какое отношение все это имеет к сельскому хозяйству, металлургии и прочей общественной значимости. В итоге пришли к компромиссу: я еду, но в счет своего отпуска, зато с оплаченными суточными...
Выехали на «Икарусе». Почти неделю прожили в автобусе. Водители работали посменно, так что останавливались, только чтобы дважды в день поесть. Российские дороги, обласканные классической критикой, это хайвэй по сравнению с дорогами Узбекистана. Зато хватало экзотики. Как только cолнце уходило за горизонт, мы останавливались поужинать. Меню узбекского придорожного общепита стандартно: лагман, шурпа, плов, самса. Зато цены – просто фантастика. Точно не помню, но накормить бригаду в 20 с лишним человек можно было за сущие копейки. Мне нравился лагман – жирная похлебка из мяса, овощей и лапши.
Начальник экспедиции Александр Вишневский настоятельно рекомендовал пить за ужином водку. Во-первых, чтобы снизить опасность отравления в антисанитарных харчевнях, во-вторых – для скорейшей акклиматизации (все-таки мы резко набирали высоту), ну и для глубокого сна. Водка, да и вода в тех краях, надо признать, просто омерзительна. Сделана из кукурузного жмыха – мутные такие бутылки с криво наклеенными этикетками. Мало кто мог выпить больше 50 положенных граммов, так что на остатки нашего застолья, как чайки, слетались страждущие и сцеживали из бутылок... На стоянках вокруг автобуса приплясывали цыганки с зажженными вениками. Запах конопли не оставлял сомнений. Сегодня такие танцы называются «промоушн», или продвижение товара.
Особенно мучительно пришлось нам на границе. Солнце раскалило стоящий в очереди «Икарус» до состояния сауны. Ходить с голым торсом, а уж тем более в шортах в Узбекистане не принято. Во избежание проблем мы сидели и не высовывались из автобуса, а Вишневский бегал снаружи, кому-то что-то доказывал, тряс документами.
В Ташкенте я первым делом побрил голову наголо: прожить месяц в такой жаре без возможности помыться – пытке подобно.
Наконец приехали в Бойсун, маленький городок, где дни население проводит в чайханах. Чертовски хотелось арбузов и персиков, которые кучами продает малая, трудоспособная часть этого населения. Но Вишневский наложил вето, зато разрешил упиваться чаем (чоем, как его тут называют), чтобы вывести шлаки перед долгим подъемом к вершине Чуль-Баира. Пару дней мы не вылазили из чайханы, пили чой литрами, потея. Ночевали в доме (вернее, в саду тамошнего милицейского начальника. Ножки здоровенного деревянного спального настила опущены в консервные банки с водой – чтобы не тревожили пауки, многоножки, сколопендры и прочая нечисть, которой тут в избытке...
И вот представьте картину: мирное бойсунское утро, еще прохладно, еще в арыках течет вода, мулла только что закончил намаз, старики расходятся по чайханам, молодежь тащит тележки с дынями на рынок. По дороге идет толпа из двух десятков парней с бритыми головами. На ногах у них – тяжелые ботинки, в руках – коробки с тушенкой, печеньем и макаронами. Они громко смеются и громко говорят. Это – мы. По пути замечаем книжный магазин. Он, разумеется, закрыт на ржавый висячий замок. Из двора выбегает маленький сухонький старик в тюбетейке и очках, делающих его похожим на глазастого лемура. Он суетливо отпирает замок: «Прошу вас, зайдите, – чисто говорит на русском, – у меня уже полгода не было покупателей». Внутри магазинчика пыльно и прохладно. На полках – книги, но сплошь на тюркских языках, о которых мы не имеем ни малейшего понятия. Извинившись, собираемся уходить. «Постойте, вот книга на русском», – говорит старичок и протягивает «15 способов познания женских прелестей» – сумрачный репринт, самопальный покет-бук, были такие в 90-х. «Это перевод персидского трактата, – говорит хозяин магазина. – И цена символическая...» Объясняем, что с прелестями у нас в ближайший месяц напряженка, а туалетной бумагой и так запаслись. «Ну тогда просто возьмите», – книжник раздает каждому по трактату бесплатно. Восточное гостеприимство...
Помнится, в командировку я взял с собой диктофон. Одна из многих совершенных глупостей. Наравне с рюкзаком-сидором, таскать который отказывались даже ишаки, и ватным спальником, весящим после дождя килограммов двадцать. Вся фактография экспедиции уместились на нескольких клочках листа А4. Остальное – в голове. Что можно записать о пешем переходе по – как сейчас кажется – отвесной стене Чуль-Баира, о пауке-каракурте, уютно устроившемся на лямке моего рюкзака (я тогда наивно спросил побелевшего от ужаса коллегу, как называется этот черненький блестящий паучок)? Какой диктофон передаст звук селя, к чертям смывшего наш первый лагерь? Где найти фотоаппарат, который передал бы вестибулярное ощущение, когда кажется, что линий горизонта – несколько, когда падаешь на ровном месте, словно после литра водки..?
Чуль-Баир – это не гора, это хребет, который похож на врезавшийся в землю углом кирпич. Высота лагеря – что-то около трех тысяч, там находится узкий лаз в Бой-Булок, выше – острый гребень, отвесно обрывающийся в долину. Когда штурмовые группы одна за другой ушли в пещеру на две недели, в лагере остался только я, Илья и Дэн. Задача – присмотреть за вещами и сделать несколько неглубоких вылазок в Бой-Булок для фотосъемки. «Ты на веревке как, висел?» – сумрачно спросил как-то Илья, альпинист со стажем. «Да нет, не пришлось». «Пойдем», – сказал он, навьючил меня веревками, альпинистским железом и отправил под стену ущелья-сая. Объяснения Ильи были конкретны и немногословны. «Короче, надеваешь обвязку, это – туда, это – сюда. Берешь молоток и забиваешь вот эту фигню в стену. Потом крепишь ухо, на него карабин и встегиваешься. Когда добьешь до верха, лазь по веревке вверх-вниз с перестежками». Наверное, так и нужно было. Илья уходил, чем-то занимался в лагере, готовил еду, а я долбил скалу и «с перестежками» лазил по веревке часами. Мне нравилось, появилось чувство, что вот оно – мое. Через несколько дней Илья привязал веревку на скалистом клыке метрах в двадцати от земли. «Давай!» крикнул он откуда-то сверху. Я полез, пугаясь, когда веревка начинала «играть», как резинка. На клыке лежал улыбавшийся Илья. «Это хорошо, что ты нашел себя», – сказал он. И было это дороже любой похвалы...
Вечерами, когда ночь падала нокаутирующей тишиной, мы сидели у костра и молчали. Иногда Илья играл на комузе. Днем ходили на вершину, каждый раз уходя все дальше от лагеря, или опускались в саи. Когда-то в этих саях кипела жизнь. Жители долинного села Дюйбало еще в конце 70-х сообразили, что охотой на горных козлов можно лишь поддерживать собственную жизнь. Чтобы развиваться, нужны деньги. Из Афганистана пришли сумрачные бородатые люди, объяснившие, что в этом скрытом от посторонних глаз районе можно неплохо заработать. Дюйбалинцы – и Садык, конечно, – принялись рассаживать мак и коноплю в саях. Селение имело 80 полей опиумного мака, находившихся под контролем 40 охранников. Сумрачные афганцы забирали урожай и растворялись среди приграничных хребтов. Садык охранял плантации от воров, стреляя на звук и на поражение. Все было хорошо до тех пор, пока не прилетели советские вертолеты и не выжгли напалмом ущелья. Садык ничего не понял, но снова начал бегать по горам за козами. В незамутненной системе его моральных ценностей не было места высоким материям. То, что приносит прибыль – правильно. Если кто-то оказался сильнее – переживу, потому что жить надо. Одно колесо от «жигулей» в сезон – обувь, одна лепешка из непросеянной муки – пища на день, одна подстреленная коза – еда для всей семьи на неделю. Первобытная эта логика и пугала, и восхищала одновременно. Садык – как змея. Тронешь – убьет, не задумываясь и не терзаясь потом по ночам. Подружишься без посягательств на его образ жизни и имущество – станет верным товарищем. Он и был таким: показывал, как ловить за хвост скорпионов, как связывать человека, свежевать козу. Хотя причиной тому вряд ли была его врожденная благосклонность к русскому пришельцу. Дело в том, что много лет назад экспедиция с участием Вишневского вынесла из Бой-Булока останки жителя Дюйбало Мустафы. Он стал первым исследователем пещеры и первой ее жертвой. В благодарность за это родственники Мустафы (а это – понятное дело – все село) разрешили приходить сюда и не трогали понапрасну, разве что воровали по мелочи: консервы, старые майки, сапоги...
В Дюйбало по приглашению Садыка мы пришли в самом конце экспедиции. Спускались по шато – вбитым «змейкой» в вертикальную стенам бревнам. Высота стены – 300 метров, перил нет и в помине. Жутковатое ощущение. В Дюйбало нас уже ждали. В ореховом саду у старого Шахимордона – дальнего родственника Садыка – постелили достархан. После месяца на тушенке и макаронах мы, как саранча, смели плов, который не имел ничего общего с уральским «контрафактом», наелись шурпы. Нет ничего лучше, чем, наевшись, наконец, лечь у достархана и слушать рассказы Шахимордона о хадже, Мекке. Садык как младший мужчина неслышно подливал чой в пиалы. В этом раю было почти все: звезды, цикады, прохлада и чистые носки. Садык сел рядом и учил меня употреблять насвай – легкий местный наркотик из коры арчи, табака, извести и, как ни печально, куриного помета. Класть насвайную колбаску надо за губу или под язык. Мерзость неописуемая, но вполне аутентичная. Утром я попробовал самое, пожалуй, странное блюдо в жизни. Оказалось, что всю ночь, пока мы спали, в тандере, где пекут хлеб, была замурована козлиная туша. За много часов она превратилась в нечто тушено-копченое. Удивительно вкусно...
На этом книгу благостных воспоминаний можно закрывать. Был, конечно, Самарканд, была Бухара, но так хотелось домой, что древние города и современные кабаки меркли в сравнении с дымящими трубами Челябинска. Но Родина встретила нас неприветливо. На границе с Казахстаном я купил пачку сигарет по цене, за которую до поездки купил бы блок. Дефолт 98-го. Все, что нажито непосильным трудом, и так далее. В голове не укладывалось, что беда может произойти вот так стремительно и беспощадно. Голодный, злой, бритый, выжженный до черноты узбекским солнцем, с пробившейся щетиной я шел через толпы бледных, но тоже злых, внезапно обнищавших людей.
«Мама, это я, Сергей», – просипел в открытое окно родительской кухни. Мама испуганно вскрикнула, но сразу узнала и кинула ключи от подъезда. Я зашел домой и... Это, к счастью, не поддается девальвации.
***
Эта статья – тоже из «Закулисья...» Помните, я говорил, что про мою жизнь много написано, и даже про то, как писалось, тоже? Это как раз в «Закулисье...» и собиралось все. Дальше – полная версия среднеазиатского вояжа. Эти два текста разделяет десять лет. Вообще, удивительно, как мне, пацану еще по профессиональным меркам, еженедельно отдавали разворот в крупнейшей региональной газете для публикации. Сейчас такое, конечно, представить трудно. Кстати, за «Азиатский дневник» я получил «Золотое перо», награду, которой горжусь до сих пор.
Совершенно не помню, откуда взялось такое толкиеновское название «Азия: туда и обратно», вроде бы я называл репортаж «Азиатским дневником». Но в любом случае, рад, что текст сохранился. А вот Александр Вишневский умер. Как рассказывают, его – еще живого – нашли с проломленной головой где-то в районе железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Очень жаль...
АЗИЯ: ТУДА И ОБРАТНО
Начало. Цены и границы
Лил дождь... Холодные капли с настойчивостью маньяка колотили по обритой голове. Тропа под ногами то вставала на дыбы, то змеила вокруг валунов. Ноги на размокшей глине скользили, как у заправского полотера в залах дворянского собрания. В сотый раз я подумал, а не сбросить ли с плеч ненавистный рюкзак и вернуться. Вот только куда? После четырех дней пути я в составе научно-исследовательской экспедиции оказался в горах Средней Азии, почти на границе с Афганистаном и Таджикистаном.
И кто же назвал Среднюю Азию средней? Никакой усредненности или компромиссов – сплошные крайности. Взять хоть этот дождь. Ничего особенного. Просто первый августовский дождь за 60 лет...
Формально экспедиция началась в Челябинске. В "Икарус" с надписью "Мечел" на бортах проследовала тонна снаряжения и 20 участников экспедиции – альпинисты и спелеологи: Челябинск, Екатеринбург, Москва, Иркутск... Командовал парадом Александр Сергеевич Вишневский – весьма известный на планете Земля спелеолог. Деспот и умница, он умудрялся держать в узде два десятка издерганных тяжелой подземной работой мужиков. Его рассказ об одной из глубочайших пещер мира Бой Булок, куда направлялась экспедиция, вы прочитаете чуть позже, а пока...
Уже двое суток челябинский автобус ехал по казахским дорогам. Степь да степь кругом. Даже Балхаш не обрадовал глаз – что же за озеро, у которого не видно берегов. Все равно остановились, смыли с себя дорожную пыль и снова в путь. Мимо поселков, где на свалках можно найти упавший с ракеты-носителя двигатель, мимо мрачных кладбищ-мазаров, где над могилами выстроены целые дома... Ужинали в придорожных кафе. Лагман, шурпа, шашлык... Незнакомая кухня и климат очень скоро сделали свое дело. Наступила пора акклиматизации: холодный пот на лбу и полная апатия к окружающим красотам.
Ночью во время нечастых остановок в кабину автобуса суетливо влетали летучие мыши. Днем – здоровенные, с ладонь величиной – богомолы. Их поимка осложнялась драчливым нравом насекомых, чуть что норовящих полоснуть по руке лапой с острыми шипами.
...Подъехали к печально знаменитой Чуйской долине. На обочине среди конопляных зарослей стоит фургон с надписью "Пост наркомании". Казахский полицейский у каждого поискал следы уколов на венах. "Что такое героин, знаете?" Откуда? "С собой везете?" Как было не рассмеяться. Везут оттуда, а не сюда. Обиделся, стал листать паспорта. "Где вкладыш российского гражданства?" Так вот же прописка. "Пройдемте..." Пришлось дать взятку. Пока разбирались, мимо размахивающего жезлом сержанта спокойно проехали несколько иномарок. Догонять их никто не собирался. На одной из стоянок к автобусу подошла цыганка, которая не говорила по-русски, но ясно дала понять, какой товар предлагает, помахав перед открытыми окнами горящим пучком сушеной конопли.
...С территории Казахстана нас выпустили быстро. Парень в белой рубашке поднял и опустил шлагбаум. Узбеки взялись за таможенные процедуры всерьез. Для начала пришлось заплатить 30 рублей за "дезинфекцию" (мужик в халате облил колеса автобуса чем-то из канистры). Потом долго заполнялись декларации, и полицейский чин рассмотрел содержимое одного из рюкзаков (это для чего? что за таблетки?) Через четыре часа мы были в Ташкенте. Езды до него было, в общем-то, на час, но узбекские "гаишники" с поразительным упорством останавливали "Икарус" через каждые пять минут. Это происходило так: откуда-то слышался переливчатый свист. Автобус останавливался, и водитель долго всматривался, не идет ли дорожный инспектор. Тот не шел. Автобус трогался – свист заливался снова. Очень скоро выяснилось, что ни один инспектор не покинет своего "поста" с чайным столиком в тени развесистого тополя. Также скоро стало ясно, что, выходя из автобуса, права водителю можно с собой не брать. О том, что с документами у пассажиров транспортного средства с челябинскими номерами все в порядке, было сообщено по рации. Так что служивый только спрашивал лениво: "Дэньги эсть?". На что следовал немедленный отзыв нашего находчивого водителя: "Нет, в автобусе оставил". "А-а, тогда проезжай", – благословлял разморенный инспектор и погружался в изучение содержимого пиалы. Как бы то ни было, скоро мы оказались в древней, но отстроенной вновь столице Узбекистана.
...Экс-граждане России, встреченные мною в Ташкенте, говорят, что Аллах не живет в городах. Ему больше нравятся горы. Не знаю, так ли это, но законы шариата никак не проявляли себя на вполне европейского вида ташкентских улицах. Не было видно стыдливо закрывающих лицо чадрой девушек. А мужчины с непроницаемой азиатской невозмутимостью преспокойно общались с трубками сотовых телефонов. Отсутствие строгого надзора за нравственностью, предписанной Кораном, компенсировала строгость официальных законов. По Ташкенту можно без опаски гулять хоть днем, хоть ночью – милиции больше, чем звезд на маршальской груди. Машины, стоящие вдоль дорог, никто не закрывает. За кражу железного коня вполне можно получить 15 лет тюремного заключения. За умышленное убийство, изнасилование – расстрел, посему даже среди преступников дураков нет.
Незаконные валютные операции караются трехлетним тюремным заключением, что создало нам определенные трудности с обменом "деревянных". Дело в том, что официальный курс рубля в обменных пунктах Ташкента в два раза ниже рыночного. Пришлось, таясь и в оглядку, менять рубли на базаре по курсу "1 рубль к 30 сумам". Игра на разнице официального и рыночного курса привела к невиданной для россиянина дешевизне. В Узбекистане безумно дешево можно купить автомобиль "ДЭУ", собираемый на совместном узбекистано-корейском конвейере. Жаль, что таможенные поборы при перегонке машины в Россию аннулируют достоинства международного сотрудничества. Цены на базаре навевают сладкие воспоминания о колбасе "за два-двадцать". Пудовый арбуз можно купить за пару рублей.
Азиатский базар представлялся мне уникальным явлением – шумным и пестрым, как одеяния красоток с раскосыми глазами. На самом деле он оказался достаточно неприглядным зрелищем. Отсутствие какой бы то ни было санитарии и однообразный ассортимент. Мед, овощи, арбузы, дыни, пряности и масса продавцов газированной воды – жарко все-таки. Просто удивительно, как эти же самые вкусности дорожают на челябинском рынке. Немного успокоил бухарский базар. Там оказались и кузнечные ряды, где на моих глазах отковали пару длинных и широких ножей, называемых здесь "пчак". Заплатил я за эти ножи довольно кругленькую сумму – а все из-за неумения торговаться.
О, торговля – искусство говорить чепуху, честно глядя в глаза. На среднеазиатском базаре можно не сомневаться, что указанная на ценнике сумма превышает требуемую примерно в два раза. Впрочем, бывают и исключения. Помнится, торговка персиками на бухарском базаре показала знаками, что одна единица ее товара стоят 40 сумов. Посчитав (как любой неизбалованный фруктами уралец) рубль за персик приемлемой ценой, я выдал ей 120 сумов и был приятно удивлен, когда в пакет было высыпано 3 килограмма сочных фруктов...
Провинциальное чаепитие
Каждый участник экспедиции получил на руки минимальную месячную зарплату узбекского рабочего – 3000 сумов и шесть часов на разграбление города. Прогулять эти деньги в бесчисленных ташкентских кабачках можно за полчаса, ибо цены на ликеро-водочную и сопутствующую продукцию сопоставимы с российскими, зато на базаре за эти же деньги можно забить дынями кузов «Газели».
Несмотря ни на что, восточный базар был и остается культурным и деловым центром города. Административный центр принадлежит миру капитала и весь изукрашен рекламными планшетами. Экзотический вид рекламе той же "Кока-Колы" придает лишь фото группы молодежи в тюбетейках, радостно поглощающей газировку. А вот вокруг базара сосредоточены дешевые кафешки и магазины для туристов – владения хитроумных правнуков Ходжи Насреддина. В одном из них мне попытались всучить фальшивый римский динарий из свинца и кучку российских монет, побывавших в пожаре. Продавец уверял, что это алтыны и гривны, чеканенные чуть ли не при Владимире Красное Солнышко... Но дыхание времени я ощутил только в Бухаре.
Два с половиной тысячелетия никак не отразились на облике города. Узенькие улочки, на одной из которых мы, к своему изумлению, наткнулись на шикарную дверь с табличкой "Гостиница Sasha & Son". Отреставрированные и потому блистающие глазурью мозаик минареты. И даже новые здания строят, подражая старинным медресе и мечетям. Но все равно халтурят и просто обкладывают кирпичом бетонный "скелет". В Бухаре мы побывали на пути домой. 45-градусная жара колыхала в воздухе очертания гостиницы "Интурист". На площади перед гостиницей симпатичные девушки по команде разворачивали полотнища с лозунгами на узбекском – страна готовилась к празднованию Дня независимости. Подкрашены тысячи плакатов вдоль дорог с изречениями, подписанными "И. Каримов" (жалею, что не знаю узбекского), фасады многоэтажек украшены панно из лампочек. В общем, с идеологической платформой в Узбекистане все в порядке. Наши соседи стали настолько независимы, что на второй день экономического кризиса из российских купюр можно было делать самолетики – настолько стала низкой их стоимость по отношению к национальной валюте. Складывалось впечатление, что ни на узбекские сумы, ни на казахские тэнге взлет курса доллара никак не повлиял. Дошло до того, что в сотне километров от российско-казахской границы три бутылки скверного пива стоили 50 рублей. Из этого хаоса цен нас вытянул только неприкосновенный запас долларов в "общественном фонде" экспедиции. Весь этот финансовый ужас нам пришлось пережить значительно позже. Пока же мы просто сидели в небольшой чайхане, где официант ежеминутно подбегал и осведомлялся в полупоклоне, можно ли уже принести кофе и все ли было вкусно. Даже стало забываться, как месяц назад однажды утром я открыл глаза и увидел в окне автобуса дорожный указатель "Бойсун"...
Бойсун – это небольшой городок в горах. Пока автобус осторожно сползал с перевала, мы вдоволь успели налюбоваться на глиняные домики, разбросанные по пыльным склонам. Отсюда нам предстояло совершить последний решающий рывок к вершине Чуль-Баира – громадной каменной "столешнице", скрывающей лабиринты пещеры Бой Булок.
Ближе к полудню Вишневский совсем утонул в объятиях восточного гостеприимства и почти договорился насчет ночлега, а мы, разгрузив "Икарус", отправились на базар. Появление на бойсунских улицах десятка бритоголовых парней с рюкзаками вызвало несомненный фурор. Люди останавливались и провожали нас взглядом. Несколько женщин отвернулись, прикрыв лица концами платков. Продавец в книжном магазине, узнав, что мы из России, с акцентом и видимым удовольствием покрыл матом свой скудный товарооборот. Выговорился и немедленно предложил купить у него "Книгу о познании женских прелестей" (перевод персидского трактата 15 века, розничная цена 15 рублей старыми). Его предложение имело успех и две брошюрки с откровенными миниатюрами на обложке перекочевали в карманы участников экспедиции. Узнав, что познание женских прелестей не грозит нам в ближайший месяц, старый книготорговец расчувствовался и раздал перевод с персидского каждому в подарок...
Наконец мы оказались на базарной площади, взятой в окружение чайханщиками. Чайхана в Азии – это место встречи, которого миновать все равно не удастся. Темнокожие мужчины лежат, уперевшись локтем в замасленные одеяла, и пьют зеленый "чой". Час, два... Кажется, приди сюда через неделю, они все так же будут пить свой чой, ведя неторопливую беседу. Мы тоже решили последовать их примеру, но для этого выбрали чайхану более-менее европейскую – с пластмассовыми стульями и вентилятором на потолке. После первого чайника стало ясно: чем-то эта чайхана отличается от сотен других. Во-первых, сам чай стоил в два раза дешевле, чем принято, а во-вторых, внезапно мысли обрели странную плавность. Сам собой утих в ушах базарный шум, и время потекло совершенно незаметно. Я отнес эти явления на счет дорожной усталости, но когда взглянул на соседей за столом, понял, что они тоже пребывают в недоумении по поводу своего состояния.
Начали рассматривать заварку, в которой и обнаружили зубчатые листья конопли. Чайханщик только хитро щурился, когда у него допытывались, чего же он добавил в свою фирменную заварку. За распространение наркотиков узбекское законодательство предусматривает смертную казнь, поэтому скрытность хозяина харчевни вполне понятна. Выбравшись из чайханы, мы произвели еще одну маленькую сенсацию, скупив на корню всю картошку и помидоры на базаре.
А когда-то Бойсун славился своим богатством. В 1918 году, спасаясь от карающей руки Красной армии, из него бежал в Афганистан последний узбекский хан. Предусмотрительность хана не знала границ, поэтому в эмиграцию он прихватил весь свой гарем и отару тонкорунных овец, популяцию которых восстановить не могут до сих пор. Задолго до хана с Бойсунского хребта скатился молодой, но горячий Александр Македонский. Его триумфальная армия просто не выдержала бесконечного преодоления снежных перевалов, где за каждым камнем скрывались мобильные отряды отчаянных горцев.
...Ночевали у Зара – бывшего обкомовского работника и большого друга Вишневского. После четырех ночевок в скрюченном виде на креслах автобуса представилась возможность в буквальном смысле протянуть ноги. От чайных возлияний и сытного плова спали, как убитые. Еще с вечера на начинавшую набухать Луну время от времени наползали клочковатые облака. Тогда им никто не придал значения...
Пуд селя
...В 6 утра вещи и продукты были погружены на трехосный «ЗиЛ». По странной иронии, водителя грузовика звали Урал. Он отлично говорил по-русски, а вот его напарник Вовчик – блондин с типично волжской внешностью – на языке Толстого и Тургенева не вымолвил ни слова. Потом я узнал, что Вовчик всю свою жизнь прожил в Бойсуне: сначала детдом, потом школа-интернат, потом работа водителем. В Сурхандарьинской области, где мы находились, во время эпохи развитого социализма национальности смешались самым причудливым образом. Здесь, на территории Узбекистана, живут в основном таджики. Совсем нет русских, зато встречаются беженцы из Афганистана.
Но социализм кончился, и кончились дороги. Урал оказался замечательным водителем, но даже он не смог заставить потрепанный "ЗиЛ" забраться на кручу хребта Сурхантау. Через 6 часов езды по разбитой колее, то тут, то там сползающей в пропасть, грузовик встал основательно и надолго в кишлаке Алачапан... Дождь, накрапывавший весь день, усилился и пошел стеной. Стены домов из глины, смешанной с соломой, побурели, и одна за одной с них посыпались ишачьи "лепешки", используемые здесь в качестве топлива. А нам, в общем-то, такая погода пришлась по нраву – не жарко будет подниматься на Чуль-Баир, к пещере, до которой, по заверениям Вишневского, оставалось 6 часов ходу. После обеда мы набили рюкзаки вещами. Оборудование и провизию погрузили на десяток ишаков. Погонщики резво поспешили за животными в гору, а мы разбились на две группы и потащились следом.
...Следующие 8 часов прошли для меня, как бесконечный страшный сон. Легкие хрипели, как дырявые винные мехи (да простит мне Даль такое убогое сравнение). В голове похмельно шумело от недостатка кислорода в разреженном горном воздухе. Плюс незаконченная акклиматизация и полное отсутствие психологической подготовки к дальнему переходу – Урал-то брался доставить экспедицию непосредственно к месту. Через час после выхода из Алачапана мы пришли в Чиндан – "летние дачи" вокруг полей с картошкой. В Чиндане царило странное оживление. Вдоль берегов вялой речушки, крича, бегали мужчины и дети. В воздухе издалека приближался шум подъезжающей электрички... Стоп! Откуда здесь электричка? Такой шум может производить только поток грязной воды, швыряющий многотонные камни, – сель.
За секунды река вспухла и, размывая берега, отрезала нас от группы, уведенной жилистым Вишневским далеко вперед. Пришлось обратиться за помощью к местным. Недолго думая, несколько мужиков «связали» два берега тонким сосновым стволом. "Ну, давай, русский!" Идти с рюкзаком над ревущим потоком не решился никто из нас. Тогда, посмеиваясь, двое таджиков за десять минут перетаскали все рюкзаки, ловко обхватывая босыми ступнями импровизированный мост. Перебрались на другой берег и мы – налегке. И снова вдох-выдох, левой-правой к отметке 2600 метров над уровнем моря...
Когда я увидел впереди мелькающие фонарики и понял, что где-то там, в трехстах метрах, конец пешего перехода, ноги уже отказывались служить. Внезапно упавшая на горы ночь заледенила тело под промокшей майкой. Пришлось бросить рюкзак и на четвереньках доползти до куска полиэтилена на краю громадного каньона, под которым отогревались экспедиционеры. В сполохах молний видно было, как по дну каменного разлома впервые за 60 лет течет река... Только потом мы поняли, как нам повезло. Если бы не пришлось много часов идти сюда пешком, если бы Урал со своим "ЗиЛом" забросил нас прямо на горы, на дне каньона давно стояли бы палатки со спящими людьми. Сель в Чиндане – лишь отголосок бушующего под нами – унес жизни пятерых детей. От нашего лагеря не осталось бы и воспоминаний.
Для охраны вещей поставили палатку, в которой остался я и еще трое человек (наша четверка так и не распалась до конца экспедиции: вместе рубили дрова, вместе готовили еду). Остальные глубокой ночью двинулись обратно в Алачапан, чтобы на следующий день доставить в лагерь остальную поклажу.
...Выйдя из палатки утром, я едва удержался на деревянных ногах – вокруг простирались сразу три горизонта, наклоненных под разными углами. Мозжечок отказывался воспринимать действительность, и первую половину дня наша четверка провела сидя на камнях. Потом понемногу стали перетаскивать рюкзаки к стоянке, где уже 15 лет ставили палатки исследователи пещеры Бой Булок. После прошедшего селя стоянка была разрушена полностью. Вход в пещеру завален камнями. Смыло даже 10-тонную каменную плиту – экспедиционный "стол" с бывшими на нем солнечными часами. Пока мы грустно оглядывали картину разрушения, за невысоким перевалом раздались гортанные «хрррь» погонщиков ишаков. Скоро на склоне закачались в такт шагам рюкзаки.
...Первые несколько дней лагерной жизни были посвящены установке стола и палаток. Новый "стол" – плоский каменюга тонн на 12 – просто уронили на дно каньона. Потом набросали правильной формы камней – "стулья". Памятуя неоспоримое убеждение, что в Средней Азии дождей не бывает, часть палаток поставили на старые места. Между тем, дожди не прекращались. Шли они точно по расписанию – после обеда. Ясным утром вставало солнце и нагревало влажные склоны. Немедленно под нами начинали клубиться облака. Поднимаясь, они собирались вместе, и к обеду над хребтами уже закручивалась спираль грозового фронта. Начинался дождь, перераставший в град, а ночь снова была тихой и спокойной. В один из дождливых дней двое гонцов, посланные проверить, не намечается ли с вершины Чуль-Баира сток воды в наш каньон, сообщили, что сток намечается. И еще какой...
Через полчаса послышался знакомый гул прибывающей электрички. Палатки, стоявшие в каньоне, пришлось совместными усилиями немедленно вырвать вместе с колышками. Пошла вода. Медленно, нехотя тонкий ручеек пробивал себе путь через камни. Через минуту вал воды уже катал пудовые булыжники, а через час всем пришлось забраться на окружающий каньон скалы – чтобы не задело камнями, звонко цокающими по каменным стенам. Сель шел до вечера. Признаться, мы даже несколько утомились бездейственным созерцанием буйства природы. Кто-то уже дремал у костра, кто-то проверял оборудование для спуска в пещеру, а дежурные деловито приступили к приготовлению обеда-ужина.
Безжалостным потоком с гор были сметены все растения, насекомые и грызуны. Теперь Чуль-Баир вполне оправдывал свое название "Каменная пустыня". И посреди этой пустыни мирно горел костер русской экспедиции. Горел, обогревая тех, кому предстояло на бесконечно долгие дни уйти в вечную тьму Бой Булока...
Там, где живет смерть
...Постепенно жизнь в лагере, что называется, вошла в колею. В один из вечеров Вишневский собрал команду за столом и, шурша картами, повел долгий рассказ об истории Бой Булока. Название пещеры переводится с узбекского как «Богатый источник». Она и в самом деле стала неиссякаемым источником питьевой воды для жителей долинных кишлаков – днем и ночью из-под земли течет тонкий ручеек.
Бой Булок – пещера в своем роде выдающаяся. Уже десять лет она стоит в ряду глубочайших пещер мира и спускается по вертикали на 1158 метров. Протяженность пещерных ходов вообще запредельна – 15 километров. И все бы ничего, если бы ширина коридоров не доходила в отдельных местах до 20 сантиметров. Вход в Бой Булок нашли участники уральской экспедиции 1985 года. Жители кишлака Курганча сообщили, что в горах есть пещера, в которую еще в 70-х годах ушел человек и не вернулся. Идя вдоль ручья, спелеологи обнаружили вход. Спустились туда и обнаружили на дне 30-метрового колодца с отвесными стенами человеческие кости. В 1987 году кости вынесли и передали жителям Дюйболо – кишлака, откуда оказался родом первый исследователь Бой Булока. Его звали Мустафа.
Желая понять, откуда из-под земли берется вода, Мустафа с допотопной керосиновой лампой много раз спускался в пещеру. Однажды фонарь погас. Мустафа прекрасно знал дорогу, но считая, что идет к выходу, попал в нижние коридоры пещеры, доселе ему неведомые. В темноте ему не было видно, как узкая "шкуродерка" оборвалась колодцем, в который без труда можно поставить на попа пятиэтажный дом. Старая керосиновая лампа до сих пор стоит там, где оставил ее Мустафа в последний раз. А колодец, поглотивший отважного исследователя, назвали его именем...
Только в 1988 году экспедиции, возглавляемой Вишневским, удалось пройти все 15 километров Бой Булока. В 1989 году в пещере в составе российской экспедиции были итальянцы, в 90-м – серьезные мужики из Британского Королевского географического общества. Их усилиями на карте Бой Булока появились «Итальянский» и «Английский» коридоры. Наши оставили после себя пройденный и обмеренный "Русский тоннель".
...После недельного пребывания под землей они выходят на подгибающихся ногах. Их лица серы и грязны. Пещерная вода, насыщенная карбонатными соединениями, мигом превращает руки в распухшие культяпки. Чтобы попасть в пещеру сначала нужно проползти метров тридцать по горло в жидкой грязи – так поработал сель над узким входом. "Канализация" выводит в коридор, где можно встать. Мне было отведено только 12 часов, чтобы понять ощущения человека, прожившего в грязи, без солнечного света недельную вахту.
Задача вашего корреспондента была подкупающе проста – таскать за фото-видеооператором Уральского подводного учебного центра "Капитан Кук" Ильей Анисимовым мешок с аппаратурой и подсвечивать для съемки закоулки Бой Булока. Шли вдвоем, где ползком, где на четвереньках. В особенно узких местах передавали друг другу мешок со скарбом. Запомнился эпизод: где-то на третьем часе нашего подземного путешествия, когда вода уже залилась в дырявый гидрокостюм, но творческий запал еще не пропал, нам встретилось необыкновенно узкое место, рассеченное каменными пластинами. Я спросил Илью, стараясь говорить максимально цензурно, как, по его мнению, удобнее будет преодолеть препятствие, поверху или низом? Илья, подумав, ответствовал, что низом, несомненно, будет удобнее. И вот я, распластавшись, как камбала, полез под камнями, куда еле можно было засунуть голову. Застрял, разумеется. Прорванный где только возможно комбинезон никак не давал пойти на попятную, поэтому пришлось остановиться, чтобы перевести дух... Помочь человеку, застрявшему в Бой Булоке, может только господь Бог или он сам – в тесных коридорах вдвоем никак не разминуться.
Был случай, когда один из спелеологов предыдущих экспедиций сорвался с альпинистской навески в колодце и, пролетев 17 метров, сломал себе обе ноги. Все, что смогли тогда сделать для него – это постоянно накачивать обезболивающим. Из Бой Булока человек со сломанными ногами ползком выбирался двое суток...
Так вот, переведя дух и решив, что клаустрофобия мне уже не грозит, я по миллиметру выжал свое тело через узость. Сверху на меня немедленно упал Илья, ехидно и виновато улыбающийся. "Здесь поверху проще". Хорошо, что первым полез не он. Комплекция у нас разная...
По сантиметру протираясь сквозь камень, мы добрались до колодца Мустафы – действительно страшное оказалось зрелище. Смотришь сверху и еле различаешь в темноте язычки ацетиленового пламени на головных горелках стоящих внизу. Первые дни жизни там, «наверху», были посвящены моим скальным похождениям. Обвешанный альпийским оборудованием, я целыми днями лазил вверх-вниз по веревке, спущенной со скального выступа, чтобы освоиться со всеми этими "жумарами", "кролями", "карабинами" и узлом "двойная петля". Лазить по скалам оказалось просто здорово – болтаешься на подвеске между землей и небом, а вокруг горы, и только веревка знает, спустишься ли ты вниз. Под землей все было не так романтично...
Пристегнувшись карабином к веревочным перилам, я свесился в черный провал колодца. Участь Мустафы меня нисколько не привлекала, поэтому особенно тщательно вставил мокрую веревку в спусковое устройство и медленно поехал по ней. Одно дело, когда при рывке начинает раскачиваться десятиметровая сухая веревочка во время тренировки. Совсем другое – когда начинает амортизировать 20-метровый мокрый шнур. Чертова "спусковуха", пролежавшая в пещере уже две недели, никак не желала пропускать через себя веревку плавно, поэтому качался я, как паяц на ниточке, минут двадцать. Наконец дно колодца можно было потрогать или даже сесть на него. Там уже варился на сухом спирте скромный ужин, который "на воле" есть я бы остерегся – лапша, сухари, горячая вода. Но эстетствовать было глупо – голодного человека немедленно сжимает в смертельных объятиях пещерный холод.
Целью Ильи была съемка стадий прохождения колодцев Бой Булока. Поэтому в колодце Мустафы нас ждала группа, возвращающаяся назад и специально разодетая в шикарные желтые комбинезоны. Пока Илья щелкал фотоаппаратом и жужжал видеокамерой, прошло часа два. К тому времени целительное действие горячей пищи закончилось, и зубы ощутимо постукивали друг о друга. Обратный путь превратился в нескончаемую пытку. Забирался наверх колодца я, наверное, полчаса – глупый кроль (устройство для фиксирования веревки) не желал последнюю фиксировать, и половина моих усилий пропадала даром. Идти назад сложнее еще и потому, что одежда уже мокрая (если не от воды, то от пота), запасы сладких пряников уже закончились, а на обильный ужин нам не позволяла надеяться глубокая ночь, уже наступившая на поверхности...
По заказу НАСА был проведен эксперимент. Исследователь жил в пещере то ли год, то ли три года, данные разнятся. Выяснилось, что в условиях, когда человек лишен возможности вести счет времени, включаются его биологические часы, в корне меняющие представление о часах и минутах. Рабочий день исследователя-одиночки длился, к примеру, 32 часа. Не знаю, не знаю... Мне же смертельно хотелось спать, а Илья то и дело останавливался, чтобы снять момент очередного преодоления опостылевших узких мест.
...Вышли в час ночи. Последние метры (по горло в грязи, как без этого) я не полз, а плыл в надутом гидрокостюме. Черная жижа наконец вынесло мое бренное тело на воздух, где пришлось, лязгая зубами, раздеться догола и переодеваться в сухое. Законные 100 граммов в перемерзшее нутро – и спать.
Садык и другие
...Садык по-арабски значит «друг». А он и в самом деле был добрым другом экспедиции, этот таджик в своей вечной черной лыжной шапочке и галошах на босу ногу. Садык приходил в лагерь, подолгу говорил с Вишневским, приносил ароматные лепешки на козьем молоке и подстреленных им куропаток-кекликов. Кстати, стреляет Садык отменно. До прихода к власти нынешнего президента Узбекистана селение Дюйболо, откуда Садык родом, имело 80 полей опиумного мака, которое находилось под неусыпным контролем 40 охранников. В их число и входил Садык. «Нехороший сегодня день – двух человек убил...» – говаривал он в то время. Теперь Садык ходит по горам и осматривает поля с картошкой, которую воруют также упорно и постоянно, как воровали в свое время драгоценные головки мака.
Хотя воровство по законам шариата приравнивается к святотатству, воровали и у нас. Кражу обуви мы еще понимали – дикая и неописуемая нищета горцев толкает и не на такое, но когда однажды ночью из одной палатки украли фонари, деньги и снаряжение, был поражен даже Вишневский. Садыку было поручено найти виновника неприятного инцидента, и будьте уверены, рано или поздно украденные вещи "всплывут" в горах, и он его найдет.
Прилично говорить по-русски Садык научился в армии, а вот его племянник Азам – всегда смущенно-улыбчивый 15-летний подросток – в армии не служил, поэтому общий язык найти с ним оказалось нелегко. Зато после того, как Азаму была подарена несколько поношенная рубашка, он совершенно оттаял и стал бессменным добытчиком заказываемых ему азиатских диковин – от игл дикобраза до банок с копошащимися в них омерзительными скорпионами. За Азама мы были спокойны – горцы, по словам Садыка, имеют иммунитет против укусов как этих тварей, так и теоретически смертельных для европейца укусов паука-каракурта.
...После того, как русские участники экспедиций в Бой Булок вынесли из пещеры и перенесли в Дюйболо кости несчастного Мустафы, двери любого дома в этом горном кишлаке в любое время открыты для людей с рюкзаками. В конце экспедиции, когда мы уже потихоньку выносили из-под земли накопившийся там бытовой мусор, в лагерь пришли дюйболинские старики в шапках-ушанках и вполне русских телогрейках. Попивая чой со сладкими пряниками, они пригласили всех экспедиционеров погостить денек-другой в кишлаке. Зная щедрость, сопряженную с извечной нищетой горцев, Вишневский долго уговаривал Садыка взять денег на покупку барана или козла для нашего плова. "Так нельзя, гость не будет", – отнекивался тот, но Вишневский просто и без разговоров засунул деньги в карман садыковых штанов и удалился.
В Дюйболо вышли в полдень, когда похудевшие рюкзаки были уложены на спины ишаков. Садык говорил, что от лагеря до кишлака всего-то около часа пешего хода. С вершины Чуль-Баира мы и сами видели небольшой дюйбалинский оазис, но идти пришлось часов пять. "Среднеазиатский астигматизм"... Все предметы кажутся намного ближе, чем есть на самом деле. Сколько раз нам пришлось столкнуться с этим явлением, но свыкнуться с ним мы так и не смогли. К тому же приходится учитывать, что Садык не шел – летал по камням не хуже горного козла...
Дюйболо уже 700 лет лежит под вертикальной каменной стеной, обрывающей Чуль-Баир. За это время в кишлак разве что протянули линию электропередачи, хотя быт горцев блага цивилизации мало изменили. Те же арыки, те же глинобитные домики, те же способы передвижения – на ишаках по шато. О шато стоит сказать особо. Не знаю, сколько поколений строилась эта "дорога" из бревен, вбитых в отвесную скалу. На бревна уложены ветки, на ветки _ камни. И такое вот сооружение змейкой поднимается на 300 метров по вертикали. Никаких перил на шато нет и в помине, но дюйболинцам это не мешает разъезжать над пропастью по узкой – метра полтора – "дороге".
...Спустившись с шато, мы попали в настоящий рай. Бьющие из пещеры ручьи превратили небольшую долину в настоящие заросли грецкого ореха, алычи и яблони. Дюйболо, впрочем, ничем не отличалось от других виденных мною кишлаков. Разве что народу оказалось побольше – предупрежденное стариками о нашем приходе, на узенькие кишлачные улочки высыпало все мужское население Дюйболо. Женщины предпочитали разглядывать гостей издалека и при ответном разглядывании закрывали лица и уходили вглубь дома – законы шариата в горах не то, что в городе. Спуск с Чуль-Баира закончился в доме Шахимордона – единственного в Дюйболо хаджи. Хаджой называют "официального святого", человека, совершившего хадж, то есть паломничество на святую для любого мусульманина землю – в Мекку. Шахимордон совершил хадж в прошлом году, причем путешествие в Мекку и обратно обошлось ему примерно в 40 российских рублей, основную часть средств выделило государство. Поскольку Шахимордон имел весьма скудный русский словарный запас, мои расспросы о хадже быстро увяли, и я просто сидел на мужской половине дома хаджи и наслаждался покоем этой застланной одеялами комнаты. Одеяла здесь – эквивалент наших хрусталей, серебряных ложек и прочих проявлений показного благосостояния. Чем больше у человека одеял, тем более он уважаем. В доме нашего гостеприимного хозяина я насчитал 60 одеял. Несмотря на свои 70 с гаком, Шахимордон принял на свои одеяла вторую жену. Правда ни первую, ни вторую половину бравого дедка я так и не увидел. Дом Шахимордона, согласно обычаям, разделен на две половины. Вход на женскую запрещен для любого мужчины (кроме хозяина, конечно), тем более для гостя-иноверца. Женщины, соответственно, не могут ступить на мужскую часть дома. Впрочем, от них этого и не требовалось. Шахимордон увел всех гостей в сад, где уже был расстелен (посредством тех же одеял) достархан.
Самым близким родственником Шахимордона можно назвать только Садыка и его многочисленных ребятишек, своих детей у хаджи нет. Подавая пиалу с шурпой, грустно и тепло Шахимордон заглядывал в глаза самых юных участников экспедиции...
В ожидании ужина мы отправились осмотреть горное селение. Возле тамошнего "сельмага" уже ждала нас целая толпа любопытных таджиков. Узрев фотоаппарат, мужчины Дюйболо изъявили желание немедленно быть запечатленными для истории. Разбитные продавцы включили кассетный магнитофон на стойке магазина и поставили для гостей европейский "музон". Выглядело это просто чудовищно – где-то на окраине Средней Азии, в горах выла музыка челябинских дискотек. Пришлось искать убежища. Я быстро нашел его в кузне, где старый Ушбай заканчивал очередной нож-"пчак". Одно удовольствие было смотреть, как он спокойно орудовал железными клещами и молотом. Помогала Ушбаю целая армия внуков, едва достающих руками до веревки мехов. Им тоже суждено всю жизнь вытаскивать из горнила рдеющие полосы металла.
...Спали под открытым небом, в саду. Утром разбудили горластые петухи и аппетитные запахи из "кухни". Там готовили козла, замурованного глиной в печи-тандере. Удивительно вкусное блюдо. После завтрака я обратил внимание на то, как мужчины то и дело запихивали под язык какую-то буро-зеленую смесь. "Насвай" – местный слабый наркотик, заменяющий курение. В его состав входит тертый табак, кора арчи, куриный помет и негашеная известь. Штука безобидная, не дай Бог только сглотнуть слюну, когда насвай лежит под языком – рвота предстоит долгая и продолжительная.
Жаль, что из Дюйболо ушли рано, но аквалангистам, бывшим в составе экспедиции, предстояло еще нырнуть в Холтан-Чашму – бурливый источник, рожденный в глубинах Бой Булока, чтобы выяснить, соединяется ли он с тоннелями пещеры. В лучах подводных прожекторов удалось выяснить, что соединяется, но скорость потока не позволила забраться поглубже. Холтан-Чашма была оставлена как деликатес для будущих экспедиций.
Мы же, стегая непокорных ишаков, спустились до Курганчи – кишлака, где нас уже ждал Урал со своим верным "ЗиЛом". Вечером мы были в Бойсуне, а ночью "Икарус" нес нас по дороге в Бухару.
...Лил дождь. Холодные капли с настойчивостью маньяка колотили по обритой голове. Тучи скакали по небу, как клубки шерсти, подброшенные расшалившимся котенком. Вслед за ними трусил на ишаке улыбающийся Садык с ружьем наперевес... Я проснулся. В окне пылила челябинская улица, запорошенная осенней желтизной. Теперь кажется, что все было во сне: горы, пещеры, азиатское небо. Как жаль, что в один и тот же сон вернуться снова никак нельзя...
***
Несуществующий жанр «Закулисье...» хорош тем, что настраивает на мелодичный, душевный, мемуарный лад. Ведь, в сущности, вся журналистика – это погоня за жареной уткой, которая так и норовит протухнуть. Репортер – самый, пожалуй, медлительный ремесленник. Ему нужно уладить дела с бухгалтерией, куда-то на чем-то добраться, заселиться в гостиницу, набрать материал (а иногда и остаться в живых) и только потом отписаться. Причем отписаться как надо, как велит момент и редактор. Свои ощущения и эмоции он может засунуть в – правильно! – «Закулисье...»
Помню, в пору, когда мобильный телефон считался совершенной фантастикой, пейджер на поясе был признаком респектабельности, а текст создавался на печатной машинке, меня отправили в командировку в отдаленное южноуральское село. Дело было в феврале, по-моему, то есть как раз, когда вид за окном вызывает подсознательное воспроизведение в мозгу песни про «в той степи глухой замерзал ямщик».
Задачу облегчало то, что в редакцию приехал на своей «Ниве», собственно, герой материала. Обычный фермер, которого стандартным образом развели – зерно приняли, а денег не дали. Модная тема была, да. И вот с этим фермером меня и послали, чтобы, так сказать, увидеть все своими глазами и взять комментарии у участников конфликта. При подъезде к селу выяснилось, что гостеприимство фермера настолько широко, что спать я буду в его доме. Вернее, на заимке, в нескольких километрах от села. Поначалу это даже обрадовало. Хорошая, большая изба, о которую, как о крепкий маяк волны, разбивалась поземка, уединение, романтика и прочее, городскому жителю малодоступное.
После знакомства с многочисленным семейством фермера меня усадили за стол. Оказалось, что жена и дети уже поели, и вот эти вот миски с капустой, грибами, пласты хлеба, сала и колбасы предназначаются нам. Что ж, закусили. «Ну, неси ужин теперь», – скомандовал богатырским голосом герой моего будущего репортажа. Когда на столе появились два эмалированных таза (в одном – вареники с квашеной капустой, в другом – с картошкой), я испуганной икнул. Но вот когда фермер, хитро улыбаясь, извлек из-под стола две полуторалитровых бутыли с самогоном, мне стало по-настоящему страшно. В те васильковые годы вашего корреспондента алкоголем еще можно было напугать.
Стали пить и есть. Продолжалась эта пытка часа полтора, пока фермерова жена не позвала нас смотреть телевизор. Славный ритуал российских семей – просмотр сериала «Санта-Барбара». Но мне смотреть не хотелось, к тому же пришлось выдержать схватку со стулом, который так и норовил вырваться из-под меня. Наконец надо мной сжалились и отправили спать.
Наутро я проснулся без признаков похмелья и после титанического завтрака из трех видов пирожков и ведра чая мы выдвинулись в село. Обстановка на элеваторе была грустной: мужики отчего-то надеялись, что корреспондент областной газеты, как фокусник из рукава, сейчас же вытащит деньги. «Офис» закупщиков как пустовал с октября, так и пустует, короче, ничего нового и интересного, но материал я набрал, фотографии сделал, остались пара телефонных звонков, но и из города позвонить можно. Пора возвращаться. «В ночь не поедем, метет, – сообщил фермер. – Сейчас ко мне рванем, баню истопим, выпьем-поедим». У меня перед глазами запрыгали оранжевые точки приближающегося обморока. Пришлось вежливо отказаться и намекнуть, что может возникнуть нужда в доборе информации, а из медвежьего угла с «Санта-Барбарой» до села с кондачка не добежишь.
Фермер понятливо кивнул и отвез меня в гостиницу, ну или чем бы это ни называлось. Представьте двухэтажный барак из кирпича, в котором из живых – только вахтерша, ее кот и телевизор. Больше в этой юдоли скорби никого не наблюдалось. Вахтерша выдала мне вафельное полотенце и отвела на второй этаж. «Тут теплее», – объяснила она. Теплее, чем на улице – безусловно, но пар изо рта все же предательски показывался. Впрочем, комнатенка два на два с половиной метра (ни в одном слове не соврал) обогревалась, судя по всему, за счет телесной теплоты постояльцев. Не умирали же они тут массово, в самом деле. Невеселые размышления мои прервал деликатный стук в дверь. Это приехал мой фермер! Жена, увидев, что он один, развернула его с порога, вручив для «худенького из газеты» кастрюлю с фаршированными мясом перцами, буханку хлеба и – да-да – полтора литра самогона.
Задевая плечами стены «номера», фермер неловко повернулся и вышел, сообщив уже из коридора, что завтра утром заедет. Я сел на кровать, налил полстакана, выпил, не закусив, а потом вытащил диктофон и, пока хмель не ударил, тихонько напел несколько песен: «Ой, мороз-мороз», «Ходють кони», «Степь да степь кругом» и что-то еще из соответствующего репертуарного списка. За окном видно было только желтое пятно раскачивающегося на ветру фонаря. За пределами светового круга царила ночь. Я сидел у окна, одинокий, как ледокол, застрявший во льдах, пил самогон, ломал хлеб руками и макал его в обжигающую жижу подливки. С ленты диктофонной кассеты доносилось пение моего трезвого собеседника...
Чем хорошо ремесло газетного репортера – так это одиночеством. Ты себе и фотограф, и писарь, и имиджмейкер. Телебригада – это микроавтобус с корреспондентом, оператором, водителем, а то еще и с осветителем, звукачом, режиссером. Мне такой вавилон никогда не нравился. Из минусов – опять же одиночество. Ведь не все репортажи сопровождаются просмотром сериалов в теплых хатах. Когда я приехал в бесланскую школу через год после ее захвата террористами, я первый раз заплакал в голос где-то в классе химии, что ли. Этих слез никто не видел, а мне очень был нужен кто-нибудь рядом. Репортаж получился, как обычно, деловым, информативным, с кучей собеседников и статистических выкладок. Совсем чуть-чуть эмоций я позволил себе все в той же отдушине «Закулисья...».
***
ЗАКУЛИСЬЕ БЕСЛАНА: ХРУПКОСТЬ МИРА
В 2007 году в День борьбы с терроризмом по всей России прошла акция «Без слов». Она была посвящена печальным событиям в Беслане. Глупо пересказывать сейчас ход захвата террористами школы № 1, все без исключения СМИ в течение трех дней давали полную раскадровку событий. Да и ежегодно не забывают напомнить о трагедии, подкидывая новые подробности. Тем более что Беслан стал этакой информационной прелюдией к следующей буквально через неделю другой трагической дате – 11 сентября. К слову сказать, террористическая атака на Всемирный торговый центр, удар в самое сердце Америки, сопровождается громкими заявлениями, результатами расследований, документально-художественным фильмом. Бесланские события до сих пор окутаны завесой тайны. Я не был в Америке, зато смотрел фильм «911». А был в Беслане и не видел ничего, кроме слез, копоти и могил. В этом году – «Без слов». Хотя пора бы уже сказать что-то конкретное, важное, то, чего ждут матери погибших в школе детей. Ведь столько лет прошло...
Я был в бесланской школе в первую годовщину захвата. Сказать, что это страшно, – ничего не сказать. Когда я въехал в город со стороны Владикавказа, казалось, что Беслан превратился из кавказского города с его пышными садами, достойными стариками и запахом шашлыка в одно большое скорбное кладбище. Дорогу к школе № 1 покажет здесь любой, как не ошибется человек в поиске могилы своего близкого.
Вокруг школы тихо: рано еще, туманно и сыро в воздухе. Пользуясь затишьем, прохожу в здание. В спортзале, где находилась большая часть из тысячи заложников, уже расставлены бутылки с водой. Она стоит здесь и в течение года. Детишки очень хотели пить. Теперь взрослые надеются, что им больше не придется страдать от жажды «там». На стенах спортзала – надписи мелом, плакаты, газеты целые с фотографиями, эпитафиями, больше всего просьб простить за то, что не уберегли. Горят свечи, и только потухшие угольки хрустят под ногами. В коридорах школы – толстый слой пыли. Здесь ничего не убирали после штурма. В классах – учебники, перевернутая мебель, в кабинете химии осталась практически нетронутой лаборатория. Только реактивы кто-то прибрал. Коридорные стены сплошь в копоти от пожаров и взрывов гранат, в миниатюрных воронках от пулеметных и автоматных очередей. Кое-где видны следы крови, какие-то потеки, словно о стену разбили банку с краской. Даже не хочется выяснять, что это за следы.
Ближе к полудню к школе начали подтягиваться родные погибших. Квинтэссенция скорби. Идти самостоятельно могут немногие, большинство ведут под руки. У всех в руках цветы и вода. Очень скоро спортивный зал школы заполнен до отказа. Моментально постаревшие женщины вглядываются в лица на фотографиях и рыдают в голос, узнавая своих. В углу зала стоит ванна с песком. Сюда ставят свечи. Много свечей. Так много, что песок уже полностью залит расплавленным воском, и в его неровном дрожании тают брошенные гвоздики. Их красные лепестки погружаются в горячий воск и чернеют.
Перед ванной сидит на корточках паренек. Видно – третий-четвертый класс. Спрашиваю его, кому он ставит свечу? Маирбек – так зовут маленького осетина – отвечает, что среди убитых детей его брат. «Я ему воды принес», – говорит он и добавляет свою бутылку к ряду других. «Маирбек, как ты думаешь, кто виноват в том, что случилось», – не к месту задаю ему вопрос. «Я не знаю, как старики скажут...», – отвечает мальчик.
А старики говорят разное, и вину ищут в разных местах, даже среди разных наций. Первая бесланская годовщина давала повод для невеселых размышлений. С 1992 года осетины и ингуши, проживающие по соседству, находятся в состоянии хрупкого мира, когда любая искра может вызвать воспламенение межнациональной розни. Были серьезные опасения, что через год после трагедии мужчины, отплакав положенное, возьмутся за оружие и пойдут из Беслана в сторону Ингушетии мстить. Спор за Пригородный район, в котором столкнулись интересы осетин и ингушей в 1992, обратился этническими чистками. Малейший намек на то, что среди бандитов, захвативших школу, были ингуши, – и резни не избежать. Ситуацию осложняет и то, что осетины – исконные христиане, ингуши – мусульмане. Чувствуете, какая удобная почва для поросли ненависти. Нет ничего проще, чем стравить две нации, две религии.
Я побывал в ингушском селе, минутах в сорока езды от Беслана. Старейшина заверил, что ингушам бояться нечего. Однако улицы деревни словно вымерли. «В поле все», – сказал Казбек. В каком поле, если окна домов зашторены, а во дворах нет автомобилей? На следующее утро, к слову сказать, старейшины дома тоже не оказалось, хотя мы договаривались о встрече.
Поиски виноватых, к счастью, не вылились в масштабные ночи длинных ножей. И тут хочется сказать спасибо российским чиновникам, которые, поняв, во что может превратиться этот относительно тихий район Кавказа, чуть развязали галстуки, слегка склонили шеи и приняли на себя материнский гнев. Дали выпустить пар, что называется. Пусть и безрезультатно. Трагедия Беслана продолжает оставаться демонстрацией дикой, не поддающейся осмыслению жестокости, иезуитского расчета на то, что если захват школы не создаст «информационного шума», то хотя бы дестабилизирует обстановку в Северной Осетии.
Когда в Беслане мы поминали погибших, сидя среди мужчин с пустыми глазами и полными стаканами, я опять задавал вопрос, кто виноват. «Злые люди виноваты, Сергей. Мы знаем, что погибли и осетины, и ингуши. Мы не пойдем стрелять ингушей. И мы пока верим власти. Пусть она разберется», – был мне ответ. Люди устали той усталостью, когда душа словно выгорает, когда кроме пустоты не остается уже ничего. Без слов их устроят только семейные поминки. Но им нужно услышать ответы на поставленные вопросы. И «без слов» тут не обойтись.
***
Есть такое свойство у психики человеческой – забывать плохое. Бесланская трагедия стала апокалиптическим противостоянием Добра и Зла. По-другому не скажешь. Это не захват террористами гостиницы в Мумбаи, не «Норд-Ост». Взрослые мужчины с оружием пытали и убивали детей. Они хотели показать, что на территории России могут сделать все, даже сжечь заживо первоклашек в нарядных бантах и костюмах-тройках. На деле – дали лишний раз убедиться, что Зло реально, ощутимо, пахнет потом и кровью, а Добро... Добро существует в невинной вере в Деда Мороза, в детской непосредственности, неспособности к сопротивлению. И оно обязано быть с кулаками. А кулаки – это мы и наша память. Наша, потому что у детства нет памяти, у него остаются только шрамы.
Но вам – вот узелки на память: 3 дня террористы удерживали 1128 детей и взрослых в здании школы № 1 в Беслане. 350 человек погибло, 500 – ранено. Половина погибших – дети.
Я не зря говорю о памяти. К сожалению, это та единственная штука, которая позволяет нам сострадать и сочувствовать. Но со временем она обрастает ментальными мозолями. Перестаешь удивляться тому, что в один прекрасный момент рушится часть здания Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, погребая 75 человек. Как-то мимоходом слушаешь про предотвращенные в далекой Ингушетии теракты. Глаз замыливается, душа черствеет. А добрая память услужливо подносит разве что картинки с недавней пьянки (лето же провожали) на Зюраткуле: палатка, стопарик под «Подари мне рассвет...» и сало, птички-синички, друзья у костра.
А может, кому-то она снова и снова показывает, как минувшим 1 сентября ребенок в школу в первый раз пошел. С букетом размером с него самого и самым-классным-и-красивым-пеналом... Это все, чтобы приятственней было и комфортней, кризис ведь на дворе. Да и отдохнуть надо перед работой, а то потом на шопинг сил не останется.
Но в обществе (я уже не только про нас, глобализация распространила смердение по всему «шарику») с нравственными приоритетами, так уродливо развернувшимися в сторону потребления казуального дерьма, нас спасти может только память. Иначе случится апокалипсис душ. И все. Беслан тогда нам всем. И упаси вас Бог подумать, что я считаю себя мерилом нравственности. Нет, я такой же, как вы, просто мне страшно...
***
Страшно было часто и много. В армии я не служил, хотя отец всегда был для меня ориентиром, да и вколоченные с советского детства моральные императивы побуждали к службе. А батя – погранец, и зеленую фуражку раз в год надевает с удовольствием и с чувством выполненного долга. Но дело в том, что когда кончилась моя отсрочка по учебе, в стране и в моей жизни наступила такая неразбериха... Военкомат попросту не знал, куда слать повестки. А может, и не слал вовсе. Но мой уход в армию мог поставить под вопрос выживаемость семьи, так что я не спешил объявляться пред светлые очи военкома.
В любом случае, меня мучило чувство вины. Поэтому командировки в горячие точки я буквально выпрашивал. Объездил весь Кавказ, был на ночных молебнах ваххабитов, жил в бригадах спецназа, спал под ночными обстрелами...
Приехать в Чечню просто. Выехать – гораздо сложнее. Тут как в известной поговорке «вход – рубль, выход – два». Чтобы выбраться на территорию воинственной республики, нужно купить билет на недавно возрожденный поезд до Грозного. Или сесть на самолет и долететь, скажем, до Минеральных вод, добраться до Владикавказа, поселиться в гостинице, чтобы утром поймать такси и доехать опять-таки до Грозного.
Однако у меня сразу возникает вопрос: а это вам надо? Если родственники, предположим, проживают в Чечне, или возникла необходимость навестить могилы предков – это одно. А вот если вы журналист, да еще вдобавок сотрудник западного издания, да еще, не к ночи будет помянуто, без разрешения от МВД или Минобороны – совсем другое дело. Тогда здесь вы нежеланный гость, будьте готовы ко всяким и не всегда приятным неожиданностям...
Первый раз в Чечне я побывал еще будучи корреспондентом газеты «Челябинский рабочий». Губернатор летел в Аргун открывать хирургическое отделение тамошней больницы. Освещать это событие, естественно, пригласили журналистов. Впечатлений, надо сказать, я привез совсем мало. Губернатор со свитой и пишуще-снимающей братией постоянно находились в кольце охраны, на крышах домов и в отверстиях от снарядов в стенах тех же домов дежурили снайперы. Дороги блокировали «бэтээры». Все причесано и гладко, как и должно быть при посещении чиновного лица.
Потом я несколько раз бывал в Аргуне, когда челябинские милиционеры сменяли своих коллег, несущих полугодовую чеченскую вахту. Всякое случалось. Однажды, когда поезд, привезший смену, стоял в отстойнике на путях в Моздоке, по рации передали, чтобы челябинцы не совались на грузовиках в Аргун, засада. Обидно, но мы об этом узнали, когда тряслись в бронированном брюхе «Урала» за много километров от состава. Засады не было, но тяжелое напряжение в кузове я помню до сих пор. Солдаты в «брониках» и касках поставили автоматы между колен и всматривались в щели, ловя движение в «зеленке». Я и фотокор Саша, затертые камуфлированными плечами в самый угол, ближе к кабине, глотали коньяк из фляги. Бронежилеты нам не выдали, и коньяк казался хоть какой-то защитой. Потом мы уснули, а проснулись уже в расположении части. Там царил кавардак, подсвечиваемый карманными фонариками. Красноярская бригада, которой давно уже пора было отправляться домой, коротала время за коньяком «Кавказ». Этот клопомор не столько опьяняет, сколько поднимает в душе мутные волны злобы. Красноярцы чего-то не поделили, подрались, в результате кому-то прилетело топором по ноге. Пока наши растаскивали дерущихся, наступила ночь. Начальник части посмотрел на наши пыльные лица, пригласил в свой кабинет и по рации запросил подтверждение, мол, эти вот журналисты точно должны здесь быть, или расстрелять их на месте. Наша поездка была согласована, и начальник, извиняясь, вытащил из шкафа все тот же «Кавказ».
Потом была баня. Такого количества сверчков, как там, я не видел никогда. Омерзительными серыми стаями они разбегались под полки, падали на печку и трещали, как куски сала на сковороде. Тем не менее, помыться было необходимо. Освеженные, мы пошли спать. Постелив спальник, я отправился в туалет. Темно, хоть глаз выколи. На окнах – маскировка, а на плацу не горел ни один фонарь, что показалось странным. Я зажег свой и бодро зашагал к «мультиоконному» сортиру.
«Ты что, совсем охренел! Выключи свет!» – раздался громкий шепот. Выключил. «А что такого? Не видно же ни черта», – спросил я у обладателя шепота. «Снайперы работают, – объяснил он. – А бумага – справа, рукой пошарь»...
Ночью начался обстрел из гранатометов. Не то чтобы страшно – проблемы могут возникнуть, только если граната залетит прямо в узкую «форточку» между мешками с песком в окне – но громко. Мы слезли с кроватей и распечатали очередной «Кавказ». Пили за недолет, перелет и за своих родных. Было мерзко и унизительно беспомощно. Откуда-то сверху, как кувалда, долбил наш автоматический гранатомет. «Как я люблю эту музыку войны», – заплетающимся языком сказал майор-штабник. Я не стал чокаться с ним, хмуро выпил и пошел спать. Хотелось домой...
Аккурат после запрета на посещение Чечни журналистами без разрешения МВД или Минобороны мы с Максом, отличным фотографом и хорошим человеком, прилетели в Минводы. Посадка запомнилась. Самолет обгонял птиц, даже не думающих уступать дорогу. В Минводах нас ждал Муса, здоровенный осетин, даже в своей «Волге» не снимающий пыжиковой шапки, под которой у него, как потом выяснилось, была еще одна – традиционная белая шапочка мусульманина. С Мусой мы были знакомы по прошлым поездкам в Беслан. Обменялись телефонами. По крайней мере, он не завышал цену и терпеливо ждал, пока журналисты сделают свои дела. Муса довез нас до Владикавказа, пообещав забрать с утра. Ночь в гостинице прошла как обычно, в препирательствах с проститутками, желавшими во что бы то ни стало облагодетельствовать двух молодых одиноких людей. Телефон отключать не хотелось – могли позвонить из Москвы. К утру удалось заснуть.
Монотонный дождик застал нас на трассе «Кавказ». Муса, зевая, включил кассету с национальными песнями. Под жизнерадостные напевы мы с Максом уснули. Проснулись от тишины. Мусы за рулем не было. Размахивая руками, он что-то объяснял российскому солдату на КПП. Потом всунулся в окно: «Я сказал, что вы мои родственники, едете в Грозный к дяде», – сообщил он. Я – брюнет – скептически осмотрел блондинистого Макса. «Муса, ты уверен?» «Да, – ответил он. – Дай полтинник». Полтинник – стандартная такса для проезда через КПП, даже если все с документами в порядке. Ну, так повелось. Можно, конечно, подождать, пока солдатам самим не надоест машина на охраняемом блок-посту, но лучше заплатить и ехать дальше – к репортажу. Предъявлять удостоверение «Русского Newsweek’а» не хотелось. Практика показала, что проверяющие смотрят не на написанное мелким кириллическим шрифтом «Русский», а на жирную латиницу «Newsweek». КПП на Кавказе много. Желающему проехать по этой трассе приходится запастись изрядной суммой наличности. В дальнейшем мы с Максом выработали историю поскромней, чем та, которую предложил нам Муса. Я представлялся троюродным московским братом погибшего художника, чья выставка по счастливой случайности выставлялась в те дни в Грозном. Макс с его объемистыми кофрами выступал в роли фотографа, желающего запечатлеть бессмертные творения. Эта версия вкупе с 50-рублевыми бумажками работала до самой границы с Чечней. Дальше стало сложнее. Бравые чеченские милиционеры вмиг нас раскололи. Осетину Мусе, представителю не титульной национальности, было предложено замолчать. Нам оставалось только последовать его примеру – документы забрал сержант. При этом он многозначительно пробормотал в рацию, что нужна машина для задержанных. Мы стояли полтора часа. Макс обреченно заметил, что лучше бы не ездили. Муса согласился: «Да-да...» Я промолчал, прикидывая, как я возвращусь в редакцию и сообщу, что задание не выполнено.
Белая «шестерка» с лейблами «ГИБДД» и спецсигналами на крыше, казалось, вместила в себя весь запас кавказской невозмутимости и сарказма. «Мужики, – сказал я, – мы на самом деле журналисты, только сделать разрешения не успели». Показав удостоверение, я понял, что совершил ошибку. «А, американцы! – удовлетворенно констатировал старшой. – Так, сейчас мы вас задержим, а дальше посмотрим». «Сколько..?» – вопрос они ждали. «Сколько есть!» Денег было немного. Удалось сговориться на сто баксов. Через час мы были на центральной площади Грозного...
Жизнь есть везде. Рожают даже на войне. Через асфальт пробиваются цветы. В Грозном живут люди. Они торгуют и гуляют. Деревянные балки, перекинутые через грандиозные лужи, – всего лишь временное явление. Потертые туфли – дань непогоде, пугающие европейцев бороды – лишь дань традиции. Пока мы гуляли по рынку на центральной площади, я ни на минуту не выпускал Макса из виду. Фотографы – страшные люди. Могут ни к месту оказаться там, где образуется водоворот, который втянет и тебя, репортера...
Помню, как мы с фотокорром Андреем приехали в частный сектор Грозного, чтобы поговорить с людьми о том, какова обстановка в чеченской столице. Люди нас приняли, напоили чаем. Потом прогнали из кухни жен и детей и стали задавать вопросы. «Сколько твой фотоаппарат стоит?» – спросили они Андрея. Будучи человеком честным, Андрей ответил: «Ну, примерно пять штук зеленых». Я со своим блокнотом за червонец и ручкой, купленной в аэропорту, сжался. «А что будет, если мы сейчас с вас все снимем, а самих – в расход?» – мечтательно предположил хозяин дома. Положение спасла шутка. Мы с Андреем нервно рассмеялись: «Да ничего не будет. Кому ты эту байду продашь?» «Мда...» – протянул хозяин...
Я покупал сигареты, когда увидел Макса, подбирающегося к группе людей. Они стояли кучно: бородачи с автоматами, женщины в черных платках. Разносчица вареной кукурузы поднесла свой лоток поближе, надеясь на бакшиш. Мужики орали в такт. Женщины потрясали кулаками, Макс, увлеченный происходящим в поле зрения его объектива, как кот, подползал ближе. В центре круга подскакивал старик. Он гортанно кричал и сжимал рукоять сабли. Об этом обрядовом танце я читал. «Макс, братан, пошли отсюда скорее», – сказал я, беря фотографа под локоть. «Да подожди, у них тут праздник, дай поснимаю», – Макс отчаянно вырывался и видел во мне врага, лишающего его лучших кадров. «Слушай, они не радуются. Это – боевой, судя по всему, танец», – сообщил я и поспешил от толпы к машине Мусы, благоразумно стоящего подальше от площади. Ему, осетину, в случае чего досталось бы не меньше нашего. Макс вышел из творческого экстаза и тоже заскочил в «Волгу».
На выезде из Грозного мы облегченно вздохнули. Как оказалось, рано. Разбитая снарядами девятиэтажка с огромным портретом Алу Алханова на торце привлекла внимание фотокорра. «Только не выходи из машины», – попросил я. Макс приоткрыл окно и сделал пару снимков. Через минуту мы тронулись.
Муса тревожно вглядывался в зеркало заднего вида. «Что такое?» – спросил я. «Смотри, там машина без номеров за нами», – ответил Муса. И вправду – за нами летела «шестерка» (конечно же, белая) без номеров и с наглухо тонированными стеклами. Она мигала фарами и отчаянно сигналила. Наш водитель попытался оторваться. «Щас, до российского блок-поста дотянем, там остановлюсь», – сказал Муса. «Шестерка», видимо, с форсированным движком, начала таранить нашу «Волгу». Муса уворачивался. Наконец впереди – российский флаг. Лысая резина «Волги» обреченно скользнула по гравию обочины. Из «шестерки» высыпали трое, неуловимо похожие: белые рубашки, черные брюки, туфли, АПС за поясным ремнем. «Кто такие, почему снимали?» – дуло пистолета-пулемета системы Стечкина просунуто в полуоткрытое стекло двери. Подаю документы, здесь ловить нечего, Муса стал пепельно-серый. «Выйти из машины!» – толстяк с оружием передергивает затвор. «Вы хотите ущемить конституционные права граждан РФ на право быть информированными?» – интересуюсь я, не зная, что говорить дальше. «Чего!?» – тянет толстый.
«Что случилось?» – нижегородский акцент так узнаваем. Российский солдат, подошедший к нам от КПП, устал и обветрен. Молча он забирает у белорубашечника наши документы и идет в свою бетонную будку. Муса медленно трогает за ним. «Че в Грозном-то делали?» – осведомляется солдат. «Репортаж...» – на вранье уже нет сил. «И как?» «Сам же видел...» «Езжайте!»
Остаток пути Муса гнал так, словно пытался уйти от шайтана. Мы снова спали и проснулись у входа в гостиницу. «Я за вас полторы штуки заплатил», – признался Муса. – Отдайте...» Не стали выяснять, когда и за что – просто отдали, ему пришлось тоже несладко.
Остаток ночи был посвящен борьбе с разрядившимся ноутбуком, перекрутке гостиничных телефонных штекеров, чтобы выйти в Интернет, сдаче материала в Москву. Когда мы уже уснули, в номер постучала вторая бригада репортеров – они только-только вернулись из Грозного. Саня Раскин, дружище мой бесстрашный, до рассвета бродил по чеченской столице, пытаясь найти интернет-кафе. До утра мы перегоняли файлы по вечно виснущим линиям и пили коньяк. Тут нет героизма. Нет усталости от погонь и перестрелок. Мы просто пили коньяк...
***
Давайте отвлечемся. Ведь я же не показал вам свой самый первый репортаж. Было так: преддипломные времена, надо сделать свой вклад в фундаментальную науку, и тему своего исследования я обозначил как «Игровой репортаж», ну, то, что сейчас называется «испытано на себе».
Теорию дали Берн и Хейзинга. Методические материалы я набирал, методически исследуя дно судеб людских. Крепость костей и рассудка позволяли мне находиться там, где не нужно бы. Городская свалка, например. Я прожил в землянке с откинувшимися уголовниками пару дней. Спали на пачках газет, очень, честно говоря, удобно и тепло. Пили водку, чифир, ели вонючее мясо, курили отбракованные сигареты – это такие длинные, метровой длины неразрезанные «макаронины», набитые табаком.
Я ушел, а они остались. И что мне сказать? Жаль ли их, этих, в общем-то неплохих, но абсолютно несложившихся людей? Жаль, конечно, но вся разница в том, что я ушел, а они остались...
Запах свалки от одежды я не мог вытравить долго. Коллеги в кабинете деликатно зажимали носы, проходя мимо моего стола. Мне было не до того. Помимо содержательной и литературной части, репортаж писался и для губернатуры и мэрии. Давно было пора удалить свалку-гнойник с лица города. Но... Уж двадцать лет прошло, а «гора» все еще смердит. Ну да ладно, речь сейчас не об этом. Читайте. Все совпадения неслучайны, каждое слово – правда, я убрал неактуальную уже статистику.
***
СВОЛОЧНАЯ СВАЛОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Сегодня утром меня посетила странная мысль – объявить себя полноправным монархом. Мне наплевать, что вы давно занесли меня в позорную категорию людей без определенного места жительства. Я для себя это место давно определил. Это городская свалка. Клоака, куда ежедневно выплевываются тонны мусора.
Мой день начинается рано. Встаю засветло, чтобы разогреть чай. Печка, которую помог сложить в моей землянке Лешка-кривой, нещадно чадит, но тепло дает безотказно, поэтому иногда позволяю себе спать раздетым. Моя кровать, конечно, не королевская – матрац на кирпичах, зато одеяло почти новое. А весь "интерьер" мне любезно предоставили вы, уважаемые сограждане. Одежда, посуда, "мебель" – все старое, закопченное, но пока добротное, как и я сам. Пока...
Ну, пора на работу. Натянув "спецовку", я поднимаюсь на "гору" – вершину циклопической башни, образованной отходами. Запах наверху буквально сбивает с ног. Закурив, чтобы поскорее привыкнуть к нему, жду. Обычно к семи утра грузовик привозит забракованное мясо. А я предпочитаю питаться только мясом. От него, конечно, потягивает гнилью, но это не беда. Несколько ловких взмахов ножом – и в руках приличный кусок вырезки. Вечером поужинаю шашлыком. А может, сварю мясную похлебку с гнилой картошкой...
Сегодня что-то особенно людно. Пару лет назад на "гору" поднимались только самые отъявленные бомжи. Те, кто попроще, надеялись выжить в городе. Ну, раньше-то можно было. Люди добрее были. Подавали больше, да и водка была дешевле. Теперь не так. На свалке встретишь и здоровых мужиков, и мать с подростками-сыновьями, и еле плетущихся пенсионеров, которых забыли родственнички, зарывшиеся в своем, житейском мусоре. Нужда погнала всех прочь из города. Копошится теперь народ на свалке, куда его выкинуло общество развитого "...изма". В своей тарелке чувствуют себя одни чайки. Их здесь тысячи. Откуда только эти твари берутся – воды-то поблизости нет. Побежишь к струе мусора, бьющей из кузова КамАЗа, вспугнешь гогочущую стаю – они с криками взмывают над свалкой и начинают "бомбардировку". Пятна от птичьего помета можно отстирать только "Тайдом". Пока его разыщешь, полдня пройдет.
Но вот и грузовик с мясом. Пора. Готовлю свое "орудие производства" – лыжную палку с проволочными крюками на конце. Это чтобы не разгребать вонючие отбросы руками, иначе долго не протянешь – подхватишь какую-нибудь заразу, а там...
Ого, сегодня урожай солидный – по соседству с "мясным" опорожняет кузов другой грузовик: мороженая капуста, сморщенная картошка, в куче объедков заманчиво поблескивают банки с просроченными консервами. Вот они-то мне и нужны. Расталкивая локтями проворных подростков, первым успеваю схватить добычу. На ужине, помимо шашлыка, я предложу себе селедку-иваси. К горлу подступает комок слюны, но нужно отбросить мысли о желудке – предстоит еще заработать деньги и найти выпивку. Мой дневной заработок может достигать полсотни тысяч рублей (примерно 10 долларов в 2016 году, – С.К.). Нужно только иметь длинные ноги и сильную спину. Я собираю тряпье и бумагу. Этот утиль прессуется, чтобы больше влезало в баул. Пустые бутылки несу в отдельной сумке – приемщики у разных видов "продукции" разные. Тот, что принимает стеклотару, приезжает на "Жигуленке" и платит по сто рублей за бутылку. "Хозяин" тряпья и бумаги взбирается "в гору" прямо на "Газели". Ему сбываю свой товар за ту же ставку, но счет тут ведется уже на килограммы. В "Газели" ждет своего часа серьезный запас водки. Можно получить расчет в натуральном виде, но я предпочитаю до вечера сделать еще десяток ходок за "товаром", прежде чем голова отяжелеет от выпитого. Некоторые припадают к горлышку "не отходя от кассы". Водка у нас, как бензин для автомобиля. За день так намотаешься, что забыться ночью в холодной землянке можно только "под градусом."
И все-таки какой народ наглый пошел! Прямо под отвал бульдозера лезет. Удивляюсь, как никого еще не раздавило ребристой гусеницей. Вообще, водители на мусорных самосвалах и тракторах – ребята ничего. Не обижают. Сами, считай, вместе с нами одним воздухом дышат, только зарплату редко получают...
Уже далеко за полдень. Вместе со мной прессует бумагу казах Коля. Он мой старый приятель – с тех пор, как я стал понимать, что он говорит – акцент у него жуткий, да и зубов осталось немного. Из той словесной смеси, которую он раньше на меня вываливал, понял, что живет он с женой. Везучий. Мне вечером и словом не с кем перекинуться. С другой стороны, может, еще найду кого. Я ведь считаюсь молодым. Коля, тот забирается на "гору" уже 24 года. Тогда его, призывника, послали служить в Челябинск. Отслужил, работал на заводе, строил коммунизм. Пил горькую, да кто ж ее не пил и не пьет. Только вот судьбы у всех разные...
Сегодня во время перехода от "приемного пункта" и обратно Коля пробормотал, что в своей землянке сгорел Илюха. Я его знал. Здоровый парень, водку пил, как ряженку. Она его и сгубила. Вчера вечером он с приятелем и дамой сердца "злоупотребил". Лег спать, а приятель с подругой вышли подышать вечерним бризом на "гору". Что там случилось – одному Богу известно, только не проснулся Илюха... Надо бы за своей печуркой повнимательней приглядывать.
Ну вот, подумал – и домой потянуло. В тепло, пожрать сварганить да водочки в нутро залить. Но сначала сбегаю вниз, к воротам – может там подкалымить можно. Внизу живут охранники, сторожат трактора. Там же собачья "тюрьма". Туда привозят бродячих собак, которых, после трехдневного "карантина" уничтожает семидесятилетний старик...
Калыма нет, зато встретил местную легенду – деда Ану. Так прозвали Анатолия за то, что он любую фразу предваряет смешным: "А, ну..." Ану старожил. Дольше его продержаться здесь никто не смог – сорок лет. Самому уже за 60, но жив еще, курилка. Кстати, сигарету лучше ему не предлагать. Не возьмет, притом обидится. Гордый. Живет отдельно от всех. Сторожа его знают, даже предоставили "жилье" на охраняемой территории. Жизнь выбросила его на свалку в молодости. Анатолий отправился в командировку от завода, где работал. Но муза дальних странствий сдалась без колебаний перед лицом алкоголя. Толя пропил командировочные и бежал от гнева родного предприятия. Теперь привык и не хочет навсегда возвращаться в Челябинск. "Там одни жулики, а здесь настоящие работяги", – говорит. Простая жизненная философия Ану позволила ему выжить в нечеловеческих условиях. "Я с ними не якшаюсь", – кивает он кивает на "гору". "Ко мне никто не лезет, я никого не трогаю..." Единственные живые существа, которых Ану уважает, – это собаки. Их у него трое. Спят вместе. Собаки согреют, все поймут и простят...
А по выходным Анатолий все же заезжает в город. В баньке попариться, прикупить чего нужно, газеты почитать. Он человек рабочий, даже хвастался, что трудовая книжка есть, а значит, имеет право на отдых. Только не нравится ему такой отдых. "Ходят, – говорит, – там всякие. Прилично одетые, часы на руке. Пройдет рядом, не заметит, а от тебя – мокрое место". Поэтому бежит Ану от города, как черт от ладана. К своим собакам, к своему дому. Не важно, что дом этот – сарай. Важно, что только там он может почувствовать себя человеком, распоряжающимся собственной судьбой.
После бесед с дедом Толей мне всегда становится легче. "Ну и что, что ты здесь. Зато выше тебя только небо. Ты сам себе хозяин", – говорю я. "А что ты будешь делать, хозяин, ежели, к примеру, воспаление легких схватишь?" _ язвительно парирует внутренний голос. "Ну и черт с ним!" – отрубаю дальнейшие колебания. Иду домой, там у меня стоит початая поллитровка. Сейчас сварганю себе закусь, выпью – и спать. Я ведь тоже человек рабочий, тоже могу отдохнуть...
Кирпичи, которыми я, уходя, приваливал одеяло, изображающее дверь моей землянки, откинуты. Внутри на полу лежит какой-то мужик. Рядом валяется пустая бутылка из-под "моей" водки и два пластиковых стаканчика. Становлюсь на колени и трогаю чужака. Холодный, как земля. "Черт, с детства боюсь мертвецов. Опять новую землянку копать..." – проносится в голове шальная мысль.
***
Да, мне везло с алкашами, маргиналами и неудачниками. Сам ведь принял эту судьбу – таскать за ними кресты. В 2004 я уехал в Москву. Удачи ждать или еще что, не знаю. Говорят, Москва – город возможностей. Это так. Львиная доля воспоминаний – оттуда. Но мы не полюбили друг друга, и Арбат Окуджавы не смог стать бульваром Куклева. Когда я вернулся в Челябинск, было много вопросов. Попытался дать ответ я всего лишь раз, зато сразу всем.
МОСКОВСКАЯ ОТВАЛЬНАЯ
Меня часто спрашивают, почему я не остался в Москве. «Здесь больше платят», – обычно отшучиваюсь, но на деле и сам не знаю точно, почему...
В начале 2005 года я по приглашению одной компьютерной фирмы отправился покорять белокаменную. Пожиток оказалось немного – рюкзак, набитый одеждой, и кое-какая мелочевка. Килограммов десять всего, в аэропорту даже в багаж сдавать не пришлось. Москва не оглушила меня, как уставшего от месяцев пеших переходов Михайло Ломоносова. Два часа лёта, сорок минут на «Аэроэкспрессе» – и вот я в центре столицы, где бывал до того не один десяток раз. Ну вот, подумалось, теперь работать, работать и приближать светлое будущее.
Вместе с приятелем мы сняли квартиру, на что ушли все наличные деньги, ведь надо заплатить за первый и последний месяцы проживания да дать посреднику мзду в размере месячной оплаты. Зато мой офис был всего-то в трех станциях метро от дома – роскошь по московским меркам немыслимая. Первое время жили на макаронах, а до метро ходили пешком. Приятель работал официантом в ресторане и иногда подкармливал меня всякой вкуснотой, оставшейся нетронутой после банкетов. Наша однокомнатная келья стояла совершенно пустой, но нам так больше нравилось, по крайней мере, создавалось ощущение жизненного пространства. Утрами мы с удовольствием покидали «дом» и практически бежали 20 минут, чтобы успеть в метро, а там – на работу. В первые месяцы московской жизни даже метро не раздражало.
После первой зарплаты я оделся «по-столичному» и перестал представлять интерес для милиции. Ту липовую бумажку о регистрации, купленную за 500 рублей в Китай-городе, отобрал усатый сержант, больно уж она была грубо слеплена. На проблему регистрации я просто наплевал, но паспорт с собой носил, впрочем, вовсе не для предъявления властям...
Работу мне предложили непыльную. Сиди себе в офисе и сочиняй статьи, правда, довольно узкой тематики – компьютерные технологии, бизнес в Интернете, etc. Поначалу даже нравилось. В отличие от журналиста, пиарщику спешить некуда, и каждый текст можно совершенствовать до бесконечности. Этот неспешный процесс утомил меня примерно через два месяца. Я уволился. По иронии судьбы за несколько дней до увольнения сократили коллектив ресторана, где работал мой сосед по квартире. Опять наступило время макарон, но только без периодической ресторанной подкормки.
Последние 32 рубля были потрачены на покупку бутылки мерзейшего портвейна. Мы выпили его в Кусково и, разогревшись на летнем солнце, уснули под тополем на берегу пруда. Пробуждение в сумерках омрачилось воспоминаниями о пустом холодильнике и о том, что кончился чай. Но мы не унывали.
Через несколько дней Андрей устроился в крупную рекламную компанию, а я – в «Русский Newsweek». Началась работа по-настоящему. Помню, в Москве я обычно появлялся по выходным, уставшим от очередной командировки. В понедельник шел на работу и после планерки в тот же день или на следующее утро ехал в аэропорт, чтобы улететь писать статью. Потому и носил все время с собой паспорт, чтобы по телефонному звонку мчаться на самолет.
На Северном Кавказе осень в том году выдалась жаркой во всех отношениях. Я мог даже не гадать, а посмотреть новости в воскресенье, чтобы знать, где окажусь в понедельник. Чаще всего – в Чечне или Дагестане. К зиме на Кавказе, как обычно, слегка устаканилось, и география полетов расширилась: в Арктику на поиски «Челюскина», на остров Огненный в колонию помилованных смертников, в Непал к подножию Эвереста, в Суздаль на гусиные бои, в Прагу и Варшаву на встречу с чеченскими беженцами... Всего не упомнишь. Бывало, просыпался ночью в гостинице, и только включив телевизор, мог понять, в каком я городе. Гостиницы, привокзальные кафе, аэропорты, холодная курица в блестящем судке, незнакомые люди, которым нужно задать неудобные вопросы, ночные такси по двойному тарифу, кипы билетов для отчета бухгалтерии. И снова: гостиницы, вокзалы, такси.
Несколько раз я был дома. Ехать в командировку в родной город – это больно и любопытно одновременно. Ведь у меня здесь были дом и семья. Были... Теперь нет, и рассказывать об этом вам не хочу.
В «Русском Newsweek’е» я проработал два года, в течение которых вряд ли смог бы рассказать, как найти Третьяковскую галерею или Горбушку. Зато прекрасно знал расположение каждого кофейного автомата в Домодедово и как объехать пробки по пути к площади Трех вокзалов. Только по выходным мы с Андреем – а он засиживался на работе обычно часов до двух ночи – позволяли себе расслабиться и просиживали темень с субботы на воскресенье в любимом кабаке или клубе.
Затем случились определенные события как в моей личной жизни, так и в редакции. Я снова уволился. Деньги в «РН» были приличные, удалось даже скопить небольшой капиталец для поддержания штанов в течение четырех месяцев. Зато с квартиры съехал приятель, нашедший вариант поближе к месту работы. Наступила пора одиночества, усугубленного наличием свободного времени и серостью московской зимы. Попытался найти земляков, которые, как и я, решили хлебнуть столичной романтики. Выяснилось, что их довольно много, но поддерживать знакомство они не имеют никакой возможности. Дома слишком далеко друг от друга, некогда совсем, прости, старик, сам видишь, какая запара, и тому подобное. Постоянный цейтнот, а метро работает только до часу. И ты видишь ли, семья... Успеть домой пораньше, урвать от сна несколько минут, когда можно подышать в волосы близкому человеку – это я понимаю. Только не было у меня такого в Москве. А в одиночку, ох, как тяжело...
Моим единственным собеседником стал карманный компьютер. Когда я устроился на редакторскую должность в газету «Жизнь», оказалось, что путь от дома до работы занимает от полутора до двух часов. Обратно – соответственно. Спасала только обширная библиотека на флэш-карте «карманника». Почему-то в метро хорошо читать фантастику. В ладони, вспотевшей от метрополитеновской жары, я сжимал целые миры.
Выходные складывались своеобразно: в субботу отсыпаешься до обеда, потом вяло готовишь поздний завтрак, звонишь кому-нибудь, авось, готов встретиться. Под вечер встречаешься и всю ночь за ресторанным столиком говоришь о работе. Своей или знакомого, других-то тем нет. Воскресенье – примерно такое же, только без выхода в свет, ибо завтра – на Работу.
Когда мне говорят, что работа – это краеугольный камень, смысл жизни и «ваще все», я готов верить, если человек имеет в виду возможности, которые он приобретает благодаря работе. Ну не знаю, добиться общественного статуса, признания, улучшить жилищные условия, детей отдать в престижный лицей, по миру в отпуск поездить, пожить нормально, мало ли чего.
Глядя на провинциалов, вырвавшихся в Москву, вечно мотающихся по съемным квартирам, обходящих за версту сытых ментов, готовых пахать до рассвета за купюру в паспорте, а потом, проспав на офисных стульях пару часов, снова зарабатывать у монитора деньги и круги под глазами, я могу снять из уважения шляпу. Их мечта, как и моя в свое время, сбылась. Только ведь еще и пожить нормально хочется.
Вероятно, из-за вот этого «пожить» я и не остался в Москве. Наполеоновские планы купить квартиру разбились, когда квадратный метр жилья с 1200 долларов скакнул до 3500. Даже с регулярно растущей зарплатой не успеть.
Съемная «однушка» все больше напоминала склеп. В телефонных разговорах чаще стали происходить паузы, ничего ведь нового не происходит, да и говорить почти разучился. А самое главное – пропал смысл московской «ссылки». Мы ведь планировали переехать вдвоем, да не срослось...
После сакраментального вопроса о причинах моего возвращения обычно звучит: «Ты упустил свой шанс!» Чепуха. Звонят, зовут обратно, даже со съемом жилья помочь обещают. Я обычно говорю, что подумаю. И тут же забываю о звонке.
***
С завидной регулярностью после возвращения в Челябинск меня приглашали посидеть перед телекамерами и рассказать, как дошел до жизни такой, как променял столичную праздничную суету на суровые челябинские будни. Первое выступление свершилось на челябинском «Времечке». Тогда мы потели под софитами в студии с великим органистом Владимиром Хомяковым, который возвратился из Калининграда. Ведущие, как мне показалось, сочувственно отнеслись к нам, явным, с их точки зрения, дауншифтерам, просравшим свою синюю птицу. Мы же с Владимиром Викторовичем только недоуменно переглядывались. Нам было понятно, кто мы, что мы делаем, а самое главное – почему. Мы сделали свой осознанный выбор. Но всяческие наши трюизмы типа «где родился, там и пригодился» и «главное, чтоб человек хороший был» разбивались о стену непонимания.
Второе выступление было сольным, в программе «Доброе утро» от «Восточного экспресса». К тому времени я окончательно убедился, что любые экзотические пейзажи не стоят вечера, проведенного в компании интересного человека. И эту, простую, в общем-то, мысль, я и пытался донести в эфире. К сожалению, беседа снова завязла в обсуждении московских зарплат и близости к столичному истеблишменту.
В третий раз молодая корреспондентка, не прочитавшая «Московскую отвальную», постаралась раскрутить меня на сожаление об утраченных возможностях и свободах. По этому поводу имею сказать следующее: возможности зависят от степени вашего таланта, который суть не умение перемножать в уме двадцатизначные числа, а навыки, наработанные годами практики в ремесле. Я не люблю, когда меня называют журналистом, к примеру. Я – репортер. Журналист сегодня – это, чаще всего, подставка для микрофона или говорящая голова. Репортер обязан прочувствовать момент на собственной шкуре, переплавить в себе ощущения и выразить их понятным языком.
Свобода, в том числе финансовая, рождается внутри и не зависит от географического расположения. Если хочешь зарабатывать, зарабатывай, но помни, что деньги – лишь признание твоих заслуг и за красивые глаза их платят только в борделе. И еще: заграничные командировки, как бы это романтически не звучало, это именно командировки, то есть работа, накладывающая на тебя определенные обязательства. Любоваться океанскими закатами и покупать этнографические побрякушки нужно в свободное время, когда ты сам определяешь, куда и зачем ехать, в каком баре нализаться вискарем и сколько просадить в казино.
Никакая карьера не заменит тебе семьи, детей, родных, дома, построенного своими руками на своей земле. Последнее и главное: самое прекрасное, что может встретиться тебе на пути, – не «олинклюзив в пяти звездах», а люди. Сожалеть можно только о том, что ты понял это слишком поздно. Когда сам перестал быть интересен.
Знаете, ведь много людей видел я, многие меня видели. В странном котле взаимоотношений переварились и чувства, и взгляды. Политиков – не люблю. Странных – жалею. Глупых – уже не корю. Перед умными готов преклониться, да им это не надо. В общем, поехали про людей. Они за себя скажут сами, а если что – я добавлю.
ТРЕТЬЯ РОСКОШЬ ВЛАДИМИРА ХОМЯКОВА
С общепринятой точки зрения наши с ним карьеры не сложились, вершины остались непокоренными. Но мы, впрочем, не считали себя неудачниками, когда в динамичном нон-стопе прямого эфира на ТВ говорили, почему для нас оказались неважными ни эпатажная мишура столицы, ни европейские замашки Калининграда, куда попытался переселиться Владимир. По большому счету, главное – это остаться самим собой и донести «воду, которой ты полон» до конечного потребителя. Простая, в сущности, истина...
Где-то был у нас с ним общий нерв. Зрители – читатели, слова – ноты, у него клавиатура органа – у меня клавиатура компа... Короче, ни мне, ни ему не хотелось уходить в глухую защиту перед ведущими ток-шоу.
Наоборот, хотелось сказать, что возвращение наше – это не капитуляция, а осознание своего места в жизни. Своей нужности в этой точке пространства – времени. И пока мы сидели под взглядами телекамер, я влюбился в Хомякова. В горячность, неожиданную в музыканте-органисте.
До того мне казалось, что его ремесло носит сумрачную печать Средневековья. После эфира мы вышли на улицу и дошли до ближайшего кафе. В Челябинске стояла осень. Та теплая осень, которая традиционно компенсирует недостатки уральского лета с его непредсказуемостью и затяжными ливнями.
Закурив, мы выпили по чашке кофе, обменялись телефонами и договорились встретиться, чтобы пообщаться обстоятельней. Через два года встреча состоялась.
...Кивнув бабушкам на кассе органного зала, Владимир Хомяков прошел внутрь так же, как я прошел бы, например, в собственную кухню. Левее кафедры с органным пультом есть неприметная дверь. Отсюда мастер выходит к зрителю. За дверью – «дом» органиста.
Внушительных объемов комната, на стенах репродукции и фотографии. Два продавленных кожаных кресла у столика с пепельницей. Курить в органном нельзя. Но Хомякову можно. Здесь он провел почти четверть века со своим верным товарищем. Органист привязан к инструменту незримой пуповиной.
– Вы давно вместе, Владимир Викторович?
– С самого начала, с разгрузки. Я участвовал и в сборке, и в настройке, а сейчас полностью обслуживаю орган (Хомяков тушит сигарету и стремительно поднимается). Пойдемте, я вам покажу...
Согнувшись, мы залезаем в техническую комнату. Здесь пахнет дорогим деревом и машинным маслом. Владимир Викторович поднимает крышку, обитую мешковиной:
– Смотрите, вот сердце органа...
Внутри фанерного ящика бесшумно работает электромотор. Сквозь стеклянные окошки видно, как в янтарном масле вращается бронзовый вал. Органист достает масленку и добавляет несколько капель.
– А это я собственный орган делаю, для дома, – он показывает деревянные трубы, с любовью отшлифованные, и огромный, старинной работы рубанок.
Хомяков говорит, что всегда мечтал иметь рядом инструмент для репетиций. Не такой, конечно, сложный, как челябинский, но тоже с частицей души мастера внутри...
Вдоль стены уходят на пять метров вверх басовые трубы. Они из дерева. Квадратного сечения сосновые столпы с прорезями у язычка.
"Никуда не отходите!" – командует Хомяков, куда-то исчезает, и через пару секунд басы начинают источать звук. Он едва слышен, вибрация ощущается где-то в сердце, в груди, в черепе. Точно так же резонирует помещение, для которого орган и был построен.
Мы выходим к пульту. Владимир Викторович берет несколько нот. Его тонкие пальцы порхают по клавиатуре, едва касаясь. Стоя за спиной органиста, не ощущаешь мощи инструмента.
"Говорят, что хороший органист должен иметь уши на затылке, – говорит Хомяков. – Отойдите в зал, я сыграю для вас".
Под сводами звук меняется. Теперь я слышу сразу троих: гения, его орган и церковь. Теперь они одно целое и зовут слиться с ними. И я понимаю, почему иногда после концерта люди выходят со слезами на глазах. А Хомяков чудачится и ведет дальше, куда-то в джаз, увлекает, дарит свободу. Пальцы все порхают, и кажется, что сейчас свитер импровизатора разойдется на спине, и из прорехи покажутся крылья.
– Владимир Викторович, что для вас свобода?
– Это роскошь, которую я могу себе позволить...
– Много у вас роскошей?
– Еще одна – заниматься любимым делом. Быть в нем знатоком...
Откуда-то из «подсобки» появляется лестница, и мы поднимаемся в святая святых – внутрь органа. Тут очень тесно. Органисту с его двухметровым ростом, наверное, не просто, сразу становится понятна его сутулость. Вокруг – только тяги из тончайшего шпона, обитые бархатом жалюзи и трубы, трубочки... Их здесь две с половиной тысячи. Созданные из олова и свинца, они матовые и покрыты разводами металла, словно лесное озеро листьями.
– Будьте осторожны, – предупреждает хозяин инструмента. – Трубы очень мягкие...
Я замираю, вцепившись одной рукой в поручень. Внезапно в голову приходит мысль: что будет, если сейчас не удержу фотоаппарат и холодная электроника упадет в скопление самых тонких, «высоких» фистул? Быть внутри органа – примерно то же, что откровенно говорить с органистом. Стараешься быть осторожным, чтобы случайно не повредить тончайшую механику души.
– Идите сюда, смотрите, – Хомяков, совсем уж согнувшись, пролазит в дебри деревянного каркаса.
Тут темно, приходится достать фонарик. В луче света колышется что-то большое и теплое. Слышно, как мотор снизу гонит воздух, и он ощущается на лице. как дыхание Левиафана.
– Это мех, – сообщает мастер. – Сверху уложены кирпичи – обычная практика, чтобы инерцией компенсировать взбрыки.
Владимир Викторович осторожно покачивает мех, и орган отзывается довольным фырканьем, как конь, узнавший руку.
Мы возвращаемся в «апартаменты». Еще сигарета, еще кофе. Разговариваем об органном бизнесе в Германии. Там он развит с XIV века. «Король инструментов» пришел в Германию из Франции и Италии. А вот родился он отнюдь не в лоне церкви, как считают некоторые.
И уж тем более не имеет жесткой привязки к католическому богослужению. Так вышло исторически, в VII веке его ввел в практику Папа Виталиан, большой поклонник органной музыки. Прообраз же органа нужно искать в откровенно языческой флейте Пана. Изобретателем инструмента считается грек Ктесибий, живший в Александрии Египетской за три века до нашей эры.
Если быть точным, то современный орган мало отличается от аккордеона или баяна. Мех, мембраны, клавиши... Челябинский, конечно, и не самый большой, и не самый уникальный. Один из самых гигантских инструментов, с удовольствием упоминаемый во всех энциклопедиях, расположен в... универмаге в Филадельфии.
Отличие нашего органа от остальных только в одном – он существует. Он рядом, осязаем и доступен. И Владимир Хомяков – вполне обычный человек со своими пороками и недостатками. Вон недавно купил машину, подержанный «Мерседес». Теперь ему не чужд разговор о зимней резине и изменениях в ПДД.
До этой покупки его сутулую фигуру мог видеть любой пассажир общественного транспорта. И даже наступить на ногу в толкучке первому и единственному победителю ганноверского конкурса «Джаз на церковном органе», на спине же у него регалии не висят...
Дело тут вот в чем. При всей своей обычности и прозаичности Хомяков – гений. Я очень давно хотел задать ему вопрос: «А каково вам, гениям, живется на белом свете?» И набравшись наглости, я задал его. Органист смутился до легкой обиды. Он не считает себя гением.
Он – ремесленник. Хороший знаток своего дела, рожденный в музыкальной семье, связавший всю свою жизнь с музыкой и подаривший ей сына Владимира. И все-таки я остаюсь при своем мнении. Гениальность порочна по своей сути хотя бы потому, что, словно стрелка компаса, не может найти себе места вне магнитного поля творчества.
Эта трудно осязаемая материя видна только со стороны, как звук органа слышен в полной мере исключительно под сводами зала. Хомяков, возможно, не задумывался о третьей своей роскоши – быть выслушанным и оцененным гением. Я дарю ее Вам, Владимир Викторович...
БОЛЬШОЙ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК
Этого маленького человека с большой головой и грустными глазами в погожий день горожане видят на перекрестке главных городских проспектов Ленина и Свердловского. Он сидит в коляске с моторчиком и предлагает купить книги. Свои. Он писатель. Его зовут Андрей Середа. Мы знакомы с ним с детства. Он всегда был рядом с детьми. Потом дети вырастали и начинали чураться общества инвалида. Позже вспоминали и начинали искать Андрея, чтобы сказать спасибо за то, что он, оказывается, многому научил.
Сколько хороших людей выросло рядом с Середой ― ума не приложу. Мудрый советчик, режиссер дворового театра, отменный собеседник... Это все о нем. А несколько лет назад я встретил Андрея на улице, и он подарил мне свою первую книгу. У меня сразу промелькнула крамольная мысль: «Что этот человек может знать о жизни, чтобы писать книги? Откуда он берет пищу для размышлений и впечатления?» Книга оказалась неожиданно глубокой, о чем я сказал автору при первом удобном случае. Он смутился. Андрей вообще легко смущается. Жить в мире высоких и громких людей маленькому писателю тяжело и неуютно. Поэтому он построил свой мирок, в котором светло и чисто, а обитают там одни дети.
Я очень давно хотел познакомить вас с Андреем Середой. Все руки не доходили. Обычное дело ― мы не замечаем тех, кто находится рядом с нами. Потому что привыкли, потому что выдающееся почему-то кажется обыденным. Несколько дней назад один очень уважаемый человек процитировал Середу в моем «Фейсбуке»», и я понял, что чересчур долго проходил мимо Андрея. Исправляюсь.
Середа принял нас с фотографом в своем «рабочем кабинете» – на старом продавленном диване, усыпанном упаковками с лекарствами. Ему их нужно много. Голова болит постоянно. Старенькая мама Андрея принесла нам чай. Писатель и поэт сложил ноги калачиком и приготовился слушать вопросы. Однако сначала я попросил его почитать что-нибудь из последнего. Он задумался, а потом неожиданно глухим голосом начал говорить, глядя в никуда.
Пока глаза у жизни, как у волка, Мерцают кровожадным янтарем, Твой голос должен быть наивным, тонким, Чтобы посметь поспорить с январем. Пока планету не снесло с орбиты, И за гроши не продана любовь, Ты должен быть спокойным, гордым, битым Под взорами усталых докторов. Пока еще не вынесен диагноз, Покуда палец давит на курок, Успей понять, как этот мир прекрасен, И как ты в этом мире одинок. Пока идешь ты к пункту назначенья, Не торопись чего-то обещать. Рискни страдать за всех без исключенья, Дерзни хранить надежду и прощать. Пока тебя не упакуют в ящик И не простятся лживо и светло, Успей приклеить бабочке кричащей Оторванное хрупкое крыло.Фотограф от неожиданности перестал щелкать затвором. Человек, ни разу в жизни не стоявший на собственных ногах, сказал правильные слова про жизнь. В своем внутреннем мирке Андрей Середа ― не инвалид, а титан духа.
Очень сложно разглядеть в маленьком человечке, торгующего книжками у цветочных ларьков, человека с большой буквы, верно? Впрочем, хватит хвалить Андрея, он этого не любит и стесняется. Начнем разговор.
– Как твой день строится?
– Встаем с родителями часов в 9. Мытье-бритье, потом завтрак. Потом ― на «тачку» и торговать. Знаешь, пробовал выезжать на своей старой коляске без электропривода, но меня не видят. Эта повыше. Меня замечают.
– Сколько ты уже написал?
– Пять книжек, не считая коллективных сборников. В августе вот вышла «Беседка».
– Скажи, откуда ты знаешь про все это? Как ты умудрился увидеть мир с высоты своей коляски?
– Мне больше, как сердцем, нечем увидеть. Если бы я знал ответы на все вопросы, я бы писал такие стихи, чтобы вокруг рыдали.
– Ты веселый или грустный человек?
– Я люблю шумные детские компании. Мне в них просто, я забываю о проблемах. Как с вами когда-то... Каждый мог что-нибудь отчебучить, и это было интересно. Сейчас я стал бывать в других компаниях, среди литераторов. Это, наверное, правильное слово, потому что писать может любой человек, владеющий языком. А вот придумать сюжет, воплотить его ― только литератор.
– Ты всегда с детьми. Помню, была неприятная история, когда какой-то идиот пустил слушок о том, что ты пристаешь к ним. Как удалось пережить это?
– Если ты о том, приходили ли в голову мысли о самоубийстве... Это самое простое и скверное действие. Да и для того, чтобы свести счеты с жизнью, у меня возможностей немного. Я примерял на себя способы... Не хочу говорить... Страшно. А вдруг «там» нет ничего? Есть поговорка «утро вечера мудренее». Она работает. Надо проспаться, подумать и понять. Я понял. Когда писал «Беседку», решил для себя, что все тексты должны кончаться хорошо. Или, по крайней мере, многоточием. Когда накатывает депрессия, я ее стараюсь просто игнорировать. Как в задачке по физике ставят условие «трение игнорировать»...
– Что бы ты хотел сказать миру?
– То, что стараюсь говорить всю жизнь, но меня не слышат. То, что я такой же человек, как все. Жизнь я себе годами не отмеряю. Это «Его» дело. Сколько отмерит ― приму с благодарностью. Болестей только не хотелось бы...
– Сколько тебе сейчас?
– В декабре будет 50. Юбилей. Надо будет что-то делать на большую публику. У меня много друзей-артистов. Есть, кому попеть. Хочется радость людям доставить. Вот я и кипешусь. Это моя попытка зацепиться за эту жизнь, быть нужным. Честно говоря, я не считаю себя нужным. Хочется работать, но предложений не много. Вот недавно один «благодетель» предлагал делать на компьютере бланки. Но это же ерунда, не мое. Я какое-то время даже их делал, но очень недолго.
– Как думаешь, состоится ли конец света в 2012 году?
– Конец света для каждого индивидуален. Это как лампочка. Она потухла, а жизнь дальше идет. Когда я уйду отсюда, для меня наступит конец света. Но думаю, что мне надо много чего еще сделать. Роман хочу написать...
– Как же ты познаешь жизнь, чтобы написать роман?
– Я узнаю жизнь через детей, много езжу по улицам. Много читаю. На самом деле нужно просто хотеть жить. Некоторым людям ничего не нужно. Только стопка, баба ― и все. Таковы их потребности. Как же их душа возрастать будет? Нужно хотеть ― и тебе дано будет.
– Ты счастливый человек?
– Да, считаю себя таким. А иначе зачем жить? Раз пришел на эту землю, должен что-то сделать.
– Когда ты начал писать?
– В апреле 1961 года Гагарин полетел в космос, а в декабре родился я. Самое яркое воспоминание из моего детства ― когда по радио передали весть о том, что Юрий Алексеевич разбился. Это был человек ― солнце, которого до сих пор не оболгали... Потом была школа, я, конечно, ее заканчивал на дому. Первые три класса были легкими. Учительница приходила домой и проверяла тетрадки. Потом было сложнее, учителей стало больше, но до десятого класса я дотянул. Учиться мне нравилось. Математика только не нравилась. «Надомников» в школе было двое. Я и еще один парень. Нас постоянно сравнивали, поэтому приходилось тянуться, чтобы быть лучшим. Грешен, честолюбив я... Школа закончилась, выпускного у меня не было. Дальше хотел учиться на переводчика или газетчика. С отличием закончил филфак Челябинского педагогического института, курс английского в МГУ. Вот тогда и начал писать.
– Складывается ощущение, что у тебя нет проблем...
– Есть, просто я о них не говорю. Не люблю жаловаться. Много говорят о теме доступности города для инвалидов, но на самом деле город абсолютно недоступен.
– За время разговора ты ни разу не посетовал на систему здравоохранения. Почему?
– Да потому что бесполезно. Мне нужно, чтобы у меня не болела голова, и я был работоспособен. Все. Без остального обойдусь. А, вот... батарейки новые для коляски надо купить. Езжу много. Но ничего, накоплю...
... Когда мне кажется, что все вокруг плохо, что дела не клеятся, на душе бабелевская осень, а на носу ― очки, я вспоминаю про Андрея Середу. И проблемы мои кажутся смешными и надуманными. Я вас очень прошу: когда весной и летом вы будете проходить мимо маленького человека с грустными глазами на перекрестке главных городских проспектов, купите у него книгу. И вы поселитесь в мирке Андрея. Там будет уютно.
ОРЕЧЕННЫЙ НА ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК
Писать о Вячеславе Полунине сложно. Так же сложно, как например, описывать музыку словами. Или попытаться нарисовать текущую реку. «Грустный клоун» – один из тех людей, кого безоговорочно можно назвать гением. Недавно мне встретилось такое определение: гений – тот, кто создает неповторимое, и это у него получается легко и непринужденно, как дыхание. Так вот, Полунин моментально создает вокруг себя собственную вселенную, в которой окружающим тепло и уютно. Он – демиург и инопланетянин. Откуда прибыл – непонятно, почему на его выступлениях смех и слезы чередуются ежесекундно – тоже неясно. Секрет Полунина – это, прежде всего, сам Полунин. Пародировать его невозможно, подражать глупо.
При всем минимализме «Снежного шоу», с которым Вячеслав Иванович приехал в Челябинск, в голове после спектакля остается множество вопросов. Казалось бы, сколько раз уже видел и «Асисяй», и «Блю канари», и «Чемодан», но все равно слышишь что-то новое в миниатюрах, где каждый жест похож на ноту бесконечной сюиты про жизнь.
Перед началом «Снежного шоу» Полунин дал пресс-конференцию. И поверьте, она была не менее зрелищна, чем спектакль. Вернее, она и была спектаклем... Слава переступил порог телестудии и остановился, щурясь под светом софитов и ожидая, когда его проводят к креслу. Он сел за стол. Со своей седой шевелюрой и бородой Полунин был похож на великого комика Пьера Ришара. В это время Александр Фриш, коллега по «Снежному шоу» и наш, кстати, земляк (Фриш вырос в Челябинске и закончил ЧГАКИ) извинился и принялся переодеваться. Он надел вязаный смокинг, вязаную же бабочку и шляпу. На тулью водрузил разноцветную шапочку, объяснив, что шляпа летняя, а голова мерзнет. Полунин наряд одобрил громким смехом. Смеяться он не стесняется и любит. Пресс-конференция началась со стандартного вопроса о челябинской публике.
– Мы не ожидали и были в шоке от приема, – ожидаемо ответил Слава, хитро прищурившись.
– Мы думали, что в зале собралась балетная публика, – добавил Фриш. – Аплодировали стоя.
Клоуны рассказали о том, что буквально вчера Вячеслав Иванович получил орден «Дружбы». Надо сказать, что Полунин не страдает от неоцененности. Западной прессой он назван "лучшим клоуном мира", "лучшим клоуном эпохи", получал в разных странах самые престижные театральные премии, среди которых и эдинбургский "Золотой Ангел", и испанский "Золотой нос", и премия Лоуренса Оливье. В России в 2000 году удостоен премии "Триумф".
Ближайшие планы Полунина сродни постройке Асуанской плотины. Организовать поезд «Париж – Пекин», чтобы он медленно полз через всю Сибирь. В каждом городе, на каждом полустанке давать концерты. Или возродить идею «Корабля дураков». В свое время московский мэр Юрий Лужков подарил труппе судно, но куда-то оно подевалось, как обычно в России что-то вечно куда-то девается. Но Слава не грустит. Никогда. Вообще. Оптимизм в нем поддерживает полное равнодушие к политике.
– Вячеслав Иванович, как вы относитесь к мировым лидерам?
– Мировые лидеры... Да я не слежу за ними особо. Они не достойны занять место на «Корабле дураков».
– Что бы вы хотели сказать человечеству?
Полунин слегка опешил от напора челябинских журналистов и почесал блестящую кирпичную лысину.
– Говорить словами – не наша профессия, – ответил он.
– И все-таки, что вы можете сказать хотя бы о российских политиках?
– Раз дуракам запрещено плавать по реке, пусть правят нами с суши, – сказал Вячеслав Иванович и снова широко раскрыл глаза, услышав вопрос: «Обречено ли человечество?»
– Человечество обречено на вечный праздник, – философски заметил старый клоун.
Слово взял Александр Фриш. Он рассказал про детство в Челябинске, когда каждая семья в их слободке имела свой маленький бизнес (а что вы таки хотите?), что самый вкусный торт – это размоченный батон, которым возюкаешь в мешке с сахаром, чтобы побольше налипло. Говоря о творчестве, Фриш заметил, что творческий процесс не прекращается никогда.
– Мы и сегодня учимся. Мне посчастливилось встретить в своей жизни трех гениев – Попова, Никулина и Полунина. Я ощущаю себя миссионером доброты. И каждый день мы начинаем с чистого листа. Сегодня, например, зашли пообедать в ресторан, но не дождались, пока блюда принесут, поехали к вам. Ну, ничего, позже доедим. И вообще, я не рассчитываю, что вы что-то поняли из моей речи, – закончил Александр, сумасшедше блестя глазами за стеклами «ленноновских» очков.
– Почему вы не живете в России, – спросили Полунина. Он изумился.
– Я каждый год два месяца провожу на родине. Потрясающая публика здесь. Но куда не шагнешь – попадешь в проблему. Это касается и организации жизни, и рекламы, да всего буквально. Но публика в России страстнее. А вообще место моего жительства – Земля. Я не живу подолгу в одной стране. В прошлом году жили в Мексике, Корее, Италии. Просто выбирали место на карте и ехали туда. Россию я вдоль и поперек изъездил. Даже в Миассе был. Во Франции у меня есть творческая лаборатория «Желтая мельница». Каждый год туда на лето собираются самые талантливые ребята, которых я отбираю по всему миру. Мы соединяем искусство и жизнь. С учениками занимаются и садовники, и архитекторы, и творческие педагоги. За лето создается семь креативных проектов, их потом и представляем со сцены. Особо никого не отбираем. Как-то само получается, что тычем пальцем в небо, а попадаем в звезду.
Вот в этом «тычем в небо, а попадаем в звезду» и есть весь гений Полунина. Еще цитата: «Мечты у меня нет. Потому что все мои мечты сбываются – и все». И даже та же знаменитая миниатюра «Блю канари» была создана за 15 минут. Впервые эту песню Слава услышал в 1964 году. А через много лет об этой песне ему напомнил молодой автор. Репризу с тремя клоунами на сцене, поющими «Блю канари» придумали тут же. Получилось гениально. «Главное – каждую секунду получать удовольствие от жизни», – говорит Полунин. А деньги... Про деньги образно сказал Фриш.
– Как нам платят, так и работаем. Вот возьмите мою шляпу и идите на улицу. Пойте, читайте стихи, танцуйте. Сколько через час в шляпе окажется денег, столько вы и стоите.
Атмосфера в труппе «Снежного шоу» демократичная. За опоздания на репетиции – неси торт. Еще в реквизите всегда на одно пальто (персонажи «СШ» одеты в старые пальто) меньше. Опоздал, значит сегодня не работаешь, а это для клоунов Полунина смерти подобно. Потому, что жить в одной вселенной с грустным клоуном – большое счастье и удача. Даже пресс-конференцию Вячеслав Иванович и Александр Фриш превратили в представление. Они поливали водой ведущего программы «Коммуналка», массировали ноги журналистке, ежеминутно вскакивали с кресел, обрывая петлички микрофонов. Просто жили, как привыкли. Сцену, в которую на время превратилась студия, озаряло сияние полунинской шевелюры. Седой мужчина с глазами много видевшего человека, основатель «Академии дураков» и лучший клоун на планете радовался, как ребенок, каждой прожитой минуте. Через два часа он выйдет на темную сцену в своем желтом костюме и будет пугливо красться с бутафорской петлей на шее. Говорить словами он больше не будет. Это совершенно ни к чему.
ТВОРЕЦ ЧЕРДАЧИНСКА
Спрашиваю у людей: «Вы знаете Дмитрия Бавильского?» «Нет», – получаю ответ. Конечно, Бавильский не команда «Трактор» и не статуя полицмейстера на Кировке. Он не публичный политик и не шоумен. Он – писатель.
«Всего лишь» русский писатель, живущий между Челябинском и Москвой. Его роман «Едоки картофеля» вошел в длинный список премии «Русский Букер». За эссе «Пятнадцать мгновения весны» о всех симфониях Шостаковича стал лауреатом премии журнала «Новый мир». Да вы наберите в поисковике его имя, посмотрите, какие плоды может приносить железобетон Чердачинска (придуманный Дмитрием город, удивительно похожий на Челябинск).
Прочитав впервые «Едоков картофеля» лет восемь назад, я не оценил роман. Вернее, не понял топографию Бавильского, культурные коды, заложенные им. Недавно перечитал опять. Повод был грустный – ушел из жизни профессор ЧелГУ Марк Бент. Для Бавильского он был научным руководителем, то есть человеком близким, для меня – одним из нескольких преподавателей, уроки которых вспоминаешь потом, повзрослев... Бавильский написал воспоминания о Бенте. Я совершенно случайным образом их прочитал. И стал читать еще, благо требуемый текст сегодня не составляет труда найти в Интернете. Если бы меня попросили сделать некий абстрактный вывод, который не касался бы моих личных переживаний, я бы сказал так: плох тот челябинец, который не прочел «Едоков картофеля». Многого не знает он о своем городе.
Мне кажется, Бавильский – писатель только во вторую очередь. Для начала он мыслитель, щедро делящийся своими образами и наблюдениями посредством «Твиттера», «Фейсбука» и ЖЖ. Вот навскидку: «Пошёл торопливый снег, более похожий на дождь, на базарную торговку, семенящую у прилавка. Такой мелкий, что прозрачность мира не изменилась». Или еще: «Пытался объяснить Юре про свою болезнь: глаз, конечно, закрывается, но с трудом, захлопываясь, ну, вот, как примерно капот у «Жигулей».
Бавильский чертовски точен и фотографичен. Видимо поэтому он не выпускает из рук фотоаппарата и умудряется выискивать микротрещины на жизненном кафеле. А самое занимательное заключается в том, что бритвенную точность свою он отчетливо транслирует в окружающую действительность...
Узнав о том, что Дмитрий находится в Челябинске, я не мог не попросить об интервью. Он согласился, ведь мы даже чуточку знакомы. Однако поставил условие: говорить будем по электронной почте. Один вопрос – один ответ. Потом задаем следующий вопрос, и так далее. Я нисколько не удивился. Творец альтернативной реальности и должен быть виртуальным, но в то же время легкодоступным для своих прихожан. И вот, что у нас получилось...
– Ты мыслишь совершенно уникальными гипертрофированными, неожиданными образами. Но именно мыслишь. Кто ты в первую очередь – писатель, поэт, филолог или философ?
– Я – это я, и слова-ярлыки вторичны. Все непонятное тревожит, требует объяснения, поэтому мы и находим определения тому, что шире любых определений, для того, чтобы, нацепив якорь, больше не думать об этом. Не то, чтобы люди ночей не спали, пытаясь разгадать, чем я занимаюсь, но просто понятно откуда берётся и как возникает логика определения. Я занимаюсь тем, чем мне нравится заниматься. Для филолога я менее систематичен и наукообразен, для философа не системен, поверхностен и не достаточно рискОв, для поэта рифмую плохо, и амбиций у меня мало, для писателя я не достаточно эмблематичен в своих текстах ну, вот, чтобы можно было вытащить из моей книги какую-то конкретную сцену и навеки с нею солидаризоваться. Да писатели – это сегодня вообще что-то непонятное, они или в Переделкино живут, или парикмахерские открывают...
Я пытаюсь делать то, что мне интересно. Скажем, пару лет назад я написал текст про все симфонии Шостаковича. Каждый день слушал по симфонии и записывал то внутреннее кино, что видел на изнанке век, пока музыка звучала. Так сложилось эссе, которое перепечатали раз пять, а "Новый мир" дал мне за него премию по итогам года. Дальше можно было бы идти по нескольким направлениям. 1) Стать в общественном сознании "ответственным" за Шостаковича и во время его юбилеев пожинать жатву внимания СМИ, объясняя, чем нам Дмитрий Дмитриевич так важен. 2) Можно было написать другое эссе – про девять симфоний Бетховена. Или Малера. Или Брукнера. Или Шнитке. Или про все квартеты Шуберта. Или Шумана. В общем, логика понятна. Но я и этого не стал делать, так как один раз сделал, жанр придумал, дискурс освоил, можно идти дальше.
Важно всё время делать что-то новое (хотя при этом стараться не разбрасываться и держать себя под контролем). После своей книжки об Олеге Кулике (а книги по современному искусству у нас выходят и сейчас крайне редко), я бы мог легко сделать карьеру арт-критика; после своей работы в театре стать театральным обозревателем. Но даже теперь, заканчивая книгу о современных композиторах (вы хотя бы слышали, что есть такие?), я не думаю конвертировать эти свои усилия во что-то статусное, то есть всем понятное, предпочитая оставаться демонстративным дилетантом.
– В твоих текстах ощущается тотальное одиночество. Впрочем, это одиночество без надрыва, без грусти. Оно самодостаточно. Даже Чердачинск в «Едоках картофеля» – город-одиночка и одиноких. Я подозреваю, что ты построил свой внутренний мир, вселенную, в которой тебе удобно.
– Есть «одиночество» (неуправляемый, стихийный процесс), а есть «уединение», то есть то, что тебе нравится, и то, что ты сам выстраиваешь именно в том режиме, который тебя устраивает. В больших городах люди одиноки потому, что их никто не знает. В маленьких – потому что их с детства знают все окружающие и, как бы понимая, чего от них можно ждать, пеленают своими ленивыми ожиданиями, из-за чего становится не только одиноко, но ещё и душно. У меня есть семья, любовь, родители, близкие, но это не умаляет моего одиночества, на которое обречен каждый человек, осознающий конечность жизни и постоянно ощущающий ледяное дыхание не-жизни. Так уж у меня голова устроена, что я постоянно эту границу чувствую. Ощущаю.
– А как соотносятся Творец и социум в реальной жизни? И вероятнее всего, глупый вопрос: почему Чердачинск? И зачем тебе было так необходимо метро в нем?
– В трёх моих романах существует город Чердачинск, название которого я перевожу для себя как «крыша мира», а, скажем, моя французская переводчица Вероника Пате – как «Брик-о-брачинск». Меня с детства преследуют разговоры с толкованием топонима про «урочище Селяби» и его обыгрывание. Недавно умерший прозаик Владимир Курносенко поместил героев «Евпатия», главной своей книги, в странный, старинный город Яминск. Будем считать, что мой Чердачинск возник в полемическом задоре своему более старшему товарищу.
Чердачинское метро, которое я упоминаю в романе «Едоки картофеля», нужно было, прежде всего, не Чердачинску, но вот этому конкретному тексту, в котором мне важно было, помимо много чего ещё, зафиксировать и закрепить разницу между реальностью и вымыслом. Дабы персонажи, которых я придумал от начала до конца, не тёрлись своими краями о гипотетических прототипов.
Судьба всё того же Курносенко, бывшего соучеником и близким другом моего отца, постоянно отгребавшего от своих знакомых и близких за то, что он их описывает в своих текстах, меня многому научила.
– Как ты ощущаешь себя в Москве? Чего в избытке, чего не хватает? Тянет ли в Челябинск? Нет ли ощущения, что в Москве ты «один из», а в Челябинске – «столичный мэтр»? Нивелировалась ли разница между столичной жизнью и жизнью в провинции?
– Я живу на два города, поэтому добираю того, что не хватает по ходу дела. Твой вопрос про «мэтра» поставил меня в тупик. Я даже задумался – что в моём понимании «мэтр» и каким я должен быть, чтобы ощущать себя «мэтром»?
Окружённым учениками? Увенчанным премиями?
Я не стараюсь смотреть на себя со стороны, это сковывает, учусь не давать себе оценки, это бьёт по рукам, ограничивает в творчестве. Всё, чего мы достигаем, возникает из прямо противоположного чужим взглядам доверия к собственной синдроматике.
Это крайне важная для меня тема – идти за собой, своими потребностями и своими желаниями, а не путать их с извне навязанной повесткой дня, «нытьём века». Времени мало, забот масса, вот ты и балансируешь между обязательствами, избежать которых сложно и тем, что нужно сделать обязательно. Активное участие в литературной и общественной жизни у меня не запланировано.
Я, конечно, делаю что-то для «общего блага», но это в свободное от забот время.
– Что позволяешь себе ты, и какова цена?
– Смотри, я взрослый и достаточно прагматичный человек (неумный человек не может писать такие тексты), значит, я могу взвешивать последствия своих поступков и считать их больше, чем на один шаг. Меня интересуют долгосрочные результаты не оттого, что я собираюсь жить вечно, но потому, что люблю постепенную и кропотливую (несуетную) работу.
Вероятно, в душе, я аграрий, колхозник, и жизнь в городе напрягает меня оторванностью от природно-погодного цикла – у меня даже есть теория о том, то неврозы начинают терзать людей, когда они отдаляются от природных сущностей (земли, воды) и заботы о себе (перестают себе готовить, нанимают домомучительницу).
Я и книги свои выращиваю, как растения, хожу за ними, как за цветами. Это требует сосредоточенности и минимума светской активности. Кому что важнее, Сергей, или очевидную карьеру сделать, или же нечто действительно важное для самого себя сотворить. Из-за того, что я не тусуюсь, как подорванный (видел ли ты меня на каком-нибудь чердачинском или московском даже самом правильном мероприятии?), не угождаю важным и правильным (полезным) людям, не навязываю себя через телевизор и рецензии, как человек, всё-таки, впечатлительный и эмоциональный, я, разумеется, недополучаю витаминов успеха, которых никогда и никому не бывает мало. Особенно, если дело касается денежных премий...
Но, взвешивая по здравому размышлению, количество затрат и «выхлопа», я понимаю, что оно того явно не стоит. Ну, и снова мчусь к своим цветочкам. Понимаешь, я не чистоплюй и не ботаник (хороший вышел каламбур), я просто научился понимать – себя и то, что мне надо.
– Где-то у тебя читал, что сюжет – это подпорка для слабого автора. Значит ли это, что ты пишешь, не зная наперед, что произойдет с персонажем? В тех же «Едоках...» у тебя открытый финал. Надоело или заставляешь работать мозги читателя?
– В процитированной тобой записи я имел в виду, что сюжет вводится в книгу, в основном, когда автор подстраховывается: мол, сам он не очень интересен, поэтому читателю нужны дополнительные завлекалочки. Обрати внимание, как обычно строятся собрания сочинений – в первых томах идут романы, повести и рассказы, и только к последним томам писатель «расслабляется» и начинает выдавать свои суждения напрямую, без посредников в виде персонажей или сюжета. Разумеется, есть разные читатели, кому что нравится, но лично я почти всегда начинаю знакомство с писателем с последних томов его сочинений. Мне непридуманное интереснее, важнее. Вот я и решил манкировать условностями и вырезать из своей «творческой биографии» пару-другую томов середины пути (тем более, что изданных шести романов достаточно), сразу же приступив к тому, что можно лишить мертвенного беллетристического налёта.
Всё-таки, для меня литература – это живые буквы, а не мёртвые жанровые схемы. Поэтому, тут ты прав, я мало знаю, что произойдёт с персонажами моих историй, которые я проживаю вместе с ними едва ли не в режиме «реального времени».
– Ты очень много пишешь в соцсетях. ЖЖ – вообще отдельный проект. «Твиттер» – буквально текстовые фотографии (фактографии). Много фотографируешь. Что это? Попытка запечатлеть жизнь? Набор материала для следующего романа?
– Думаю, это самое важное и полезное, что может сделать отдельно взятый, частный человек, которым я являюсь – оставить подробное свидетельство о себе и своём времени. Только эта деятельность (при определенном подходе) и может застраховать тебя от повторений чужих творческих ошибок и ненужных (ложных) ходов.
Блоги уже поменяли журналистку, подмяв её под себя, теперь они взялись за более фундаментальные области человеческой деятельности – искусство и литературу. Наши библиотеки переполнены текстами, сочиняя своё, таким образом, мы вступаем на поля повышенной конкуренции. Поэтому любой нынешний дебютант должен обладать, с одной стороны, повышенным смирением, с другой – энциклопедическими знаниями. Но единственная территория, на которой он может чувствовать себя более-менее свободно – это территория его жизни, где только он один может знать, как всё устроено. Нам в этом мире действительно мало что принадлежит, безусловно, разве что – твоё тело и твоя жизнь, поэтому всем этим распоряжаться проще, чем воевать с традицией или продолжать её.
Нынешняя ситуация позволяет каждому стать автономной творческой единичкой – ведь в эпоху горизонтальных времён (когда все правы, правда, каждый прав по-своему) нет единых на всех критериев и каждый может назначать искусством то, что он хочет искусством считать. Скажет: "А я так вижу", – и ты уже ничего не сможешь с этим поделать. Разве что сказать свою мантру в ответ: "А я не вижу, что ты там видишь..."
Возвращаясь к блогам. Они развивают наблюдательность и помогают выжать (и таким образом выжить) из реальности максимум питательных веществ. Где бы ты ни был. Кто бы тебя ни окружал. Блоги делают (могут сделать) осмысленным любой твой жест, любое твоё действие. Не говоря уже о том, что, таким образом, ты развиваешься, растёшь, становишься интересным другим, общаешься, узнаёшь много нового, выстраиваешь альтернативную реальность, в том числе и новостную, участвуешь в формировании актуальных литературных дискурсов, да мало ли ещё в чём...
Блоги – это ваучер на первородство. Главное – не проворонить эту возможность. Не загадить ссылками и перепостами. Но это уже (совсем как в жизни) у кого как получится.
– Мне кажется, что ты таким образом (посредством соцсетей) отстраненно социализируешься. Нет? Как бы ты оценил блогосферу Челябинска.
– Челябинские блоги – точный слепок того, что происходит (творится, делается) в самом городе, его культуре, самоощущении. Мне все эти стадии, ракурсы и дискурсы понятны, сам их когда-то проходил. Для кого-то блоги хороший повод не замечать то, что происходит вокруг, и жить поверх барьеров в духе: мол, а что такого? Да, пока здесь есть Интернет и гаджеты, мое положение ничем не отличается от столичного – те же книги, фильмы и сериалы, так что какая разница – «а нас и тут неплохо кормят»... Для других блоги хороший повод продемонстрировать «собственную гордость» и патриотизм личного выбора, граничащий с демонстративной ограниченностью. Для третьих это возможность вырваться из замкнутого круга своей жизни, впрыгнуть в большой мир, для четвёртых – способ познания себя и того, кто рядом.
Впрочем, это же нормально – быть завязанным на «местный колорит» и «региональное сознание», на обывательское самосохранение, так принято во всём мире. Просто... Как бы это объяснить поточнее...
Редактируя отдел культуры, я стараюсь не ставить репортажей с фестивалей: такие материалы мало читают – фестивали интересны либо тем, кто на них побывал, либо фестивальной пресс-службе. Гораздо интереснее (но такой подход встречается крайне редко), когда текст о фестивале оказывается только поводом увидеть и сформулировать важную общественную (культурную, антропологическую) тенденцию, таким образом, выводя тему из-под регионального (даже если это Карловы Вары, Берлин или Роттердам) бэкграунда. Аналогия понятна?
Мне очень нравятся некоторые челябинские коммьюнити, в которых люди фотографируют изменения, происходящие в архитектурном облике Челябинска, сохраняя хотя бы в сети жалкие остатки нашего градостроительного аутентизма. У меня есть надежда, что со временем эти коммьюнити перейдут от простой фиксации к более тонким процессам – от краеведения до стихийной мифологизации, которые Че вполне заслужил.
Хотя во многом другом южноуральские блоги напоминают мне выпуски местных теленовостей, идущих по всем местным каналам, но вычерпанным будто бы из одной бочки. Местные теленовости – это вообще нечто феерическое по заштампованности, куцести подачи и по мысли. Впрочем, по всему. От непрофессионализма непоставленных голосов, до неправильных ударений, феерических подводок, внешней непривлекательности журналистов.
Особенно доставляет, что подавляющее большинство сюжетов в них – стенд-апы возле логотипов официальных структур, являющихся главными поставщиками новостей региона.
Я долго не знал, как относиться к этой смеси псевдопарфёновских интонаций и аргаяшского выговора, пока не понял, что это же ситкомы в духе «Нашей Раши» или «Валеры ТВ»!..
Так что, пожалуй, я верну это сравнение телевизора и блогеров; местные блогеры нереально круче, особенно когда видишь в какой медийной среде они вынуждены существовать.
– Что дает тебе гигантская (без преувеличения) аудитория твоего блога?
– Аудитория моего блога не такая уж и гигантская, поскольку я не раздуваю ее искусственно провокациями и [псевдо]дискуссиями, а всю эпоху первоначального накопления сетевого авторитета и ажитации просидел под замком. Блоги пестуют и укрепляют во мне ощущение правоты – если то, что я пишу, читается и вызывает отклик, значит, я делаю то, что нужно; тем более, когда в моих реакциях и формулировках люди узнают свои собственные, значит, я правильно это нашёл (отловил) и сформулировал (им передал). Чужое узнавание делает эти записи особенно ценными, придаёт им объём.
Подавляющее число блогов имеет свою специализацию – если мы ходим узнать литературные новости, то идём к avvas'y, если светские – то к г-же Рынской, если музыкальные – то к ГуруКену или к кому-то из современных композиторов, а если новости масскульта – к _arlekin_'у. Сделать блог профильным (по политике, по региональным вопросам или по кулинарным рецептам) означает в разы повысить его популярность (ибо всем сразу понятно, зачем тебя френдить), заодно спрятав личные обстоятельства в набор внешней информации; сэкономив при этом массу усилий – ведь когда ты выступаешь экспертом по кактусам или личной жизни голливудских звёзд, большую часть твоего контента начинают занимать перепосты и перепечатки.
В своём блоге я принципиально не останавливаюсь на чём-то одном, хотя, конечно, некоторых волн собственной увлечённости, порой, не избежать: временами, когда находит, я слишком много пишу о классической музыке или веду слишком уж дотошные дневники путешествий.
Таким образом, меня читают люди, которым интересен не литературный критик или столичный меломан, но более-менее реальный человек, думающий обо всём без предварительной договорённости. Мне важно, что кому-то интересны МОИ мысли, а не те спектакли или вернисажи, которые я посещаю.
– Ты сибарит? Расскажи о диете писателя. Как строится день?
– Да, я избирателен, поскольку всерьёз озабочен качеством своего интеллектуального топлива. Мне жалко времени на коммерческий треш в каком бы жанре мне его не подсовывали. Про диету ты очень верно заметил, учитывая изначальную блогерскую всеядность. Долгие годы, работая в интернет-журналах, я едва ли не буквально сидел на «информационных потоках» и, не было бы счастья, вынужденно выработал доктрину личной информационной экологии, позволяющей переносить все тяготы и невзгоды постиндустриального состояния с минимальным количеством потерь.
Экологический подход к потреблению информации требует диеты и многочисленных ограничений, а, главное, осмысленности этого потребления. Все закономерности, связанные с питанием, легко и отнюдь не метафорически переносятся и на работу с медиа.
Надо исключить возможности переедания, не задумываясь выбрасывать тухляк и просроченные продукты, свести к минимуму импульсные покупки – для этого к тому же Интернету важно относиться как к супермаркету, заранее формулируя свою надобу, чтобы затем не расползаться по ненужным тебе ссылкам.
– Дима, последний вопрос. Как ты думаешь, можно ли в Челябинске отыскать некий символ? Человека, событие, которые изменили ход истории. То, что можно использовать как идентификационную метку города.
– Такие метки были раньше – типа памятника Орлёнку, рок-группы «Ариэль» или хоккейной команды «Трактор», нынешнее время не создало ничего. Впрочем, это касается не только нашего города, но и всей остальной России. Мы продолжаем дожёвывать советское наследия, не создавая ничего принципиально нового (особенно отчётливо это видно в кино, эстраде и литературе). Тот, кто успел накопить символический капитал ещё в прошлом веке, расходует этот «стабилизационный фонд», у кого он не сложился, заправляет собственную гордость чужим похмельем. Когда в Перми началось культурное ускорение, я начал сравнивать два наши города, тем более, что у соседей мне доводилось бывать задолго до того, как туда пришёл «чорный Гельман» и начал превращать Пермь в «культурную столицу». В ней действительно был, мерцал, дремал потенциал, который я не слишком вижу в Челябинске.
Однако, это же не повод сидеть сложа руки. Умный человек умеет минусы превращать в плюсы. Отсутствие символического капитала легко превращается в белый лист бумаги, на котором можно начинать писать собственную (новую, ново-старую, старо-новую) историю. Это же нереально крутая и почти невозможная ситуация – в мире, засиженном и загаженном избытками новостного мусора, всё ещё существуют места, нуждающиеся в проявлении.
Вы только представьте себе карту времен эпохи великих географических открытий, на которой ещё есть белые пятна. Так и с нашим культурным самосознанием, которое ещё никто пока не застолбил как следует.
Можно сказать, что Челябинску, де, не повезло с поэзией и прозой, а великая театральная традиция ушла как в песок, а можно, расправив плечи и засучив рукава, начать строительство новой уральской мифологии. Лет десять назад я начал такую работу, сделав уютный и поэтичный Чердачинск местом действия трёх своих романов – "Семейства паслёновых", "Едоков картофеля" и "Ангелов на первом месте". Что-то мне подсказывает, что именно блоги могут оказаться плодотворной почвой для такой кропотливой культурной работы; так что, можно сказать, всё ещё только начинается!
***
Когда я только начинал работать в газете, мечтал о встречах со звездными собеседниками. Типа, сидим мы в отдельном кабинете ночного клуба, потягиваем мартини, курим, дружески хлопаем друг друга по плечам, а потом долго переписываемся и тусим в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Мое интервью покупают лучшие журналы, меня приглашают на выставки и открытия ресторанов, в общем, мечтал я о богемной жизни. Честно говоря, стыдно про это вспоминать, и хорошо, что удалось хоть одной глупости в жизни избежать.
Нет, я не против богемных жизнеописателей. У каждого свое место, но вот себя на прококаиненной тусовке представить не могу.
Вот посмотрите, с кем мы говорили несколькими страницами выше. Музыкант, поэт, клоун, писатель... Это все Творцы. Они постоянно творят миры вокруг себя. Не прыгают со сцены на сцену, в сотый раз открывая рот под фонограмму чужих стихов на чужую музыку. Ищут новое, создают, увлекают, парят. Поэтому мои собеседники гениальны.
Для меня природа творчества всегда была совершенно непонятна. Нет, я, конечно, писал песни и вместе с моим другом Серегой Куваевым исполнял их под гитару у входа в железнодорожный вокзал или в подземных переходах главной площади Челябинска в голодные 90-е. Об этом рассказывать даже не буду, потому что время было трудное, а нам заработать можно было только так...
Хотя нет, пару слов скажу. Серега отлично играл на гитаре, в том числе и соло, я бренькал аккордами. А еще мы неплохо спелись и спеваемся до сих пор по пятницам. Но вот почему-то за мои песни в гитарный чехол летела мелочь, а за что-нибудь казацкое из репертуара Розенбаума в исполнении Сереги – хрустящие купюры. Удивительно, правда? Вероятно, по причине полной бесталанности я и стал репортером...
Повторюсь, природа творчества для меня – алхимическая загадка. Никак не получается вырастить своего гомункула, как ни старался. Хотя вроде и сюжеты в голове вертелись, и слова складываю неплохо. Гений – Творец. Я – обычный ремесленник, поэтому читаете вы сейчас не роман, а – как бы это назвать... Хорошо, пусть будет роман, но «любовный роман с профессией», что, согласитесь, несет немного иную смысловую нагрузку. Я не могу придумать, создать радужный мир, который по первому моему требованию вертелся бы в мозгу, как глобус. Могу лишь описать то, что видел своими глазами. Оттого и «Опилки...» отлеживались в голове много лет, оттого и бреду я сейчас по строке с великой осторожностью, словно по припорошенному снегом скальному гребню. Боюсь оступиться.
Впрочем, сделавшись экстремальным репортером, я приобрел определенную свободу от редакторского вмешательства – он-то не видел, не ощущал. Так что следующим циклом предлагаю вашему вниманию пещерные репортажи. В них алчными руками редактора не изменено ни одно слово, это ведь просто рассказы без идеологической подоплеки. Да и в комментариях они не нуждаются, поскольку просто описывают обычную жизнь в самых безлюдных местах планеты.
ПЕЩЕРНЫЕ ЛЮДИ
Помнится, в школе в учебнике географии я прочитал: «...одна из крупнейших пещер на Урале – пещера „Киндерлинская“ – была открыта группой спелеологов в 1975 году. До сих пор остается неисследованной значительная часть подземных гротов». Как хотелось оказаться в этой самой неисследованной части. И вот я сижу в купе вагона вместе с командой спелеологов. Покорять «Киндерлинскую» отправились девять парней и девушек разной степени подготовки.
Забыл сказать, что "Киндерлинская" больше известна под названием "Имени 30-летия Победы", или, проще говоря, "Победа".
Заброска к входу в пещеру обещала быть легкой – взялись помочь машиной уфимские спасатели. Но, как всегда, обстоятельства оказались сильнее. В ЗИЛ с будкой погрузились 30 участников экспедиции из нескольких городов России. Челябинская команда встретилась с ними в Уфе, чтобы одновременно "атаковать" "Киндерлинскую" по нескольким направлениям.
Через четыре часа после выезда из столицы Башкирии в будке запахло паленым. Машина остановилась, и водитель безнадежно махнул рукой – напрочь развалилась полуось. Такую серьезную поломку на трассе устранить невозможно. Пришлось связаться по рации с уфимским спасательным отрядом. Обещали быть часов через пять.
Башкирское село, возле которого волею случая оказались участники экспедиции, носит чисто русское название Антоновка. Коротая время, отправились на "экскурсию"...
Из ворот закопченного дома вышла пожилая женщина, что-то прокричала нам вслед по-башкирски. Подошли поближе. После пяти минут путаных объяснений стало ясно, что даме нездоровится. Единственно приемлемое лекарство – водку – она и требовала с нас. Этот случай стал первым в череде столкновений с безысходным деревенским пьянством, и мы, не придав значения стенаниям старушки, двинулись к сельской школе. Обычная школа, на стенах списки лучших и национальная символика. Возле входа в спортзал афишка: ташкентский цирк, клоуны, собачки и пр. От нечего делать зашли. Действительно, цирк. Этих актеров я помню по какому-то телешоу. "Здравствуй, Бим! – Здравствуй, Бом". Помимо прикольных Бима и Бома под баскетбольным кольцом периодически появлялась девушка в трико в сопровождении чернявых пудельков... В натопленном спортзале пахло валенками, и наибольший успех имели вольготные номера Бима вроде добывания пятирублевых монет из филейных частей мальчика-зрителя, стоящего на стуле.
После представления цирк моментально свернулся и укатил на "девятке" в сторону ближайшей деревни, а мы долго еще возбуждали интерес недавних зрителей своими яркими комбинезонами и куртками-пуховками.
Наконец из начинающей пуржить степи показался белый призрак спасательного "Урала". Увы, подбросить до места нас не смогли – в Уфу приехал какой-то важный генерал, и все спасательные силы должны были продефилировать четким строем перед ним. Через час езды мы оказались в нескольких километрах от Антоновки, в деревеньке Табынск.
Стемнело. Шансов попасть в маршрутный автобус не осталось. Пришлось искать ночлег. Пока стояли возле груды рюкзаков, пьяная компания осведомилась: "Это кто, на... здесь стоит?" Ругань на родном языке не приветствуется среди тамошних мусульман. Зато русский мат освоен ими в совершенстве.
Подошел еще один. "Пойдемте ко мне в дом. Переночуете". Вот оно, долгожданное гостеприимство, решили мы. "Девочки пойдут со мной в дом, а мужики – в сарай", – выдвинул неожиданное условие доброжелатель. Нет, такой вариант нам не подходит.
Прибежище нашли в табынской школе. Опять спортзал. В полночь, когда все уже легли спать, заявилась делегация. Представились: учитель физкультуры, учитель пения. Разумеется, пьяные. Решили дать концерт. Объявили: "Сейчас мы вам споем песню о летчике, который упал в тайгу, стал геологом, а потом стал учителем". Дергая струны совершенно расстроенной гитары, учитель пения затянул: "Когда я на почте служил ямщиком". Учитель физкультуры сопровождал пение акробатическими этюдами. Всем было страшно весело. После двух часов вокальных упражнений делегация удалилась...
Утром водитель школьного автобуса, с которым была достигнута договоренность накануне, отказался везти экспедицию – директриса запретила. Пришлось хитрить. Уговорили директрису разрешить отвезти хотя бы девчонок. Согласилась. Парни спрятались за ближайшим поворотом дороги и погрузились в "пазик" несколько позже.
Поехали. Посреди степи автобус остановил "гаишник". "Дальше не проедете, дорогу замело". Пришлось отпустить автобус, заплатив предварительно водителю кругленькую сумму денег.
Перегон Табынск – Карагаево протряслись в кузове ГАЗа с цепями на ободах. Но даже с нашей помощью он не смог преодолеть метровые сугробы. Положение исправил трактор, который, как челнок, мотался по трассе, вытаскивая застрявшие машины. К полудню второго дня заброски всеми правдами и неправдами мы оказались в Карагаево. Отсюда до пещеры рукой подать – километров 12. Но по льду, сковывающему бурливую речку Зелим, в снегу по колено, под тяжелыми рюкзаками с оборудованием. Короче, решено – нанимаем подводы. Их в Карагаево великое множество. Подвода – единственное доступное средство передвижения и гордость владельца. Обычно 4-5 подвод постоянно дежурят возле сельмага. Их хозяева терпеливо курят и ждут, когда в магазин явится сосед купить бутылку. "А, сосед, сколько лет, сколько зим!" Ну как за это не выпить. Потом снова ждут...
Вообще, по моему глубокому убеждению, в Карагаево давно построили коммунизм – такая душевная теплота существует во взаимоотношениях мужской части населения. После употребления, разумеется. Женщины предпочитают отсиживаться дома – зима, делать нечего. Для скорейшего достижения всеобщего благополучия в Карагаевке имеют хождение "районные" деньги. Эдакая коричневая бумаженция с виньетками. Посредине крупно: один рубль. Внизу – подпись бухгалтера и лиловая районная печать. Такими купюрами дают сдачу в магазине...
Русских туристов везти к пещере отказывались даже лошади, не говоря об их хозяевах. "Чего вы к нам пришли? – вопрошали, покачиваясь на ногах, карагаевские джигиты. – Ходите по своей России". После импровизированной лекции в местной школе, где нам уже доказали, что Аркаим является древним башкирским поселением, мы уже не удивлялись припадкам национальной гордости. Правда, от себя замечу, что гордость эта уменьшается пропорционально тяжести похмелья. Чем оно тяжелее – тем сговорчивее становится извозчик.
К обеду удалось нанять две подводы с грустными мужичками, которые то и дело заявляли: "Лошадь идти не хочет – бензин кончился..." "Бензин" вполне определенного свойства переливался в желудок хозяина, после чего лошадь облегченно продолжала свой бег.
Рюкзаки на лошадях, а мы своим ходом подошли к Иминдяшево. Если бы не идиллическая тополиная аллейка, обрамляющая источник с минеральной водой, отчетливо пахнущей тухлыми яйцами, деревеньку можно было бы и не заметить...
Проехали Ташасты. Десяток дворов тулится к мрачной скале, поросшей сосняком. Наверное, здесь замечательно летом. Жаль только, что пацанве, сидящей на заборах и провожающей нас взглядом, некогда будет бродить по окрестностям – покос, картошка, скотина... Радует хотя бы то, что жители оторванных от трассы деревень пьют мало – магазинов нет. Они основательны и сумрачны, как и полагается горцам. Основательность жителей Ташастов доходит до невообразимости. Увидев на крыше веранды металлическое ограждение, я, грешным делом, представил себе отца семейства, достойно оглядывающего с импровизированного балкона свои владения. Ан нет, "балкончик" на поверку оказался могильной оградой, заготовленной впрок...
Скоро исчез из виду печной дымок последнего домика в Ташастах. Дальше везти нас извозчики наотрез отказались – Зелим не замерз полностью, и то тут, то там показывались коварные промоины. Пошли пешком в промокших ботинках. Конечно, не обошлось и без провалов под лед. Один из челябинцев сошел с тропы и вмиг оказался стоящим по грудь в ледяной воде. Пока выжимали одежду и перекладывали промокший рюкзак, наступила ночь. В темноте еле поднялись по почти отвесному склону, ведущему в черную пасть "Победы"...
Зайти в "Победу" просто – сел на рюкзак и скатился по снежному желобу на громадный и древний ледник. Толщина ледового панциря метров 20. Именно из-за ледника пещера пользовалась популярностью у местных охотников. Очень уж удобно хранить там летом дичь. До наступления эры охотников в пещере жили медведи. Столько перемолотых временем костей, лежащих вдоль стены, я видел только в фильмах о концлагерях...
Ледник создал великолепное зрелище. Капли воды, падающие со сводчатого потолка, образуют на ледяном полу фантастические скопления ледяных фигур. Одна из них – "Снежная королева" – достигает в высоту шести метров и не тает даже летом. Здесь же, в самом начале "Киндерлинской", находится и главная загадка пещеры – каменная "пагода". Этот гигантский коричневый сталагмит не достает до потолка всего несколько сантиметров. Как он образовался, неизвестно. Проходя мимо великолепия, которым с самого начала ошарашивает исследователя пещера, я не мог не заметить, что зеркало ледника присыпано песком, а на ледяном спуске вырублены аккуратные ступени. Такая педантичность имела весьма печальную историю – 7 ноября спасателям пришлось выносить на руках спелеолога с переломанными ногами. Ими же была сооружена лестница на крутой уступ, к которому мы подошли через полчаса движения по извилистому коридору.
Подъем, спуск, поворот, треск разрываемой на камнях ткани комбинезона, но уже теплее. Теплее во всех смыслах. Ближе стоянка, где, наконец, можно поставить палатку. Теплее воздух – в глубине пещеры температура всегда выше ноля на пять-семь градусов. Особенно резко разница температур ощущается после прохождения "Пылесоса" – узкой кишки, соединяющей входную и основную части пещеры. Через "Пылесос" пещера "дышит", втягивая в себя воздух утром и "выдыхая" вечером. Скоро колонна спелеологов поредела. Уфимцы и екатеринбуржцы встали лагерями на облюбованных стоянках. Челябинцы упорно ползли вперед... Мы остановились дальше всех – у циклопических столбов, обозначающих начало "Хода Атлантов". Впрочем, об Атлантах позже. Пока закипает котел с водой и набухает синим пузырем палатка, я расскажу о подземной жизни.
Наш ПБЛ (подземный базовый лагерь) – это небольшой сухой грот с каменным кубом посредине. Пара плоских камней – стол, три палатки – жилище. В одной из палаток расстелили самодельный пятиместный спальник – "могилу". Когда холодно, лучше спать всем вместе. А холодно всегда. Несмотря на плюсовую температуру, влажность под землей стопроцентная. Одежда промокает моментально, а высушить ее можно только на себе ночью. Кстати, "ночь" здесь – понятие условное. Пока мы находились в пути, для освещения использовали карбидные фонари на касках. Чтобы не жечь дорогой карбид, по периметру лагеря расставили свечи. Они и заменили нам свет солнца. Наш "день" начинался, когда "на земле" наступала полночь и зевающий дежурный раскочегаривал примус. Ложились часа в четыре утра и никаких неудобств не испытывали, даже если приходилось работать по 20 часов в сутки – "ночь" моментально начиналась, как только жизнь струйкой дыма отлетала от последней свечи. Питались китайской лапшой, тушенкой. Особенно много потребляли горячего чая и лука с чесноком – чтобы не заболеть. Не могу обойти вопрос отправления естественных надобностей. Спелеологи – люди понимающие, поэтому для нужд отвели специальный угол, где стоял полиэтиленовый пакет – "унитаз". В конце экспедиции пакет был законсервирован и удален. Такой способ решения проблемы практикуется везде, где люди стараются не нарушить микрофлору пещер...
Разместившись, основательно выспавшись и перекусив, мы отправились в "Ход Атлантов". Этот извилистый тоннель, потолок которого теряется во тьме, давным-давно образовала подземная река. Стены "Хода Атлантов" до сих пор хранят следы могучих водоворотов. Примерно через четверть часа ход вывел нас в "Классику" – самое посещаемое место в "Победе". Потолок этого обширного зала нависает в сотне метров над головами "посетителей". В центре "Классики" находится образование, получившее название "Царевны-лягушки". Обладая изрядной фантазией, в плавных обводах "натечки" действительно можно углядеть абрис огромной жабы. В алькове мрачного зала стоит "Орган" – кальцитовые ребра, растущие из стены, ударяя по которым камешком, можно добиться звука роняемой водопроводной трубы...
"Киндерлинская" – это почти девять километров коридоров, залов и подземных озер. Ходы спускаются в царство Аида на 230 метров и поднимаются в некоторых местах настолько, что становятся видны корни деревьев, растущих "на земле". В одном из таких мест – гроте "Подарочный" на стенах видны отпечатки морских звезд, червей и прочей морской нечисти.
Названия частей пещеры вообще наводят на мысли о море. В один из "дней" челябинская группа отправилась в "Атлантиду".
Часа три ползли по узкому извилистому ходу, встающему на дыбы колодцами с мокрыми стенами. В них мы поднимались с помощью альпинистского снаряжения, нещадно расходуя силы. Выход в последний колодец вывел в горизонтальную щель, в которой нужно было основательно выдохнуть, прежде чем протащить на несколько сантиметров свое тело. Измотанный, я просунул голову в какое-то отверстие и... подумал, что ослеп – свет карбидки растворился в темноте "Атлантиды". Когда из щели выползли все члены нашей группы, представилась возможность осветить внутренность зала. В глубине "Атлантиды" застыло прозрачное подземное озеро. Каменные глыбы, падавшие с потолка, соорудили подобие сцены, на которой, кажется, парят многометровые кальцитовые "медузы" – белые "пузыри" с изящной бахромой, дающие ясное представление о том, что могут сделать капли воды на протяжении вечности...
В один из дней я отправился в малоизвестную часть пещеры. Лишь недавно уфимские спелеологи показали вход туда. Я был третьим челябинцем, увидевшим "Пепси-Колу"...
Вышли втроем рано "утром". ПБЛ еще спал. Проход в "Пепси-Колу" начинается с неприметного лаза в одной из стен "Обвального" зала, образованного, видимо, землетрясением. Ползком наша троица добралась до глиняной трубы диаметром сантиметров сорок. Ползти недалеко, всего около двух метров, но путь этот я совершил за полчаса. Техника проста: ложишься на спину и извиваешься, как уж, одной рукой пытаясь отлепить спину от мокрой глины... Еще два часа ушло на проход по щели "сорок третьего размера" – мой сапог в длину как раз умещался в ней. Наконец дошоркались до "прихожей". В небольшой камере перед входом в "Пепси-Колу" помыли сапоги, чтобы не наследить по белому кальциту, и прочитали записку первооткрывателей, запечатанную в пустую бутылку из-под известного напитка. Используя все непечатные выражения, первопроходцы требовали не загаживать девственную чистоту зала. Войдя в "Пепси-Колу", я понял, что их требования не напрасны. Нельзя погубить маленький водопад, стекающий по белоснежному скату с фиолетовыми разводами. Нельзя ходить грубыми сапожищами по тончайшим кальцитовым цветам на поверхности зеленого озерка. При малейшем прикосновении они ломаются и уходят под воду, грустно покачивая поруганными лепестками. Стены "Пепси-Колы" похожи на египетские каменные барельефы – разноцветные и мистически осязаемые. Захотелось пить, но как добраться до озерка, обсаженного по кайме сиреневыми "цветами"? Ответ нашелся неподалеку. Среди каменных "кораллов" то тут, то там попадались полые сталактиты, похожие на соломинку для коктейлей. Нависнув над озером, я напился вдоволь. "Соломинку" положил на прежнее место. Из пещеры ничего нельзя вынести. Тонкая трубочка погибнет на воздухе, как превратится в невзрачные шарики пещерный жемчуг – обломки сталактитов, обточенные водой за тысячелетия до бархатной глади. Из "Пепси-Колы" мы вышли через четыре часа. По пути "домой" молчали...
Еще одним поразительным местом "Победы" стал для меня "Летучий Голландец". Такое имя получило дно ледника в начале пещеры. Спуститься туда можно только по веревке, упираясь спиной в скользкий ледяной столб. Трудно. Зато на дне... Ледник действительно напоминает корпус старинного фрегата. Плоский наверху, внизу он переходит в сверкающий "киль". Многотонный "фрегат" бережно несет в себе историю человечества, записанную на ледяных страницах. Стены "дока", где навечно встал корабль времени, покрыты прозрачными узорами воды, застывшей на пути к полу, так что света нескольких карбидок хватает, чтобы "Летучий Голландец" засиял, как новогодняя иллюминация.
Интересный факт: осматривая поверхность "киля", я обнаружил муху. Пока думал, как же ее сюда занесло, насекомое, согретое теплом лампы, ожило и поползло на свет. Поистине, полна загадок "Победа"...
Мы прожили под землей пять суток. Когда пришла пора возвращаться, постарались подогнать график сна под "земной" ритм. Вышли из пещеры утром. Полчаса приходили в себя под, казалось, ослепительным светом. Между тем ослеплять было нечему – за несколько часов до выхода над землей промчался буран. Тусклое небо до сих пор отплевывалось снежной крупой. До Челябинска добирались трое суток. Буран перемел все дороги, поэтому значительную часть пути до ближайшей "цивилизации" пришлось проделать пешком и на подводах. Наученные горьким опытом, мы основательно забили рюкзаки водкой – универсальной местной валютой. Окончательно войти в ритм нормальной смены дня и ночи не успели. Первые сутки я продремал, изредка перетаскивая рюкзаки и переползая в очередные сани. Запомнился какой-то дядя Коля – путеец на станции Белое Озеро. Дядя Коля лихо пил водку из стакана, жевал "Приму", что-то кричал в телефонную трубку, а я с трудом соображал, как очутился в его теплушке после пяти подземных суток среди оплывающих свечей, зажатых в мягких лапах слепого безмолвия...
НЕОКОНЧЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Кавказ... Одно слово – и сразу: Лермонтов, шипение горячих шашлыков и бульканье дешевого, но первосортного портвейна. Однако Кавказ бывает разный, и там, где оказалась наша экспедиция, дорогой читатель, Лермонтов вряд ли снискал бы любовь Музы, а шашлыки с портвейном отродясь не водились...
Массив Фишт – шипение осыпающегося снега, скрежет подошвы ботинка по наждачному валуну... Вот цель путешествия, куда вместе с челябинскими спелеологами из клуба "Плутон", специалистами из компании "Unerground" и аквалангистами из челябинского подводного центра "Капитан Кук" отправился и я.
Есть такая пещера – "Парящая птица". Одна из самых сложных в России, она еще и имеет все шансы стать самой глубокой. Пройти ее до конца и собирались члены экспедиции. А я, помимо прочего, лелеял мечту хоть одним глазком взглянуть на следы "снежного человека", которого когда-то видели на Фиштинском массиве...
Все началось, когда 30 августа в вагон поезда Челябинск – Сочи было загружено экспедиционное барахло и выпита первая стопка водки – "За уехало!"
Пустить штуку баксов на воздух
Верите или нет, но на юге я оказался в первый раз, поэтому Сочи ошеломил сразу: своими пальмами, субтропической жарой, загорелыми путанами и курортной дороговизной. После «черного» 17 августа (речь идет о дефолте 1998 года – С.К.) народ отложил в долгий ящик посещение разных египтов и ринулся куда поближе. Результат – забитые гостиницы, пляжи, превращенные в помойку, и бензиновый кризис. С топливом в Сочи значительно хуже, чем на Урале. Литр 76-го, к примеру, стоит 9 рублей – и того не сыщешь. Но топливные и жилищные проблемы нас не касались. Добравшись до конторы сочинского спасательного отряда, 17 участников экспедиции «Парящая птица – 99» поставили свои бесплатные палатки на обочине вертодрома. Потянулись душные дни ожидания «винтокрылой птицы», призванной доставить нас прямиком в горы.
Днем отмывались в море, которое от обилия отдыхающих казалось если не Черным, то как минимум мутным, а вечером на асфальте разводили примус и пили чай под футбольные выкрики игроков – вертодром находился аккурат возле стадиона...
Наконец наступило 5 августа – день, когда вертолет должен был прилететь за нами из Краснодара. С утра рюкзаки и палатки были уложены. Осталось убрать после себя бытовой мусор – и можно лететь. Но техника оказалась проворнее. Белый вертолет с МЧСовской эмблемой на бортах зашел на посадку на высоте около 20 метров над нами и смел со стоянки не только все бумажки-пакеты, но и раскатал по футбольному полю рюкзаки и ботинки. Футболисты разбежались по сторонам, едва услышали звук приближающегося вертолета, а мы что-то лопухнулись. Чертыхаясь, за полтора часа собрали и загрузили полторы тонны скарба в брюхо Ми-8, расселись вдоль бортов, взлетели и окинули орлиным взором курортную зелень. Недешевое, скажу я вам, удовольствие. Час полетного времени стоит тысячу "зеленых", и ни за что бы нам не добраться до запорошенных снегом вершин, если бы не помощь спонсора...
Через 20 минут в иллюминаторах вертолета показался Фишт. Каменная громада, казалось, вросшая в бирюзу альпийских лугов и вспарывающая животы плывущим облака. Погода не позволила вертолету сесть непосредственно перед горой, поэтому пришлось выбросить вещи километрах в двух от Фишта, около небольшой "гостиницы" на Лунной поляне.
"Лунная поляна" – Лусняк-Айд на местном армянском диалекте – это замечательный оазис посреди горных массивов Большого Кавказа. Небольшая подковообразная равнина, окаймленная буковым лесом. В прозрачные ночи полная луна стоит над Фиштом, превращая его в неясный пепельный абрис. Несколько лет назад на поляне располагался тренировочный лагерь сочинских спасателей, от которого теперь остались лишь стойки канатной дороги и блестящий шатер гостиницы, похожий на приземлившуюся летающую тарелку. Хозяин гостиницы Григорий Борисович Горлов сам в свое время был начальником сочинских "спасюков", но отошел от дел и безвылазно живет в "Приюте "У погибшего альпиниста", как мы сразу окрестили гостиницу...
Очко в пользу Фишта
По рекомендации Борисыча сразу поставили палаточный лагерь на Лунной поляне – там, где тепло и сухо. Час на разбор рюкзаков – и группа «носильщиков» устремилась с подземным оборудованием на перевал, разрезающий Фишт на две части (наша цель располагалась там, почти на вершине). Не предвидя особых трудностей, взяли по 25 килограммов на плечи каждый и рванули по тропкам на едва видневшийся в тумане перевал. С первой же горушки, на которую, пыхтя, забрались экспедиционеры, открылось обширное плато, где коровы с ногами чемпионок мира по бегу с препятствиями мирно жевали сочную зелень. Каждое стадо находилось под присмотром отдельного быка (демонически черного цвета). Быки ревниво топали копытом и целили рога в пришельцев, поэтому резвости у нас заметно прибавилось.
Так с шутками-прибаутками подошли к перевалу. Кстати, названия он, по-видимому, не имеет. По крайней мере, на топографических картах я его не обнаружил. Глядя с тяжеленным рюкзаком на плечах на 400-метровую каменную осыпь, так и хотелось назвать ее вычурно и непечатно. "Сыпуху" проложил сползающий с гор ледник. Естественно, он не позаботился о том, чтобы перевал получился пологим и, по возможности, без вылетающих из-под подошв камней. Но делать нечего, пошли. На высоте около двух километров ноги превратились в вату; началась "горняшка" – горная болезнь. Стоило, все-таки, акклиматизироваться денек-другой на теплых равнинах...
Часа через два муравьиного бега по "сыпухе" стало ясно: с Фиштом шутки плохи. Туман на высоте принес с собой ледяные капли водяной пыли, а шквальный ветер вдосталь напитал ими штормовку. Последние метры перед перешейком на вершине перевала дались особенно тяжко. Ползти пришлось почти по вертикали и на четвереньках, а останавливаться нельзя – температура градусов с тридцати тепла у подножья упала до десяти. Чуть остановился – и моментально замерз.
В проносящихся клочьях тумана было видно, что перешеек с обеих сторон круто обрывается: с одной стороны – каменной осыпью, откуда мы пришли, а с другой – громадным ледником, воронкой, сходящей на нет где-то метрах в пятистах под нами. Мелкий дождь, накрапывавший всю дорогу, за пять минут превратился в ливень со снегом. Пришлось всей компанией срочно забираться под кусок полиэтилена и вместе пытаться согреться. В рюкзаках, которые мы внесли на перевал, были веревки, альпинистское "железо", кислородные баллоны, но ни одной пары сухих носков. Фишт торжествовал и неистовствовал под громовую ухмылку грозы. Он явно заработал очко за удар ниже пояса...
В переводе с адыгейского Фишт – "Белая голова". Он и в самом деле похож на угрюмого старца с копной облачно-седых "волос". Как-то сразу прижилось в экспедиции – уважительно очеловечивать гору: пойти к Фишту, Фишт погоду не обещает... Фишт-Ашбенский горный массив еще называют "кухней погоды". Как я уже рассказывал, с южной стороны Фишта поют птицы и буйствуют субтропики, а с северной – климат резко континентальный. В зависимости от того, как в горах смешаются массы холодного и теплого воздуха, курортники либо выйдут из номеров сочинских санаториев, либо проведут весь день за подкидным...
«Кровавый старик»
Через несколько часов дождь утихомирился. Туман разошелся, обнажив угрюмые склоны. На нешироком перешейке, где мы оказались, повсюду матово засветились стальные таблички с именами погибших покорителей Фишта. На одной из них – список экспедиции школьников из Туапсе. Особенно запомнилась строка из эпитафии: «Миллиарды наших одиночеств сохранит заснеженная высь...»
"Белая голова" собирает свою кровавую дань ежегодно. В одиночестве оказаться здесь действительно страшно...
10 туапсинских старшеклассников пришли на перевал в мае 1986 года. Погода стояла просто замечательная. Никто не мог и ожидать, что вдруг начнется снегопад. Но так часто бывает в горах. Снег может идти неделю, а потом смениться 30-градусной жарой. Школьники встали лагерем на перевале и стали ждать перемен, а снег все шел и шел. Через несколько дней кончились продукты. Снегопад утих, но уйти к подножию Фишта по "сыпухе", покрытой метровым слоем снега, они не решились. Ждали... Постепенно ослабели, но оставалась надежда, что встревоженные родители поднимут на ноги спасательную службу. Чтобы с воздуха их было лучше видно, на перевале разложили рядком девять спальников и легли на них. Так их и нашли. Девятерых рядком... Десятый выжил и успел рассказать о случившемся прилетевшим спасателям. Он не позволил себе расслабиться и не лег вместе с остальными, а сидел на корточках в расщелине. Сидел несколько дней, наблюдая, как один за одним затихают лежащие... Отморозил себе почки, получил воспаление легких. Ноги ему ампутировали в первой же больнице. Через год парень скончался.
Горлов – хозяин "Лунной поляны" – помнит ту страшную весну.
– Когда мы забрались на перевал, сразу увидели их всех. Жутко – девять трупов рядом. Пока их грузили, один, тот, что выжил, застонал. Видно было, что уже не жилец... Так и вышло. Но странное дело, через год умер мой напарник, второй напарник заболел и до сих пор чахнет, а у меня вокруг рта появились – видишь? – какие-то пятна. Потом я вспомнил, что пока шли на перевал, я постоянно снег рукой зачерпывал, а потом пил...
Горлов пришел к выводу, что прежде чем циклон принес в 1986 на Фишт снегопад, он набрал дозу радиации над горящим Чернобылем. Может, бывший начальник сочинской спасательной службы и прав. Даже, скорее всего, прав, иначе чем объяснить эту череду смертей? Я, наверное, излишне доверяю Борисычу. Но как бы вы на моем месте стали бы разговаривать с человеком, на своем горбу вынесшем десятки замерзших тел с кавказских пиков и перевалов? А беседовали мы с ним много...
Во время спуска с "сыпухи" я основательно стер ноги. Это и неудивительно. Спуск больше походил на лыжные гонки – прыгаешь с кручи в кучу мелких камней и, как на роликах, едешь на них. Чтобы остановиться, падаешь, встаешь – и снова катишься. Если бы не французские ботинки со специальной подошвой, до подножия Фишта доехали бы одни мои уши. После ночевки на Лунной поляне в субтропическом тепле невзрачные мозоли на лодыжках превратились в цветущие язвы. Кустарное лечение не дало результатов, и Борисыч передал меня в ведение своей напарницы-медика Лены. Лена церемониться не стала. Рубанула бритвой по гноящимся ранам, положила горячую луковицу и закрепила лейкопластырем. Потом накачала меня антибиотиками и отправилась готовить ужин. Спасибо, Леночка. Благодаря тебе, я через четыре дня смог отправиться в горы. А до той поры обсуждал с Григорием Борисовичем отставку Степашина, достоинства тушенки перед соевым мясом и выслушивал его бесконечные рассказы о тех, кто навсегда остался в горах. Запомнился рассказ о поисках одной девушки. Сюжет обычный – ушла девушка в пещеры, домой не вернулась, поисковые мероприятия результата не дали. Так бы и закрыли это дело, если бы не один из знакомых пропавшей. От горя у него помутился рассудок и он настойчиво искал в горах дверь в подземный город. Там, по его мнению, в плену и находится несчастная. По его просьбе поиски были начаты вновь... и нашли девушку. Но не в подземном царстве, а на дне "Парящей птицы", где сейчас работает наша экспедиция...
Прометеева осыпь
Вынужденное безделье дало мне возможность провести «равнинные» исследования. И любопытные обнаружились вещи. Дошли до скальной стены, где, судя по всему, был прикован греческий титан Прометей – тот самый, что в свое время украл с небес огонь для людей. «Краснуха», как называют гигантский обвал в несколько тысяч квадратных метров из-за его цвета, появилась в результате землетрясения, произошедшего примерно 3500 тысячи лет назад. В первом веке нашей эры о нем свидетельствует Гай Валерий Флакк: «...Жестокое жилище Прометея открывается взору, а также Кавказ, поднимающийся к холодным медведицам. Этот день привел туда и Геракла для изменения участи титана; и, уже с усилием раскачивая со всех сторон жестокие оковы... он, схватив их руками, вырвал из подошвы скал; загремел огромный Кавказ, и, последовав за вершиной горы, бревна упали в море, и реки были отведены от него...» Свидетелями катаклизма были аргонавты – «кровавый» обвал хорошо виден с моря. Видимо, это и послужило причиной возникновения мифа о Прометее.
Теория о том, что Прометей был прикован именно к Фишту, принадлежит сочинскому историку Александру Бескову, долгие годы изучавшему греческие мифы, свидетельства римских летописцев, мифологические апокрифы. Последними аргументами в пользу его теории явилось наличие гигантского обвала под "красным пятном" и ручей, из которого по легенде пил воду орел, насытившийся печенью титана. Справедливости ради, стоит отметить, что у кавказских народов существовал свой безымянный герой, наделенный чертами Прометея и понесший такое же наказание. "Официально" титан был прикован где-то в районе Орлиных гор под Сочи. Там же установлен памятник (человеческая фигура, рвущая цепи, в духе раннего Церетели). Но там нет ни ручья с целебной водой, ни мощнейшей энергетики, которую я ощутил под кровавым пятном на мрачных вертикалях Фишта...
Незаметно наступило 11 августа – день, который должен был решить, удалась экспедиция или нет. Ночью накануне лагерь накрыла тьма новолуния, в прозрачном небе выстроился парад планет. После трех часов дня ожидалось солнечное затмение – сплошные астрологические ужасы. Вдобавок в этот день аквалангисты на дне "Парящей птицы" должны были погрузиться в подземное озеро, которое проплыть еще не удавалось никому. С утра все обитатели Лунной поляны пристально следили за светилом. Все шло нормально, но после обеда с Фишта спустился клубами туман и вязким киселем заполнил низину. Во время затмения стало темно. В душе зашевелились самые мрачные предчувствия. Осталось только плюнуть на все и лечь спать, чтобы назавтра отправиться в горы...
Народ в горах мирный. Армяне, в основном. Немного дагестанцев. Живут мужики в фанерных "балаганах", доят коров, делают местный кефир – мацони, сыр. Гоняют лошадей "на колбасу". Нас, русских, не то, чтобы не любят, а как-то не доверяют. Рядом бушует война, поэтому их можно понять. На Фиште война уже отгремела. В 1942 году здесь пытались выйти к Мацесте отборные части немецкой альпийской спецкоманды "Эдельвейс". Перевалы они не прошли, но и наших солдат полегло немало. Недалеко от Фишта до сих пор можно найти немецкие консервные банки, русские гильзы от патронов.
Так по местам боевой славы мы подошли к опостылевшей "сыпухе". Отсутствие рюкзака на плечах воспринималось как подарок судьбы...
Паводок
На перевале перешли по протянутой веревке через ледник, обрывающийся каньоном «Колорадо». Через полчаса вышли к верхнему лагерю перед входом в «Парящую птицу». Фишт был в своем репертуаре: мочил ливнем и сбивал с ног шквальным ветром. Возле входа в пещеру лежали баллоны с воздухом, которые по плану должны были находиться на глубине 517 метров, у подземного озера. В промокших палатках дрыхли спелеологи, вышедшие из-под земли под утро. Уныние и полная бездеятельность. Все разъяснилось, когда мы увидели струи воды, льющиеся во вход-колодец в «Парящую».О подводном прохождении пещеры нечего было и думать. Неделя подготовки, организации подземных базовых лагерей, переноски оборудования на дно пещеры, к подземному озеру пошла крахом. Времени катастрофически не хватало, а Фишт и не думал утихомириться. Экспедиция провалилась...
Подавленные спелеологи отправились отогреваться на Лунную поляну, а наша смена начала готовиться к ознакомительному, что ли, спуску в "Парящую птицу". На тот момент я знал лишь то, что "Парящая птица" – пещера легендарная. Открыли ее в 1986 году москвичи. Над входом парила какая-то горная живность – отсюда и название. "Птица" – пещера в своем роде уникальная: подземные реки из нее никуда не вытекают. Вернее, вытекают, но это место еще никто не нашел. Пещера – вторая по глубине в России, но никто пока не знает, насколько она глубока на самом деле.
Под землю
Надев термоизолирующий комбинезон, гидрокостюм, пещерный комбез и альпинистское снаряжение, я повис на веревке, ведущей в ледяное чрево гор. «Птица» – это система колодцев разной высоты. Ходить ногами там приходится очень редко. Все время занимаешься только тем, что перестегиваешь спусковое устройств с одного отрезка веревки на другой. Руки, честно говоря, подрагивали. В желтом свете ацетиленовой горелки, укрепленной на каске, были видны лишь частности пещерной жизни: обросший сталактитами кусок стены, титановые карабины, провода подземных линий связи. Хорошо, что темно, и не видно, куда лезешь... Свою «спусковуху» я сломал еще на поверхности; пришлось одолжить у петербуржцев, исследовавших Фишт параллельно с нами. Чужое спусковое было рассчитано отнюдь не на мой вес, поэтому спуск в глубины сопровождался длинным потоком ненормативной лексики. Самых нелестных выражений удостоился 70-метровый колодец. Висишь на высоте двадцатиэтажного дома и действительно «молишься, чтобы страховка не подвела». Где-то посреди бездны веревка подходит к скальному выступу, где нужно отстегнуться и повиснуть на страховке. Потом подтянуться, сесть верхом на похожий на змеиную голову камень и встегнуться в очередную веревку. И так час за часом. Под ледяным дождем водопадов, бьющих из каждого отверстия в «Парящей птице». Наверху идет дождь – а внизу принимаешь душ. Мокнешь и изнутри – от пота, которому некуда испаряться под резиной гидрокостюма...
Через три часа скольжения вниз веревка кончилась, начался длинный – примерно 200-метровый – участок узостей и "шкуродерок" – меандр. В этом длинном извивающемся ходе баллоны для аквалангов пришлось где нести на руках, где тащить волоком за собой. Жаль, что такие титанические усилия пропали зря...
Ползком я влетел в подземную реку. Глубина по колено, на дне – обрывки кабелей связи, в общем, ощущения ниже среднего. Ползком и пригнувшись, дотопали до первого подземного базового лагеря на глубине 250 метров. Лагерь – это просто кусок полиэтилена, перекрывающий узость, где отчаянно дует ветер. В стенах полости, расширяющейся в извивах меандра, вбиты крючья для гамаков. На скальной полочке хранятся запасы шоколада, кураги и прочих деликатесов. Я, довольствовавшийся на Лунной поляне соевым мясом и сублимированной капустой, немедленно поспешил устроить пиршество и согреться. Жизнь постепенно налаживалась. Настроение портил только транспортный мешок, который предстояло вытащить наружу, но что поделать, не курагу же я сюда лопать приполз...
Продолговатый транспортник с веревкой внутри пришлось пристегнуть карабином к поясу. Когда я окажусь на веревке, он будет болтаться внизу, не мешая работать.
Пополз. Пока я нырял в меандре в холодной воде, веревка в мешке основательно потяжелела. Где-то на середине первого же колодца стало понятно, что спуск был цветочками перед ягодками подъема. Через четыре часа на дне 40-метровой каменной трубы кончился карбид в ацетиленовой горелке. У меня в запасе имелся электрический фонарь, но его я включать не спешил, оглушенный наступившей темнотой и капелью водопадов. Сколько я так просидел, не помню: время, казалось, остановилось, раздавленное земной толщей. Однако надо ползти дальше...
В свете фонаря стены засверкали кальцитовыми цветами. Веревка, с моей точки зрения, была здесь совершенно чуждым элементом, но как хорошо, что она все-таки была. Проклиная транспортник, цепляющийся за стены, полез вверх. Уже около самого выхода из пещеры сдохла батарейка фонаря. При свете звезд я выбрался на поверхность, где уютно гудел примус и закипал чайник. Вот уж действительно, понимаешь, как хороша жизнь, лишь поборовшись за нее...
В раннем рассвете уныло оглядел распухшие руки со сбитыми пальцами и отправился спать. Будущий день, возможно, сулил встречу со снежным человеком – если повезет. По крайней мере, я твердо собрался уйти к вершинным ледникам. Повадки неуловимого гоминоида хорошо известны каждому любителю почитать желтую прессу. Йети волосат, небрит и невоспитан. Любит дикие места, каньоны и ледники. Живет где угодно, но только не там, где его ищут. На Кавказе был замечен неоднократно, но столько же раз был перепутан с заблудившимся альпинистом. В общем, Фишт для него – что дом родной.
По следам снежного человека
С утра под землю отправилась группа выброски. За рабочие сутки им предстояло очистить «Парящую птицу» от следов нашего присутствия. Я же полез в горы.
В 1996 году на западном склоне Фиштинского массива, на вершинном плато горы Ногой-Чук адыгейские спасатели обнаружили громадные следы. Нога в сапоге 43-го размера казалась внутри них изящной ножкой балерины. А два человека – один на плечах другого – так и не смогли продавить плотно примятый следами снег. Спасатели полтора километра шли по следам, снимая все на видео. В конце концов, отпечатки босых ступней затерялись в одном из ледяных каньонов, куда простому человеку не спуститься. Окрыленный удачей адыгейцев, я спустился на ледник и стал искать следы йети. Плоды поисков – ржавая консервная банка и кусок веревки – полетели в каньон, посланные туда негодующим пинком моей правой ноги. Следом за ними в каньон чуть не полетел я сам. Прокатился на заднице метров тридцать и остановился, мокрый и злой. Жаль, что не взял фотоаппарат. День выдался солнечный, над ледником поднимался легкий пар, а из красноватых стен узкого ущелья, куда я доехал, били водопады, порожденные плавящимися вершинными массами снега. Вдруг на фоне ослепительного ледяного зеркала почудилось движение. Прищурив глаза, я разглядел две темные фигуры. Срываясь, пополз вверх по леднику и понял, что это наши соседи-питерцы бредут. Рюкзаки превратили их в бесформенных монстров с качающейся походкой. Так я и не нашел снежного человека. Может, времени не хватило, а может, не судьба...
Домой
Путь домой обещал быть трудным. Вертолета не предвиделось. Оставалась надежда на грузовичок, который должен был ждать нас у подножия горного массива, в селении Бабук-аул. С Лунной поляны вышли рано утром усталые, как черти – сказывалась вчерашняя выброска оборудования с Фишта. Часть груза навьючили на лошадей и потопали по тропе российского туристского маршрута Мацеста – Дагомыс. По карте пути совсем ничего – километров двадцать. Но приходится спускаться полтора километра по вертикали. Ощущение потрясающее: на высоте около 500 метров альпийские луга резко сменяются субтропическими буковыми лесами. Мы попали в совершенно иной мир, где с замшелых стволов опускаются удавы плющей и лиан. В удушливую жару неожиданно плеснул настоящий тропический ливень. Медленно набухли лужи, а потом с гор рвануло месиво из грязи, листьев и дождевой воды. Тропа исчезла из виду, но на Бабук-аул мы все-таки вышли.
Как и следовало ожидать, грузовичка на месте не оказалось. Бзыч – местная речушка – превратился в ревущего зверя, смывшего дороги. Искать транспорт в Бабуке – дело безнадежное. Пришлось высылать группу гонцов до следующей "цивилизации" – Салох-аула. Километров через десять пешей прогулки армейский "газик", как черт из табакерки, вынырнул из-за поворота на серпантине – поедем...
К ночи барахло было уложено в кузов машины, и группами по 8 человек мы стали выбираться из Бабук-аула. Дорогой узкую каменистую тропку, по которой пришлось ехать, можно назвать лишь условно. Кроме "газика" или хорошего джипа здесь не пройдет ни одна машина. Вдруг встал и наш "внедорожник". Дорогу перегородил громадный – в два обхвата – ствол бука, проделавший широкую просеку в кустарнике, покрывающем склон, откуда его смыл ливень. Часа три пришлось истратить на работу бензопилой. Дальше мне пришлось поехать на правом крыле машины, чтобы нагрузить переднюю ось. Ощущения такие, будто скачешь на лошади, но она тебя не слушается. При этом с левой стороны фары высвечивают поросшие мхом скальные стены, а с правой дорога обрывается пропастью...
Утром жители Салох-аула были напуганы жуткой картиной: возле конечной остановки автобуса, прямо на обочине дороги в спальных мешках спали семнадцать грязных измотанных человек...
Потом были, конечно, три солнечных дня в Хосте, когда кончились сигареты, продукты и чистые носки. Когда ваш корреспондент рвал виноград на улице и жарил целую сумку улиток, выловленных в море. Был поезд до родного города, где пассажиры подозрительно посматривали в сторону черных, обросших парней с рюкзаками. Так закончилось наше путешествие, которое должно было поставить точку в исследовании "Парящей птицы". Кому как, но мне совсем не жаль, что приходится ставить многоточие. Подождем...
***
Я бывал во многих пещерах. Это тот самый космос, в котором всегда мечтал оказаться, только на Земле. Вообще, надо признать, Земля – удивительное место. Вечно изменчивая, она никогда не перестанет добавлять к своему облику «белые пятна», что бы ни говорили бывалые путешественники. И я готов признаться в любви своей профессии. Однако, сдается мне, в этих строках слышится пафос, обычно несвойственный вашему покорному, так что давайте приземлимся. В этот раз – ближе всего к космосу в его обычном понимании: я верю, друзья, караваны ракет промчат нас... и все такое.
КАК ИХ БЕРУТ В КОСМОНАВТЫ
Американские астронавты считают испытание на вращающемся кресле Барани нарушением прав человека – зачем подвергать себя страданиям, если от расстройства вестибулярного аппарата в невесомости можно избавиться при помощи лекарств? Но российские доктора уверены, что вся эта химия, которая, кстати, вызывает сонливость и снижает работоспособность, ни к чему. Космонавт должен быть «сделан из стали» и уметь справляться с физиологическими проблемами самостоятельно. А для этого надо рано или поздно подвергнуть себя стрессу и в кресле Барани, и в кабине центрифуги.
Кресла Барани (оно названо так по имени австрийского физиолога начала прошлого века) я боялся больше всего. Это приспособление выписывает такие пируэты, что потерять лицо, находясь в нем, проще простого. Но испытание моего вестибулярного аппарата оказалось далеко не первым и не последним мучением, которому меня подвергли в Центре подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина (ЦПК). Там уже лет восемь можно за деньги почувствовать через какие тернии лежит дорога на орбиту.
«А вы выдержите?» – насмешливо спросил сотрудник ЦКП, выслушав, какие испытания я хотел бы пройти в Звездном городке. Есть только один способ проверить. Во врачебном кабинете медсестра опутала мою грудь проводами и сняла электрокардиограмму. Впереди – центрифуга, поэтому, если с сердцем и сосудами что-то не так, можно потерять сознание. ЭКГ – тьфу-тьфу – в норме, зато давление оказалось высоковато. «Волнуетесь?» – спрашивает врач. Волнуюсь, конечно. «Кофе пили?» Пил, а зря. Заставляю себя успокоиться, и через несколько минут манометр показывает допустимые цифры.
В ЦКП есть центрифуга ЦФ-18, не имеющая аналогов в мире. 18 – это радиус вращения в метрах. Во время работы эта 306-тонная махина может создать 30-кратную перегрузку, разогнавшись до 270 км/; тогда в комплексе, где установлена центрифуга, «сквозняки» гуляют со скоростью 75 м/сек. У кабины четыре степени свободы, это позволяет моделировать любые ситуации, вплоть до полной имитации перегрузок во время выведения корабля на орбиту. Аппарат вращается на тончайшем слое масла, подаваемого под давлением. Космонавты ЦФ-18 недолюбливают – вращение по четырем осям сразу выдержать тяжело. Им по вкусу ЦФ-7, центрифуга поменьше и «более домашняя». Поскольку в мою подготовку вошла имитация посадки спускаемого аппарата, отправляемся в зал, где установлена «семерка».
Кабина находится на конце ажурной металлоконструкции. Внутри чисто, стены обшиты слоем мягкой белой ткани, как в палате для буйнопомешанных. Укладываюсь в кресло, техники надевают на ухо датчик пульса, на руку – манжету тонометр, в ладонь вкладывают тангету – рычаг, который разожмется, если я потеряю сознание, и остановит вращение. Двери, захлопнулись, тишина. Оглядываюсь – надо лбом обруч с видеокамерой и разноцветными лампочками. Во время испытания они будут загораться, а я должен нажимать специальную кнопку на тангете – так врачи измеряют время моей реакции. «Все в порядке?» – спрашивают из операторской. «Все нормально!» – отвечаю, а в голове проносится: «Надеюсь, никто не оставил в кабине гаечный ключ...»
Ну, поехали. Что кабина пришла в движение понимаешь только по увеличению своего веса, вращение не чувствуется. «Двойка», сообщает оператор. Это 2g, то есть нагрузка на мое тело вдвое выше нормы, и сейчас я вешу почти полторы сотни килограммов. «Тройка», – меня вдавливает в кресло. «Четыре “жэ”»... – я вешу почти 300 кг, кожа на лице складками ползет вниз. «Как самочувствие?» – спрашивает оператор. Пытаюсь ответить: «Нормально!» – но выходит невнятное мычание, потому что отяжелевшими губами произнести что-то невозможно. «Попробуйте поднять руку», – требует врач. Пробую, но рука весит полтора пуда, и оторвать ее от ложемента очень непросто. Когда кажется, что в мозгу вот-вот начнут лопаться сосуды, мне хочется отпустить рычаг тангеты, но испытание, к счастью, заканчивается. На ватных ногах добираюсь до кабинета врача и узнаю, что пульс достиг 117 ударов в минуту.
Сочувствие к космонавтам только усилилось, когда я попытался освоить карту звездного неба. В Звездном учат космонавтов по оригинальной методике. Тому, кто оказался в космосе, нет нужды знать романтичные имена звезд: Альдебаран, Ригель... Гораздо важнее быстро определить, что за созвездие видно в иллюминатор. Это нужно для коррекции положения корабля – ведь он может лететь и «хвостом» вперед. Поэтому используются приемы мнемотехники, запоминающиеся формулы: «Лев держит Рака в зубах», «Под хвостом Дельфина – Малый конь». Любой космонавт должен знать положение примерно 300 звезд в 88 созвездиях и находить их, даже если созвездие перевернуто так, как никогда не предстанет наблюдателю с Земли. На это уходит 45 учебных часов, а я за 2 часа научился разве что распознавать Рака в львиных зубах.
Дальше еще круче – пульт управления. Что означают все эти кнопки СЗГТ, АСУ, СУБДЮ «Чайка ВКЛ.» и за что отвечают я так и не освоил. Научился только запускать двигатель «Союза-ТМ».
Интеллектуальные нагрузки на курсах космонавтов колоссальные. Не меньшие нагрузки, но уже эмоционального плана, испытывают люди, оказавшиеся в стальной коробке жилого комплекса Международной космической станции, проплывающей в 400 км над Землей. В этом четырехметровом цилиндре диаметром примерно два метра три человека должны не только работать по жесткому графику, но и как-то сосуществовать. Неуравновешенному человеку на станцию не попасть. В Звездном я слышал, будто питерского бизнесмена Сергея Полонского в космос не пустили именно из-за неспокойного характера, а вовсе не из-за двухметрового роста. И $20 млн не помогли. Хотя на эти деньги можно подготовить не одного космонавта: обучение профессионального члена экипажа стоит примерно $500 000, а если посчитать его образование и содержание, начиная с училища, то и вовсе $1,5 млн. Но дисциплина дороже.
К этому в Звездном городке приучают сразу. Из-за неусыпного контроля космонавтов даже называют «танцующими в оковах». Моя подготовка в Звездном городке шла по строгому графику, расписанному буквально поминутно. За беседами с научными сотрудниками, лекциями и практическими занятиями я едва не пропустил испытание, которое ждал с самой большой тревогой.
Когда-то врачи вращали пресловутое кресло Барани вручную. Теперь оно имеет электропривод, отчего сходство с электрическим стулом только усилилось. Подполковник смотрит, как я вцепился в ручки кресла, с некоторым сожалением. И привычно включает мотор. Я сижу с закрытыми глазами и выполняю команды подполковника: «голову влево», «голову вправо», «голову к коленям». В результате этих нехитрых действий появляется иллюзия, что сидишь на гигантских качелях, которые раскачиваются вверх-вниз по сумасшедшей синусоидальной траектории. Черт бы их побрал... Кровь отливает от головы, начинает тошнить, а кресло все крутится. Хорошо, что не позавтракал. Теперь я вполне понимаю американцев, отказывающихся от «процедуры».
Минут через 10, после того, как перед глазами перестал вращаться пол и потолок, перехожу в ротор. Здесь все наоборот: кресло стоит на месте, зато вокруг него кружится закрытый барабан, стенки которого выкрашены чередующимися черными и белыми полосами. Мозг обманывается до такой степени, что непроизвольно дергаешься в сторону – чтобы не «занесло». «Зато, – довольно заключает подполковник. – у вас должен существенно повыситься порог переносимости больших доз алкоголя. Есть такой эффект от вестибулярных тренировок».
Пьют космонавты во время полетов или нет, в ЦКП толком не выяснишь. Одни сотрудники говорят, что в рацион включено красное вино, другие утверждают, что на орбите сухой закон. Дело, кстати, не только в том, что пьянство в космосе опасно, а в том, что аппаратура, конденсирующая воду из воздуха, якобы от паров спирта быстро приходит в негодность. А без воды на МКС никуда. Ведь от питания во всем известных тубах давно отказались – они тяжелы и легко повреждаются. Теперь вся еда сублимированная. В пакете размером с сигаретную пачку – суп. Разбавь водой – и через 10-15 минут первое готово. Второе – в обычных консервных банках. Только, в отличие от «гражданских» консервов, в названиях космических продуктов по-другому расставлены приоритеты. Не «Перловая каша с мясом», а «Мясо с перловой кашей». Чувствуете разницу? Поэтому и стоимость дневного рациона космонавта составляет $300.
Честно говоря, после кресла Барани есть совершенно не хотелось, но еду за такие деньги попробовать было просто необходимо. Вкусно. Сублимированный суп-харчо после приготовления был почти как домашний, судак в соусе «Балтика» из банки – просто замечательный.
Космонавт – профессия хорошо оплачиваемая. Может, и не так хорошо, как у американцев (хотя точные размеры их «полетных» – секрет), но все же $100 000 за полгода на станции – неплохой заработок для России. Но завидовать им не надо – многие десятилетиями ждут своего полета в дублирующих экипажах. И это ожидание – тоже испытание, которое проходят не все.
***
Но летать всегда хотелось по-настоящему. И эту мечту тоже удалось осуществить.
Вы наверняка слышали, что такое параплан. По большому счету это кусок ткани, сшитый особым образом, парашютные стропы и подвеска-сиденье, в котором, как паяц на веревочке, болтается пилот. “Тупиковый путь авиастроения”, – скажут некоторые. “Мечта летать, воплощенная в реальность”, – возразят другие. Для меня вопроса о сути парапланеризма давно не существует. Есть параплан, купленный по дешевке в Екатеринбурге, есть желание летать, не было только времени и места, откуда можно взлететь по-настоящему. В Челябинской области, где полно гор и холмов, теоретически можно стартовать хоть с вершин Таганая. Приземлиться только негде – повсюду деревья, мачты ЛЭП и прочие факторы, неблагоприятные как для тонкой ткани параплана, так и для хрупкого, в сущности, тела пилота. Выход один – искать свою Гору, которая примет тебя и станет ступенькой в небо...
Каждый год на майские праздники башкирская деревня Аскарово в часе езды от Магнитогорска становится местом паломничества летунов со всего Уральского округа. На берегу небольшой речушки вырастает палаточный лагерь, загораются костры, и местные жители делают свой немудреный бизнес, принося утром бутылки со свежим молоком. О весенних сборищах у Аскарово я знал давно, неоднократно туда приезжал, но Гора, древняя Биягода, не спешила принять. Причиной была непогода и, конечно, банальный человеческий страх. Глядя, как над Биягодой парят парапланы и дельтапланы, я дико завидовал, но взмывать на полукилометровую высоту без опыта, тем более без запасного парашюта, было опасно. Приходилось довольствоваться десятисекундными “полетами” с холмика у подножия Биягоды – нудная, но необходимая отработка последовательности движений.
Прошел еще один год, и нынешней зимой небо стало сниться. Сны были стандартными: вот я заученным движением поднимаю параплан с земли, делаю два шага и лечу над пропастью. На этом обычно все и заканчивалось, ведь мне неизвестно было, что же происходит там, где сходятся облака и вершины. Несмотря на то, что запасной парашют так и не был найден, в начале мая я все-таки поехал в Аскарово. Черт с ней, с “запаской”, самоутверждение дороже пустопорожних страхов, да и опыта за пару сезонов беготни с крылом по холмам вроде как поднабрался...
... Из Челябинска выехали втроем. Я и двое “сочувствующих” приятелей. Ехали всю ночь. И всю ночь по лобовому стеклу “девятки” скребли “дворники”. Небо обложили тучи, настроение – соответствующее. Дорога так достала, что в леске, километрах в десяти от Аскарово мы разложили палатку, выпили водки и, не раздеваясь, легли спать. Наутро та же канитель – порывистый ветер, мелкий дождь и ни малейшего намека на просвет в свинцовой хмари. В лагере летунов, куда мы приехали через полчаса, царила примерно та же атмосфера: дельтапланы, словно выброшенные на берег дельфины, лежали на земле в чехлах, а парапланы даже никто из машин и не вытаскивал, чтобы не мочить лишний раз. Делать нечего, раз пилоты и их аппараты целиком и полностью зависят от погоды и направления ветра, займемся земными проблемами. Поставили палатку, пообедали, взяли с собой пол-литра русской национальной “валюты” и пошли по кострам – знакомиться. В этот раз под Биягодой собрались челябинцы, свердловчане и магнитогорцы. Несмотря на то, что взлететь до сих пор не удалось никому, уныния не наблюдалось. Костер, гитара, сто граммов за улучшение погоды – и вот уже кто-то режется в волейбол, кто-то вспомнил старую добрую песню, а мы... Нам, можно сказать, повезло. Какой-то продвинутый парень привез с собой маунтинборд. Я до сих пор такую штуку не видел, напоминает сноуборд, только на небольших колесах и с амортизаторами. Предназначен этот экстремальный гаджет для спуска с холмов, чем мы немедленно и занялись. К ночи, когда практически вся водка ушла на обеззараживание глубоких царапин и ссадин, ветер утих. Утих и лагерь в ожидании завтрашнего утра, только у дальнего костра чей-то голос старательно выводил: “Под крылом самолета о чем-то поет...”
Ночью мне опять приснился тот же сон: рывок, два шага над пропастью и неизвестность. Так недолго и с ума сойти... Отбросив полог палатки, я увидел голубое небо, по которому резво бежали рваные облака. За ночь ветер изменил направление и стал существенно “мягче” – пора, не то упустим погоду. Выслушав от спящих приятелей массу пожеланий, я приготовил им кофе и даже ни разу не матюгнулся. Наконец мы сели в машину и медленно покатили в гору. Биягода, как большинство уральских гор, довольно полога, на машине можно добраться до седловины, соединяющей две вершины. Дальше начинается круча, одолеть которую можно только на своих двоих. Для меня этот путь был чем-то вроде ритуального восхождения на Фудзияму, этакое путешествие духа. Обстановка, надо признаться, располагала. Под ногами – подснежники четырех цветов, от ярко-желтого до глубокого фиолетового, перед глазами – нагромождения камней, сочащихся влагой, за спиной – рюкзак с парапланом. А еще за спиной четырехсотметровая глубина, и палатку нашу можно увидеть только в бинокль. Отсюда мне предстоит сделать свои два шага и уничтожить, наконец, неизвестность мучительных сновидений...
На вершине Биягоды мы основательно отдохнули, точнее, я тянул время перед главным событием сегодняшнего дня, пока на стартовую площадку не подошли двое мужиков. Познакомились, оказалось, свердловчане, летают давно и профессионально. Это, собственно, было видно невооруженным взглядом: дорогие аппараты, “запаски”, рации, приборные панели, укрепленные на бедрах.
Друг за другом свердловчане взмыли со склона Биягоды. Один резко набрал высоту и улетел так далеко, что его белое крыло стало практически неразличимо на фоне стального неба. Другой – начал ходить из стороны в сторону вдоль склона, подолгу зависая практически перед нами. Вдруг его крыло сложилось, как подброшенный платок, и аппарат начал падать. Мой лоб покрылся испариной: если в этом месте есть воздушная яма, и меня угораздит туда попасть, шансов на спасение не останется. Однако через пару секунд “пикирующий” параплан свердловчанина снова наполнился воздухом, пилот лихо поднялся до уровня старта и прокричал: “Все нормально, воздух – “ровный”, это я “сложение” отрабатывал, прикалывался!” Шутник, блин...
Ладно, действуем по инструкции. Разложил крыло на склоне и взялся за управляющие стропы, поднял параплан против ветра, сделал два шага... Вы читали это гораздо дольше, чем все произошло на самом деле, а два шага в пропасть запомнятся мне надолго. Вдох-выдох, а следующий вдох уже там, над Биягодой. Лечу, лечу, черт возьми, вопреки всему, кроме законов физики. Через секунды друзья-приятели, стоящие на горе, уже не видны, а блестки и темные пятна на равнине под тобой никак не похожи на озера и рощицы. Сравнить это ощущение не с чем. Как передать словами фугу Баха? В небе ощущается разве что беспредельное одиночество. Есть только ты, повисший на тонких стропах, и ветер, чей монотонный голос врывается в уши и леденит сердце. Ты можешь покориться ему, подставить спину и, теряя высоту, устремиться к земле. А можешь упорно разворачивать крыло против ветра, бороться с порывами, замирать, когда стихия играет тобой, как пушинкой, но подниматься выше. Кажется, я начинаю понимать Икара, который, несмотря на отцовские предупреждения, поднимался до тех пор, пока солнце не сожгло его крылья. Мне тоже было уже все равно, что будет дальше, занесет ли ветром на скалу или закрутит в смертельном штопоре. Главное – продержаться подольше на высоте, чтобы дышать воздухом, который никогда не пах землей.
Сколько это продолжалось, я не помню. Помню только, что вдруг невидимая рука стихии ослабла, параплан начал снижаться, а свойство планирующих полетов таково, что полететь по-настоящему можно только забравшись повыше, увы. После пары бесполезных попыток попасть в воздушный поток я развернулся и пошел на посадку. Земля встретила радушно – теплом и комарами. Стоя в блаженном одурении, я смотрел на Гору, позволившую, наконец, сделать мне два очень больших в жизни шага...
***
Примерно такие же чувства я испытывал и в Гималаях, и на родном Таганае, и где-нибудь в степи под звездным небом. Совершеннейший космос я обнаружил в глубинах Индийского океана, куда приехал в дайв-сафари в качестве инструктора подводного плавания. Да, у меня есть несколько специфических профессий, не связанных с журналистикой, но разговор не об этом. Начнем с того, что Мальдивы встретили нас... проливным дождем. Впрочем, при температуре воздуха + 30 это было даже приятно. Здесь всегда так. Экватор рядом, и + 30 – «рабочая» температура за бортом.
Уже в Мале выяснилось, что ужасы о строгом отношении мальдивцев к алкоголю – не шутка. На таможне у нас отобрали все бутылки со спиртным. Свинина и наркотики тоже запрещены к провозу, но у нас и не было ни того, ни другого. Мальдивы – единственная в мире страна, где ислам исповедует 100 % населения. Хотя есть у меня мысль, что таможенные запреты введены с одной лишь целью – заставить туристов покупать огненную воду в отеле или на судне. А что делать? Туризм – основной и единственный источник доходов в стране, где все, кроме рыбы и кокосов, завозится извне.
Вот и наш дом – яхта «Amba». В переводе с мальдивского значит «на здоровье!». Не совсем понятное имя для корабля, но приходится верить на слово Франко. Франко – мужик с совсем непростой судьбой. Сын итальянского мафиози, «державшего» несколько казино под Мюнхеном. По его словам, уголовные рожи папашкиных дружков и жизнь по понятиям конкретно достали. Франко уехал на Мальдивы, где вот уже пять лет фрахтует «Амбу» вместе со своей женой Николь. Однако папины гены чувствовались. На «Амбе» использовалась забавная система расчета. Каждому при посадке были выданы мешочки с 50 ракушками. 1 ракушка = 1 евро. Закончился мешочек – подходишь к Николь, служившей на корабле бухгалтером, и произносишь заветное слово «shells», расписываешься в ведомости, а в конце пути конвертируешь количество росписей в наличные. Представляете, какие счета ждали некоторых путешественников? То-то и оно. Казиношное прошлое папы Франко чувствовалось на каждом шагу. Полуторалитровая бутылка минералки (а пить солоноватую опресненную воду – удовольствие ниже среднего) стоила 2 ракушки. Банка пива 0,33 л. – 3 «шелса». С другой стороны, люди на «Амбе» собрались совсем не бедные.
Эти вот 2 ракушки за воду чуть не стали причиной серьезного конфликта: мы не понимали, с какого перепугу за воду нужно платить. Естественно, чистокровную немку Николь поначалу звали не иначе, как «наша фашистка». Недовольство выросло после первого погружения, во время которого Франко лично протестировал умения каждого (ну, это примерно как если бы в ресторане у вас спросили, умеете ли вы есть вилкой), а Николь висела на глубине метров в пять над головами группы и замечала, не ломаем ли мы драгоценные мальдивские кораллы. Кораллы и в самом деле – единственная драгоценность Мальдив. Вывезти их можно только в виде ювелирных изделий. «Привези-привези мне коралловые бусы, мне коралловые бусы из-за моря привези...» Автор песни явно был не в курсе, что более-менее симпатичные бусики тянут на 700 евро. «Низкопогружаемость» Николь открылась после того, как она вытащила из кармана дайверского жилета... мобильный телефон в водонепроницаемой упаковке. Опустись она метров на 15, сразу стала бы обладательницей самого тонкого в мире мобильника...
Команда «Амбы» состояла из черного пузатого капитана-египтянина Махмуда, десятка примерно щуплых и низкорослых мальдивцев во главе с дайв-гидами Шахимом и Йоттой. Местные поразили своим умением держаться на палубе во время шторма и тем, что для сна хватало им, по моим прикидкам, часа четыре, не больше. Им ведь приходилось кормить ораву прожорливых туристов, заправлять баллоны воздухом, менять белье, да мало ли что, заняты они были постоянно, поскольку основной их доход составляют чаевые, которые они получат в конце рейса. Местные жители с островов Kulhudhuffushi и Neykurendhoo, где мы высаживались, несмотря на то, что выглядят жутковато, вполне милые и адекватные люди. Они с удовольствием фотографировались и пытались по мере знания английского (тут с этим большие проблемы) рассказать русским, в какую сторону идти.
Вариантов, честно говоря, было немного. Тот первый остров с непроизносимым названием на «К» был, если так можно выразиться, столицей атолла Thiladhunmathee. Там есть больница и мэр, который посетил наш корабль с визитом вежливости и первым делом осведомился, есть ли на борту свободные женщины. Забавник такой! Мы как раз пропускали стаканчик виски под гитару, а этот чиновник никак не мог понять, зачем мы поем вживую, если в его мобильном телефоне есть Боб Марли.
Остров на букву «N» можно обойти минут за 15. Не знаю зачем, но пошли в джунгли. Джунгли здесь используются в качестве помойки, ибо океан – мать и отец в одном лице, стало быть, гадить нельзя. Это вам не Южные Мальдивы с развитым гостиничным бизнесом и гидами с безупречным английским. Изнанка бедной, в общем-то, страны дурно пахнет нищетой и полнейшей безнадегой. Средняя зарплата – 150 долларов в месяц, развлечения – сидение в «веранде» под пальмовыми листьями, разговоры с такими же бедняками и коллективный просмотр телевизора, потому что телевизор в доме – это непозволительная роскошь. О Мальдивах говорят: «No news, no shoes, only Maldives» – «Не нужно новостей, не нужно обуви, только Мальдивы». Это и в самом деле так. Отсутствие прессы и телевидения (есть только национальное радио), климат, снимающий вопросы о покупке зимнего комплекта одежды, и совершеннейшая незамутненность местных. Рай для хиппи. Здесь в избытке океана, рыбы, свежего воздуха (не ходите в джунгли), солнца, которое появилось через три дождливых дня и начисто сожгло наши лица, и общения, поскольку заняться мальдивцам на северном атолле особо и нечем. Чем-то они напомнили мне жителей деревень где-нибудь на Русском Севере. Но наши осуровели в борьбе с холодным морем, а эти расслаблены и даже ходят вразвалку – спешить-то некуда, жизненное пространство ограничено, а каждого жителя деревни знаешь в лицо.
В столице атолла удалось полюбоваться на сходку тамошнего полит-бомонда. Представьте: ночь, небольшая площадь в районе порта, пара сотен людей, поедающих бесплатный рис со специями (подарок от недавно выбранного президента), и здоровенный экран, с которого активные ораторы в костюмах что-то выкрикивают, указывая руками на президентский портрет. И вся эта демонстрация обсуждает сказанное с экрана. Верит, наверное, в светлое будущее. А может быть, прикидывает, сколько Мальдивам осталось находиться на поверхности Индийского океана. Тонут острова. Недавно мальдивское правительство провело первое в истории подводное заседание. Чтобы привлечь мировое сообщество к проблемам страны. И вроде бы Австралия дала добро на поэтапное переселение мальдивцев на свои необозримые просторы, но я слабо представляю этих расслабленных людей за работой...
Но хватит тратить попусту время, пора под воду. Именно из-за уникального дайвинга, а не в поисках коралловых песков и развесистых пальм мы оказались тут. Как я уже говорил, северные атоллы Мальдив – места совсем не туристические. Непуганая рыба это не то, что непуганое наземное зверье. Она не подойдет доверчиво к вам, не станет просительно заглядывать в глаза и робко брать подачку прямо из рук.
Местная подводная фауна действительно опасалась шумных пузырей воздуха из регулятора акваланга, да и вообще относилась к странным пришельцам с двумя хвостами очень настороженно. Мы точно знали, что здесь должны водиться манты – гигантские акулы, похожие на скатов. И рифовые акулы обычного акульего вида. Про всякую мелочь, живущую в кораллах, и говорить нечего. Здесь живности столько, что даже видавшие виды дайверы обращались к спецлитературе, чтобы определить, кого же они видели под водой...
После предъявления наших дайверских удостоверений – а куда без них, тут порядок строгий – мы были допущены на лодку-донью, где уже стоят собранные акваланги с полными баллонами. Несколько минут совершенно головокружительных поисков места погружения по GPS, жилет на плечи, ласты на пятки, маска на лицо, регулятор в зубы – и шагаешь с борта доньи в океан. Качка тут серьезная, поэтому стараешься побыстрее стравить воздух из жилета и погрузиться в голубую воду. Только там наступает спокойствие и тишина.
Цзынь-цзынь – дайв-гид из местных звонит в колокольчик-шейкер, подзывая к себе. Группами по несколько человек уходим с гидами на глубину. Обычно, чтобы не мешать друг другу, мы разбивались на две группы: бывалые и новички. Под водой над баллонами наших гидов Шахима и Йоты повисали привязанные за веревочку пластмассовые лимон и уточка – чтобы проще было найти их, в масках-то все одинаковые. Я выделялся по-своему. Памятуя о том, что вода в океане не должна быть холоднее 28 градусов, и для экономии веса багажа, я не взял куртку гидрокостюма, а нырял в обычной тельняшке, купленной в Челябинске за 200 рублей. Выяснилось, что это не было удачным решением. Кораллы режут руки не хуже толченого стекла, а небольшие медузы с удовольствием жалили, когда рукава тельняшки сами собой закатывались до плеч. Но об этих мелких неприятностях под водой даже не думалось.
...Плывешь по течению, и планктон падающими звездами проносится мимо твоей маски. Стаи мелкой рыбешки встают стеной и внезапно срываются с места сверкающей лентой в руках гимнастки. Гид останавливается и показывает лучом фонаря на что-то в кораллах. Подплываешь ближе и видишь мурену, притаившуюся в укрытии. Есть в ней что-то скользкое, шакалье, злое.
Я вспомнил, как в детстве напугался мурену из фильма «Пираты ХХ века». Там она удачно удерживала водолаза, пока у того не кончился воздух. На самом деле здесь, на глубине 35 метров, боятся скорее нас. Немного дальше луч фонаря упирается в нору на дне. Там притаился осьминог. Нам виден только его глаз и «ноздря». Вытащить умного зверя не представляется никакой возможности. И вообще, говорят, если бы осьминоги играли в шахматы, корона шахматного короля сейчас была бы вовсе не на поседевшей голове Гарри Каспарова... Успевай крутить головой: вот рыба-попугай, рыба-наполеон, рыба-сковородка, рыба-бабочка. Даже из названий видна вычурность конструкции их тел и психоделический окрас. Если бы Ною пришлось спасать обитателей здешних вод от засухи (представим такую обратную ситуацию), в его ковчеге места точно не хватило бы для пары каждого вида.
Ежедневно мы ныряли по три раза. В 7 утра, в 11 и в 15 часов. Конечно, за уши никто никого под воду не тянул. Не хочешь или устал – не ныряй. Я лично пропустил один дайв в первый же день, о чем бесконечно жалею. Но причина была – морская болезнь. Пришлось спасаться таблетками и остаться на более-менее стабильной «Амбе». Сама мысль о посадке на донью вызывала головокружение. Впрочем, срывов больше не было, на второй день океан успокоился, у всех с «вестибуляркой» стало нормально, а желание нырять только усилилось, ведь впереди нас ждали акулы и манта.
На третий, по-моему, «нырковый» день, мы, как обычно, погрузились с утра метров на 30. Гид повел против сильного течения к краю рифа. Стало понятно, что он ищет акул, которым чуждо ленивое барахтанье в стоячей воде над рифами. Работать ластами в режиме забега на месте трудно. Стрелка манометра на глазах двигается к 50 атмосферам, на которых по правилам уже нужно идти на всплытие. Наконец гид останавливается и жестами приглашает нас зацепиться за кораллы. Ждем. Вдруг в синей толще воды показались серые призраки. Еще минута и становится ясно – акулы. Небольшие, рифовые, метра полтора-два длиной, но грациозные, опасные и стремительные. Увидев чужаков, они принялись изучать нас на почтительном расстоянии. А может быть, просто позировали и издевались, наблюдая наши неуклюжие попытки оставаться на месте в течении. Два взмаха хвостом, и акулы растворились в глубине, куда нам путь заказан. Нам пора наверх, ведь на 30 метрах воздуха в баллоне новичку хватает всего минут на 20. Зато на следующем погружении мы увидели королеву, ради которой пролетели полмира – манту.
Естественных врагов в здешних водах у манты нет. Для акул она велика, человек на нее не охотится – слишком жесткое мясо. Ведет манта исключительно миролюбивый образ жизни, кружа над подводными возвышенностями и процеживая планктон. Исключительно привлекательное животное. Я нырял с группой «уточек» – новичков, приглядывая, чтобы не случилась нештатная ситуация. По этой причине обычно шел немного позади и выше группы, чтобы удобнее было обозревать подопечных. Когда я увидел, как Йота отчаянно машет рукой, призывая меня распластаться на дне, было уже поздно. Метрах в десяти прямо на меня шла примерно четырехметровая манта. Резко выдохнув, я начал опускаться на дно, не отрывая глаз от самого, пожалуй, красивого существа на этой планете. Манта парила, взмахивая крыльями так медленно и плавно, что совершенно загипнотизировала. Вот она уже надо мной и ее белоснежное брюхо можно достать рукой. Через долю секунды она в нескольких метрах и только легкий вихрь из планктона завивается спиралью около тебя. Наваждение прошло, и я присоединяюсь к группе, сидящей на дне. Королева возвращалась, трапезничая, кругами собирая дань с подданных.
***
Примерно такой же неожиданностью оказалась Арктика, попасть в которую немногим легче, чем полететь в космос. Но у меня получилось, за что, опять же, спасибо профессии. В Арктике я оказался, можно сказать, случайно: по электронной рассылке пришел спам, я набрал номер телефона, предложил репортаж редактору, получил командировочные – и был таков. Леня Бершидский, тогдашний главнокомандующий «Русским Ньюсвиком», слегка смущаясь, попросил: «Серега, там... Это... Короче, привези моржовый хрен». Леня был политкорректен, но я его понял.
Чтобы «Илюшину-76» пересечь атмосферу над Москвой и анадырьским аэропортом, надо восемь часов, полтора литра вина и книжку «покет-бук» формата. Еще нужны деньги и желание, потому что мероприятие по доставке двух тонн человеческих тел и разнообразного железа довольно затратно. Но интересно, надо признать. Другой мир, который недоступен простому смертному, потому что перед воротами рая стоят церберы в форме пограничников...
ЗАКУЛИСЬЕ АРКТИКИ: В ПОИСКАХ МОРЖОВОГО ХРЕНА
Знатно отоспавшись на трех креслах правого самолетного ряда, я протер глаза и глянул в иллюминатор. С высоты восьми километров Чукотка выглядит, как налоговая декларация губернатора Романа Абрамовича – такая же пестрая, блистающая озерками, реками и обширными оленьими пастбищами – полная бессмыслица. Посадка была жесткой. Ветер, гуляющий по краю континента, разворачивал «Ил» чуть ли не боком, глубокие стыки плит ВПП добавили тряски.
Примерно час после посадки в салоне самолета продолжался осмотр паспортов и разрешения на посещение приграничной зоны. Потом мы вышли. Двадцать человек из России, Америки, Франции, Голландии и Германии в унисон оглядывали мрачные чукотские просторы. Это был не Анадырь. Это был поселок Угольные копи. Аэропорт – в поселке. Город – через пролив. Анадырь даже виднелся. В дымке, стоящей над проливом, резвились белухи и прочая морская нечисть, которой тут полно. Нагрузившись рюкзаками, мы встали на пристани. Судно – я называю его судном, потому что кораблем больничную утку не назовут – скребло ржавым боком металлический уголок волнореза. Это корыто рассчитано на 18 человек, судя по надписи над капитанской рубкой. В него загрузились: 30 турков, призванных улучшить облик Анадыря, их скарб, упакованный в клетчатые китайские сумки, 20 экспедиционеров (настало время назвать повод нашей поездки – поиск останков теплохода «Челюскин»), рюкзаки, кошка (сам не понимаю, откуда она взялась), сидящая на корме чайка. Похоже, в чайке и была проблема. Шторм в Анадырьском проливе раскачивал кораблик, как тазик с хомяками. Но было здорово. Когда борт вставал перпендикулярно поверхности моря, можно было наблюдать, как внизу плавают белухи. Турки относились к происходящему безучастно, по-моему, молились. Мы хрипло орали, капитан сосал трубку.
...Анадырь производит впечатление детского сада, образцово-показательного учреждения, раскрашенного в красное, зеленое и желтое. Гигантская фигура Святого Николая встречает корабли, входящие в бухту. Николай раскинул руки, а за ним – скульптурная композиция про первых революционеров Арктики. Центральная, она же единственная пешеходная, улица должна веселить обитателей Заполярья – дома в вышеназванном колоре, и даже единственный приличный бар с собственной пивоварней цветаст до неприличия. Впрочем, в Анадыре мы пробыли недолго – ночь, обед, визит в музей. Дальше была долгая ночь, когда мы пытались перетащить вещи со старенького баркаса на ослепительно белый в свете прожектора, но отчаянно рыжий от ржавчины днем «Академик Лаврентьев». Шторм не стихал. Шины, висящие по бортам баркаса, отвратительно скрипели, соприкасаясь с гладким «Лаврентьевым». Во время пересадки я чуть не упал, и только рука нашего американского коллеги не позволила мне превратиться в фарш между бортов двух кораблей...
Следующие две недели можно вычеркнуть из памяти. «Академик Лаврентьев» – сугубо гражданское судно. Порядки – тоже гражданские. Мешало только наличие «сухого закона». После шторма, когда в течение двух дней экспедиционеры шатались, как пьяные, и прятались друг от друга в туалетах, наступило умилительное затишье. Подъем – по желанию, и если только хочешь позавтракать, отбой – когда захотел спать, а никак иначе. Кормили четырежды в день, и не кашей, а мясом и всякими морепродуктовыми вкусностями. Я больше не помню такой удачной командировки. Три недели спокойствия. Чукотское море не охвачено сотовой связью, мой карманный компьютер промок во время погрузки и сдох. Две видеокассеты и кипа журналов – вот все, что скрашивало досуг. Ну, еще курево. Однажды во время перекура меня обдал соленым фонтаном кит-горбач... Если вы спросите про море, я не отвечу. Без ориентиров Чукотское выглядит как бесконечность в мареве. Только когда мы проходили мимо мыса Дежнева, стало понятно, насколько оно необитаемо и огромно. Разрушенная метеостанция на мысу, окруженная поросшими лишайником валунами, тюленьи кости на берегу и наш корабль, традиционно снизивший ход у этого места, где-то там, на восток – Канада. Мы молчали, и молчал капитан, в нарушение распорядка пустивший гражданских на мостик...
Когда GPS показал координаты места крушения «Челюскина», под воду отправился робот. Эта желтая «торпеда» мозолила глаза, раскачиваясь на корме «Лаврентьева». Три дня мы с утра сидели в кают-компании, глядя на монитор, висящий под потолком. Море холодное, растительности и живности немного. Зато полно ила, который так и норовил подняться при каждом движении робота. Осторожно, метр за метром, видеоглаз осматривал дно в месте крушения легендарного парохода. «О, гляди, это чемодан... Смотри, это колокол...» – поле зрения камеры робота – 80 сантиметров, каждая случайная водоросль выглядит как артефакт. Когда стало ясно, что «Челюскин» мы не нашли, начальник экспедиции Леша Михайлов скомандовал: «Полный назад».
Снова Анадырь. Несколько слов для радио, пожелания успеха в следующем году. Но все-таки мы возвращались на щите...
Вот этот северный ветер, пронизывающий и перманентный, как икота, он доставал. Нес пыль, мешал взлетать самолетам. В аэропорту есть не писаное правило: ветер – избушка на клюшку. Можно неделю сидеть на полу в зале ожидания, есть просроченную колбасу и ждать, когда же за тобой прилетит хоть что-то. Удаленность Анадыря от Угольных копей тоже играет злую шутку: нельзя звякнуть по телефону, заказать такси и доехать до гостиницы. Ждали. Среди опухших от безделья пассажиров клали рюкзаки и ждали. Потом – стихло. 28 человек сели в самолет и улетели. Я и Жан остались.
Жан... Это особая тема. Вместе с ним мы избороздили в поисках моржового хрена весь необрезанный отросток материка. Нашли. Американцу Кайлу повезло, он купил штуку сантиметров в 80. Мне достался полуметровый пенис. Он у моржей, если вы не в курсе, имеет внутри хрящевую основу. Так и шли по угольнокопейским улицам – американец, ни бельмеса по-русски, я – от силы хау-ду-ю-ду. Так вот, Жан... Когда все наши улетели в Москву, а мы с ним остались, он спросил меня, где найти представителя авиакомпании. «Жан, старик, ты географически представляешь себе, где мы находимся?» – спросил я. «Конечно», – ответил Жан. Я попытался объяснить этому рафинированному европеоиду, что скандал здесь – это отсидка в СИЗО. Жан не послушался, зашел на второй этаж аэровокзала, приблизился к двери с логотипом нашей авиакомпании, дернул ручку.
«Блиать, сцука, блиать...» – неумело матерился француз. Как мог, объяснил, что Чукотка – это не Москва, а отдельный мир со своими правилами. «Пошли, выпьем», – убедил я его.
В баре были: пиво, водка, шампанское. Жан купил какое-то пойло. Пока пили, я посмотрел на его руки, обожженные тросами. На безымянном пальце притулился золотой перстень: щит, три короны, девиз. «Жан, что это?» – спросил я, указывая на перстень. «Это герб моей семьи», – ответил он. «И что?» – переспросил я. «Я – граф», – просто ответил Жан, мой одногодок, надо сказать. «Так у тебя есть шато во Франции, кони, поле для гольфа и всякая фигня???» – «Ну да...»
Я чокнулся с графом, поправил сползающий набок моржовый пенис в рюкзаке и заснул. Сон был тяжел: конь графа топтал меня копытом, а бомж на первом этаже аэровокзала пытался отнять рюкзак. Мы летели еще восемь часов. И снова «Ил-76» мотался по воздуху, как пьяный грузчик. Графа встречала «Ауди». Меня – очередь у кассы метро.
...Отоспавшись, я пришел в редакцию с замотанным в газету моржовым придатком. Леня был счастлив. Я, честно говоря, тоже.
***
Медленно, но верно мы приблизились к концу этой книжки, хотя хронологически – это самое начало моей работы в журналистике. Попал я в профессию удивительно просто. Начал подрабатывать на третьем курсе университета в крупнейшей южноуральской газете «Челябинский рабочий». Главред «Челябки» Борис Киршин одновременно был деканом отделения журналистики. Похоже, у меня стало получаться писать, поскольку после защиты диплома Киршин предложил остаться в штате. Вот и все...
Итак, конец 90-х. Я веселым козликом взбегаю на четвертый этаж и открываю дверь в кабинет. Поначалу у нас в отделе информации был всего один компьютер на пятерых, но и тот вечно был занят завотделом, ведущим с машиной бесконечные шахматные баталии.
А еще не было мобильных телефонов, и можно было убить день, пытаясь дозвониться до пресс-секретаря УВД города. Зато мы курили прямо в кабинете (это же картину писать можно: сигарета в зубах направлена в потолок, один глаз прищурен от попавшего в него табачного дыма, голова задрана, второй глаз косит на желтый лист плохой бумаги, а он судорожно корчится под ударами литер).
Работали мы с огоньком. Мнение областной газеты имело такой вес, что после критической статьи можно было рассчитывать на ту самую защиту слабых от сильных, о которой я упомянул в начале. Ну, или на расширенное заседание какого-нибудь райсовета с пропесочиванием упомянутых в статье чиновников.
Социальной своей ролью мы гордились, и работу делали тщательно. Что уж скрывать, выпивали на работе постоянно. Это было в порядке вещей, как курение в кабинете, и нисколько не мешало выполнению поставленной задачи. Четвертый этаж – это скопище отделов, да, в те времена никто не слышал о проклятых «ньюсрум», в которых нынче располагаются почти все редакции.
Ну ладно, прошла планерка, день расписан, оперативные службы обзвонены, пора подумать о душе. Пятый этаж, эмпиреи, обитель богов и начальства и секретариат.
В секретариате дым коромыслом. Два секретаря Олег и Антон, вооружившись строкомерами, рисуют очередной номер «Челябинского рабочего». На балконе девятиэтажки напротив резвятся обнаженные барышни. Это они сделали надпись мелом на бетоне: «Антон, we loves you!» Секретариат – это... Трудно сказать. Сейчас, в компьютерную эпоху глупо чертить газетную полосу линейкой, на которой вместо сантиметров написаны гарнитуры шрифтов. Нужная штука. Вы когда-нибудь пили водку по строкомеру? «А накапайте мне сто строк петитом...» – берется стальная линейка-строкомер, приставляется к стакану, отмеряется напиток. Антон Лапин и Олег Лабастов (главреды серьезных изданий сегодня) в этом плане были утонченные перфекционисты: напиток должен быть холодным, дозы должны быть равными.
Но тогда газеты рисовались не компьютером, а руками и линейкой, и секретариат ежедневно засиживался допоздна. В ожидании полос сочинялись песни, игралась «тыща», пилась водка под изысканную закуску, писались в толстых бухгалтерских книгах дневники посиделок. Так вот, надпись на балконе появилась во время взлета секретариатской группы «Пятая власть». Поклонниц тогда у них было множество. И неудивительно: на фоне юр шатуновых и прочих «миражей» из окошка любого ларька «Пятая власть» играла драйвовый и свежий рок-н-ролл. Сочинялся он в прокуренном секретариате между поисками квадратных сантиметров для некролога, который должен стоять на последней полосе, и стопарем водки, уже на полосе этой стоящим. А завтра... «А завтра с утра мы пойдем на Труда!» – оптимистично сообщалось в одной из песен «Пятой власти». На улице Труда, в тополиной роще недалеко от Дома печати располагался пивной ларек – душевная пристань и лекарь, возвращающий Музу к жизни.
Мда... И вот в один из тихих дней в кабинет отдела информации зашел бравый парень в армейской шинели. Он как-то подозрительно интимно поздоровался со всеми и подошел ко мне. Познакомились. Роман Грибанов работал в «Челябке» до меня, а потом ушел в армию. Сейчас вернулся и вполне обоснованно претендует на запись в трудовой книжке. Я загрустил, увидев соперника. Однако мы моментально подружились и начали писать репортажи вдвоем – явление настолько редкое, насколько странное. Мы ведь были абсолютно разными. Рома ненавидел томатный сок, который я очень любил, а я не благоволил к джазу, до которого Грибанов был большой охотник. Но не в этом дело. Наш творческий тандем объездил всю область, написал кучу социальных репортажей. Все их приводить нет смысла. Вот – два, самых удачных, пожалуй. Удачных еще и в том плане, что они не привязаны к моменту или ситуации. А еще возвращают нас с вами на милый моему сердцу Южный Урал. И – нисколько не кривлю душой – имеют вполне осязаемую этнографическую ценность.
ДВОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ ВОДКИ
Река для каждого своя
Лодка поднялась туго надутыми бортами над береговой осокой. Еще по пути к реке, когда «резинка» представляла собой увесистый сверток, мы решили окрестить ее «Авантюрой». Мысль проплыть по городскому Миассу на таком ненадежном суденышке не представлялась здравой даже нам самим...
Стопка водки (не долбить же по резиновым бокам традиционной бутылкой шампанского) полилась на "нос" челнока, и бывшая "Уфимка-2" стала живым воплощением музы дальних странствий. Первые гребки показали, что, несмотря на свою тихоходность, "Авантюра" удивительно вертлява. Лавируя между зарослями тростника, мы вышли на "большую воду". После одного из островков, метрах в трехстах от Шершневской плотины, река несколько раздается вширь и становится удобной для промысловой ловли головастиков. Этим и занимаются утки, чайки и немногочисленные рыбаки, с надеждой глядящие на непоколебимый поплавок. Вообще-то здесь, посреди заросшей водной глади, не так уж и плохо. Вода так прозрачна, что видно дно. Впрочем, попробуй не рассмотреть дно, если глубина сантиметров 15. Пришлось выходить из лодки (волны гладят лодыжки) и тащить "Авантюру" на себе. Уф, вроде мель преодолена. Знай мы, сколько еще придется тянуть за веревку наше резиноизделие, шуршащее брюхом по илистому дну... Взаимоотношения города и реки потребительские. По берегу, над которым высятся одинаковые бетонные десятиэтажки, лежат окрестные жители, обгорающие на тридцатиградусной жаре. Они лениво поводят очами и переворачиваются боками к светилу. Мы продолжаем плыть, поднимая пух плакучей ивы, которой вдоль берегов множество. Вода, откровенно говоря, грязновата, но ничего, купаться можно. Так, по крайней мере, говорят экологи.
Основная проблема Миасса в черте города – это ил. Особенно в тех местах, где нет течения. Проводились эксперименты по заселению речки какой-нибудь прожорливой рыбой, которая взяла бы на себя ответственность за поедание донных отложений. Наиболее перспективным казался толстолобик, но упрямая рыбешка не пожелала жить в миасской водичке и сгинула особь за особью. А челябинцы просто непотопляемые какие-то...
Все-таки по интересным местам проложил свое русло Миасс. Налево посмотришь – город пылит, направо – окраина городского бора. Так хочется причалить к тенистому правому берегу, но нетерпение гонит вперед. Как оказалось, зря. Впереди уже маячила плотинка Старого моста, а мы все еще безмятежно оглядывали окрестности. Камыши метрах в ста от почерневшей металлической конструкции подступили внезапно – причалить негде, а шум воды слышен уже так явственно, что вспомнилось: высота плотины Старого моста примерно метра полтора, каскады воды, такие удобные для установки рыбацких "морд", никак не подходят, чтобы галопировать по ним на резиновой лодке. Пытаемся выгрести, но тщетно. "Авантюра" грозит сменить имя на "Титаник". Народ на мосту безучастно следит за нашими потугами. Одинокий рыбак, твердо стоящий на запаянных в сапоги ногах, с равномерностью маятника продолжает закидывать в бурлящую струю течения извивающуюся наживку... Так вот и начнешь воздавать хвалу варварам, замусорившим реку у плотинки старыми шинами, ящиками из-под молока и оборудованием игровой площадки. За эту-то полукруглую детскую лесенку, выгнувшуюся из воды, мы и схватились в момент, когда бетонные челюсти плотины жевали водяную струю перед самым носом "Авантюры". Передышка позволила выгрести из быстрины и причалить к спасительному камню у берега.
Выбираемся из лодки и поднимаемся на мост. Чудная картина предстает репортерскому глазу. Перед плотиной идет усиленная чистка ковров, и пузыри мыльной пены невероятно способствуют водным процедурам пловцов по ту сторону водораздела. Хотя таковых немного. Большинство предпочитает просто загорать. Трудно себе представить, сколько пляжей располагается по "северо-западному" берегу Миасса.
Возле мостов народу особенно много – есть на чем остановить взгляд. Вот и теперь перед гражданами отдыхающими разыгрывается представление: спуск "Авантюры" на воду. Переступая через бутылочные осколки на дне, ставим лодку на бурные волны и плюхаемся внутрь. Течение немедленно подхватывает нас и начинает вертеть: Миасс показывает свой норов. Но правый берег уже не тот, что прежде: суровый и поросший соснами. Теперь он типично городской – с тополями, дарящими свою тень десятку рыбаков, почетным строем провожающих нас в дальний путь. (И все-таки не поймем, чего они здесь ловят?)
Самый заветный уголок реки в городской черте находится за хлебокомбинатом. Там до сих пор жив небольшой поселок с бревенчатыми домиками. Путь к нему лежит там, где Миасс омывает небольшой вытянутый островок, закрывающий переплетениями ив размеренное течение поселковой жизни от глаз обитателей душных квартир. Это поистине челябинская Венеция с мостками из треснувших досок, причалами и дверьми из штакетника, ведущими от реки в тенистые садики.
Наше идиллическое настроение нарушает мужик, бредущий по икры в воде поперек тихого Миасса и оглашающий окрестности не вполне венецианской лексикой. Пожалуй, наибольшую пользу река приносит именно поселковым жителям. Им пляжи ни к чему, их отношение к Миассу вполне утилитарно. В конце протоки видна сеть, в которой запуталось несколько рыбешек – на уху хватит. Признаться, сеть доставила хлопоты и нам, и местным жителям. Мы выполнили ряд акробатических этюдов, и "Авантюра" проскочила сеть, не сорвав ее с колышков, а угрюмо наблюдавшие за нашими манипуляциями хозяева снасти немедленно поплыли удостовериться в целостности улова...
Чрезвычайно красив Миасс у Нового моста. Бетонные быки изящно несут дорожное полотно, откуда нам уже салютуют пассажиры автобусов. Здесь расположен самый крупный пляж. Крупный настолько, что трава на берегу просто вытоптана до серой земли.
Новый мост, на наш взгляд, наиболее оригинально спроектированное сооружение на Миассе. В его прохладную тень ведут прохожих четыре лестницы, а там... Группа разомлевших товарищей только-только закончила мыть авто. Мальчик в мятой панамке знакомится с граффити на стенах. "Авантюра", ни разу не прошуршав по дну днищем, величественно проплывает мимо.
За мостом течение вновь набирает силу. Лодку несет по извилистому руслу, исчезающему в сплошной стене зелени. Здесь обитают другие люди, для которых река стала убежищем. Простые граждане редко добираются сюда – преодолеть джунгли за Новым мостом решаются только утки. За ними и охотятся бродяги, выстроившие шалашики среди переплетенных кустов. Нехитрый быт, нехитрая жизнь... Из гнутого чайника торчат утиные ноги. Дым костра, запутавшийся под полиэтиленовой "крышей", не виден даже вблизи. В костре шурудит палкой обнаженный по пояс мужик. Еще один, в пятнистом от грязи пиджаке, ведет беседу с несколько распухшей дамой, глотающей портвейн. Таких жилищ вдоль берега мы насчитали пять. Осенью исчезнут, как утки...
Тишайшая река выносит нас к бетонной дамбе. Узкое отверстие в ней призвано ускорить течение. Это единственный путь борьбы с илом – река сама очистит себя. В 1993-1994 годах планировалось строительство нескольких дамб, но никто не предполагал, что Миасс так обмелеет. Положение значительно улучшилось бы, будь насыпано препятствие под мостом на улице Кирова. На осуществление этого проекта не хватает ни денег, ни воды в Шершнях. Хорошо хоть устранены последствия аварии ливневой канализации возле геологического музея. Помните, как из дыр в обетоненное ложе Миасса стекало грязное нечто? Сегодня и поток поуже и нечто пожиже.
...Мало кто знает, что быки главного городского моста стоят на насыпях, где свободно может разместиться на пикник целая компания. При условии, правда, что доберется она туда на лодке. Остатки подобного пиршества валяются там до сих пор. Там же видны костровища и списки участников пикника на стенах. Мы тоже порядком оголодали. Выйдя из-под моста, "Авантюра" еле ползет по самой широкой (а, следовательно, самой медленной) части реки. Эту часть Миасса гости Челябинска видят на веселых открытках. И вправду, есть на что посмотреть: торговый центр, Дворец спорта, театры, проспекты, бульвары. В этом эпицентре людского внимания мы и решили пообедать. "Авантюру" пришвартовали к трубе, торчащей посреди водной глади (остаткам фонтана, бившего в лучшие времена метров на 50), развязали вещмешки и достали... Впрочем, какая разница, что мы там достали.
Приключения продолжаются…
Широкий замах веслом – и наша «Авантюра» вновь пускается в путь, рассекая грязные волны Миасса. Справа по борту распласталась на воде какая-то размокшая, но еще не утонувшая газета. «Челябка», «Вечерка», «Ва-Банк» – из-за налипшей грязи названия уже не разобрать. А вот если бы мы выловили из воды тридцатый номер «Оренбургских губернских ведомостей» за 1863 год, то имели бы возможность прочесть очерк учителя челябинского приходского училища Александра Орлова. Краевед пишет о родном городе, и абзац, посвященный Миассу, чуден в своей наивности:
"... Вода в Миассе прекрасная, употребляется исключительно жителями в питье, несмотря на то, что на дворах у всякого почти домохозяина устроены колодцы, из которых вода употребляется для домашней скотины или для несчастных случаев. Колодезная вода по свойству своему не может сравниться приятностию и мягкостию с водой миасской". Эх, хорошо жили челябинцы 135 лет назад! Впрочем, воду из Миасса запросто пили и в начале нынешнего века, вплоть до постройки городского водопровода. Мы в 1998 году вот так вот взять и хлебнуть миасской водицы не решаемся, смелости хватает только пополоскать руки, и то кажется, что на них остался мерзкий жирный осадок. Ужасно!
Разогнать экологическую тоску помогли стоящие на мосту по улице Кирова девчонки. Они прижались к чугунной оградке моста, удивленно взирают на нас и весело машут руками. Орлов ничего не писал про местных представительниц прекрасного пола, а зря, с 1863 года они, в отличие от миасской воды, изменились только в лучшую сторону. Ветер развевает у девиц короткие юбки, смотреть на эту картину снизу вверх чрезвычайно интересно, и мы слегка притормаживаем веслами.
– Плывем с нами, девчонки!
– Хи-хи-хи, – и упорхнули.
После Кировского моста Миасс разливается особенно широко. Между цирком на одном берегу и филармонией на другом – несколько сотен метров. Глубины, однако, нет, по днищу нашей "пироги" постоянно шуршат густые водоросли. Этот неповторимый шелест, плеск весел, далекий перезвон проезжающих по мосту трамваев придает безлюдным берегам некую таинственность.
В районе цирка Миасс делает резкий поворот на север. Жилых домов здесь практически нет: слева – густая тополиная роща, справа – завод оргстекла. Однако кое-какие люди к реке все же выходят.
Недалеко от заводского корпуса мы замечаем сидящих прямо у воды двух подростков. Вот они – челябинские Гек Фин и Том Сойер, сбежали от родителей на Миасс поиграть в пиратов или индейцев. При ближайшем рассмотрении, однако, романтический ореол загорелых пацанов рассеивается. В руках у них – полиэтиленовые пакеты, ребята жадно прижимают их к губам, делают судорожные вдохи и в нашу сторону даже не смотрят. То есть, может, и смотрят, но что они видят своим затуманенным ацетоном или клеем взглядом?
Резко отгребаем к левому тополиному берегу и вновь встречаем двух юных аборигенов. Они, похоже, тоже нанюхались клея и барахтаются в грязной воде, как бешеные. Глубина у берега – воробью по колено, ткнешь веслом в густой вонючий ил – и на поверхность тяжело поднимаются радужные бензиновые кольца. А пацанам хоть бы что. Один из них даже ныряет с разбега, и на несколько секунд свинцовые волны смыкаются над его стриженой головой. Весь в разводах грязи, ребенок вскоре выныривает, держа в руках неизвестно где добытую автомобильную покрышку. Может, там труба проходит рядом или открыт какой-нибудь канализационный колодец?
Наконец, юнцы увидели нашу "Авантюру" и явно неприятно удивляются тем, что их заметили. Один подросток вытаскивает автопокрышку на берег, а второй вдруг резко гребет к нашей лодке. Быстро плавает абориген, расстояние между нами стремительно сокращается. Что это он замыслил? Глаза у пацана широко раскрыты, рот ощерен в какой-то хищной улыбке, плывет и молчит. Почему-то становится страшно, и мы пытаемся завести с миасским туземцем мирный разговор.
– Ну как водичка, мальчик?
Молчит.
– А ты хорошо плаваешь, мальчик, молодец!
Молчит.
– Мальчик, а веслом по башке хочешь?
Молчит, загребает быстрее и скалит зубы с таким видом, будто готов впиться в резиновый борт нашей "Авантюры". Ну его, этого туземца. Резко работаем веслами и вновь оказываемся у правого берега.
У бассейна "Электрометаллург" густо разросшиеся тополя и ивы спускаются к самой воде. Местность здесь тоже довольно безлюдная. Видимо, по этой причине лужайку за бассейном облюбовали местные нудисты. Среди ив и кустов акации распластались голые тела. Мужчин не видно, загорают лишь абсолютно нагие девушки. Две из них, видимо, только пришли и, ничуть нас не смущаясь, спокойно раздеваются. Стрип-пляж какой-то! Естественно, подгребаем ближе, но нашу попытку десантироваться на берег всего за несколько метров останавливает грозный окрик какой-то голой мегеры.
– Ну чо надо?!
– Вы не подскажете, как проплыть в библиотеку?
Нудистки хохочут, шутка явно понравилась. Мегера успокаивается, а остальные призывно машут руками. Ну, уж дудки! Хватит болтаться между берегами. Курс на середину Миасса.
На шестой час нашего героического плавания мы пересекли пятый по счету мост, проплыли под проспектом Победы и приблизились к Университетскому острову. Потери – сломанная уключина, утонувший чехол для весел и сильные ожоги всего тела, солнце-то палило нещадно. Ввиду вышеперечисленного и начавшейся грозы заплыв решено было прекратить. Прежде чем высадиться в подходящей бухте, мы бросили в миасские волны щепку, вырезав на ней ножом "Ч.Р." – инициалы нашей газеты. Через несколько сотен метров ее ждал ЧГРЭС, потом – безлюдная промзона, Металлургический район и дальше на север: Исеть, Тобол, Обь и, наконец, Северный Ледовитый океан. Для нее приключения продолжались...
Река Миасс хранит всех нас
Достоверных исторических сведений о Миассе, на удивление, мало. В подготовленной городским центром историко-культурного наследия энциклопедии «Дореволюционный Челябинск в слове современника» о главной водной артерии города написано от силы двадцать строк – истоки, глубины и все. А ведь раньше...
... – Мотя-а-а, Мотька-матрешка, да хватит глазеть-то тебе, побежали за тятей быстрее, он вона – пряники уже покупает, – Колька нетерпеливо дергает старшую сестру за подол. Зря, что ли, отец, усатый сотник Григорий, привез их из станицы в город. Ну не музыку же слушать. Синие тятины лампасы мелькают в торговых рядах, эх, да ну ее эту сестру. А Моте до Кольки и дела нет, ведь солнце так весело играет на начищенных медных шлемах и трубах пожарных. Духовой оркестр вольного пожарного общества считается лучшим в Челябе. Попасть на сад-остров и не послушать его. И не нужно ей торопливо грызть продающиеся рядом в палатке медовые пряники. Вон ведь взрослые дамы так не делают. Укрываясь от солнца изящными зонтиками, они чинно ходят под руку с хорошо одетыми кавалерами. Или на лодках с ними катаются.
– Осторожнее, Алена Никитична, не поскользнитесь, здесь на мостках скользко. Держитесь за весло.
– Да что вы, господин советник, я, право, и не желаю на лодке. Давайте лучше в электротеатр сходим. И еще я хочу посмотреть на вашу игру в биллиардной, весь клуб говорит о вашем пари с господином поручиком из Инсарского полка. – Хорошо, сегодня ведь "Фантомаса" показывают, в двух частях дают, говорят, прямо из Парижа картину привезли. Но только обещайте, что мы с вами после биллиарда поужинаем здесь же, в "России", и останемся вечером на фейерверк смотреть.
– Ах, вы так любезны..."
Все это было, было. Сад-остров – так назывался в начале века остров на Миассе, расположенный у нынешнего цирка. Отцы возили туда по праздникам из соседних станиц молодых казачат послушать оркестр, посмотреть, что это за новомодная штука – электротеатр, купить в торговых рядах вкусных коврижек. С 1911 года на острове действовал "новый клуб", его члены имели право бесплатного прохода, а все остальные, чтобы вечером попасть к ресторану, лодочной станции и биллиардной, покупали билеты. И остров процветал, еще бы, рядом – здание городской управы (ныне трамвайно-троллейбусное управление), центральные улицы Челябинска, красивые купеческие дома, их обитатели очень любили попить на острове чайку или лимонада.
Прошло 90 лет. Во время нашего плавания мы обнаружили на острове двух упившихся пивом грязных мужичков, собачий труп в прибрежных кустах, остатки каких-то металлических детских горок и лестниц. Как часто нам приходилось восклицать сентиментальное: "А вот раньше!" А вот раньше по берегам Миасса гуляли дамы под зонтиками, а не нюхали клей подростки. А вот раньше (умрите, рыбаки!) в Миассе водился таймень! А вот раньше по Миассу плавали не только чудаки-журналисты в резиновой лодке, а ходил настоящий катер. А вот раньше не шуршали по днищу лодок густые водоросли.
В 1888 году, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, река так разлилась, что снесла мост, и между заречной и центральной частью города пешеходное сообщение было прервано. На Хлебной площади (район кинотеатра "Родина") разбушевавшаяся вода разрушила немало хлебных лавок, миасские волны наводнили Азиатскую (Елькина), Ивановскую (Труда), Оренбургскую (Васенко) улицы. Старые жители Заречья помнят и наводнение конца сороковых годов века нынешнего, когда по улице Кирова плавали коровы и свиньи, а на все это водное безобразие с ужасом взирали пленные немцы, строящие кинотеатр "Родина". Раньше...
Да кому нужно это "раньше"?! Из десяти опрошенных нами челябинцев ни один (!) не смог ответить, что же означает название реки, которую каждый из них видит практически ежедневно. Объясняем. По одной версии, это – слияние двух тюркских слов "мийя" – топь, болото и "су" – вода. Следовательно, Миасс – "река, вода, вытекающая из болотистых, топких мест". По другой, "Мияз" – это всего лишь тюркское мужское имя, которым и была окрещена речка. Есть и дотюркская версия, по ней Миасс – название еще более древнее, доставшееся нам от тех народов, обитавших в этих местах задолго до башкир. Арии? Ведь "сыны неба" как раз жили на Южном Урале. Неизвестно. Да и ни к чему углубляться в столь доисторические дебри.
В конце двадцатого века мы еще можем найти воспоминания о Миассе с садом-островом, питьевой водой и тайменем в волнах. О чем мы расскажем своим детям? О прибрежных токсикоманах, утонувших и гниющих среди коряг псах, о бензиновых разводах?
«И ОТСЮДА МНОГО БЛИЖЕ ДО БЕРЛИНА И ПАРИЖА...»
Купали когда-то и в Сене коней…
Фершампенуаз – единственный поселок, куда мы попали вполне официальным рейсовым автобусом. Наверное, оттого, что это – административная столица Нагайбакского района. В принципе ничего особого: асфальт, магазины, галки на деревьях кричат, люди ходят. Живут здесь в основном нагайбаки, народность есть такая, крещеные татары, ранее проживавшие где-то между Уфой и Казанью. Их появлению на Южном Урале поспособствовала императрица Анна Иоановна. Государыне стрельнуло в голову обратить нагайбаков в казачье сословие и поселить их на беспокойной границе Российской империи. Вряд ли нагайбаки были довольны таким решением, но взялись служить России верой и правдой. Доблестных воинов с удовольствием брали в заграничные походы русские полководцы. В память о европейских победах казачьи посты стали получать такие экзотические названия. Рубили уральские казачки головы польских панов и свидетельство тому – поселки Варшавка и Остроленка. Опираясь на нагайбакские пики, Суворов раздолбал наполеоновских генералов в Италии, и на Южном Урале появилась станица Требия. Особенно удачно наши воины действовали в Отечественную войну 1812 года. Начали от стен Кремля, сражались с противником при Фершампенуазе и Арси, а затем напоили своих усталых коней из фонтанов самого Парижа. И Париж, и Фершампенуаз, и Арси, и вдобавок немецкий Кассель (там тоже кого-то победили) есть на карте современного Нагайбакского района.
Все эти глубокие и заражающие чувством здорового патриотизма сведения мы получили в фершампенуазском (боже мой, язык сломаешь!) краеведческом музее. Его основатель и первый директор Алексей Михайлович Маметьев поведал нам и о нынешних, сугубо гражданских успехах района и его столицы. Нагайбакам есть чем гордиться: в районе работает золотой прииск, здесь добывают вольфрамовую руду и горный хрусталь, занимаются сельским хозяйством. В самом Фершампенуазе есть библиотека, Дом культуры, а в картинной галерее (!) даже открылась персональная выставка местного художника Хузина. Сам музей успешно функционирует с 1985 года, хотя первые восемь лет Алексей Михайлович директорствовал на общественных началах. Да и сейчас последняя зарплата была аж три месяца назад. "Неважно, – машет руками Маметьев, – у нас во всем селе так, люди в основном своим хозяйством живут. Зато в нашем музее за 13 лет побывали делегации Финляндии и Китая, сюда заходили работавшие в районе геологи из Испании. Были и французы, – победно восклицает Алексей Михайлович, – они-то и подтвердили, что Париж помнит, как наши казаки, действительно, поили в фонтанах своих коней и купали их в Сене, это не легенда, а исторический факт!" Серьезный человек – Маметьев, все проверит.
Выходить из уютного храма истории не хотелось. Пронзительный ветер с дождем позволил нам лишь совершить короткую перебежку от магазина "Новый Фершампенуаз" (пластиковые двери, евродизайн, черкизовская колбаса) до магазина "У Степаныча" (небольшой сарай, троицкий майонез, девять сортов водки). Степаныч, казавшийся нам почему-то главой фершампенуазской (Боже мой!) мафии, по словам продавщицы, оказался очень хорошим человеком, в прошлом простым шофером Николаем Степановичем Любимовым. В лихие годы зари капитализма он начал свое дело, открыл в поселке сеть своих магазинов и взял себе зловещую кличку "Степаныч". Еще в Фершампенуазе есть свое телевидение (строят даже телевышку, видимо, собираются расширять вещание) и пельменная с вежливыми поварами и отличными пельменями. Только нам уже грезились устрицы и бутылки с "Шабли". Наша дорога лежала в Париж, второе после Фершампенуаза село Нагайбакского района.
Увидеть Париж – и умереть
На автовокзале в Фершампенуазе чья-то голова из окошечка кассы бодро доложила, что ближайший автобус до Парижа будет... через четыре дня. На вокзальной стене ехидно ухмылялись обнаженные красотки с наклеенных в ряд жвачных этикеток. Одну из них звали Натаха, так, во всяком случае, гласила выведенная маркером там же на стенке жирная надпись. Но нам-то нужна была Натали. И мы решились на автостоп.
Три с половиной часа брели по трассе, наслаждаясь романтикой дальних странствий и матерно проклиная штормовой ветер с мокрым снегом. Умереть, не увидев Парижа, нам не позволил водитель старенького "Москвича" Виктор Морев. Однако и в легковушке опасность для жизни не уменьшилась, "412-й" так подпрыгивал на дорожных ухабах, что, казалось, вот-вот развалится. "Да что там их ралли Париж – Даккар, – усмехается Виктор, – попробовали бы они нашу автогонку Париж – 108-й километр, вообще никто до финиша не доедет"! Примерно через час тряской езды "Москвич" тормознул у парижского поворота.
О, что за чудеса открылись нашему взору! С Елисейских навозных полей доносился здоровый аромат удобрений, вдали виднелась водонапорная Эйфелева башня. Парижанка, одетая в элегантный ватник и изящные резиновые сапоги, ткнула вилами в воздух, показав нам, где находится местный музей. Не зря говорят, что нагайбаки помнят предков до седьмого колена. Село небольшое, а с музеем. По словам его директора Зои Семеновны Алексеевой, раньше здесь была школа, а в далекую гражданскую войну этот просторный дом выбрал себе под штаб Василий Блюхер. С музейного крыльца красный командир выступал на сельском митинге. Представляете картину: "Дорогие парижане и парижанки ..." – так, наверное, будущий первый советский маршал начал свою речь.
Однако довольно истории. Отойдя от музея, мы вскоре остановили парижского извозчика. Вячеслав Тюнькин, управлявший рыжей кобылкой, рассказывал о своей нелегкой парижской доле, но телегу без рессор так трясло, что слов было не разобрать. Зато сразу же обнаружилось главное сходство наших парижан и зарубежных. Как истинные французы, в названии своего села коренные жители ставят ударение только на последний слог. В речи нашего извозчика не было грассирования, зато четко слышалось: "До Парижа сейчас автобусы не ходят, давно уж отменили...", или "В Париже люди зарплату третий год не получают, вот какая штука..."
Кстати, факт насчет зарплаты подтвердил глава сельской администрации Василий Тоймурзин. В кабинете у парижского мэра уютно – сейф, стулья неновые, телефон без всяких электронных наворотов, на стене – портрет Ленина. Коренной парижанин, Василий Никандрович прост в обращении.
– Никакой записи на прием у меня нет, когда я на месте – люди приходят, и я с ними разговариваю. Только что вот одна бабуся заходила, жаловалась на внучку, мол, плохо кормит старую. Надо разобраться. В общем, проблем хватает, уголь еще нужно завезти, деньги на бензин достать. В совхозе-то люди несколько лет денег не получали, им зарплату все больше кормами выдают или продуктами. Много безработных, конечно, пьяных, но за порядком у нас участковый милиционер смотрит. Драки бывают по пьянке, скот воруют, а так ничего, в Париже жить можно.
– А не смеются над вами, парижанами, люди из других городов?
– А что смеяться? Ну, Париж, и что? Правда, вот, приезжали к нам московские журналисты с НТВ. Мы их встретили, нашим фирменным парижским блюдом угостили – перемолотой и смешанной с маслом и сахаром вишней. А они потом сказали в своем эфире, что парижане до того обнищали, что дома топят дровами из вишни. Ну, какие из вишни дрова? Все ведь москвичи переврут! Да, трудно у нас, но лично я вне Парижа себя и не представляю. Хорошо здесь: родник, бор неподалеку, охота, рыбалка, воздух...
Уральская память о «битве народов»
В отличие от французской, немецкая «диаспора» слабо развита в нашем крае. Есть в ее жителях что-то от гоголевских мужичков, лениво рассуждающих (применительно к местной экзотике), докатится ли шар перекати-поле, к примеру, до Парижу. Докатится, и еще как. Расстояние небольшое, а вокруг степи, степи без конца и края. И, разумеется, безо всякой надежды поймать попутку. Но в этом нам еще предстояло убедиться. Пока же заспанные и ошалевшие от поездной тряски мы выскакивали на перрон станции Саломат. Отсюда, судя по карте десятилетней давности, до Лейпцига на автобусе – рукой подать.
...Обшарпанное здание вокзала с аршинными буквами. Выбитые окна в глаза бросились не сразу. Надежда купить билеты угасла вместе с лучом солнца, не проникающим в темень, где в интимном беспорядке арматура и какие-то шланги обнимались с газовыми баллонами.
– Здесь давно вокзала нет, – заявил хмурый мужик в оранжевой путейской куртке. – Если вам в Лейпциг – бегите за угол. Там один вроде собирался.
Мужик открыл доселе незамеченную нами дверь и растворился в табачных клубах подсобки.
Старенький "Жигуленок" добросовестно отмахал километров шесть от вокзального "угла" до дорожной развилки.
– Вы по мосту идите. По воде не надо, – напутствовал водила.
Степной ветер пахнул в лицо запахом навоза, покоившегося в кювете, и отнес синеватое облачко выхлопных газов к почерневшим бревенчатым домикам. Бывший форпост N 29 не сильно изменился с екатерининских времен. Названный в честь "битвы народов" под Лейпцигом, он еще помнил битвы за урожай во имя центнеров с гектара. Но гладкий асфальт уже забыл, когда последний раз его ухабили комбайны. На подвесном мосту, наверное, снимали очередную серию "Индианы Джонса" – явный перебор полуметровых провалов и жалобно попискивающие доски. Перемахнув через реку, мы побрели по главной улице. Через минуту она вывела нас к церковным куполам.
...Кривой Иван, известный своей силой всей станице, покряхтывая, тянул веревку, перекинутую через балку колокольни. Медный колокол, высунув язык, упорно лез вверх.
– Новгородскую работу сразу видать. Ишь, как на солнце играет, – заметил, довольно подкручивая ус, старый есаул из Ставрополья.
– Погоди, ужо запоет. Ох, пресвятые угодники, – торопливо поддакнул дьячок, не отрывая глаз от окна под церковной маковкой. Тюкали топоры, и шестилетний Санька в который раз тайком старался снять со стены батину шашку...
Так было. Стояло лето 1874 года. С тех пор церковь Казанской Богоматери горела дважды. Дважды строилась заново. Теперь не глядят новгородские колокола из верхотурного окна. Остов церкви лишь скрипит ребрами на безбожном степном суховее.
С 1900 года население Лейпцига выросло на 80 человек. Не осталось и следа от 10 ветряков, богатых дворов белопахотных казаков, для которых строевой лес возили аж из войсковых дач Джабык-Карагайского и Аннинского боров.
Остались обычные проблемы умирающего села: уровень смертности, превышающий уровень рождаемости, отсутствие отопления, покинутые дома. Осколки былой роскоши – грандиозные кубы сельмагов – стиснуты слежавшимся снегом, оттеняющим пустоту павильонов...
Но осталось и так же слепило глаза прозрачное небо по пути назад. Отойдя пару километров от села, мы упали на выметенный ветром и согретый солнцем асфальт и выпили по стакану вина. Пусть не за будущее, так хотя бы за прошлое.
Еще один штурм Берлина
Нетрудно было предположить, что до Берлина добираться также придется пешком. Бывшие колхозы давно смирились с сокращением автобусных маршрутов. На подхвате – чтобы срочно добраться из поселка до райцентра – всегда есть какой-нибудь плохонький ПАЗик. О нашем появлении никто не знал, поэтому с 9 утра мы мокли под дождем на Чкаловском повороте в 16 километрах от Берлина. Туда доставил нас из Троицка попутный автобус. Но самое забавное, что многие жители города даже не подозревали о существовании где-то неподалеку населенных пунктов с такими мудреными именами. Высыпав перед троицкой продавщицей горсть мелочи, любезно пояснили, что такое количество презренного металла ссудила нам ее лейпцигская коллега. «У немцев что, наши деньги тоже в ходу?» – изумилась та. Пришлось объяснять. Об этом случае мы со смехом вспоминали, пытаясь приободриться перед четырехчасовым переходом. Не исключено, что запасы юмора очень скоро иссякли бы, но тут, шерканув шинами по обочине, перед нами гостеприимно открыла двери лаковая иномарка.
Виляя на машине по поселковым улочкам, нельзя было не заметить, что дела в Берлине идут неожиданно хорошо. В этом году форпосту N 32 исполняется 155 лет. Казаки из Оренбургского войска, участвовавшие в 7-летней войне, не зря дали своему поселению имя завоеванной германской твердыни. Берлин прочно стоит на ногах. Сохранились даже три дома первопоселенцев. Теперь – обложенные кирпичом.
Впрочем, о благосостоянии Берлина лучше скажут негромкие факты. Численность поголовья скота с 1990 года не изменилась. Зарплату работники сельхозпредприятия не получали всего три месяца против трех лет невыплат в поселках поюжнее. Население медленно, но все-таки обновляется. Возвращаются в совхоз молодые. Две трети жителей Берлина имеют собственные машины. Это действительно не роскошь в оторванном от дорог поселке.
Увы, в Берлине, как и в Лейпциге, нет музея "боевой славы". "Французы" в этом отношении оказались более щепетильными, чем "немцы". Зато на годовщину основания родного поселка ожидается всеобщее гулянье. Не забывают и стариков. 14 апреля отпраздновали день рождения старейшей жительницы Марии Алексеевой. И то сказать дата – 100 лет. Бабушка Маша помнит и церковно-приходскую школу, простоявшую 120 годков, и церковь, в которой, как водится, в 20-е располагался сельский клуб. Недавно обветшалое здание раскатали по бревнышку. Лиственничные бревна пригодились и сегодня – не гниют, хоть в воду клади.
Много было достопримечательностей вокруг Берлина. Один Берлинский заповедник чего стоил. Дендрариум, высаженный работниками Пермского университета, собрал в себе все экземпляры флоры СССР. Сегодня он разорен, но пирамидальные тополя, перенесенные из него, до сих пор украшают берлинские аллеи. Берлинское месторождение белой глины было единственным в Союзе. После раздела страны на него стали претендовать казахские власти. Получилось так, что карьер "Огнеупорный" принадлежит Магнитогорскому металлургическому, а клин земли, на котором он расположен, – земля Казахстана.
Выкручивая руль видавшей виды "Нивы", руководитель СХП Василий Писаревский то и дело говорил: "Вот казахский клин, а вот наш..." Посмотрите на карту. Два государства действительно срослись клиньями. До Берлина и не добраться, не проехав по территории соседней страны. Чего же делим?
Недавно приезжал в Берлин архитектор, проектировавший здание тамошней средней школы. Немец, "обменник" из дружественной ГДР. От него-то и узнали, что во всем мире есть более сотни населенных пунктов с названием Берлин. Только в бывшем Союзе их было 13. А сколько Лейпцигов, Парижей, Варн и просто Шумаковок...
Уже на троицком вокзале, ожидая челябинскую электричку, мы откупорили заветную флягу и выпили вина за все наши деревеньки. Захудалые и не очень. С названиями европейских городов и родными, кондовыми именами. За будущее...
***
Сейчас мне 40. Я больше не репортерствую. Жаль, конечно, но кто знает, как повернется жизнь. Может быть, мы встретимся с тобой, читатель. Я вот тут посчитал, что в своей жизни ровно шесть раз начинал все с ноля. Буквально – с рюкзака с одеждой и в чужом жилье. И сейчас тоже – все с ноля, поскольку работаю в сфере, весьма далекой от журналистики. Но это не беда, ведь слова и истории никуда не делись – вот они.
Я уже признавался в любви профессии, теперь признаюсь в любви к тебе, читатель. 20 лет мы были вместе. Вместе летали, страдали, веселились, переживали. Мерзли, потели, пили и жили. Я с тобой не заигрывал и не просил признания, ты меня ценил по достоинству. За это тебе благодарен. И чтобы сохранить «высокий штиль» перед некоторым промежутком в наших отношениях, закончу мои «Опилки...» репортажем, которому исполнилось в 2016 году 17 лет. Вполне себе зрелый возраст. Дожил до него – почитай, и дальше все образуется. И у автора, и у читателя. Поэтому не буду прощаться, а только скажу: «До следующих встреч, мой дорогой...»
СВЕЧА НА ВЕТРУ
Скольким многим хотелось, чтобы русский народ потерял Веру. Обезглавленные церкви, колокола с вырванными языками, разбитый рот православного священника на ночном допросе... Все это было, а иначе нельзя – ведь Вера рождает надежду. Право же давать надежду за собой оставляли Верховные и Генеральные боги и божки Союза Советских. И вместо размашистого креста благословлялись груди избранных золотыми пентаграммами героев... Слава Богу, что в наше безумное время рождаются островки веры и разгоняют мрак – как свечи на ветру...
В Свято-Воскресенском монастыре я побывал не в первый раз. Год назад я ходил туда "на разведку". Пробыл там часа три – да и ушел. По дороге назад вел беседу с единственным в монастыре послушником – 19-летним Женей. Он шел в Бердяуш, чтобы испечь в церкви пирог к празднику архистратига Михаила, а я – чтобы сесть на первый попавшийся поезд и вернуться к мирской жизни.
Беседа не клеилась. Что я мог сказать юноше, пожелавшему отрешиться от нормальной, в моем понимании, жизни, чтобы служить Богу? И какой урок он мог преподать мне? Так и шли, размышляя каждый о своем. Женя изредка принимался напевать псалмы, а я то и дело расспрашивал его о разных ничего не значащих мелочах вроде: а что это за птичка пролетела...
В канун Рождества 1999 года я подготовился к походу в обитель более основательно. Заручился письмом из епархии, адресованным отцу Сергию, собрал на всякий случай рюкзак с необходимыми вещами.
Зачем я снова отправился на Монастырскую гору? Не знаю... Жизнь так круто изменилась к худшему, что все мы стали терять надежду. А в Рождество так хочется верить в чудо, так хочется надеяться на лучшее. Может быть, я поехал, чтобы обрести надежду..?
В Бердяуш приехал поздно. Хорошо, что с погодой повезло. Перемалывая ботинками мокрый снег, добрался до железнодорожного общежития. Там меня ждали после предусмотрительного телефонного звонка из Челябинска. Поселился в комнате – две кровати, стол, стул. Уже лег спать, когда раздался стук в дверь. "Кто там?" – спрашиваю. "Ты журналист?" "Да." "Открой, историю расскажу."
Через пять минут за бутылкой вина со мной в комнате расположились, выражаясь милицейским языком, "лица, представляющие оперативный интерес". Все чин-чинарем – татуировки на руках, блатная речь, легкая истеричность. Полились бесконечные истории о "неправильных ментах". "Ты пропиши, как меня повязали, а я ведь трезвый был..." Согласно киваю головой, досадуя, что в голове не осталось ни малейшего намека на романтику сочельника. А ведь сейчас где-то девушки гадают на суженого-ряженого. Где-то повесили творог сочиться. Весь православный мир готовится к наступлению Рождества, а я оказался окунутым в мир уголовных обид.
Грустно...
Рассвет встретил в электричке. После ночной беседы болела голова и нестерпимо хотелось спать. Оказавшись в самой темной гуще мирской жизни, я не представлял, как поведу себя в обители жизни духовной.
Сойдя на станции "Единовер", я побрел в сторону Чулковки – поселка, славного одним из крупнейших в стране домом-интернатом для душевнобольных и психически отсталых. К обитателям интерната местные привыкли. Между ними установились даже какие-то дружеские отношения.
Из подслушанного по дороге: «А вот и Жанночка моя, – говорит бабуля, обращаясь к существу неопределенного пола в телогрейке и шапке-ушанке. – Нынче зимой Жанночка не мерзнет; вон какая шапка...» Жанна несла сумку бабули и счастливо улыбалась, преданностью отвечая на доброту. Размышляя о превратностях человеческой судьбы, я дошел до поселка имени Тельмана. Отсюда – прямая дорога до деревеньки-три двора Иструть, что притулилась у монастырских стен.
Уже почти совсем рассвело. С ближайшего горного перевала километрах в десяти стала видна Монастырская гора и сама обитель. В этом году мне повезло – к Иструти вела вполне приличная колея. В прошлом году пришлось топтаться по снежной целине... Так я и шел, вдыхая чистый воздух, который хотелось попробовать на вкус. Вместо креста на шее болтался тяжелый армейский нож – волки сильно пошаливали. Впрочем, увидеть пришлось только следы хищников; ранним утром они, наверное, отправились на покой... На ветке березы я увидел полиэтиленовый пакет. Стоп! Откуда здесь пакеты? Все стало ясно, когда "пакет" вдруг стал крутить башкой с выпученными глазами – сова. Огромная белая птица разглядывала меня, я в свою очередь и свистел, и щелкал скворцом. Нет, сова не пошла на контакт. Возмущенно пискнув, она тяжело сорвалась с ветки и исчезла между деревьями.
Встреча с совой меня развеселила, поэтому до Иструти я добрался в отличном расположении духа. На деревенской улочке встретился мужик, крюком разбиравший кучу бревен. Его лицо показалось странно знакомым.
– Вы меня не помните? – спросил.
– Нет.
– В прошлом году... Вы еще печи кладете.
Тут подбежала лохматая псина Малышка. Она-то сразу вспомнила. Припомнил мой прошлый визит и Виктор – известный в округе печник. За чашкой чая рассказал, как сбежал в Иструть, когда придя из армии, совершил какую-то глупость и оказался не в ладах с законом. Живет теперь с женой в лощине между гор. Сыновья разбежались по области. На Рождество приехали внуки...
Разморенный домашним теплом, я толкнул дверь монастырской ограды. На лай овчарки вышел бородатый мужик.
– Здравствуйте, я из Челябинска..!
Он подошел ближе. Прошли к трапезной, сели на растрескавшуюся скамью. Мне на колени немедленно запрыгнул пушистый черный котенок. Пока он выгибал спину и терся о куртку, Слава, как звали бородача, решал, куда поселить меня.
– Жить будешь у старика, – наконец сказал он. – Сейчас потрапезничаем и пойдешь отдыхать, а вечером приедет батюшка...
Трапеза началась с молитвы. Перекрестясь, пятеро человек молча начали есть груздянку и лапшу. Помолившись после окончания трапезы, все разошлись по делам, а я отправился в келью к "старику". "Старика" звали дядя Толя. В его келье – бревенчатом домике – царила вполне спартанская обстановка – кровать, стол с лежащими на нем томиками житийной литературы, приспособления для резки по дереву. На разгоряченной печке сушатся липовые полешки. Дядя Толя отнесся ко мне весьма настороженно. Для начала предложил поспать и, не отвечая на вопросы, удалился из кельи. Я внял его совету и продремал часа два. Проснулся. Дядя Толя не появился, и, ожидая его, я листал житие святого Серафима Саровского.
Интересная штука: всего около полутора веков назад в Саровской пустыни жил человек, по свидетельству современников, ходивший по воздуху и исцеляющий молитвой...
Вечером приехал настоятель монастыря иеромонах Сергий. Благословив обитателей Свято-Воскресенского мужского монастыря, он выжидательно остановился передо мной. Я вынул из кармана письмо, подписанное владыкой Иовом. Прошли в трапезную. Отец Сергий прочел письмо, в котором владыко просил его помочь корреспонденту, и добродушно осведомился, какие у меня есть вопросы.
Батюшка – иеромонах, то есть монах и священник одновременно. Проводит службы в бердяушской церкви и практически ежедневно приезжает в монастырь...
– Свято-Воскресенская мужская обитель была построена в 1825 году, – начал свой рассказ отец Сергий. – В 1918-м монахов разогнали. После войны в монастырских строениях разместился интернат для душевнобольных, а лет семь назад пришли мы. Конечно, все было растащено. Особенно пострадала монастырская церковь. Сегодня мы своими силами, конечно, не восстановим. Смогли восстановить только малую часть бывших монастырских строений. Вот трапезная, к примеру.
Отстроить монастырь заново смогли люди, которых называют бомжами. Они и были первыми постояльцами...
Сегодня монастырю пришлось окунуться в омут рыночных отношений:
электричество провести надо, трубы прогнили, а насос, выкачивающий воду из скважины, грозит вот-вот остановиться.
– Кстати, воду, бегущую у нас из крана, можно назвать святой, – продолжает настоятель. – Долго здесь монахи жили... Теперь нам помогают старушки из
Иструти. Варят еду, присматривают за чистотой...
Возле печки греется Катенька – бывшая воспитанница интерната. Возится с котятами, что-то им приговаривая. Трудно сказать, сколько ей лет: она постоянно морщится и улыбается. Катеньку не гонят. Иногда она ходит в новую монастырскую церквушку и слушает, и крестится вместе со всеми... Кстати, в обители нет ни одного монаха. Только работники. Чтобы стать хотя бы послушником, нужно прожить здесь достаточно долго.
– Многие не выдерживают простого пребывания в монастыре с его укладом. Люди постоянно обновляются. В прошлом году ушел единственный послушник – Женя...
Заинтересованный его судьбой, я выяснил у батюшки, что Женя отказался от послушничества и решил стать священником. Сейчас учится в духовном училище в Екатеринбурге. На пороге 21 века трудно полностью отрешиться от мира. А раньше...
– Знаете ли вы, – сказал отец Сергий, – что администрация Челябинской области стоит сегодня на монастырской земле – была там до революции мужская обитель. Кованый забор вокруг нынешних административных зданий – вот, пожалуй, и все, что осталось от нее. Филармония на берегу Миасса построена на церковном фундаменте. Вы только представьте: здание стоит на берегу реки, а церковные подвалы остаются сухими уже более века.
– Да, – обалдело тяну я, – умели люди строить...
– Хоть и безграмотные были, – добавляет батюшка. – Да прежде грамоты должна вера идти. Как голова у змеи; змею бьют, а она первым делом голову прячет, бережет. Так и наш народ: сколько не били его, сколько не стреляли, а веру – основу свою – сохранил. Так и строили с верой. Время церкви не брало, не устояли они только перед безбожниками. До революции в Челябинске было 14 церквей. Сколько теперь осталось..?
Рождественским вечером потрапезничали. Пришло время праздничной службы. Иеромонах Сергий надел облачение и преобразился, ведь ему предстояло обратиться к Богу.
Двенадцать раз прозвонил колокол, призывая на службу всех желающих. Из
Иструти к церкви потянулись старушки. Работники зажигали лампады и расставляли свечи. В торжественной тишине отец Сергий сотворил молитву...
В православной церкви принято стоять. Я простоять двухчасовую службу не смог – затекали усталые ноги – и опустился на скамью. Не до конца понял и церковнославянскую скороговорку, улавливал только обращения к Пресвятой Деве Марии и Христу. В маленькой церкви богослужение прошло как-то по-семейному. Добавляла душевности и наряженная елка, стоящая перед алтарем.
Церковную утварь собирали всем миром. Часть иконостаса нарисовали прихожанки церкви из Бердяуша. Вручную был собран и расписан двухметровый крест, укрепленный в оструганной деревянной колоде...
После службы и беседы с отцом Сергием я вернулся в келью дяди Толи.
– Ну как, поговорили? – спросил он.
Я вкратце рассказал ему содержание разговора с настоятелем. Дядя Толя немного оттаял и принялся срезать с липовой чушки тонкую стружку. Судя по оборотам речи, дядя Толя пришел в монастырь совсем не потому, что частые запои прерывались краткими периодами "активного отдыха", как большинство работников.
Выяснилось, что когда-то он объехал всю страну, имел ученую степень, квартиру в профессорском доме в Челябинске и новое пальто типа "джерси".
Что привело его в обитель, я выяснять не стал. Дядя Толя мгновенно
"закрывался", стоило только заговорить с ним о "прошлой" жизни. Кажется, он искал покоя. Надеюсь, нашел...
Около полуночи я заснул. Затемно встал, но дядя Толя, оказывается, был на ногах уже в 4 утра. Ему предстояло натопить печь в церкви, а мне – успеть на единственную утреннюю электричку из Единовера.
Ушел по-английски. Тихо прикрыл дверь кельи и уже перед самыми воротами встретил Анатолия. "Что тебе пожелать?" – спросил он. «Счастливого пути», – ответил я. "Ну, счастливого пути..." Я, почему-то смутившись, пожелал удачи.
Прости, дядя Толя. Я желаю тебе и всем нам, издерганным нашей суетной жизнью, покоя...









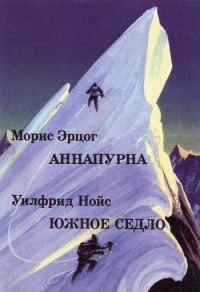

Комментарии к книге «В голове моей опилки...», Сергей Геннадьевич Куклев
Всего 0 комментариев